Э.Р. Доддс Греки и иррациональное
Предисловие
Книга эта выросла из курса лекций, которые я имел честь читать в Беркли осенью 1949 г. Здесь они воспроизведены практически без изменений, за исключением того, что по форме представлены несколько более развернуто. Первоначальная аудитория этих лекций включала в себя немало антропологов и ученых других профилей, не занимавшихся специально изучением Древней Греции. Надеюсь, что в своем нынешнем виде мои лекции могли бы вызвать интерес и у читательской публики. Поэтому я по возможности перевел все греческие цитаты, встречающиеся в тексте, и передал латиницей важнейшие греческие термины, не имеющие прямых аналогов в английском языке. Я также старался, во-первых, не перегружать книгу описанием научных споров по какому-либо частному вопросу, ибо это мало бы заинтересовало читателей, не знакомых с отстаиваемыми взглядами; во-вторых, я воздерживался от усложнения основной темы многочисленными побочными вопросами, столь соблазнительными для любого профессионального ученого. Подборка этого материала приведена в примечаниях, где я попытался вкратце указать — опираясь, по возможности, на древние источники или на дискуссии современных антиковедов и освещая, по необходимости, тот или иной аргумент — основы тех мнений, которые изложены в тексте.
Неискушенного читателя я бы хотел сразу предупредить, чтобы он не рассматривал данное произведение как историю греческой религии или же как историю греческих религиозных идей и переживаний. Если он не примет во внимание это предупреждение, его ждет большое разочарование — ибо моя книга является лишь исследованием того, каким образом греческая мысль интерпретировала особый тип человеческого опыта — тип, к которому рационализм XIX века проявлял мало интереса, но культурная значимость которого ныне широко признана. Приведенные в книге факты иллюстрируют важную и, в принципе, доселе неизвестную часть интеллектуального мира Древней Греции. Однако было бы ошибкой переносить часть на целое.
Похоже, именно моим коллегам-античникам я обязан укреплением тех положений, которые во многом почерпнул из антропологических и психологических исследований и теорий. Я знаю, что в кругу ученых-специалистов подобные заимствования из чуждых дисциплин часто воспринимаются с подозрением, а то и с нескрываемым раздражением. Разумеется, мне прежде всего напомнят, что «греки дикарями не были», что, далее, истины, принятые в этих, относительно новых исследованиях сегодня, завтра становятся источником заблуждений. Оба утверждения справедливы. Однако, отвечая на первое из них, уместно сослаться на мнение Леви-Брюля, писавшего, что «clans tout esprit humain, quel qu'en so'it le developpment intellectuel, subsiste un fond inderacinable de mentalite primitive»[1]. Если же точка зрения антрополога-неклассика не вызовет доверия, можно вспомнить Нильссона: «Понятие первобытного духа в известном смысле неплохо объясняет умственную деятельность большинства современных людей, кроме, наверное, их интеллектуальных или технических занятий». Почему мы должны находить у древних греков иммунитет от «примитивных» типов мышления, который нельзя обнаружить ни в одном обществе, открытом для непосредственного наблюдения?
Что касается второго возражения, то многие теории, на которые я ссылаюсь, самими их творцами признаются как предварительные и небесспорные. Но если мы пытаемся как-то понять греческое сознание и не останавливаемся на том, чтобы просто описывать внешнее поведение греков или составлять перечень уже известных «верований», нам придется работать с тем освещением, которое можем найти, ведь даже неясный свет все же лучше, чем никакой. Тайлоровский анимизм, растительная магия Маннхардта, «годовые духи» Фрэзера, «мана» Кодрингтона помогли, каждый в свое время, осветить темные места древней истории. Они, конечно, породили и немало опрометчивых выводов. Но как бы ни изменялись эти выводы под воздействием времени и критиков, само освещение остается. Я вижу в этом факте вескую причину для того, чтобы осторожнее использовать греческие обобщения, базирующиеся на негреческих источниках, и вовсе не имею в виду превращения науки об античности, идущие вразрез с новыми направлениями, которые приняли исследования в области изучения человека за последние тридцать лет и которые привели, например, к многообещающему сближению социальной антропологии и социальной психологии. Даже если истина и лежит за пределами нашего понимания, заблуждения завтрашнего дня все-таки предпочтительнее сегодняшних, ибо заблуждение в науке есть лишь иное название для постепенного приближения к истине.
Остается выразить благодарность тем, кто помог мне в работе над этой книгой. В первую очередь это относится к сотрудникам Калифорнийского университета, побудившим меня написать ее; затем — к Людвигу Эдельштейну, У. К. С. Гатри, И. М. Линфорту и А. Д. Ноку: все они прочли текст целиком или частично и сделали ценные замечания; наконец, к Гарольду А. Смоллу, У. Г. Александеру и другим работникам университетского издательства «Калифорния Пресс», которые взяли на себя нелегкий и неблагодарный труд по подготовке книги к печати. Я должен также поблагодарить профессора Нока и Совет Римского Общества за разрешение перепечатать в виде приложений две статьи, которые появились соответственно в «Гарвардском теологическом обозрении» (Harvard Theological Revue) и в «Журнале римских исследований» (Journal of Roman Studies); а также Совет Греческого Общества за позволение воспроизвести некоторые страницы из статьи, опубликованной в «Журнале эллинских исследований» (Journal of Hellenic Studies).
Оксфорд, август 1960 г.
Э. Р. Д.
Глава первая. Апология Агамемнона
Потаенные уголки чувства, темные, незримые слои
человеческой души — вот единственные места в мире,
где мы можем реально уловить события в их становлении.
Уильям ДжеймсКогда я несколько лет назад рассматривал в Британском музее скульптуры из Парфенона, ко мне подошел один молодой человек и промолвил с озабоченным видом: «Знаю, что это скверно, но этот греческий истукан вызывает у меня одну зевоту». Я сказал, что это весьма интересно, и спросил, не мог бы он как-нибудь объяснить мне подобное отношение. Юноша размышлял минуту-две, затем ответил: «Наверное, это потому, что он страшно рационален, если вы понимаете, о чем я говорю». Я подумал, что понял его. Молодой человек высказал то, что в более отчетливой форме было выражено Роджером Фраем[2] и другими. Поколению, воспитанному на искусстве Африки или ацтеков, на произведениях таких мастеров, как Модильяни и Генри Мур, искусство греков, да и вся греческая культура в целом, должны были казаться лишенными ощущения тайны, лишенными способности проникнуть в глубинные, слабо освещенные уровни человеческого опыта.
Этот случай засел в моей голове и дал пищу для размышлений. Действительно ли греки настолько не понимали важной роли нерациональных факторов в жизни человека, как это обычно утверждают и их защитники, и их критики? Из этого вопроса и выросла данная книга. Чтобы ответить на него в полной мере, пришлось бы дать обзор всех культурных достижений античной Греции. Мои намерения гораздо скромнее: попытаться пролить свет на проблему переинтерпретации некоторых важных аспектов религиозного опыта греков. Надеюсь, что результаты, к которым я пришел, могут иметь определенный интерес не только для исследователей античности, но и для антропологов и социальных психологов, как и вообще для всех, кто желает понять движущие силы человеческого поведения. Поэтому я по мере возможности постарался изложить материал в терминах, понятных неспециалисту.
Начну с рассмотрения некоторых моментов гомеровской религии. Многие классические ученые полагают, что в поэмах Гомера невозможно найти ничего похожего на религиозные переживания. «Поистине, — пишет профессор Мэзон, — никогда не было поэмы менее религиозной, чем "Илиада"».[3] В этом суждении видна некоторая поспешность, однако оно отражает мнение, которое, вероятно, широко распространено. Профессор Мюррей считает, что так называемая гомеровская религия «в реальности вовсе не являлась религией», ибо, на его взгляд, «вплоть до IV столетия греческие народные культы не соединялись с блистательным пантеоном Олимпа».[4] Подобно ему, д-р Баура замечает, что «эта целиком антропоморфная система, разумеется, не имеет отношения к реальной религии или правилам морали. Эти боги суть блестящее, гениальное изобретение поэтов».[5]
«Разумеется» — если понятие «реальная религия» означает то, что признают в качестве религии просвещенные европейцы или американцы наших дней. Но, ограничив значение этого слова подобным образом, не окажемся ли мы в опасности недооценить, а то и совсем проглядеть некоторые аспекты опыта, которые отказываемся истолковать в религиозном смысле, но которые могли быть в свое время основательно насыщены религиозным значением? В данной главе я не ставлю своей целью вступать в терминологические споры с выдающимися учеными, чьи высказывания цитировались выше, но стремлюсь обратить внимание на те моменты у Гомера, которые prima facie[6] являются религиозными, и исследовать их с психологической точки зрения.
Уместно начать с описания того божьего искушения, или, точнее, слепой страсти (ате), которая побудила Агамемнона возместить похищение у него наложницы похищением наложницы у Ахилла. «Не я, о ахейцы, — заявил он впоследствии, — виновен; Зевс Эгиох и Судьба, и бродящая в мраках Эриннис: // Боги мой ум на совете наполнили мрачною смутой //В день злополучный, как я у Пелида похитил награду. // Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила, // Дщерь громовержца, Обида, которая всех ослепляет, // Страшная..».[7],[8] Нетерпеливые современные читатели могут легко счесть эти слова Агамемнона неуклюжей попыткой оправдать собственную безответственность. Однако при внимательном чтении текста интерпретация окажется иной. В юридическом смысле уклонения от ответственности, конечно, нет, ибо в конце своей речи Агамемнон предлагает компенсацию за свой безумный поступок: «Сам не мог позабыть я Обиды, меня ослепившей. // Но, как уже погрешил я и Зевс мой разум похитил, // Сам то загладить хочу и воздать многоценною мздою».[9] Если бы он действовал по своей воле, он не смог бы так легко признать собственную неправоту; признав же ее, он собирается заплатить за свои действия. Юридически его позиция была бы безупречной в любом случае, ибо древнегреческое право совершенно не заботилось о мотивах действия — его интересовало само действие. Он также не выдумывает себе нечестным путем моральное алиби: ведь Ахилл, жертва его поступка, принимает тот же взгляд, что и он. «Зевс! Беды жестокие ты посылаешь на смертных! // Нет, никогда у меня Агамемнон властительный в персях // Сердца на гнев не подвиг; никаким бы сей девы коварством //Он против воли моей не похитил».[10] Может быть, вы думаете, что Ахилл здесь из вежливости произносит ложь, чтобы спасти честь великого царя? Но это не так: уже в книге 1, когда Ахилл объясняет ситуацию Фетиде, он говорит о поведении Агамемнона как об ame[11] и в кн. 8 он восклицает: «Пусть он исчезнет! Лишил его разума Зевс промыслитель».[12] Отношение Ахилла к данной проблеме такое же, как и у Агамемнона, а в знаменитых словах, с которых начинается рассказ о Гневе — «Совершалася Зевсова воля»,[13] — виден недвусмысленный намек на то, что это также и мнение самого поэта.
Будь это единственный эпизод, в котором поведение гомеровских персонажей интерпретируется подобным образом, мы могли бы усомниться в мотивах автора: например, можно предположить, что он не желает слишком отвлекать симпатии слушателей от Агамемнона; или же он пытается придать более глубокое значение недостойной ссоре двух вождей, представив ее как ступень в выполнении божественного плана. Но эти объяснения не годятся для других эпизодов, в которых говорится, что «боги», или «бог», или Зевс мгновенно «отнимали» («разрушали», «околдовывали») человеческий разум. Возможно, эти объяснения уместны в отношении к Елене, которая в конце своей глубоко прочувствованной и, несомненно, искренней речи говорит, что Зевс дал ей и Александру горький жребий, «что даже по смерти // Мы оставаться должны на бесславные песни потомкам».[14] Но когда просто утверждается, что Зевс «околдовал ахейцев» и потому они плохо сражались, никакие социальные факторы уже нельзя принять во внимание; еще меньше их в утверждении о том, что «Зевс у данаев // Дух унижал, возвышая троянам и Гектору славу».[15] А что сказать, к примеру, о Главке, чье разумение отнял Зевс, так что он сделал то, чего греки почти никогда не делали — совершил невыгодную сделку, обменяв золотое оружие на бронзовое?[16] Или об Автомедонте, глупо пытавшемся соединить роли возницы и копьеносца, так что другу пришлось спросить его, «кто из бессмертных совет бесполезный //В сердце тебе положил и суждение здравое отнял?»[17] Эти два случая не имеют прямой связи ни с каким глубоким божественным замыслом; не ставится здесь и вопрос о сохранении симпатий у слушателей, ибо никакого нарушения морали не происходит.
Здесь, однако, читатель вполне резонно может спросить: не есть ли то, с чем мы сейчас имеем дело, всего лишь своеобразный fagon de parler?[18] Подразумевал ли поэт нечто большее, чем то, что Главк оказался глупцом, совершив подобную сделку? Выразил ли друг Автомедонта нечто большее, чем просто: «Какого черта тебя угораздило так поступить?» Может быть, так оно и есть. Некоторые особенности гекзаметра, который был обычным размером старых поэтов, легко могли привести к своего рода семасиологической дегенерации, венцом которой и является fagon de parier. И следует заметить, что ни эпизод с Главком, ни бесполезная аристейя Автомедонта не входят органично в фабулу даже «расширенной» «Илиады»: вполне вероятно, что они были добавлены позднее.[19] Но наша цель заключается в том, чтобы понять изначальный опыт, который лежит в основе подобных стереотипных формул — ибо даже {αςοη de parier должен иметь какое-то начало. Возможно, нам помогло бы несколько более близкое знакомство с природой ате и характером тех сил, которым Агамемнон приписывает ее, а затем рассмотрение и некоторых других высказываний эпических поэтов относительно движущих причин человеческой деятельности.
У Гомера есть ряд пассажей, где неразумное, бессмысленное поведение понимается как ате, а порой описывается однокоренным глаголом асастай, не связанным напрямую с феноменом божьего принуждения. Но ате у Гомера[20] — не самостоятельно действующая сила: в двух местах, где говорится об ате как о личности (Il. 9. 505 сл. и 19. 91 сл.), явно имеется в виду аллегория. Точно так же это слово не означает — во всяком случае, в «Илиаде»— и объективно происходящее бедствие,[21] как это часто случается в трагедии. Всегда, или почти всегда,[22] ате есть состояние сознания — временное омрачение или одичание нормального сознания. Фактически это кратковременное умопомешательство, и, подобно любому другому виду безумия, оно объясняется не с помощью физиологических или психологических причин, а через внешнюю «демоническую» деятельность. В «Одиссее»,[23] правда, причиной ате объявляется чрезмерное потребление вина; подтекст, однако, подразумевает не столько то, что ате может быть произведено «естественным» путем, сколько то, что вино содержит в себе нечто сверхъестественное или демоническое. Начиная с этого особого случая, источник ате (если он, конечно, уточняется) почти всегда связывается со сверхъестественными существами;[24] таким образом, можно собрать все примеры «неалкогольного» ате под рубрикой того, что я предлагаю назвать «психической интервенцией».
Если мы рассмотрим их, то заметим, что ате обязательно является синонимом или результатом злого поступка. Утверждение Лидделла и Скотта о том, что ате «посылается как наказание за опрометчивость в действиях», не вполне корректно, если внимательно читать Гомера. Ате (здесь — нечто вроде ошеломления), которое объяло Патрокла после того, как Аполлон ударил его,[25] вероятно, могло бы считаться в данном случае примером, т. к. Патрокл быстро обратил троянцев в бегство υπέρ uiouv;[26],[27] но несколько ранее подобная быстрота сама приписывается воле Зевса и характеризуется глаголом άάσΟη.[28] И ате Агастрофа,[29] слишком далеко отошедшего от своей колесницы и вследствие этого попавшего в руки врагов, не является «наказанием» за опрометчивость; последняя сама есть ате, или результат ате, и она не подразумевает отчетливой нравственной вины, бессмысленной ошибки, подобной той, которую совершил Главк своей нелепой сделкой. И Одиссей не был ни опрометчив, ни виновен, когда он в неблагоприятный момент вздремнул, тем самым дав своим товарищам возможность зарезать священных быков. Мы назвали бы это случайностью; однако для Гомера, как представителя раннего мышления,[30] не существовало такого понятия, как случайность: Одиссей знает, что это боги послали на него дремоту εις ατην, «чтобы одурачить ero».[31] Из подобных эпизодов явствует, что ате первоначально не имела связи с виновностью. Понятие ате в качестве наказания, по-видимому, либо имеет в Ионии позднее происхождение, либо является поздним заимствованием со стороны; единственное место у Гомера, где это выражено в отчетливой форме — упоминание о Λιτού в «Илиаде» (Кн. 9),[32] подсказывая мысль о том, что представление, развившееся в Великой Греции, было перенесено туда вместе с рассказом Мелеагра из эпоса, составленного в метрополии.
Следует сказать и о силах, пробуждающих ате. Агамемнон упоминает не одну, а три силы: это Зевс, мойра и Эринии, бродящие в темноте (или, по другой, видимо, более ранней версии, Эринии, которые лижут кровь). Из них Зевс — это мифологическая энергия, которую поэт считает источником развития событий: «план Зевса был исполнен». Возможно, это означает, что Зевс — единственный из олимпийских богов (за исключением Аполлона, наславшего ате на Патрокла), кто, согласно «Илиаде», ответственен за возникновение ате (поэтому решительно заявляется, что ате — его старшая дочь).[33] Относительно мойры я полагаю, что она является олицетворением необъяснимости сваливающихся несчастий, частью человеческого «удела» или «жребия», означая просто то, что люди не могут понять, почему нечто плохое случилось с ними — но поскольку оно случилось, очевидно, что «так ему и должно быть». До сих пор люди говорят в таком духе, особенно о смерти, для которой слово μΐρα' в современной Греции стало синонимом, подобно μόρος[34] в Греции классической. Думаю, неправильно было бы писать здесь термин «мойра» с заглавной буквы, как если бы он подразумевал персональную богиню, диктующую условия Зевсу, либо вселенскую Судьбу, подобную эллинистической эймармене. В качестве божеств Мойры всегда множественны, как в культе, так и в ранней литературе, и за исключением одного сомнительного места[35] они совсем не фигурируют в «Илиаде». Самое большее, что можно сказать в этой связи, это то, что Агамемнон, воспринимая собственную «участь» как действующую силу — ибо она побуждает совершать что-либо, — делает первый шаг к ее персонификации.[36] Перекладывая вину на свою мойру, Агамемнон заявляет себя не большим детерминистом, чем какой-нибудь современный греческий крестьянин, пользующийся похожим языком. Спрашивать, являются ли гомеровские герои детерминистами или сторонниками доктрины «свободы воли» — большое недоразумение, ибо этот вопрос для них просто никогда не ставился, а если бы и ставился, то очень трудно было бы понять, что они имеют в виду.[37] Зато они понимают различие между нормальными действиями и действиями, совершенными в состоянии ате. Действия последнего рода они могут прослеживать либо в отношении к своей мойре, либо к божественной воле, смотря по тому, как рассматривается вопрос — с субъективной или объективной стороны. Подобным же образом Патрокл считает ответственным в своей смерти и непосредственного агента (Эвфорба) и, косвенно, агента мифологического (Аполлона), при этом субъективно оценивая свою плохую мойру. Это, как говорят психологи, случаи «сверхдетерминации».[38]
Исходя из этой аналогии, Эриния должна считаться непосредственным агентом в случае Агамемнона. То, что она вообще способна фигурировать в этом контексте, может весьма удивить тех, кто думает, что Эриния — по существу дух мщения, а еще больше тех, кто вместе с Родэ[39] полагает, что Эринии были изначально мстительными мертвецами. Но это не единственный момент. Так, мы читаем в «Одиссее»[40] о Мелампе, что он «был жестоко мучим за Нелееву дочь, погруженный в слепое безумство, // Душу его омрачавшее силою страшных Эриний».[41] Ни в том, ни в другом месте не говорится об отмщении или наказании. Возможное объяснение заключается в том, что Эриния есть индивидуальная деятельная сила, обеспечивающая исполнение планов мойры. Вот почему Эринии пресекают речь Ахиллова коня: «Не в согласии с мойрой, чтобы кони говорили».[42] Вот почему они могут наказать солнце, согласно Гераклиту,[43] если оно «превышает меру», чересчур усердствуя в исполнении возложенных на него задач. Я думаю, что наиболее приемлемое объяснение нравственной функции Эриний как исполнительниц мести происходит из представления об усилении роли мойры, которая первоначально была нравственно нейтральна, или, скорее, ограничивалась понятиями «следует» и «должно», которые ранняя мысль не различала отчетливо. Так, у Гомера можно обнаружить, что они имеют статус хранительниц родственных или социальных отношений; они могут восприниматься как часть индивидуальной мойры:[44] отец,[45] старший брат,[46] даже нищий[47] уникальны сами по себе, что позволяет им в случае необходимости призвать «своих» Эриний на помощь. Последних также призывают с тем, чтобы засвидетельствовать клятву — ибо клятва создает предопределение, мойру. Связь Эринии с мойрой отмечена и Эсхилом,[48] хотя мойры становятся здесь квазиперсональными; но и для него Эринии остаются посылательницами ате,[49] приобретая, впрочем, нравственную окрашенность. По всей видимости, сложный комплекс мойра — Эриния — ате имел глубокие корни и, возможно, был более архаичен, чем представление о приписывании ате деятельности Зевса.[50] В этой связи уместно вспомнить, что использование слов «Эриния» и айса[51] (последняя синонимична мойре) восходит, вероятно, к старейшей из известных ныне форм эллинской речи — аркадо-кипрскому диалекту.[52]
Оставим ненадолго ате и ее источники и рассмотрим вкратце другой вид «психической интервенции», который не менее часто встречается у Гомера, а именно передачу божественной мощи человеку. В «Илиаде» типичным примером является передача меноса во время битвы, например, когда Афина вкладывает тройную «порцию» меноса[53],[54] в грудь своего протеже Диомеда, или когда Аполлон передает менос тюмосу[55] раненого Главка.[56] Этот менос не является одной только физической силой; не есть он и постоянный орган ментальной жизни[57] наподобие тюмоса или нуса. Скорее, он, как и ате, — состояние сознания. Когда человек чувствует менос в своей груди или когда, «спершись, дыханье // Коснулось в ноздри его» ,[58] он ощущает необъяснимый прилив энергии; жизнь бурлит в нем, и он полон необычайной уверенности и рвения. Связь меноса со сферой воли ясно видна из родственных слов — μενοιναν, «быть страстным», и δυσμενής, «желание нанести вред». Это означает, что часто, хотя и не всегда, передача меноса осуществляется как отклик на мольбу. Но он подчас намного спонтаннее и инстинктивнее, чем то, что мы называем «решением», ибо и животные способны обладать меносом;[59] для его описания используется понятие всепожирающей силы огня.[60] В человеке это жизненная энергия, «пыл», который, редко присутствуя в готовом виде, обычно приходит и уходит таинственным образом, причем (что следует отметить) когда ему вздумается. Но у Гомера менос — не каприз, но действие бога, который «величит и малит» человеческую арете (т. е., иначе говоря, его способность к битве).[61] Иногда менос может быть пробужден с помощью речи; в других случаях его вспышка объясняется просто тем, что бог «вдохнул» его в героя или «вложил его ему в грудь», или, как мы читаем в одном месте, передал менос, коснувшись жезлом.[62]
Думаю, не стоит рассматривать эти примеры как «поэтический вымысел» или «символику божественного». Несомненно, поэт часто придумывает отдельные эпизоды ради стройности сюжета; разумеется, и вторжение в сознание связано подчас со вторжением физическим или с тем, что происходит на Олимпе. Однако можно быть совершенно уверенным в том, что основная идея не была изобретена никаким поэтом и что она гораздо старше представления об антропоморфных богах, зримо и незримо участвующих в сражении. Временное обладание сильным меносом является, как и обладание ате, сверхобычным состоянием, которое требует и неординарного объяснения. Гомеровские герои могут заметить его проявление по особому ощущению в руках и ногах.
«Страшною силой исполнил; // Члены их легкими сделал, и ноги, и мощные руки», — говорит один из получателей силы: это потому, объясняет поэт, что бог сделал их легкими в движениях.[63] Подобное ощущение, разделяемое здесь и другим получателем, подтверждает для них божественное происхождение меноса.[64] Это паранормальный опыт. И люди в состоянии божественно ниспосланного меноса ведут себя в какой-то степени паранормально. Они могут с легкостью исполнить труднейшие подвиги,[65] что считается традиционным признаком божественной мощи.[66] Они даже способны, как Диомед, безнаказанно сражаться с богами,[67] т. е. совершать поступки, чреватые огромной опасностью для людей в нормальном состоянии.[68] Фактически они временно становятся чем-то большим (или, может быть, меньшим), нежели человек как таковой. Люди, получившие менос, в «Илиаде» несколько раз сравниваются с рыкающими львами;[69] но самое впечатляющее описание этого состояния содержится в книге 15, где Гектор становится неистовым (μαίνεται), с пеной у рта, с горящими глазами.[70] От таких примеров остается лишь один шаг до идеи реальной одержимости (δαιμονΰν); однако этот шаг Гомер не делает. Правда, он говорит о Гекторе, что после того как тот надел вооружение Ахилла, «вступил ему в сердце // Бурный, воинственный дух [Арес]; преисполнились все его члены // Силой и крепостью».[71] , но «Арес» здесь едва ли нечто большее, чем синоним воинственного духа, и передача силы происходит по воле Зевса, что облегчается, вероятно, и божественным вооружением. Конечно, боги в целях маскировки принимают форму и облик человеческих существ; но это совершенно иной случай. Временами боги могут появиться в виде человека, временами люди могут обрести атрибуты божественной силы, но Гомер тем не менее никогда не стирает грань, отделяющую человеческое от божественного.
В «Одиссее», не столь воинственной по своему настрою, передача силы принимает иные формы. Поэт «Телемахии», подражая «Илиаде», заставляет Афину вложить менос в Телемаха,[72] но менос здесь — нравственная смелость, позволяющая мальчику без страха встретиться лицом к лицу с превосходящими в числе женихами. Но это литературное переосмысление. Более древним и более аутентичным является частое утверждение о том, что поэты получают свою творческую силу от бога: «Пению сам я себя научил, — говорит Фемий, — вдохновением боги // Душу согрели мою» .[73] Обе части этого высказывания отнюдь не противоречат друг другу: я думаю, он имеет в виду, что не заучивал специально песни других поэтов, но сам является творческим поэтом, который полагается только на ритмические стихотворные волны, спонтанно исходящие из некоей непостижимой и неконтролируемой глубины, по мере того как он испытывает в них необходимость; он поет «голосами богов», как делают лучшие певцы.[74] Я вернусь к этому в последней части главы III «Благословение неистовства».
Однако наиболее характерная черта «Одиссеи» — это то, что ее персонажи приписывают все виды ментальных (равно как и физических) событий вторжению безымянного и неопределимого дай-мона,[75] или «бога», или «богов».[76] Эти почти не воспринимаемые существа могут вдохновить на смелость в критический момент[77] или отнять у человека разум,[78] как это делают боги в «Илиаде». Но они также щедро одаривают тем, что приблизительно можно назвать «предостережениями». Когда к какому-нибудь человеку приходит некая особенно блестящая[79] или особенно глупая[80] мысль; когда он внезапно узнает другого человека[81] или в один миг постигает смысл предзнаменования;[82] когда вспоминает то, что было прочно забыто,[83] или забывает то, что ему следовало бы помнить,[84] он или любой другой, разделяющий его взгляды, увидит во всем этом следствие непосредственного вторжения в сознание одного из этих анонимных сверхъестественных существ.[85] Разумеется, не обязательно, чтобы на переднем плане всегда значились именно они: Одиссей, к примеру, едва ли всерьез сваливает на происки даймона тот факт, что он вышел без плаща в холодную ночь. Но перед нами не просто «эпический стиль». Ибо это персонажи ведут подобные разговоры, а не сам поэт:[86] его собственный стиль заключается совсем в другом — он оперирует, как и автор «Илиады», четко выраженными антропоморфными богами, такими, как Афина и Посейдон, а не анонимными даймонами. Если он заставляет своих героев использовать разные стили, то действует, видимо, по той же причине, что и обычные люди, когда они рассказывают что-то друг другу: он хочет быть «объективным».
И действительно, это подобно тому, как если бы мы ожидали от тех людей, с которыми беседуем, что они должны верить (или верили их предки) в ежедневные и ежечасные предостережения. Узнавание, интуиция, воспоминание, превосходная или навязчивая мысль имеют то общее, что они приходят внезапно, как мы выражаемся, «в голову человека». Зачастую он не наблюдает и не понимает причин, приведших их к нему. Но в каком же тогда смысле может он назвать их «своими»? Еще мгновение назад они не присутствовали в его уме; теперь они здесь. Что-то привело их сюда, и это «что-то» — явно иное, чем «мое я». Больше он ничего не знает. Поэтому он говорит о них уклончиво, называя «богами» или «богом», или, более часто (особенно когда стремительность их действий приводит к плачевным для него результатам), даймоном.[87] И по аналогии он применяет это же объяснение для идей и действий других людей, когда находит затруднительным понять и охарактеризовать их. Хороший пример — речь Антиноя из «Одиссеи» (кн. 2), когда, после восхваления исключительной рассудительности и рачительности Пенелопы, он говорит, что ее намерение отказаться от повторного замужества никуда не годится, и делает вывод, что «боги вложили эти помышленья ей в сердце».[88] Точно так же, когда Телемах в первый раз дерзко разговаривает с женихами, Антиной не без иронии заключает, что «боги учат его быть столь кичливым в словах».[89] На самом деле наставник Телемаха — Афина, как известно и поэту, и читателю;[90] однако сам Антиной этого не знает, поэтому и говорит: «боги».
Похожее разграничение знания говорящего и знания поэта можно встретить в нескольких эпизодах «Илиады». Когда на луке Тевкра лопается тетива, он со страхом восклицает, что это даймон помешал ему; однако на самом деле помешал Зевс, о чем несколько ранее сообщил сам поэт.[91] Выдвигалось предположение, что в таких пассажах речь самого поэта архаичнее, поскольку он все еще пользуется «микенской» символикой божественного, в то время как его персонажи игнорируют ее и употребляют более неясный язык, подобный языку ионийских современников поэта, которые (как утверждается) потеряли веру в старых антропоморфных богов.[92] На мой взгляд, это почти полное переворачивание реального положения вещей. Так или иначе, очевидно, что растерянность Тевкра не имеет ничего общего со скептицизмом: она — простое следствие незнания. Используя слово «даймон», он «выражает тот факт, что некая более высокая сила заставила нечто произойти»,[93] и это все, что ему известно. Как показал Эн-марк,[94] подобный неопределенный язык в отношении к сверхъестественному использовался греками в течение всей их истории, и не из скептицизма, а просто потому, что у них отсутствует идея личных божеств.[95] Тот факт, что используемый греками язык очень архаичен, можно продемонстрировать на примере прилагательного daemonies. Это слово означало «действие, совершенное по совету даймона»; но уже в «Илиаде» его исконный смысл настолько исказился, что Зевс, например, может употребить его в отношении к Гере.[96] Очевидно, что подобные искаженные речевые обороты были в ходу достаточно долгое время.
Таким образом, мы в несколько беглой манере сделали обзор самых распространенных видов вторжения в сознание, встречающихся у Гомера. Суммируя их, можно сказать, что все отклонения от нормального человеческого поведения, причины которых нельзя постичь непосредственным путем[97] — будь то собственным сознанием субъекта или наблюдением со стороны, — приписываются сверхъестественным факторам; им же приписывается также и любое отклонение от нормальных погодных условий или нормального натяжения тетивы. Этот вывод вряд ли удивит неклассического антрополога: последний без труда найдет параллели с похожими верованиями на Борнео или в Центральной Африке. Но наверняка странно обнаружить, что эта вера, эта значимость постоянной, сиюминутной зависимости от сверхъестественного прочно входят в сюжет столь якобы «иррелигиозных» поэм, как «Илиада» или «Одиссея». И мы также можем спросить себя, почему такие цивилизованные, здравомыслящие и рациональные люди, как ионические греки, не элиминировали из своих национальных эпосов эти ассоциации с Борнео и первобытным прошлым, подобно тому как они элиминировали страх перед смертью, страх осквернения и другие примитивные страхи, которые первоначально, несомненно, играли какую-то роль. Сомневаюсь, описывается ли столь часто и столь последовательно в ранней литературе любого другого европейского народа — даже у моих суеверных соотечественников, ирландцев — вторжение сверхъестественных сил в человеческую жизнь.[98]
Нильссон, по-моему, может считаться первым ученым, который серьезно пытался найти объяснение всех этих явлений в психологической сфере. В одной статье, опубликованной в 1924 году,[99] ныне ставшей классической, он заявил, что гомеровские герои особенно подвержены быстрым и резким сменам настроения: они страдают, по его словам, от душевной неустойчивости (psychische Labilität). Еще он отметил, что даже и в наши дни человек подобного темперамента способен, когда его настроение возвращается в норму, с ужасом взглянуть на то, что он только что совершил, и воскликнуть: «Не может быть, чтобы я сделал это!». Отсюда остается небольшой шаг до того, чтобы сказать: «На самом деле все это сделал не я». «Его собственное поведение, — заключает Нильссон, — стало ему чуждым. Он не в силах понять его. Там не присутствует его "Я"». Это абсолютно верное замечание, и его уместность относительно ряда феноменов, которые мы рассмотрели, не стоит, думается, отрицать. Я полагаю, Нильссон также прав, когда утверждает, что переживания такого рода — наряду с другими элементами, такими как минойская традиция богинь-покровительниц, — сыграли определенную роль в разработке той механики физического вторжения, которую постоянно (и, по общему мнению, зачастую излишне) упоминает Гомер. Излишне потому, что активность богов кажется нам во многих случаях только удвоением естественной психологической причинности.[100] Но не следует ли в действительности сказать, что скорее символика божественного «удваивает» вторжение в психику, выражая его в конкретной, наглядной форме? Тогда это уже не излишество, ведь только таким путем подобное вторжение могло бы живо представиться воображению слушателей. Гомеровские поэты не обладали теми языковыми тонкостями, которые необходимы для адекватной передачи чисто психологического феномена. Что может быть естественней, чем то, что они пытаются сперва дополнить, а затем и заменить какую-нибудь старую изношенную формулу типа μένος έ'μβαλε θυμω, «вдохнул в дух мужество», заставляя бога появиться в физическом облике и сказать своему фавориту предостерегающее слово?[101] Насколько это может быть живее, чем простое внутреннее внушение, видно из знаменитой сцены в «Илиаде», 1, где Афина, лаская волосы Ахилла, советует ему не ссориться с Агамемноном. Ахилл один видит ее, «прочим незримую в сонме».[102] Очевидный намек на то, что она суть проекция, наглядное выражение внутреннего голоса[103] — предостережение, которое Ахилл выражал, видимо, в такой неясной фразе, как ενέπνευσε φρεσί δαίμων, «божество вдохнуло душу». Я полагаю, что в целом феномены внутреннего голоса, или внезапного беспричинного ощущения прилива сил, или внезапной беспричинной потери здравого смысла являются тем зародышем, из которого и развилась «символика божественного ».
Один из результатов переноса события из внутреннего мира во внешний состоит в том, что исчезает неопределенность: неясный даймон неизбежно становится конкретным, личностным божеством. В «Илиаде», 1, он превращается в Афину, богиню мудрого совета. Таков был выбор поэта. Скорее всего, многократно совершая похожие шаги, поэты постепенно обрисовали личности своих богов, «различили, — как считает Геродот, — их свойства и сферу действий и установили их физический облик».[104] Поэты, разумеется, не измыслили богов (впрочем, Геродот об этом и не говорит): Афина, например, была, как мы теперь имеем основания считать, минойской домашней богиней. Однако поэты наградили их персональностью — и тем самым, как думает Нильссон, сделали для греков невозможным впасть в магический тип религии, который превалировал у их восточных соседей.
Кое-что, однако, склоняет к тому, чтобы подвергнуть сомнению положения, на которых основываются выводы Нильссона. Неужели гомеровские греки действительно настолько психически неуравновешенны сравнительно с героями других ранних эпосов? Доказательство, представленное Нильссоном, не столь уж твердое. Греки лезут в драку при малейшей провокации; но также ведут себя скандинавские и ирландские витязи. Гектор только однажды впадает в ярость; викинги же неистовствуют куда чаще. Да, гомеровский человек меньше сдерживается, проливая слезы, чем шведы или англичане; но эта черта по сей день присуща жителям Средиземноморья. Можно не сомневаться в том, что Агамемнон и Ахилл — страстные, пылкие люди (по крайней мере, этого требует повествование). Но вот разве Одиссей с Аяксом, каждый на свой лад, не являются вошедшими в поговорку символами устойчивости и постоянства, а Пенелопа — постоянства женского? Тем не менее и эти стабильные персонажи защищены от вторжения в психику не больше, чем другие. Словом, я бы не спешил поддерживать Нильссона в данном пункте и предпочел бы вместо этого связывать веру гомеровского человека во вторжение в психику с двумя другими особенностями, которые бесспорно принадлежат к культуре, описываемой Гомером.
Первая особенность — негативного свойства: гомеровский человек не обладает единым представлением о том, что мы называем «душой» или «личностью» (на значение этого факта Бруно Снелль[105] обратил недавно особое внимание). Хорошо известно, что у Гомера человек наделяется псюхе только после смерти, или когда падает в обморок, или умирает, или когда ему угрожает смертельная опасность: единственное свойство псюхе в отношении к живому человеку состоит в том, что она покидает его. Но для обозначения живущего индивида Гомер не имеет особого слова. Тюмос, возможно, первоначально был примитивным «дыханием-душой» или «жизнью-душой», но у Гомера это не душа и не (как у Платона) «часть души». Псюхе может быть приблизительно и в общем виде определена как орган чувствования. Однако она обладает независимостью, которая не предполагается в слове «орган», ибо для нас последний тесно связан с более поздними понятиями «организм» и «органическое единство». Тюмос человека расскажет ему, что в данный момент тот должен, допустим, есть, или пить, или убить врага, он дает ему советы в течение всей его деятельности, он побуждает его говорить определенные слова; θυμός άνώγει, «дух побуждает», говорит он, или κέλεταιδέμε θυμός, «меня побуждает дух». Он может беседовать с ним, или с его «сердцем», или «животом», почти как человек с человеком. Иногда человек бранит эти независимые сущности (κραδίηνήνίπαπεμύθω, «порицай сердце словом»);[106] обычно же он принимает их совет, но может и отвергнуть его и действовать так, как действует Зевс в одном эпизоде, «не соглашаясь со своим тюмосом».[107] В последнем случае мы сказали бы, вместе с Платоном, что человек κρείττων έαυτου, «сильнее себя самого», контролирует сам себя. Но у гомеровского человека тюмос не имеет тенденции к тому, чтобы воспринимается как часть эго: он обычно появляется как самостоятельный внутренний голос. Человек может иметь даже два таких голоса, как у Одиссея, когда он «решает в своем тюмосе» убить Циклопа немедленно, а второй голос (έτερος θυμός) удерживает его.[108] Эта привычка, так сказать, к «объективизации эмоциональных всплесков», к обращению с ними как с не-я должна была широко открыть дверь религиозной идее психического вторжения, которое, как часто говорится, воздействует не прямо на самого человека, но на его тюмос,[109] либо на его физические органы — грудь или диафрагму.[110] Так, Диомед заявляет, что Ахилл будет сражаться, «ежели сердце велит и бог всемогущий воздвигнет»[111] (здесь вновь пример сверхдетерминации).
Вторая особенность, которая, по всей видимости, тесно связана с первой, должна была развиваться в том же направлении. Это традиция объяснять характер или поведение в терминах познания.[112] Самый известный пример — широкое использование глагола οΐδα , «я знаю», вместе с объектом во множественном числе и среднем роде, с целью выразить не только обладание техническими навыками (οίδενπολεμήια έργα, «он знает военное дело» и т. п.), но и то, что уместно назвать нравственным характером или личными переживаниями: Ахилл «как лев, о свирепствах лишь мыслит», Полифем «никакого не ведал закона», Нестор и Агамемнон «сопряжены дружбою тесной».[113] Это не просто «идиома»: подобное выражение чувств в терминах интеллекта подразумевается и тогда, когда говорится, что Ахилл имеет «суровое разумение» (νόος) или что троянцы «помнили о бегстве и забыли о сопротивлении».[114] Этот интеллектуалистский подход к объяснению поведения оставил заметный след в греческом сознании: так называемые сократовские парадоксы, эти его «добродетель как знание», «никто не поступает неправильно с умыслом» были не новшествами, но эксплицитно обобщенными формулировками того, что было издавна укоренено в греческом мышлении.[115] Эти особенности мышления должны были поощрять веру в психическую интервенцию. Если характером является само знание, тогда то, что не есть знание, не является частью характера и приходит к человеку извне. Когда человек действует в манере, противоположной системе сознательных установок, которую он, как считается, «знает», его деятельность не принадлежит ему изнутри, но продиктована ему. Иначе говоря, несистематические, нерациональные импульсы, а также действия, проистекающие из них, имеют тенденцию к исключению из я и приписыванию их постороннему источнику.
Очевидно, что подобная ситуация вряд ли бывает, когда поступки, о которых идет речь, таковы, что вызывают сильный стыд у совершившего их. Мы знаем, как в нашем собственном обществе жгучее ощущение вины может быть снято путем «проецирования» ее в собственной фантазии на кого-нибудь еще. И можно считать, что понятие ате сослужило подобную службу гомеровскому человеку, помогая ему надежно уверовать в силу переноса на внешние факторы своих ощущений сильного стыда. Я говорю «стыд», а не «вина», ибо некоторые американские антропологи совсем недавно научили нас отличать «культуры стыда» от «культур вины»;[116] общество, описываемое Гомером, попадает в первый разряд. Высшее благо для гомеровского человека — не блаженство умиротворенного сознания, но радость от тиме, «общественного признания»: «Зачем сражаться мне, — вопрошает Ахилл, — коль воина мощного чтят не выше, чем слабого?»[117] Сильнейший нравственный мотив, которым руководствуется гомеровский человек, — не страх перед богом, но оценка его поведения общественным мнением (айдос): αϊδέομαι Τρώας [«стыжуся троян»], говорит Гектор в кризисный момент своей судьбы, и идет с открытыми глазами навстречу своей гибели.[118] Ситуация, в которой понятие ате является ответом, возникающим не столько из импульсивности гомеровского человека, сколько из разлада между индивидуальным импульсом и давлением социальных установок — характерная черта культуры стыда.[119] В подобном обществе все то, что вызывает в человеке осуждение или насмешки со стороны его соотечественников, все то, что способствует «потере лица» у него, воспринимается им как невыносимое.[120] Возможно, этот момент поможет объяснить, как не только случаи нравственных провалов, подобных потере Агамемноном контроля над собой, но и такие эпизоды, как неудачная сделка Главка или игнорирование Автомедонтом правильной тактики, «проецировались» на деятельность бога. С другой стороны, именно постепенный рост чувства вины, характеризующей более позднюю эпоху, трансформировал ате в наказание, Эриний — в мстительных духов, а Зевса — в воплощение космической справедливости. Эти трансформации мы рассмотрим в следующей главе.
Таким образом, я попытался показать, исследуя особый тип религиозного опыта, что в основе термина «гомеровская религия» лежит нечто большее, чем искусственная система однотипных космических богов и богинь; мы поступим не слишком справедливо, если сочтем это просто приятной, беззаботной интерлюдией между предполагаемыми глубинами эгейской религии Земли, о которой мы знаем немного, и глубинами «раннего орфического движения», о котором знаем еще меньше.
Глава вторая. От культуры стыда к культуре вины
Страшно впасть в руки Бога живого!
Евр. 10:31
В первой главе я рассматривал гомеровскую интерпретацию иррациональных элементов человеческой деятельности в контексте «психической интервенции», т. е. вмешательства в жизнь людей сверхчеловеческих сил, которые вкладывают нечто в человека и тем самым влияют на его мысли и дела. В данной же главе речь будет идти о том, какие формы приняли эти идеи Гомера в эпоху архаики. Поскольку то, о чем мне придется говорить, должно быть понятно и неспециалисту, необходимо в первую очередь сделать более-менее отчетливыми различия между религиозными идеалами архаического века и позицией Гомера. В конце первой главы я использовал выражения «культура стыда» и «культура вины» как дескриптивные обозначения двух рассматриваемых позиций. Сознаю, что эти термины еще сами нуждаются в объяснении, что они, вероятно, внове для большинства классических ученых и что они создают возможность недопониманий. То, что я подразумеваю под ними, уяснится, надеюсь, в ходе дальнейшего изложения. Но хотелось бы сразу прояснить две вещи. Во-первых, я использую эти термины только как описания, не имея в виду никакой особенной теории смены культурных типов. И во-вторых, я признаю, что такое различение неизбежно относительно, поскольку в действительности многие аспекты характерного для культуры стыда образа жизни присутствуют и в архаическом, и в классическом периодах. Существует определенный переход, но он является постепенным и незавершенным.
Когда мы переходим от Гомера к фрагментарной литературе архаического века, а также к тем авторам века классического, которые продолжают сохранять верность архаическим взглядам[121] — имеются в виду Пиндар, Софокл и особенно Геродот, — прежде всего нам бросается в глаза глубочайшее осознание человеком своей незащищенности и беспомощности (αμηχανία),[122] осознание, которое имеет религиозный коррелят в ощущении враждебности бога — не в том смысле, что божество мыслится как злое начало, а в том, что некая всепокоряющая Сила и Мудрость вечно держит человека в подчинении, препятствует ему подняться над своим уделом. Именно это чувство выражает Геродот, говоря, что божество всегда φΟονερόν τε και ταραχώδες.[123] «Завистливое и препятствующее», переводим мы эту фразу; однако перевод не очень годится — как может столь могущественная Сила завидовать столь ничтожному существу, как человек? Мысль здесь, скорее, такова, что богов раздражает любой успех, любое счастье, которые могут хотя бы на миг возвысить нас над смертным состоянием и тем самым посягнуть на их, богов, прерогативы.
Подобные идеи, конечно, не были чем-то совершенно новым. В «Илиаде», 24, Ахилл, тронутый видом своего горюющего врага Приама, произносит трагическую мораль всей поэмы: «Боги судили всесильные нам, человекам несчастным, // Жить на земле в огорчениях: боги одни беспечальны». И далее он приводит знаменитый впоследствии образ двух урн, из которых Зевс вынимает счастливые и несчастливые дары. Одним людям он посылает смешанные дары, другим — беспримесное несчастье, так что те блуждают в мучениях по земле, «отринутые бессмертными, смертными презрены».[124] Что касается чистого счастья, то оно, как утверждается, является уделом одних богов. Выбор содержимого из этих урн не имеет ничего общего со справедливостью; любая мораль была бы здесь ложной. Ибо в «Илиаде» героизм не приносит счастья: единственная достойная награда для героя — слава. Несмотря на все это, гомеровские герои смело отстаивают свой мир; они опасаются богов не в большей степени, чем своих земных правителей; не мучает их и страх перед будущим — даже тогда, когда, подобно Ахиллу, они знают, что оно несет им верную гибель.
Та вера, с которой мы сталкиваемся при изучении архаического времени, — не кардинально другая по своему характеру, это лишь другой отклик на старую веру. Послушаем, например, Семонида из Аморгоса: «... над всем — один властитель: Зевс // Как хочет, так вершит гремящий в небесах. // Не смертным разум дан. Наш быстролетен день, // Как день цветка, и мы в неведенье живем: // Чей час приблизил бог, как жизнь он пресечет. // Но легковерная надежда всех живит, // Напрасно преданных несбыточной мечте».[125] Или вот что говорит Феогнид: «Часто мы думаем зло совершить — и добро совершаем; // Думаем сделать добро — зло причиняем взамен. // И никогда не сбывается то, чего смертный желает, // Жалко-беспомощен он, силы ничтожны его. // Тщетно мы, люди, гадаем и ждем. Ничего мы не знаем. // Все совершается так, как порешит божество...»[126] Идея человеческой беспомощности перед лицом деспотической Судьбы не нова; но здесь присутствует новый акцент на отчаяние, новое и более резкое подчеркивание хрупкости человеческих надежд. Мы ближе к миру «Царя Эдипа», чем «Илиады».
Это совпадает с представлением о божьем фтоносе, зависти. Эсхил был прав, говоря, что «Давно среди смертных живет молва, // Будто бедою чревато частье».[127] Понимание того, что большой успех, особенно если о нем хвалиться, влечет за собой опасность, исходящую свыше, независимо появилось во многих культурах,[128] будучи глубоко укоренено в самой природе человека (мы сами присоединяемся к нему, когда «стучим по деревяшке»). «Илиада» игнорирует эту идею, как игнорирует и другие народные суеверия; но уже у поэта «Одиссеи», более чутко реагирующего на веяния эпохи, Калипсо в сердцах восклицает, что боги — самые завистливые существа в мире: они недоброжелательно относятся даже к появлению малого счастья.[129] Впрочем, ничем не сдерживаемое хвастовство гомеровского человека показывает, что он не принимает опасность фтоноса слишком всерьез: такие опасения чужды культуре стыда. Только в поздней архаике и ранней классике фтонос приобретает угрожающий характер, становится источником — или выражением — религиозной тревоги. Это можно встретить у Солона, Эсхила, особенно у Геродота. Для Геродота история сверхдетерминирована: если внешне она складывается из человеческих усилий, проницательный взор может различить в ней скрытую деятельность фтоноса. Руководствуясь тем же самым представлением, Гонец в «Персах» приписывает недальновидность тактики Ксеркса в битве при Саламине не только коварству греков, обманувших его, но и фтоносу богов, действующему через аластора, или злого дай-мона:[130] событие детерминировано двояким образом — на естественном и сверхъестественном уровнях.
Иногда,[131] хотя и далеко не всегда,[132] авторы этого периода морализуют фтонос, превращая его в немесис, «праведный гнев». Существует внутренняя нравственная связь между первобытной завистью слишком большому счастью и наказанием за это счастье ревнивым божеством: как считается, счастье производит у человека корос, самодовольство тем, что он все делает слишком хорошо, — в свою очередь, это развивает гибрис, высокомерие в словах, поступках и даже мыслях. Будучи интерпретирована подобным образом, прежняя вера стала более рациональной; правда, из-за этого она не стала менее репрессивной. Мы видим из сцены с ковром в «Агамемноне», как каждое проявление триумфа возбуждает у людей тревожащее чувство вины: гибрис оказывается «первичным злом», грехом, возмездием за который является смерть; этот грех так универсален, что в одном гомеровском гимне он называется темисом, т. е. исконной человеческой традицией, а Архилох приписывает его даже животным. Люди знали, что быть счастливым — опасно.[133] Эта сдержанность, несомненно, имела свою положительную сторону. Примечательно, что когда у Еврипида, творящего уже в новую эпоху — скептическую, — хор печалится об упадке нравственных норм, тот видит причину этого упадка в том, что «уж больше люди не стремятся избежать фтоноса богов».[134]
Морализация фтоноса знакомит нас со второй характерной особенностью архаического религиозного сознания — тенденцией трансформировать как сверхъестественное в целом, так и Зевса в частности в основание справедливости. Едва ли нужно специально отмечать, что на ранних этапах своего развития религия не соотносилась с моралью ни в Греции, ни где бы то ни было: они происходили из разных источников. Можно предположить, что религия, в широком смысле слова, проистекает из связи человека с его природным окружением, мораль же — из его отношения к своим соотечественникам. Однако рано или поздно в большинстве культур наступает период кризиса, когда подавляющая часть людей перестает соглашаться с мнением Ахилла о том, что «Бог — на небесах, а в мире все неправда». Человек проецирует на космос рождающееся в нем требование социальной справедливости; когда же из внешнего пространства величественное эхо его собственного голоса возвращается к нему, грозя наказанием за проступок, он черпает из этого эха смелость и уверенность в себе.
В греческом эпосе эта ступень еще не была достигнута, но уже можно заметить некоторые признаки приближения к ней. Боги «Илиады» прежде всего озабочены защитой своего достоинства, тиме. Легкомысленная речь о боге, пренебрежение его культом, оскорбление его жреца — все это, разумеется, вызывает в нем гнев; в культуре стыда боги, как и люди, легко раздражаются из-за неуважения к себе. Лжесвидетельство проходит под той же рубрикой: боги не имеют ничего против откровенной лжи, но выходят из себя, когда их именами клянутся всуе. Однако то здесь, то там мы встречаем намеки на нечто большее. Оскорбление родителей, например, является столь тяжким преступлением, что требует особого разбирательства: подобные случаи вынуждены рассматривать подземные силы.[135] Один раз говорится, что Зевс разгневался на людей, которые вершат неправедный суд.[136] Но это я считаю отражением более поздних времен; в поэме данный эпизод, как бы по недосмотру, столь обычному у Гомера, плавно переходит в сравнение.[137] Ибо трудно найти в «Илиаде» свидетельства того, что Зевс озабочен справедливостью как таковой.[138]
В «Одиссее» же его интересы значительно шире: он не только защищает просителей[139] (которые в «Илиаде» лишены подобной привилегии), но и «нам Зевес посылает // Нищих и странников»;[140] по существу, подразумевается гесиодовский мститель за бедных и обездоленных. Более того, Зевс «Одиссеи» становится чутким к критике: люди, недовольно говорит он, всегда находят ошибки у богов. «Странно, как смертные люди за все нас, богов, обвиняют! // Зло от нас, утверждают они; но не сами ли часто // Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?»[141] Помещенная в самом начале поэмы, эта ремарка звучит, как говорят немцы, «программно». И программа действительно осуществляется. Неблагие деяния женихов влекут за собой гибель,[142] тогда как Одиссей, чуткий к предостережениям божеств, празднует победу против превосходящих сил: существование божественной справедливости доказано.
Более поздние этапы повышения нравственного статуса Зевса могут быть найдены у Гесиода, Солона, Эсхила; но здесь я не имею возможности исследовать этот процесс в деталях. Необходимо, впрочем, упомянуть одну сложность, имевшую далеко идущие исторические последствия. Греки трезво смотрели на жизнь и не скрывали от самих себя очевидность того, что повсюду, словно зеленый лавр, стала расцветать безнравственность. Гесиод, Солон, Пиндар глубоко обеспокоены этим, а Феогнид находит нужным дать Зевсу откровенно высказаться по данному вопросу.[143] Достаточно легко было доказать божественную справедливость в художественном произведении, подобном «Одиссее»: как заметил Аристотель, «поэты часто следуют за зрителями и поступают им в угоду».[144] Однако в реальной жизни было иначе. В век архаики мельница бога молола столь медленно, что ее движение было почти незаметно для верующего взора. Чтобы поддержать веру, которую они двигали, было необходимо освободиться от естественной установки на ограниченность жизни распадом и смертью. Если же выходить за этот предел, можно сказать одно (а то и оба) из двух: либо преуспевающий грешник будет наказан в своих потомках, либо он заплатит свой долг лично в следующей жизни.
Второй из этих взглядов получил широкое распространение только в конце архаического времени; вероятно, его в основном придерживались мистические круги; я отложу его рассмотрение до следующих глав. Первый же является характерной особенностью архаического миросозерцания: таково учение Гесиода, Солона и Феогнида, Эсхила и Геродота. Он, среди прочего, означал, что страдания невинного в нравственном отношении человека отныне не оставались без внимания: Солон говорит о наследниках жертвы немесиса как αναίτιοι, «невиновных»; Феогнид сетует на несправедливость системы, при которой «преступник уходит от наказания, невинный же подвергается каре»; Эсхил, если я правильно его понимаю, считает, что несправедливость можно смягчить, при условии, что лежащее на потомках проклятие снято с них.[145] Тот факт, что все эти мужи принимают идею унаследованной виновности и наказание с отсрочкой, обязан той вере в семейное единство, которое архаическая Греция разделяла с другими ранними обществами[146] и со многими современными примитивными культурами.[147] Каким бы несправедливым не оказалось то или иное явление, для них это был естественный закон, который необходимо принять: ибо семья являлась нравственным целым, жизнь сына — продолжением жизни отцовской,[148] и сын наследовал моральные долги отца точно так же, как наследовал его долги материальные. Рано или поздно, но долги требовалось возвращать: как говорила Крезу пифия, причинной связью преступления и наказания была мойра — столь сильной связью, что подчас даже боги не могли ее разорвать; Крезу пришлось завершить или исполнить то, что началось с преступления одного из его предков, жившего за пять поколении до него.[149]
Грекам не слишком повезло, что идея космического закона, представлявшая некоторый шаг вперед по сравнению с прежним понятием чисто произвольных божественных сил и формировавшая основу новой, гражданской морали, оказалась очень тесно связанной с ранним представлением о семье. Ибо это означало, что весь груз религиозного переживания и религиозного закона был брошен против подлинного отношения к индивиду как к личности, имеющему свои права и обязанности. Такое отношение стимулировало возникновение в Аттике нерелигиозной, мирской законности. Как показал Глотц в своей выдающейся книге La Solidarite de la famille en Grece,[150] освобождение индивида от клановых и семейных оков — одно из важнейших достижений греческого рационализма, оказавшее безусловное влияние на развитие афинской демократии. Но уже и после того как освобождение это приобрело форму закона, религиозное сознание все еще находилось в плену прежнего семейного единства. Даже у Платона, в IV в., пальцем показывают на человека, отягощенного наследственной виной, и говорится, что нужно в виде возвращения долга испытать катарсис, чтобы получить ритуальное облегчение от нее.[151] Да и сам Платон, хотя он и соглашался с изменениями в традиционном законодательстве, в отдельных случаях считался с теорией наследственной религиозной вины.[152] Столетием спустя Бион из Борисфена все еще полагает нужным указать, что наказывая сына за причиненную отцу обиду, бог действовал как врач, который должен дать лекарство ребенку, чтобы исцелить отца; и набожный Плутарх, который цитирует это остроумное замечание, пытается, тем не менее, найти защиту для старой доктрины в обращении к известным в его время фактам наследственности.[153]
Возвращаясь к веку архаики, скажем, что греков ограничивало также и то, что функции, переданные моральному сверхсуществу, оказались преимущественно, если не единственно, карающими. Мы много слышим о наследственной вине и намного меньше — о наследственной невинности; много о страданиях грешника в преисподней или чистилище и сравнительно немного о будущих наградах за добродетель; акцент всегда ставится на карательных санкциях. Без сомнения, это отражает юридические идеи того времени: ведь уголовное законодательство предшествовало гражданскому, и первичной функцией государства являлась принудительная. Кроме того, божественный закон, как и закон раннего общества, не берет во внимание мотив поступка и не снисходит до человеческих слабостей; он лишен того человеческого качества, которое греки называли επιείκεια или φιλανθρωπία.[154] Одна популярная в ту эпоху пословица, гласящая, что «любая добродетель состоит в справедливости»,[155] богов подразумевает не меньше, чем людей: понятие сочувствия уже редко связывалось и с теми и с другими. Не так было в «Илиаде»: здесь Зевс испытывает жалость к обреченным на смерть Гектору и Сарпедону; он жалеет и Ахилла, оплакивающего своего погибшего друга Патрокла, и даже ахиллесовых коней, тоскующих по своему вознице.[156] В «Илиаде», 21, он говорит: «Я забочусь о них, хоть они и погибнут». Но в складывающейся системе вселенского Закона Зевс утратил свою человечность. Религия олимпийских богов, принимая моральный оттенок, имела тенденцию стать религией страха, что отражалось и в религиозном словаре. В «Илиаде» нет понятия «страха божьего»; но в «Одиссее» быть θεουδής [богобоязненным] является уже немаловажным достоинством, а менее поэтический его эквивалент, δεισιδαίμων,[157] использовался как похвала и имел широкое хождение во времена Аристотеля.[158] Понятие любви к богу, с другой стороны, отсутствует в древнегреческом лексиконе, филотеос впервые появляется у Аристотеля.[159] И фактически из большинства олимпийцев только Афина пробудила чувство, которое можно обоснованно считать любовью. «Ведь нелепо услышать от кого-то, — говорится в "Большой Этике", — что он "дружит с Зевсом" ».[160]
Это подводит нас к последней важной особенности, которую хотелось бы подчеркнуть, а именно общераспространенному страху осквернения (миасма) и коррелирующему с ним универсальному желанию ритуального очищения (катарсис). Здесь опять различие между гомеровским и архаическим временем, теряя абсолютный характер, становится относительным; ведь неправомерно было бы отрицать, что катарсис, хотя бы и в минимальной форме, практикуется в обоих эпосах.[161] Но от простых гомеровских очищений, исполняемых мирянами, довольно далеко до профессиональных катартаи архаического века с их разработанными ритуалами. И еще большее расстояние от принятия Телемахом раскаявшегося убийцы в товарищи по плаванию до ситуации, когда подозреваемый в убийстве в конце V в. доказывал на судебном процессе свою невиновность тем фактом, что корабль, на котором он плыл, достиг порта в безопасности.[162] Мы можем еще больше увеличить зазор, если сравним гомеровскую версию сказания об Эдипе с тем, что знакомо нам из Софокла. В последнем случае Эдип становится оскверненным изгоем, придавленным бременем вины, «которую ни земля, ни дождь небесный, ни свет солнца принять не способны».
Гомер же в своем сказании полагал, что тот продолжает править в Фивах и после того, как вина его открывается; впоследствии Эдипа, видимо, убивают в бою и хоронят с царскими почестями.[163] По всей видимости, лишь более поздняя, киклическая поэма «Фиваида» создала софокловского «человека скорби».[164]
У Гомера не прослеживается вера в «инфекционный» или наследственный характер осквернения. Для архаического же сознания обе эти черты уже существовали[165] и несли с собой подспудный страх: ибо как человек может быть уверенным в том, что не подхватит что-нибудь нечистое из случайного общения или не унаследует скверну от позабытой обиды, нанесенной кому-нибудь его далеким предком? Подобные тревоги еще больше увеличивались из-за своей неопределенности — ведь нельзя найти для них причину, которую можно было бы узнать и разрешить. Видеть в этих взглядах источник архаического чувства вины, видимо, большое упрощение; но они, разумеется, выражали его, подобно тому как христианское чувство вины выражается через страх впадения в нравственное прегрешение. Разница между тем и этим, конечно, есть, и состоит она в том, что грех — это состояние падшей воли, болезнь человеческой души, тогда как осквернение — автоматическое следствие определенного поступка; оно принадлежит к миру внешних событий и действует с тем же полнейшим безразличием к мотиву поступка, с каким действует, скажем, тифозная вошь.[166] Строго говоря, архаическое чувство вины становится чувством греховности только в результате «интернализации» сознания (термин Кардинера[167]) — феномена, который появляется позднее и, вероятно, только в эллинистическом мире, причем становится распространенным спустя долгое время после того, как гражданское законодательство начало признавать важность мотива.[168] Перенесение понятия чистоты из сферы магии в сферу морали тоже произошло достаточно поздно: только в самом конце V в. мы встречаем ясные утверждения о том, что чистых рук недостаточно — сердце тоже должно быть чистым.[169]
Тем не менее трудно провести хронологически четкую линию: зачастую религиозная идея выражается самой жизнью задолго до того, как ее сформулируют в ясной форме. Я думаю, Пфистер в чем-то прав, считая, что в древнегреческом слове агос (термин, обозначающий наихудший вид миасмы) идеи осквернения, проклятия и греха были с самого начала очень тесно переплетены.[170] И в то время как катарсис в век архаики, несомненно, часто был не более чем механическим исполнением определенной ритуальной обязанности, понятие автоматического, квазифизического очищения могло совершенно незаметно перейти в глубокую мысль об искуплении за грех.[171] Есть несколько письменных свидетельств, исходя из которых едва ли можно сомневаться в том, что понятие искупления за грех было использовано в неординарном случае наложения дани на локрийцев.[172] Народ, который в компенсацию за преступление, совершенное далеким предком, посылал, столетие за столетием, двух дочерей знатнейших семей на умерщвление в далекую страну или, в лучшем случае, оставлял в храмах на положении рабынь — этот народ, надо полагать, действовал не только из-за страха опасности осквернения, но и в силу глубокого чувства наследственного греха, который должен быть искуплен только таким ужасным способом.
Я вернусь к вопросу о катарсисе в следующей главе. В данный же момент уместно вспомнить понятие вторжения в психику, которое мы уже изучали у Гомера, и спросить, какую роль оно играло в разветвленном религиозном контексте архаического века. Простейший способ ответить на это — рассмотреть некоторые послегомеровские случаи использования слова ате (а также ее сниженного варианта, теобласии) и слова даймон. Поступив подобным образом, мы обнаружим, что в некоторых отношениях эпическая традиция воспроизводится здесь с замечательной точностью. Ате продолжает сохранять свою иррациональность, отличающуюся от рационально ориентированного поведения: например, услышав, что Федра не хочет есть, хор вопрошает, происходит ли это по причине ате или из-за того, что Федра собирается покончить с собой.[173] Ате все еще коренится в тюмосе или френесе,[174] и факторы, воздействующие на ее появление, те же, что и у Гомера: преимущественно неотождествленный даймон, бог или боги, намного реже какой-нибудь конкретный Олимпиец;[175] изредка, как у Гомера, Эриния[176] или мойра;[177] один раз, как в «Одиссее», — вино.[178]
Но есть также и важные инновации. Прежде всего, ате часто, хотя и не всегда, связывается с моралью, будучи представлена как наказание; эта связь появляется у Гомера только однажды — в «Илиаде», 9 — и затем у Гесиода, который делает ате наказанием за гибрис и замечает с удовлетворением, что «даже знатный» не может избежать его.[179] Подобно другим видам сверхъестественного наказания, оно падет на потомков согрешившего, если «долг зла» не оплачен при жизни.[180] Это представление об ате как наказании обрастает разнообразными значениями. Ате подразумевает уже не только состояние ума грешника, но и объективные бедствия, вытекающие из него: так, персы на Саламине испытывают «морские атаи»; зарезанные Аяксом овцы являются его ате. Ате, таким образом, приобретает общий смысл «краха», по контрасту с κέρδος[181] или σωτήριοι,[182][183], хотя в текстах всегда сохраняется указание на то, что крах обусловлен свыше. Под этим термином иногда также подразумевается орудие или воплощение божьего гнева: в этом смысле троянский конь — ате, а Антигона и Исмена представляются Креонту «двумя атаи».[184] Значения ате основаны скорее на чувстве, чем на логике: в них выражается ощущение таинственной динамической связи, менос атес, как Эсхил называет ее, соединяя в одно целое преступление и наказание; оба элемента этого зловещего единства являются в широком смысле ате.[185]
Этот не слишком определенный слой значений отличается от точного теологического истолкования, рассматривающего ате не просто как наказание, вызывающее физические бедствия, но и как умышленный обман, который вовлекает жертву в чистое заблуждение, интеллектуальное или моральное, посредством чего она ускоряет свой крах — таково зловещее учение о том, что quem deus vult perdere, prius dementat.[186] Намек на него содержится в «Илиаде», 9, где Агамемнон называет свою ате злым обманом, придуманным Зевсом; но у Гомера и Гесиода отсутствуют отчетливые утверждения об этой доктрине. Оратор Ликург[187] приписывает ее «некоторым древним поэтам», не упоминая имен, и цитирует из одного из них выдержку в ямбах: «Когда гнев даймона разит человека, в первую очередь он отнимает у него понимание, толкая к глупым суждениям, так что тот не может осознать своих заблуждений». Похожим образом и Феогнид[188] заявляет, что больший человек — тот, который стремится к своей «выгоде» и «благу», невзирая на то, что его сбивает с пути даймон, побуждающий ошибочно принимать зло за добро и жаждать плохого. Здесь действие даймона никак не морализуется: он напоминает обыкновенного злого духа, который толкает человека на путь, ведущий к осуждению.
То, что эти злые духи вызывали реальный страх в эпоху архаики, явствует также и из слов Гонца, которые я приводил выше, хотя и в другой связи: «Ксеркса смутил аластор, или злой даймон». Но сам Эсхил знает больше: как позже объясняет Тень Дария, этот искус был наказанием за гибрис;[189] то, что ограниченному взору живущих видится как действие злых сил, более глубокая интуиция умерших воспринимает как аспект космической справедливости. В «Агамемноне» мы вновь встречаем такое же двоякое понимание событий. Там, где поэт, говоря устами хора, способен обнаружить всемогущую волю Зевса (πανοατίυν, πανεργέτα),[190] действующего посредством неумолимого нравственного закона, его герои видят только мир даймонов — вредоносных злых существ. Можно вспомнить и о содержащемся в эпосе различии между точкой зрения поэта и мнениями персонажей. Так, Кассандра воспринимает Эриний как свору демонов, опьяненных человеческой кровью; воспаленному воображению Клитемнестры не только Эринии, но и сама ате представляются индивидуальными злыми духами, которым она принесла в жертву своего мужа; есть даже момент, когда она чувствует, что сама ее личность утрачена и растворена в аласторе, чьим представителем и орудием она оказывается.[191] Последнее я понимаю как пример не столько «одержимости» в обычном смысле, сколько «партиципации» (говоря словами Леви-Брюля), т. е. ощущения того, что в определенной ситуации человек или вещь являются не только самими собой, но и чем-то большим: я сравнил бы «коварного грека» «Персов», который был также и аластором, со жрицей Тимо у Геродота, женщиной, внушившей Мильтиаду мысль совершить святотатство, относительно которого Аполлон заявил, что «не Тимо была причиной этого, но Мильтиаду было суждено закончить плохо, она лишь толкнула его ко злу»[192] — т. е. она действовала не как человек, но как представитель надприродных сил.
Мрачная, давящая атмосфера, окутывающая жизнь эсхиловских героев, кажется на первый взгляд намного более древней, чем свежий воздух, которым дышат люди и боги «Илиады». Не случайно Глотц назвал Эсхила «се revenant de Mycenes»[193] (хотя и добавлял, что тот был также и человеком своего времени); не случайно и один современный немецкий автор считает, что Эсхил «воскресил мир демонов, и особенно злых демонов».[194] Но говорить подобным образом, на мой взгляд, значит полностью не понимать и намерения Эсхила, и религиозный климат эпохи, в которую он жил. Эсхилу вовсе не пришлось воскрешать мир демонов: это был мир, в котором он родился. И цель его — не возвращать своих соотечественников обратно в этот мир, но, напротив, провести их через него и вывести из него. Он пытался сделать это иначе, чем Еврипид, выдвигавший интеллектуальные аргументы против их реальности; Эсхил показывал путь к более глубокому истолкованию, демонстрируя (например, в «Эвменидах»), как этот иррациональный мир, трансформируясь благодаря деятельности Афины, становится новым миром рациональной справедливости.
Демоническое, как отличающееся от божественного, всегда играло большую роль в греческой народной религии (и играет до сих пор). Персонажи «Одиссеи», как мы уже видели в главе I, приписывают многие события своей жизни, как ментальной, так и физической, деятельности безымянных даймонов; впрочем, создается впечатление, что эта деятельность не всегда воспринималась всерьез. Однако в эпоху, отделяющую «Одиссею» от «Орестеи», даймоны вызывают большую тревогу: они более настойчивы, коварны, безжалостны. Феогнид и его современники серьезно относились к феномену даймона, вызывающего в человеке ате, что явствует из выдержек, приведенных мною выше. Эта вера существовала в народном сознании и много позже эпохи Эсхила. Так, Кормилица в «Медее» знает, что ате — действие гневного даймона, и связывает его со старым представлением о фтоносе: чем выше статус семьи, тем сильнее ате; только совсем [«забитые»] избавлены от нее.[195] Еще в 330 г. оратор Эсхин мог предполагать, хотя и с осторожным «вероятно», что грубиян, оборвавший его выступление в совете Амфиктиона, вел себя столь непристойно потому, что был движим «чем-то демоническим» (δαιμονίου τινός παραγομένου).[196]
Достаточно близки ате по своему характеру те иррациональные силы, которые возникают в человеке помимо его воли, искушая его. Когда Феогнид называет надежду и страх «опасными даймонами» или когда Софокл говорит об Эроте как о силе, из-за которой «не раз праведный ум // В неправды сеть был вовлечен»,[197] не следует понимать это как «персонификацию»: за ней скрывается старое гомеровское ощущение того, что они не являются подлинной частью «я», поскольку не подчиняются сознательному контролю человека; они наделены собственной жизнью и энергией и могут ввергнуть человека, как бы извне, в поведение, чуждое ему. В последующих главах мы увидим, что отчетливые следы этого способа истолкования страстей остаются даже у таких авторов, как Еврипид и Платон.
К иному типу принадлежат даймоны, являющиеся проекцией конкретной человеческой ситуации. Как заметил профессор Франкфорт относительно других древних народов, «злобные духи — часто не более чем само зло, воспринятое как субстанция и наделенное властью».[198] В похожей манере древние греки говорили о голоде и о чуме как о «богах»,[199] а современные афиняне верят в существование трех демонов, обитающих в одной из расселин Холма Нимф. Имена их — Холера, Оспа и Чума. Это могучие силы, хватка которых смертельна для людей. Также и постоянная сила и давление наследственного осквернения могут принимать форму, подобную эсхиловскому δαίμωνγέννης, «даймон рода», а ситуация убийства может быть спроецирована вовне в виде Эринии.[200] Эти существа, как мы уже видели, не совсем являются внешними по отношению к их человеческим посредникам и жертвам: Софокл может говорить об «Эринии в уме».[201] Тем не менее все они остаются реально существующими, поскольку означают объективную неизбежность, которая должна быть искуплена кровью; это только Еврипид[202] да г-н Т. С. Элиот психологизируют их в виде угрызений совести.
Третий тип даймона, впервые появляющийся именно в архаическое время, связан с конкретным индивидом, обычно с рождения, и определяет его личную судьбу. Самые ранние упоминания о нем встречаются у Гесиода и Фокилида.[203] Этот даймон представляет собой индивидуальную мойру, или «удел», о котором говорит и Гомер,[204] но при этом в конкретной, неповторимой форме, что отвечало чаяниям эпохи. Часто он кажется не чем иным, как человеческой удачей или счастьем;[205] однако такое счастье воспринимается как врожденное, как важнейшая часть красоты или таланта человека. Феогнид сетует, что он больше зависит от своего даймона, чем от своего характера: если ваш даймон не обладает большими достоинствами, то любое разумное действие окажется бесполезным — ваше предприятие обречено на провал.[206] Тщетно Гераклит отрицал мнение о том, что «характер — это судьба» (ήθος άνϋρώπω δαίμων): ему не удалось уничтожить распространенный предрассудок. Слова κακοδαίμων и δυσδαίμων фактически являются неологизмами V в. (в отличие от ευδαίμων, который упоминается уже Гесиодом). В уроках судьбы, которая возобладала над великими мира сего — Кандавлом и Мильтиадом, — Геродот видит не внешнюю случайность или следствие характера, но «то, что должно произойти» — χρήνγαρ Κανδαύλη γενέσθαι κιικώς, «Кандавлу был предречен конец».[207] Пиндар благочестиво примиряет этот народный фатализм с волей бога: « Мощный дух Зевса — кормчий при демоне тех, кто ему любезен».[208] Возможно, именно Платон возвысил и полностью трансформировал эту идею, как он обычно делал и с другими элементами народной веры: даймон становится неким величественным духом-руководителем (в стиле фрейдовского супер-эго),[209] который в «Тимее» отождествляется с чистым человеческим разумом.[210] В этом сверкающем одеянии, сделавшем его морально и философски пристойным, даймон получил новый импульс к жизни на страницах произведений стоиков и неоплатоников, и даже средневековых христианских писателей.[211]
Таковы некоторые виды даймонов, которые сформировали часть религиозного наследия в V в. до н. э. Я не старался во всех деталях воссоздать законченную картину этого наследия. Некоторые другие его аспекты будут рассмотрены в следующих главах. Но уже сейчас необходимо ответить на вопрос, который наверняка сложился в сознании читателя. Как мы должны воспринимать преемственность между «культурой вины», которую я описывал до сих пор, и «культурой стыда», с которой мы имели дело в первой главе? Какие исторические силы обусловили различие между ними? Я старался показать, что контраст не так велик, как полагают иные ученые. Разнообразными тропами мы двигались от Гомера в хаотические джунгли архаического века, а из них — в пятое столетие. Разрыв преемственности не абсолютен. Тем не менее вполне реальная разница в религиозных взглядах отделяет мир Гомера даже от Софокла, которого называли самым гомеровским из поэтов.
Возможно ли выявить какие-нибудь внутренние причины, приведшие к этому различию?
На этот вопрос нельзя дать однозначный и простой ответ. Прежде всего, перед нами — отнюдь не непрерывная историческая эволюция, в которой один тип религиозности постепенно трансформировался в другой. Мы, конечно, не согласимся с крайним взглядом, согласно которому гомеровская религия — не что иное, как поэтический вымысел, «столь же отдаленный от реальной жизни, сколь и искусственный гомеровский язык».[212] Но есть веские причины для предположения о том, что эпические поэты игнорировали или сводили к минимуму многие верования и практики, которые, хотя и существовали в их время, не привлекали их покровителей. Например, старая катарсическая магия «козлов отпущения» практиковалась в Ионии в шестом столетии, будучи принесена туда, видимо, первыми колонистами, поскольку этот же ритуал был зафиксирован и в Аттике. Поэты «Илиады» и «Одиссеи» наверняка должны были достаточно часто встречаться с ним. Однако они исключили его из своих поэм, как исключили и многое другое, что им и их аристократическим слушателям казалось варварским. Они описывают не столько нечто совершенно чуждое традиционной вере, сколько некую выборку из нее, которая удовлетворяла запросам аристократической военной культуры, подобно тому как Гесиод делает выборку взглядов, подходящую для земледельческой культуры. Если мы не учтем этот момент, при сравнении культур «стыда» и «вины» возникнет впечатление резкого исторического разрыва.
Тем не менее, когда все подобные допущения сделаны, все еще остается важный ряд отличий, которые, по-видимому, представляют собой уже не выдержки из общей культуры, но исконные перемены в культуре. Развитие некоторых из них, как бы ни скудны были наши свидетельства, мы можем проследить в пределах собственно архаической эпохи. Даже Пфистер, например, признает «бесспорный рост ощущения тревоги и страха в истории греческой религии».[213] Верно, что понятия осквернения, очищения, божьего фтоноса могут являться частью изначальной индоевропейской традиции. Но именно в период архаики легенды об Эдипе и Оресте были истолкованы как навевающие ужас истории убийства и вины за убийство; это сделало феномен очищения главной заботой важнейшего религиозного института архаики — дельфийского оракула; это же возвысило значение фтоноса до такой степени, что Геродот мыслил его основополагающим моментом всей истории. Подобный факт, несомненно, нуждается в прояснении.
Сразу же оговорюсь, что не имею возможности привести подробные объяснения; могу только дать частичные ответы. Разумеется, о многом может сказать состояние общества в тот период.[214] В Великой Греции (а мы здесь имеем дело именно с ней) в архаический период человек чувствовал свою исключительную незащищенность. Крошечные перенаселенные государства только начинали выходить из нищеты и бедности, оставшихся им в наследство после дорийского нашествия, когда возникла новая опасность: разразился великий экономический кризис VII в., чувствительно задевший все слои общества; это, в свою очередь, привело к сильным политическим потрясениям VI в., когда экономический кризис понимался в терминах жестокой социальной борьбы. Вполне возможно, что вытекавшее отсюда смещение первичных социальных связей, выход на первые места ранее задавленных слоев общества незнатного происхождения поощряли воскрешение старых культурных образцов, которые простой народ, впрочем, никогда не забывал.[215] Более того, небезопасные условия жизни сами по себе благоприятствовали развитию веры в даймонов, основанной на чувстве беспомощности человека перед капризной Судьбой; это, в свою очередь, могло стимулировать повышенный интерес к магической технике, если Малиновский[216] прав, утверждая, что биологическая функция магии — облегчить выход скованным и фрустрированным чувствам, которые не могут найти рационального разрешения. Также вероятно, что в иных умах длительное существование несправедливости на земле могло бы в качестве компенсации взрастить веру в то, что справедливость существует на небесах. Разумеется, не случайно, что первым греком, проповедовавшим божью справедливость, был Гесиод — «поэт илотов», как царь Клеомен[217] называл его, — человек, который сам страдал от «неправедного суда». Не случайно и то, что в этот век рок, исполняющийся над богачом и властителем, становится столь популярной темой у поэтов[218] — что резко контрастирует с Гомером, у которого, как заметил Мюррей, богатые люди наделены особыми добродетелями.[219]
Со всеми этими осторожными обобщениями ученых, более кропотливых, чем я сам, в целом можно согласиться; выводы их до определенной степени обоснованны. Однако трактовок ими более специфичных элементов архаического религиозного чувства — особенно растущего ощущения вины — я не могу полностью принять. И рискну предположить, что эти ученые должны дополнить свой подход (не заменяя целиком) к предмету несколько иным, относящимся не столько к обществу, сколько к семье. Ведь семья была краеугольным камнем архаической социальной структуры, первой организованной единицей, первой юридической территорией. Как и во всех индоевропейских обществах, она строилась по патриархальному принципу; законом ее было patria potestas.[220],[221] Глава семьи — ее правитель, οϊκοιοάναξ; и даже Аристотель все еще описывает его положение как аналогичное положению царя.[222] Авторитет отца для детей безграничен: он волен бросить их в детстве, может изгнать совершеннолетнего сына — заблудшего или бунтующего — из сообщества, примерами чего могут служить Тесей, изгнавший Ипполита, Эней — Тидея, Строфий — Пилада, наконец, сам Зевс, выгнавший Гефеста с Олимпа за то, что тот посмел сесть рядом с матерью.[223] Сын имеет перед отцом обязанности, но не права; пока отец жив, сын все время находится в подчиненном положении; подобное состояние дел продлилось в Афинах вплоть до VI в., когда Солон осуществил некоторые реформы.[224] Но и спустя более чем два столетия после Солона традиция семейной юрисдикции была столь сильна, что даже Платону — которого трудно признать большим поклонником института семьи — пришлось отвести ей место в своем законодательстве.[225]
Пока был незыблем прежний смысл семейной солидарности, система, по-видимому, срабатывала. Сын оказывал отцу такое же безоговорочное послушание, какое сам мог потом получить от своих детей. Однако с ослаблением семейных уз, с ростом требований личностью прав и гарантий для себя развиваются те внутренние трения, которые столь характерны и для семейной жизни в западном обществе. О том, что эти трения начались открыто в VI в., можно заключить из законодательных поправок Солона. Но есть также и много косвенных свидетельств их скрытого влияния. Особый страх, с которым греки воспринимали оскорбление отца и особенно религиозные санкции, которым обидчик, по общему мнению, должен подвергнуться, уже содержат сильные репрессивные функции.[226] Об этом говорят многие истории, в которых отцовское проклятие производит страшные последствия — например, истории Феникса, Ипполита, Пелопса с сыновьями, Эдипа с сыновьями.[227] Все эти истории, по-видимому, продукты относительно позднего периода, когда положение отца в семье уже не являлось абсолютным. Иное впечатление оказывает варварская история о Кроне и Уране, которую архаическая Греция, скорее всего, заимствовала из хеттских источников. Здесь мифологическая проекция бессознательных желаний просматривается отчетливо, что чувствовал, вероятно, и Платон, когда
заявлял, что эту историю следует, во-первых, рассказывать только во время самых значительных мистерий и, во-вторых, обязательно утаивать от молодежи.[228] Но самые значимые свидетельства психолог найдет в некоторых выдержках из авторов классического века. Типичный пример иллюстрирует Аристофан, который, живописуя прелести жизни в Облачной Кукушечьей Стране, волшебном месте исполнения желаний, заявляет иронично, что если избить родного отца, люди станут восхищаться подобным подвигом: ведь это калон, а не аисхрон.[229],[230] И когда Платон желает показать, что бывает, когда у человека отсутствует рациональный контроль, его типичный пример — сон Эдипа. Свидетельство его подтверждается Софоклом, у которого Иокаста произносит, что такие сны — обычное явление, а также Геродотом, который тоже упоминает о нем.[231] Вполне можно усмотреть некоторое сходство в том, какое положение семьи было в Древней Греции и в наши дни, поскольку и тогда, и сегодня оно часто приводило к конфликтам в детской душе, которые впоследствии эхом отзывались в бессознательном взрослого. С расцветом софистических учений конфликт во многих семейных кланах стал отчетливо осознаваем: юные отпрыски начали утверждать, что они имеют «естественное право» не подчиняться своим отцам.[232] Но справедливо допустить, что такие конфликты уже существовали на бессознательном уровне с еще более раннего времени, что фактически они восходят к самым ранним неосознаваемым всплескам индивидуализма еще в том обществе, где семейная сплоченность имела абсолютный характер.
Пожалуй, можно разглядеть направление, в котором развивались все эти тенденции. Психологи приучили нас к пониманию того, каким могущественным источником чувства вины бывает давление неосознаваемых желаний, вытесненных из сознания в сновидения и дневные грезы и все-таки способных произвести в я глубокое ощущение нравственного беспокойства. Это беспокойство и в наши дни зачастую принимает религиозную форму; если уж подобное чувство существовало в архаической Греции, то религиозная форма была для него естественной. Во-первых, у «отца» с ранних времен имеется небесный «двойник»: Зевс-pater принадлежит к индоевропейской традиции, на что указывают его латинский и санскритский эквиваленты. Калхаун показал, насколько совпадают статус и поведение гомеровского Зевса со статусом и поведением гомеровского главы семейства.[233] Также и в культе Зевс появляется в качестве надмирного Главы Семьи: как Патрос, он покровительствует семье в целом, как Геркейос — ее местопребыванию, как Ктесий — ее имуществу. Было естественно спроецировать на небесного Отца те причудливо смешанные чувства, с которыми ребенок относился к отцу земному и в которых он не осмеливался признаться даже себе. Этот факт, возможно, прольет свет на то, почему в век архаики Зевс появляется временами то как непостижимый источник счастливых и несчастливых даров одновременно, то как завистливое божество, недоброжелательно относящееся к заветным чаяниям своих детей;[234] наконец, как внушающий страх, суровый судия, безжалостно карающий главный человеческий грех — отстаивание своих притязаний, грех гибриса. (Этот последний аспект соответствует той фазе в развитии семейных отношений, когда авторитет отца воспринимается как нуждающийся в поддержке моральных санкций, когда «ты сделаешь это потому, что я так говорю» сменяется на «ты сделаешь это потому, что так правильно».) И во-вторых, культурное наследие архаической Греции, которое она разделяла с Италией и Индией,[235] включало в себя совокупность идей о ритуальной нечистоте, что естественным образом дополняло объяснение чувства вины, произведенного подавленными желаниями. Грек времен архаики, страдавший от подобного чувства, был способен дать ему конкретную форму, говоря себе, что, должно быть, он соприкоснулся с миасмой или что его тяготы были унаследованы от религиозного преступления далекого предка. Но, что самое важное, он умел облегчать их через исполнение катарсического ритуала. Разве мы не видим здесь возможный ключ к объяснению роли, которую играла в греческой культуре идея катарсиса, а также постепенное развитие из этой идеи, с одной стороны, понятий греха и раскаяния, а с другой, аристотелевского психологического очищения, которое освобождает нас от нежелательных переживаний через созерцание их проекций в произведении искусства?[236]
На этом я остановлюсь в своих предположениях. Несомненно, для них довольно нелегко найти прямые доказательства. В лучшем случае они могут получить косвенное подтверждение, если социальная психология сумеет подыскать аналогичные элементы в культурах, более пригодных для подробного исследования. Работа в этом направлении уже проводится,[237] но было бы преждевременно делать какие-то выводы. Между тем я буду только приветствовать, если классические ученые выскажут свои соображения о вышеприведенных замечаниях. И, дабы избежать непонимания, хотел бы в заключение подчеркнуть две вещи. Во-первых, я не ожидаю, что этот ключ, как и вообще любой ключ, может подойти ко всякой двери. Эволюция культуры — слишком сложное явление, чтобы ее можно было полностью объяснить в терминах какой-нибудь простейшей формулы, экономической (Маркс) или психологической (Фрейд). Необходимо противиться соблазну упрощать то, что простым не является. И, во-вторых, объяснять истоки — не значит объяснить исходящие из них ценности. Мы должны стараться избегать недооценки значимости религиозных идей прошлого, даже тогда, когда, подобно представлению о посылаемых богом искушениях, они идут вразрез с нашим нравственным чувством.[238]
Но не стоит забывать, что именно из этой архаической культуры вины выросли наиболее глубокие образцы трагической поэзии, которые когда-либо мог сотворить человек. И прежде всего Софокл, последний выдающийся представитель архаического мировоззрения, сумел полностью выразить религиозную значимость старых религиозных идей в их жесткой и внеморальной форме: гнетущее чувство беспомощности человека перед лицом непостижимости бога, а также перед лицом ате, которая подстерегает любые человеческие свершения; и именно Софокл сделал эти идеи частью культурного наследия западного мира. Позвольте мне закончить эту главу стихами из «Антигоны» (583 сл.), которая намного глубже, чем это мог бы сделать я, передает красоту и ужас, питавшие старую религию.
Блаженны вы, люди, чей век бедой не тронут! Если ж дом твой дрогнул от божьего гнева, Смена жизней лишь приумножит наследье кары. Мятежится за валом вал, Точно лютых вьюг разгул. Подводный ад на гладь лазурных волн извлек. На свет ил дна всплывает черный, Страждет скал прибрежный кряж, Протяжным стоном вою бури вторя. Я вижу растущую в роде Лабдакидов За бедой беду в череде поколений: Не искупит жертва сыновняя отчих бедствий, — Сам бог погибель в дом ведет. Рос последний в нем цветок, Последний свет он лил на весь Эдипа дом. Увы! Серп бога тьмы подземной Срезать и его готов: Безумье речи — разума затменье. Твою, Зевс, не осилит власть Человечьей гордыни дерзость И сон-чародей перед тобой бессилен, И дней неустанный ход; Старости чужд, вечно державен ты, Вечно тебя Олимпа Свет лучезарный нежит Человеку же дан и в прошлом, И ныне, и впредь закон: Бди, борись — все тщетно; В уделе земном все под Бедой ходит. Надежд сонм обольщает ум, Но одним он бывает в пользу, Другим — на беду легкообманной страсти. Глядишь ты, не чуя зла, — И в ярый огонь ступишь негаданно. Видно, недаром предкам Мудрость внушила слово: Благодать во зле мы видим, Когда ослепленный ум В гибель бог ввергает; Недолго нам ждать; близко Беда ходит.[239]Глава третья. Благословение неистовства
В творческом состоянии человек покидает самого себя.
Словно ковш, опускается он в свое подсознание
и извлекает оттуда то, чего не может обнаружит
в нормальном состоянии.
Э. М. Форстер«Величайшие для нас блага, — говорит в "Федре" Сократ, — возникают от неистовства».[240][241]. Для обыденного сознания эта фраза должна звучать как парадокс. Несомненно, афинянина IV в. она поражала не меньше, чем поражает нас, ибо выходила за рамки обычного представления о безумии как о таком феномене, который достоин осуждения, όνειδος [позора].[242] Однако отец западного рационализма нигде не отстаивает идеи, что лучше быть неистовым, чем нормальным, больным, чем здоровым. Он только уточняет свой парадокс: «правда, когда оно [неистовство] уделяется нам как божий дар». И затем он выделяет четыре типа этого «божественного неистовства», которые являются «божественным отклонением от того, что обычно принято».[243] Типы эти таковы: 1) пророческое неистовство, покровителем которого является Аполлон; 2) телестическое, или ритуальное, исходящее от Диониса; 3) творческое, вдохновляемое Музами; 4) любовное, внушаемое Афродитой и Эротом.[244]
О последнем из этих типов речь пойдет в дальнейшем,[245] в данный момент обсуждение его не предполагается. Может быть, стоило бы, посмотрев с новой точки зрения на первые три, не пытаться дать исчерпывающего описания всех примеров, их иллюстрирующих, но сконцентрироваться на том, что поможет нам найти ответы на два специальных вопроса. Один — исторического плана: каким образом греки пришли к тем взглядам, которые лежат в основе платоновской классификации, и насколько далеко эти взгляды видоизменились под воздействием развивающегося рационализма? Другой вопрос — психологический: в какой степени ментальные состояния, обозначенные Платоном как «пророческое» и «ритуальное» неистовство, могут совпадать с теми состояниями, которые известны в современной психологии и антропологии? Оба вопроса трудны для разрешения, и по многим пунктам мы, может быть, вынуждены согласиться с вердиктом: non liquet.[246] Однако мне кажется, что на них в какой-то мере можно ответить. В своих попытках сделать это я, конечно, буду опираться — как мы все опираемся — на Родэ, который очень тщательно исследовал большинство моментов, относящихся к этой области, в своей знаменитой книге «Псюхе». Поскольку эта книга легко доступна как на немецком, так и на английском языках, я не стану повторять ее аргументацию; укажу лишь на те немногие положения, в которых я с ней не согласен.
Прежде чем обратиться к четырем «божественным» типам Платона, необходимо прежде всего пояснить его общее различение «божественного» неистовства и безумия, вызванного болезнью. Само это различение, конечно, было известно задолго до Платона. Так, Геродот пишет, что безумие Клеомена, в котором большинство людей видело наказание за святотатство, ниспосланное богом, его собственные соотечественники сочли следствием слишком сильного опьянения.[247] И хотя сам Геродот отказывается принимать это прозаическое объяснение в случае Клеомена, безумие Камбиза он склонен рассматривать как врожденную наклонность к эпилепсии, добавляя весьма разумное замечание: когда тело находится в болезненном состоянии, неудивительно, что это также влияет и на разум.[248] Таким образом, Геродот признает по крайней мере два типа безумия: одно происходит из сверхприродного источника (хотя и не всегда благотворного), другое возникает в силу естественных причин. Известно, что Эмпедокл и его школа тоже различали безумие, возникающее ех purgamento animae [из грязи души], и безумие, вызванное телесным нездоровьем.[249]
Тем не менее это уже сравнительно поздний этап. Можно задаться вопросом, существовало ли подобное различение в более ранние времена. Повсеместно примитивные народы верят в то, что все типы умственного расстройства обусловлены сверхъестественным вмешательством. Распространенность подобной веры не должна удивлять. Я полагаю, что она коренилась и поддерживалась самими же страдавшими людьми. Среди обычнейших современных симптомов галлюциногенного умопомешательства можно назвать веру пациента в то, что он вступил в контакт (или даже полностью слился) с некими сверхъестественными существами или силами, и можно предположить, что в античности дело обстояло не иначе: действительно, один такой случай, а именно врача IV в. Менекрата, верившего в то, что он — Зевс, был подробно изучен в блестящем исследовании Отто Вайнрайха.[250] И эпилептики часто воображают, что их избивает дубинкой какое-то невидимое существо; поразительный же феномен эпилептического припадка, с внезапным падением оземь, искажением мускулов, стискиванием зубов и выпадением языка, несомненно, сыграл роль в формировании популярной идеи «одержимости».[251] Неудивительно, что для греков эпилепсия была «священной болезнью» par excellence, что они называли ее έπίληψις, словом, которое, обозначая то же, что и наши «удар», «схватка», «припадок», предполагает еще и значение «вторжение даймона».[252] Однако я склонен думать, что идея подлинной одержимости, как отличающейся от простого психического расстройства, произошла преимущественно от случаев возникновения у человека ощущения второй (или измененной) личности, как у знаменитой мисс Бошан, которую изучал Мортон Принс.[253] Ибо здесь появляется внезапно новая личность, обычно значительно отличающаяся от прежней по характеру, уровню знания и даже по голосу и выражению лица, выражающая себя в первом лице, старую же личность — в третьем. Подобные случаи, сравнительно редкие в современной Европе и Америке, по-видимому, чаще встречаются у менее развитых народов[254] и, скорее всего, были более распространены в античности, чем в наши дни; я вернусь к ним несколько позже. От этих случаев понятие одержимости может быть легко перенесено на эпилептиков и параноиков; в сущности, все виды умственного расстройства, включая такие феномены, как хождение во сне и галлюцинации при сильном жаре,[255] могут быть приписаны демоническим факторам. И вера в них, будучи однажды принята, получает для себя естественную поддержку через операцию самовнушения.[256]
Давно было замечено, что идея одержимости отсутствует у Гомера, и поэтому иногда делается вывод, что она была чужда древнейшей греческой культуре. Однако в «Одиссее» можно найти следы смутной веры в сверхприродное происхождение умственных заболеваний. Сам поэт прямо об этом не говорит, но пару раз его герои используют язык, который выдает существование подобной веры. Когда Меланфо язвительно называет замаскированного Одиссея человеком, «из которого выбиты мозги»,[257] т. е. сумасшедшим, она употребляет фразу, которая когда-то, возможно, носила смысл демонического вторжения, хотя в ее устах она может означать не больше, чем в наших, когда мы описываем кого-нибудь как «слегка тронутого». В другом месте один из женихов насмехается над Одиссеем и называет его έπίμαστον άλήτην [нищим бродягой]. Термин έπίμαστος (от έπιμαίομαι) больше нигде не встречается, и о смысле его ведутся научные споры; но значение «тронутости», придаваемого некоторыми антиковедами этому понятию, является наиболее естественным и лучше всего совпадает с контекстом.[258] Я думаю, здесь также имеется в виду «тронутость», ниспосланная свыше. И наконец, когда Полифем поднимает крик, то другие циклопы спрашивают, что случилось, он же говорит, что «Никто пытается их убить»; они в ответ замечают, что «болезни от великого Зевса нельзя избежать», и советуют неустанно молиться.[259] Полагаю, они решили, что Полифем безумен; поэтому и предоставили его своей судьбе. В свете этих выдержек представляется справедливым сделать осторожный вывод о том, что идея о сверхприродном происхождении умственного расстройства входила составной частью в народное сознание в гомеровскую эпоху, а может быть, и гораздо раньше, хотя эпические поэты не питали к ней особого интереса и не старались изобразить ее со всей точностью; и можно добавить, что она осталась важной особенностью народного сознания Греции вплоть до наших дней.[260] В классическое время интеллектуалы ограничивают диапазон «священного» неистовства несколькими видами. Некоторые, подобно автору трактата конца V в. «О священной болезни», могут даже зайти достаточно далеко в своем отрицании того, что какая бы то ни было болезнь более «божественна», чем другая, и в утверждении, что любая болезнь имеет также и естественные причины, которые можно обнаружить и разумным путем.[261] Но вряд ли на популярной вере сильно отразились подобные взгляды; во всяком случае, они мало влияли за пределами нескольких великих культурных центров.[262] Даже в Афинах многие остерегались умалишенных как людей, подверженных божьему проклятию, и контакт с ним считался опасным: в них швыряли камнями, чтобы отвадить их, либо, по крайней мере, для защиты от них люди принимали какие-то предосторожности.[263]
Впрочем, несмотря на то, что безумных изгоняли, на них также глядели (как, наверное, до сих пор в Греции)[264] с уважением, возвышающимся до благоговения: ведь они вступали в контакт с сакральным миром и могли при случае вызвать силы, недоступные обычным людям. В своем безумии Аякс произносит зловещие слова, «которым не смертный обучил его, но даймон»;[265] Эдипа, находящегося в состоянии неистовства, даймон ведет к месту, где его «ожидает» труп Иокасты.[266] Мы видим, что и Платон в «Тимее» упоминает болезнь как одно из условий, благоприятствующих появлению паранормальных способностей.[267] Разделительную линию между обычным умопомешательством и пророческим неистовством в действительности сложно провести. К пророческому неистовству нам теперь и следует обратиться.
Платон, равно как и греческая традиция в целом, считает Аполлона его покровителем, и из трех приводимых им примеров два — с Пифией и Сивиллой — напрямую относятся к Аполлону,[268] третий связан со жрицей Зевса в Додоне. Но если верить Родэ[269] в этом вопросе, как многие ученые делают до сих пор,[270] Платон ошибался: пророческое неистовство не было известно в Греции вплоть до появления Диониса, с которым якобы и связано основание в Дельфах традиции Пифии; до этого времени аполлоновская религия, согласно Родэ, была «враждебна всему, что содержало в себе экстатическое». У Родэ имелись две причины для отвергания платоновского мнения. Одной являлось отсутствие у Гомера каких-либо ссылок на внушенный дар прорицания; другой — выразительное различение его другом Ницше «рациональной» религии Аполлона и «иррациональной» религии Диониса. Но я думаю, Родэ был неправ.
Прежде всего, он смешал две вещи, которые Платон тщательно разводил, а именно аполлоновский медиумизм, направленный на познание событий грядущих или сокрытых в настоящем, и дионисийский опыт, который либо преследовал собственные цели, либо являлся средством душевного исцеления; гадательный и медиумический элементы здесь отсутствуют или находятся в подчиненном положении.[271]
Медиумизм — редкий дар избранным индивидам; дионисийские же переживания, будучи коллективными, групповыми, доступны всем. Имея очень заразительный характер, они, конечно, отнюдь не являются редкостью. Методы дионисийской и аполлоновской религии различаются не меньше, чем цели: две великие дионисийские практики — использование вина и религиозный танец — никоим образом не повлияли на развитие аполлоновского экстаза. Эти две религиозные системы столь различны, что кажется совершенно невероятным, чтобы одна из них могла произойти из другой.
Кроме того, известно, что экстатические прорицания с ранних времен были распространены в Западной Азии. Например, их существование в Финикии зафиксировано одним египетским документом XI в.; но еще тремя столетиями раньше хеттский царь Мурсилис II просит «божьего человека» сделать то, что так часто просили сделать подобного же человека в Дельфах — открыть, за какие грехи люди пострадали от чумы.[272] Последний пример станет особенно показательным, если мы вслед за Нильссоном согласимся с предположением Грозны о том, что Аполлон, источник чумы и одновременно исцелитель от нее — не кто иной, как хеттский бог Апулунас.[273] Так или это не так, мне кажется обоснованным считать, опираясь на сведения, приводимые в «Илиаде», что Аполлон изначально нес в себе нечто азиатское.[274] В Азии, как и в Великой Греции, мы тоже обнаружим, что есть связь экстатических пророчеств с его культом. Есть мнение, что его оракулы в Кларосе возле Колофона и в Бранхидах за пределами Милета существовали еще до колонизации Ионии,[275] и в обоих этих местах, по всей видимости, были известны и экстатические пророчества.[276] Действительно, наши сведения по последнему пункту происходят от поздних авторов; однако в Патаре в Ликии — которая мыслилась некоторыми как первоначальная родина Аполлона и которая, несомненно, была ранним центром его культа — в Патаре, как мы знаем из Геродота, прорицательницу запирали в храме по ночам, считая, что она вступает в мистический союз с богом. Вероятно, думали, что она одновременно и медиум, и божья невеста, как, наверное, было в случае Кассандры, а также и у первых пифий, как предполагают Кук и Латте.[277] Без сомнения, экстатические пророчества в Патаре имеют собственный источник, и видеть здесь дельфийское влияние нет особых оснований.
Я бы сказал, что традиция пророческого неистовства в Греции не менее архаична, чем религия Аполлона. Может быть, даже архаичнее. Если греки были правы, находя родство между μάντις и μαίομαι[278] — как думает и большинство филологов,[279] — то связь прорицания и неистовства принадлежит к общеиндоевропейскому наследию. Молчание Гомера по этому предмету еще не означает опровержения подобной связи; мы уже видели раньше, что Гомер умеет молчать, когда это ему нужно. Кроме того, следует заметить, что в данном вопросе, как и в других, «Одиссея» содержит менее выдержанный стандарт величественного эпического достоинства, чем «Илиада». Последняя признает только индуктивное прорицание на основе знамений, в то время как первая вводит нечто более приближенное к чувствам, похожее на то, что шотландцы называют вторым зрением.[280] Символическое видение потомственного аполлоновского провидца Феоклимена из кн. 20 относится к той же психологической категории, что и символические прозрения Кассандры в «Агамемноне» и откровение некоей пророчицы Аполлона из Аргоса, которая, как рассказывает Плутарх, однажды помчалась по улицам, восклицая, что она видела город наполненным трупами и кровью.[281] Таков один из древнейших типов пророческого неистовства. Но это еще не традиционный оракул, ибо подобное пророчество случается спонтанно и неожиданно.[282]
В Дельфах, как и, видимо, в большинстве своих оракулов, культ Аполлона базировался не на видениях, подобных видению Феоклимена, а на «энтузиазме» в его изначальном, буквальном смысле. Пифия становилась entheos, plena deo:[283] бог входил в нее и использовал органы ее речи, словно те были его собственными — точно так же, как делает в современном спиритизме так называемый «дух-руководитель». Вот почему прорицания дельфийского Аполлона всегда произносятся от первого лица и никогда — в третьем. В поздние времена были и такие, которые утверждали, что войти в тело смертного — ниже достоинства божественного существа, и которые предпочитали верить, подобно многим исследователям психики наших дней, что любое пророческое безумие — следствие некоей врожденной способности самой души, которая могла бы упражнять ее при определенных условиях, освобождаясь в состоянии сна, транса или религиозного ритуала как от телесных ограничений, так и от рационального контроля. Это мнение встречается у Аристотеля, Цицерона и Плутарха;[284] и мы увидим в следующей главе, что оно использовалось в V в. для объяснения значения пророческих снов. Как и другие, подобная идея имеет большое количество параллелей с первобытностью; можно назвать ее «шаманским» взглядом, по контрасту с учением об одержимости.[285] Но как объяснение психических способностей Пифии она появляется уже в качестве ученой теории, плода философской или теологической рефлексии; мало сомнений в том, что таланты Пифии изначально воспринимались как одержимость, и это оставалось настолько распространенным взглядом в течение всей истории античности, что даже христианские Отцы не оспаривали его.[286]
Пророческая одержимость выходила за пределы официальных оракулов. Верили не только в то, что такие легендарные фигуры, как Кассандра, Бакид и Сивилла, прорицали в состоянии одержимости,[287] но и Платон часто ссылается на вдохновенных пророков, как на пример, знакомый современникам.[288] В частности, определенный вид неофициального «спиритуализма» практиковался — в классическом веке, равно как и долгое время спустя — людьми, известными как «чревовещатели», а еще позднее как «пифоны».[289] Мне, конечно, следовало бы несколько больше рассказать об этих «чревовещателях», один из которых, некий Эврикл, был знаменит настолько, что о нем упоминают и Аристофан, и Платон.[290] Но наше непосредственное знание о них ограничивается только указанием на то, что у них внутри был второй голос, который вел с ними диалог, предсказывал будущее и который, как верили, принадлежал даймону.[291] Конечно, они не являлись чревовещателями в нашем понимании, как это часто предполагалось.[292] В одном пассаже из Плутарха подразумевается, что голос даймона — по-видимому, хриплый «голос из утробы» — слышался как выходящий у них изо рта; с другой стороны, схолиаст к Платону пишет, что этот голос был простым «внутренним голосом».[293] Ученые, однако, не обратили внимания на один источник, который не только исключает чревовещание, но и активно подчеркивает транс: старый гиппократовский лечебник Эпидемии сравнивает шумное дыхание пациента с подобным дыханием «женщин, называемых "говорящими из утробы"». Чревовещатели не имеют затрудненного дыхания; современные же «медиумы» часто имеют его.[294]
Даже и о психологическом состоянии Пифии наша информация чрезвычайно скудна. Например, хотелось бы знать, по каким критериям ее отбирали, как готовилась она к своему высокому служению. Практически все, что мы знаем наверняка, это то, что Пифия времен Плутарха была дочерью бедного крестьянина, женщиной благовоспитанной и порядочной, однако малообразованной или имевшей небольшой жизненный опыт.[295] Также желательно было бы знать, помнит ли она по выходе из транса о том, что она говорила в этом состоянии, т. е. являлась ли ее «одержимость» сомнамбулической или осознаваемой.[296] О жрицах Зевса в Додоне определенно известно, что они не помнили; но относительно Пифии у нас нет точных сведений.[297] Из Плутарха мы, впрочем, знаем, что она не всегда действовала в одинаковой манере,[298] и что иногда изреченное не сбывалось, как это случается и на современных сеансах. Он рассказывает о Пифии, которая однажды без желания и даже в депрессивном состоянии, поскольку знаки были неблагоприятными, вошла в транс. Сначала она говорила хриплым голосом, словно мучаясь, и казалась одержимой «бессловесным злым духом»;[299] наконец, она с криком бросилась к двери и пала ниц, в то время как все присутствующие, среди которых были и толкователи, разбежались в ужасе. Когда же они вернулись, чтобы поднять ее, обнаружилось, что она уже пришла в себя;[300] но через несколько дней она скончалась. Нет причин сомневаться в подлинности этого рассказа, который имеет параллели и в других культурах.[301] Плутарх, вероятно, узнал о нем из первых рук, от толкователя Никандра, своего личного друга, который присутствовал при той жуткой сцене. Этот случай интересен как иллюстрация того, что транс был все еще известным явлением в эпоху Плутарха и что его могли бы засвидетельствовать не только провидцы и некоторые из Hosioi, [302] но и сами вопрошатели.[303] Между прочим, изменения в голосе везде упоминаются Плутархом как типичная черта «энтузиазма». Она не менее типична и в более поздних случаях одержимости, а также и у современных спиритов.[304]
Полагаю, справедливо сделать вывод о том, что транс Пифии вызывался самовнушением, как и на современных спиритических сеансах. Трансу предшествовал ряд ритуальных действий: она совершала омовение, возможно, в Касталии и, видимо, отпивала воды из священного родника; контакт с богом она устанавливала через его сакральное древо, лавр, либо держа в руке лавровую ветвь, как делала ее предшественница Фемида, изображенная на вазовой росписи V в., либо окуривая себя горящими лавровыми листьями, как описывал Плутарх; или, возможно, разжевывая иногда листья, как утверждает Лукиан; наконец, она усаживалась на треножник, упрочивая связь с богом посредством его ритуального сиденья.[305] Все это знакомые магические приемы, которые могут хорошо помогать самовнушению, но ни одно из них не может само по себе иметь особого физиологического эффекта: профессор Эстеррайх как-то в интересах науки прожевал большое количество лавровых листьев, но, к своему разочарованию, не обнаружил, что стал от этого более вдохновенным.[306] То же самое относится и к ритуалам других аполлоновских оракулов — пробованию воды из священного источника в Кларосе и, возможно, в Бранхидах, выпиванию жертвенной крови в Аргосе.[307] Что касается идеи знаменитых испарений, действию которых некогда был приписан транс Пифии, то она является эллинистическим изобретением, как первым указал Виламовиц.[308] Плутарх, знавший об этих фактах, понимал труднодоказуемость теории испарений и, видимо, в конце концов отверг ее полностью; тем не менее, подобно стоическим философам, ученые XIX в. с облегчением ухватились за это материалистическое объяснение. Об этой теории стало меньше слышно с тех пор, как французские раскопки показали, что в наши дни эти испарения отсутствуют и что нет также «расселины», через которую испарения могли бы подниматься.[309] Объяснения такого типа слишком беспочвенны; если кое-кто из ныне живущих ученых все еще держится за них,[310] то лишь потому, что они игнорируют свидетельства антропологии и парапсихологии.
Исследователи, считавшие причиной транса Пифии вдыхание ею ядовитых испарений, естественным образом делали отсюда вывод, что ее «бред» имел слабое отношение к ответу на вопрос человека, приходившего к ней; с их точки зрения, ответы Пифии являлись продуктами сознательного, преднамеренного обмана, и репутация оракула должна была основываться частью на интеллектуальных ухищрениях, частью на подделке оракулов post eventum[311] Есть один источник (если к нему отнестись с доверием), на основании которого можно заключить, что в ранние времена ответы основывались именно на словах Пифии: так, когда Клеомен подкупил оракул, чтобы тот дал ответ, который был ему необходим, то его посредник подошел, если верить Геродоту, не к толкователю, не к одному из священников, но к самой Пифии, и желательный результат был достигнут.[312] И если в более позднее время, согласно Плутарху, приходившие с вопросами слышали, по крайней мере в нескольких случаях, подлинные слова вошедшей в транс Пифии, ее изречения едва ли тогда могли радикально искажаться толкователями. Однако нельзя не согласиться с профессором Парке, что «история Дельф показывает много примеров их убежденности в том, что пророчествующий человеческий разум в некоторых вопросах умеет играть решающую роль».[313] Также и необходимость приводить слова Пифии в порядок, соотнося их с заданным вопросом и иногда[314] излагая их в стихах, несомненно, предлагала значительный простор для активности собственно человеческого интеллекта. Мы не можем заглянуть в головы дельфийского жречества, но приписывать такие манипуляции целиком сознательной и циничной лжи, по-моему, значит весьма упрощать картину. Всякий, знакомый с историей современного спиритуализма, согласится с тем, что немалое количество мошеннических трюков может быть в совершенстве создано с помощью одной лишь веры присутствующих.
Как бы то ни было, редкость открытого скепсиса в адрес дельфийского оракула вплоть до римского периода — удивительное явление.[315] Несомненно, престиж оракула был достаточно велик, если он смог оправиться после своего скандального поведения во время Персидских войн. В том случае Аполлон не проявил ни предвидения, ни патриотизма; тем не менее его приверженцы не отвернулись от него с презрением. Напротив, его неуклюжие попытки скрыть свои следы и взять слова обратно были безоговорочно приняты.[316] Я думаю, объяснение нужно искать в социальных и религиозных условиях, описанных в предыдущей главе. В культуре вины чрезвычайно остра потребность в высшем заступничестве, авторитете, превосходящем человеческие способности. Но Греция — это не мир Библии и не Церковь.[317] Вот почему именно Аполлону, земному викарию небесного Отца,[318] пришлось заполнить существовавшую брешь. Без Дельф греческое общество едва ли справилось бы с напряжениями, которые появились в нем в эпоху архаики. Гнетущее чувство человеческого невежества и беспомощности, страх перед божьим фтоносом, ужас миасмы — накапливающуюся тяжесть этих вещей вряд ли можно было вынести без уверенности, которую мог дать только такой всемогущий божественный советчик, без уверенности в том, что позади кажущегося хаоса существуют определенное знание и цель. «Я знаю, сколько песчинок в песке и сколько воды в море»; или, как другой бог говорил другим людям, «сосчитаны даже волосы на вашей голове». Опираясь на свое всезнание, Аполлон мог сказать вам, что делать, когда вас гложет тревога или страх; ему были ведомы правила сложной игры, в которую боги играют с человечеством; он являлся высшим άλεξίκακος, «тем, кто отводит зло». Греки верили в свой оракул не потому, что были суеверными глупцами, а потому, что не могли не верить в него. И когда значимость Дельф в эпоху эллинизма стала падать, главная причина этого, я подозреваю, заключалась не в том, что люди стали (как думал Цицерон) более скептичными,[319] а скорее в том, что другие формы религиозного покровительства показались более надежными.
О пророческом неистовстве сказано достаточно. Другие платоновские типы неистовства будут затронуты более кратко. О том, что подразумевал Платон под «телестическим», или ритуальным, неистовством, было подробно рассказано в двух статьях профессора Линфорта;[320] поэтому нет нужды повторять то, о чем он рассказал гораздо лучше, чем мог бы изложить я. Не стану повторять здесь и то, что я сам ранее изложил в печати[321] относительно прототипа ритуального безумия — дионисийских орибасиях, или «горных танцах». Тем не менее следует сделать некоторые замечания общего характера.
Если я верно понимаю ранний дионисийский ритуал, его социальная функция была, по сути, катарсической[322] в психологическом смысле: он очищал индивида от тех заразительных иррациональных импульсов, которые, возникнув, делают возможными — как и в других культурах — вспышки хореи [пляски святого Витта] и другие проявления коллективной истерии; он освобождал, проявляя эти импульсы, давая им ритуальную отдушину. Если дело обстояло таким образом, то Дионис был в эпоху архаики столь же социально необходим, как и Аполлон; каждый из них по-своему содействовал снятию психического напряжения, характерного для культуры вины. Аполлон обещал безопасность: «Поймите ваш удел человеческого существа; делайте то, что Отец говорит вам, и будете защищены завтра». Дионис предлагал свободу: «Забудьте о различиях — и найдете единство; влейтесь в θίασος,[323] и будете счастливы сегодня». По сути, он был богом радости, πολυγηθής,[324] как называет его Гесиод; χάρμα βροτοΐσιν,[325] по словам Гомера.[326] И исходящая из него радость распространялась на всех, включая даже рабов, равно как и на тех свободных, которым было запрещено участвовать в древних языческих культах.[327] Аполлон пребывал в самом избранном обществе, начиная с того дня, когда он был покровителем Гектора, и кончая эпохой, когда он служил каноном для аристократических атлетов; но Дионис во все времена был богом δημοτικός, т. е. народным богом.
Дионисийские радости имели исключительно широкий диапазон — от незатейливого веселья деревенских мужланов, танцующих джигу на засаленных бурдюках, до ώμοφάγος χάρις [кровожадных удовольствий] экстатической вакханалии. На обоих этих полюсах, да и в промежутке между ними, он — Lusios, «Освободитель» — бог, который может самыми простыми средствами (или другими, уже не столь простыми) позволить вам за короткое время перестать быть самими собой, и тем самым делает вас свободными. Я думаю, главный секрет обращения к нему в архаический век заключается не только в том, что жизнь в те времена была очень уязвимой, но и главным образом в том, что личность — в том смысле, в каком ее знает современный мир — начала впервые в эту эпоху разрушать традицию семейного единства[328] и обнаружила, насколько тяжело вынести ношу индивидуальной ответственности. Дионис мог переложить ее на себя. Ведь он был Мастером магических иллюзий, тем, по желанию которого из обшивки судна могла вырасти виноградная лоза, тем, кто в целом давал своим поклонникам возможность видеть мир как мировое ничто.[329] Скифы у Геродота говорят: «Дионис ведет людей к безумию» — что может означать нечто среднее между «дать себе волю» и «стать "одержимым"» .[330] Целью его культа был экстаз — который тоже может означать нечто среднее между «выходом из себя» и глубокими переменами в личности.[331] Психологической же его функцией являлось обнаружение и высвобождение внутреннего импульса сбросить с себя всякую ответственность — импульса, который таится во всех нас и который может превратиться при некоторых благоприятных общественных условиях в непреодолимую страсть. Можно видеть мифический прототип этого гомеопатического лечения в истории с Меламподом, который исцелил дионисийское безумие аргивянок «возгласами и плясками, как бы внушенными божеством».[332]
С введением дионисийского культа в гражданскую религию эта функция была постепенно оттеснена другими.[333] Вероятно, катарсическую традицию до определенной степени продолжали и неофициальные дионисийские объединения.[334] Но в основном функция облегчения страданий в классический век перешла к другим культам. Известны два списка сверхъестественных сил, с которыми народное сознание в конце V в. связывало умственные или психофизические расстройства, и примечательно, что Дионис не фигурирует ни в том, ни в другом. Один встречается в еврипидовском «Ипполите», другой — в трактате «О священной болезни».[335] В обоих упоминается Геката и «Мать богов», или «Горная мать» (Кибела); Еврипид добавляет Пана[336] и корибанта, Гиппократ — Посейдона, Аполлона Номиоса и Ареса, а также «героев», которые являются просто беспокойными душами умерших, связанными с Гекатой. Все они описываются как божества, которые причиняют различные душевные расстройства; только если их гнев будет умиротворен, можно исцелить те болезни, которые они насылают. Тем не менее к V в. корибанты разработали особый ритуал для лечения безумия. То же самое произошло и в случае с Матерью (если в то время ее культ действительно отличался от культа корибантов)[337] и, возможно, также и с Гекатой.[338] Но у нас нет подробной информации о них. О корибантских способах исцеления кое-что известно, тем более что кропотливое исследование Линфорта рассеяло почти весь туман, окутывавший данный вопрос. Я же ограничусь тем, что подчеркну несколько моментов, касающихся рассматриваемой темы.
1) Прежде всего, уместно отметить существенное сходство корибантского способа исцеления с древним дионисийским: оба они вызывают катарсис посредством заразительного «оргиастического» танца, сопровождаемого «оргиастической» же музыкой: мотивы во фригийском ладе играли на флейте и литавре.[339] Представляется небезосновательным вывод о том, что оба культа воздействовали на схожие психологические типы и вызывали схожие психологические реакции. К сожалению, мы не имеем точных сведений относительно этих реакций; тем не менее очевидно, что они были впечатляющими. Согласно Платону, физические симптомы οί κορυβαντιώντες состояли в пароксизмах рыданий и сильном сердцебиении,[340] сопровождавшихся и психическими нарушениями; впадая в своего рода транс, танцоры «лишались ума», как и танцоры Диониса.[341] В этой связи следует вспомнить замечание Феофраста о том, что слух есть самое эмоциональное из всех чувств, а также своеобразные нравственные эффекты, которые Платон приписывает музыке.[342]
2) Болезнь, лечением которой занимались корибанты, по словам Платона, состояла в «страхах или тревогах (δείματα), возникающих из болезненного состояния ума».[343] Это описание, конечно, страдает неопределенностью, и Линфорт прав, говоря, что античность не знала специфической болезни «корибан-тизма».[344] Если верить Аристиду Квинтилиану или его перипатетическому источнику, симптомы, которые обнаруживались в дионисийском ритуале, были во многом той же природы.[345] Правда, некоторые люди пытались выделить разные типы «одержимости» через их внешние проявления, что явствует из трактата «О священной болезни».[346] Но подлинным критерием, пожалуй, была реакция пациента на конкретный ритуал: если ритуалы какого-нибудь бога Икс воздействовали на его сознание и производили катарсис, это показывало, что его беды происходили именно от Икс;[347] если реакция отсутствовала, причину страдания следовало поискать где-то в другом месте. Подобно старому господину из аристофановской комедии, если ему не помогали корибанты, он мог в этом случае попытать счастья у Гекаты, а то и остановиться на главном практикующем целителе — Асклепии.[348] Платон рассказывает в «Ионе», что «корибанты чутко внемлют только тому напеву, который исходит от бога, которым они одержимы, и для этого напева у них довольно и телодвижений, и слов, о других же они не помышляют». Не уверен, используется ли здесь «ои корибантионтес» просто как общий термин для обозначения «людей в состоянии страха», которые непрестанно проводят один ритуал за другим, или он означает «тех, кто участвует в корибантском ритуале»; согласно другой точке зрения, корибантское исполнение должно было включать разные типы религиозной музыки, введенной с диагностической целью.[349] Но в любом случае данная цитата показывает, что диагноз основывался на отношении пациента к музыке. Сама постановка диагноза была ответственным делом, как и во всех случаях «одержимости»: когда пациент узнавал, какое именно зло бог причинял ему, он мог умилостивить этого бога соответствующими жертвами.[350]
3) Весь процесс, равно как и положения, на которых он основывается, достаточно просты. Но мы не должны рассматривать их — и этот пункт мне хотелось бы подчеркнуть — ни как разновидность дикого атавизма, ни как болезненные причуды нескольких невротиков. Одна мимолетная фраза у Платона,[351] кажется, подразумевает, что даже Сократ лично принимал участие в ритуалах корибантов; это доказывает (с этим согласен и Линфорт), что умные юноши из хороших семейств могли участвовать в них. Принимал ли сам Платон всю религиозную подоплеку такого ритуала — открытый вопрос, который будет обсуждаться ниже;[352] но и он, и Аристотель, очевидно, рассматривают данный ритуал, по меньшей мере, как полезный орган социальной гигиены: они верят, что он действует, и действует на благо участвующим.[353] Практически аналогичные методы использовались мирянами в эллинистическое и римское время для исцеления некоторых психических расстройств. Какие-то виды музыкального катарсиса практиковались пифагорейцами в IV в., а возможно, и раньше;[354] но, видимо, только школа перипатетиков первой начала изучать его в свете физиологии и психологии эмоций.[355] Феофраст, подобно Платону, верил, что музыка способна снимать состояние тревоги.[356] В I в. до н. э. жил Асклепиад, модный римский врач, лечивший душевнобольных посредством «симфонии»; а живший в век Антонинов Соран Эфесский упоминает флейтовую музыку среди методов, использовавшихся в его дни для лечения как депрессии, так итого, что мы называем истерией.[357] Таким образом, древний магико-религиозный катарсис оказался, по сути, изъят из своего религиозного контекста и приспособлен к области светской психиатрии, дополнив чисто физическое лечение, которое практиковали врачи школы Гиппократа.
У нас остается третий платоновский тип, «священное» неистовство, тип, который он определяет как «вдохновение Музами» и который, по его словам, необходим для того, чтобы была сотворена самая лучшая поэзия. Насколько архаично это понятие, и какова изначальная связь между поэтами и Музами?
Связь такого рода восходит, как мы все знаем, к эпической традиции. Именно Муза отняла у Демодока его телесное зрение, взамен дав нечто лучшее — дар песни, ибо она любила его.[358] Некоторые люди милостью Муз, говорит Гесиод, становятся поэтами, другие милостью Зевса — царями.[359] Можно осторожно предположить, что это все-таки не пустой язык высокопарных комплиментов, каким он стал позже; здесь он имеет религиозное значение. До определенного момента смысл достаточно ясен: подобно любым свершениям, которые не целиком зависят от человеческой воли, поэтическое творчество содержит существенный элемент, который не «выбирается», но «даруется»;[360] а для древнегреческого благочестия «даровать» можно только нечто «божественное».[361] Не очень понятно, в чем состоит этот «дар»; но если вспомнить случаи, когда поэт в «Илиаде» сам призывает Музу на помощь, можно увидеть, что этот дар относится к содержательной стороне, а не к формальной. Поэт всегда спрашивает Муз, что ему надо сказать, а не то, как сказать; вопрос, который он задает, всегда конкретен. Несколько раз поэт просит сведений о важных сражениях;[362] один раз, в одном из самых подробных призываний Муз, он просит вдохновения — для перечисления собравшихся военных отрядов, ибо «вы, божества, вездесущи и знаете все в поднебесной. // Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим».[363] Эти грустные слова обладают несомненной искренностью; человек, который впервые их произнес, знал о непрочности традиции и был обеспокоен этим; он хотел доказательств из первых рук. Но где можно найти подобные доказательства в век, не обладавший письменностью? Подобно тому как истина будущего может быть обретена только тогда, когда человек вступал в контакт с источником знания, превосходящего его человеческие способности, так и истина прошлого могла быть сохранена лишь в подобных же условиях. Их человеческие хранители, поэты, обладали (как и провидцы) собственной техникой, собственными профессиональными навыками; однако видение прошлого, равно как и проникновение в будущее, оставалось таинственной способностью, которую лишь частично можно поставить под контроль и которая неизбежно зависит от божьей милости. Посредством этой милости поэт и провидец получают знание,[364] недоступное для других людей. У Гомера оба этих призвания четко различаются; но мы имеем основания полагать, что когда-то они составляли единство,[365] и вплоть до наших дней чувствуется аналогия между ними.
Кроме того, даром Муз — или одним из их даров — является способность к правдивой речи. Именно это они передали Гесиоду, когда он услышал их голоса на Геликоне, хотя они и признались, что могли также случайно передать и сплошную ложь, которая походила бы на правду.[366] Какую конкретную ложь Музы имели в виду, нам неизвестно; возможно, они желали намекнуть, что подлинное эпическое вдохновение способно вылиться в простой вымысел, примерно такой, следы которого можно заметить в некоторых разделах «Одиссеи». Как бы то ни было, именно подробных, фактических знаний ожидал от них Гесиод, но при этом знаний особого рода, которые сделали бы его способным соединить разные традиции о богах и наполнить сказания всеми необходимыми именами и связями. Гесиод имел страсть к именам, и когда он размышлял о каком-нибудь новом имени, то не считал, что сам придумал его; я думаю, он воспринимал его как то, что даровали ему Музы, и знал или надеялся, что это имя было «истинным». По сути, он истолковывал его в духе традиционного верования, которое разделялось многими поздними авторами[367], а именно как ощущение того, что творческое мышление не есть деятельность одного лишь интеллекта.
Сохранились фрагменты, в которых Пиндар просит Музу: «Дай мне оракул, — говорит он, — и я буду твоим пророком».[368] Используемые им слова — технические дельфийские термины; но в них просвечивает старая аналогия между поэзией и прорицанием. Однако заметим, что именно Муза, а не поэт, играет роль Пифии; от поэта не требуется быть «одержимым», ему нужно только истолковывать изречения вошедшей в транс Музы.[369] И это, видимо, является первоначальной связью между ними. Эпическая традиция представляла поэта как черпающего сверхъестественное знание от Муз, а не как впадающего в экстаз или одержимого Музами.
Понятие «неистового» поэта, находящегося в состоянии экстаза, по-видимому, прослеживается только начиная с V в. Однако, несомненно, более архаично: Платон называет его «старой историей», παλαιός μΰΟος.[370] Я склонен предположить, что это понятие — побочный продукт дионисийского движения с его акцентом на паранормальных психических состояниях, которые мыслятся уже не как средства для обретения высшего знания, но как вполне самодостаточные.[371] Однако первый, кто, как нам известно, говорил о поэтическом экстазе, был Демокрит, утверждавший, что лучшие стихи слагаются «по вдохновению и со священным дыханием», и отрицавший, что кто-либо может стать великим поэтом sine furore.[372],[373] Как подчеркивали ученые,[374] именно за Демокритом, а не за Платоном, следует закрепить это сомнительное первенство — введение в теорию литературы представления о поэте как о человеке, отличающемся от обычных людей[375] паранормальным внутренним опытом, и о поэзии как об откровении вне разума и поверх разума. Позиция же Платона по отношению к этому представлению была достаточно критической — но это тема будет рассмотрена позже.
Глава четвертая. Образы сновидений и образы культуры
S'il itait donne a nos уеих de chair de voir dans la conscience d'atrui, on jugerail bien plus stirement un homme d'aprcs ce qu'il reve que d'apres ce qu'il pense.
Victor Hugo[376]Человек, равно как и некоторые высшие млекопитающие, обладает странной привилегией существовать в двух мирах. В обыденной череде дней и ночей он переживает два разных вида опыта — ΰπαρ и övup,[377] если использовать греческие термины, — каждый со своей логикой и своими границами, и нет особых оснований говорить о приоритете одного из них над другим. Даже если мир бодрствования имеет какие-то преимущества перед миром снов в прочности и продолжительности, его социальные возможности весьма стеснены. В нем мы, как правило, встречаемся только с соседями, тогда как мир снов предлагает возможность общения, пусть и символического, с друзьями, находящимися далеко от нас, с умершими, с богами. Для нормальных людей это единственный опыт, в котором они могут выйти из-под гнетущей и непостижимой ограниченности временем и пространством. Отсюда и понятно, что человек никогда не спешил удостоверять в качестве реального только один из этих миров и третировать другой как простую иллюзию. Этой ступени в эпоху античности достигло лишь небольшое число интеллектуалов; и до сих пор многие первобытные народы считают, что некоторые виды сновидений обладают не меньшей действительностью, чем бодрствующая жизнь, хотя и действительностью иного характера.[378] Подобная простота вызывала снисходительные улыбки у миссионеров XIX в.; но в нашем веке обнаружилось, что дикари в принципе были ближе к истине, чем миссионеры. Сегодня признано, что сновидения являются чрезвычайно значимым феноменом; добавим, что древнее искусство онейрокритики до сих пор приносит предприимчивым людям неплохой доход, да и в наши дни чуть ли не большинство тех, кто имеет высшее образование, записывает при случае свои сны и спешит к специалисту с не менее серьезной озабоченностью, чем Суеверный человек Феофраста.[379]
Памятуя об этих исторических предпосылках, представляется уместным бросить новый взгляд на отношение греков к феномену сновидений; этому вопросу будет посвящена данная глава. Существует два способа рассмотрения документированных сновидений в культуре прошлого: можно попытаться оценивать их с точки зрения самих сновидящих, и тем самым реконструировать то, что представлялось значимым дневному сознанию последних, либо же можно попробовать, используя методику современного анализа сновидений, проникнуть сквозь ясное содержание снов в их скрытое содержание. Последний способ довольно рискован: он базируется на недоказуемом предположении об универсальности символов сна, которую мы не можем проверить через регистрацию ассоциаций, возникающих у сновидящего. Я не сомневаюсь, что в опытных и осторожных руках это все-таки может дать интересные результаты; но не стану обманываться, будто смогу их достичь. Меня преимущественно интересуют не сновидения греков, но отношение греков к сновидениям. Определив таким образом задачу, нам, однако, необходимо помнить о возможности того, что различия между древнегреческим и современным отношением к сновидениям могут отражать не только разные способы истолкования одного и того же типа опыта, но и вариации в природе самого опыта. Ибо из недавних исследований сновидений современных дикарей явствует, что бок о бок с известными нам снами-заботами и снами-исполнениями желаний, типичными для всех людей, есть и другие, содержание которых, во всяком случае явное, определяется местным культурным стереотипом.[380] И я имею в виду не столько то, что там, например, где современный американец может видеть во сне полет на самолете, дикарь видит, как его возносит на небо орел, сколько то, что во многих примитивных культурах существуют структуры снов, которые зависят от социально[381] передаваемого образца верований, и которые прекращают появляться, когда это верование теряет поддержку. Не только выбор того или иного символа, но и природа самого сновидения, по-видимому, подчиняется жесткому традиционному стереотипу. Очевидно, что такие сны тесно связаны с мифом, о котором как-то было хорошо сказано, что он есть народное мышление в сновидениях, подобно тому как сновидение есть индивидуальный миф.[382]
Удерживая в памяти это замечание, рассмотрим, какой вид снов описывается у Гомера, и как поэт понимает их. Профессор Г. Д. Роуз в своей замечательной книжке «Первобытная культура в Греции» различает три донаучных способа отношения к сновидению, а именно: 1) «рассматривать сновидение как объективный факт»; 2) «предполагать его как некое событие, которое видит душа или одна из душ, временно выходя из тела, событие, происходящее в мире духов или подобном ему мире»; 3) «интерпретировать его посредством более или менее сложной символики».[383] Профессор Роуз рассматривает их как три последовательные «ступени прогресса», и с логической точки зрения так оно и есть. Однако в подобных вопросах подлинное развитие наших понятий редко следует логическим курсом. Если обратиться к Гомеру, то можно увидеть, что первая и третья «ступени» Роуза сосуществуют в обеих поэмах без осознавания поэтом их взаимной нетождественности, тогда как «вторая» ступень вообще отсутствует (и продолжает отсутствовать в развивающейся греческой литературе вплоть до конца V в., когда она неожиданно появляется в широко известном фрагменте Пиндара).[384]
В большинстве случаев гомеровские поэты относятся к сновидениям как к «объективному факту».[385] Сновидение обычно принимает форму визита, который наносит спящему человеку какая-нибудь призрачная личность (самое слово онейрос у Гомера почти всегда означает призрачное существо, а не сновидение).[386] Это существо из сна может быть богом или призраком, или божественным посланником, или «образом» (эйдолон), созданным специально для такого случая;[387] но в любом случае оно существует в реальном пространстве и независимо от сновидящего. Оно проникает внутрь через замочную скважину (гомеровские спальни не обладают ни окнами, ни дымоходом); оно встает у изголовья кровати, чтобы передать свое сообщение; и когда это сделано, оно уходит той же самой дорогой.[388] Сновидящий между тем почти полностью пассивен: он видит фигуру, слышит голос — и это, в общем-то, все. Иногда, правда, он отвечает вслух, находясь во сне; один раз протягивает руки, чтобы обнять видение.[389] Но это все объективные физические действия, такие, которые люди в своих снах видят исполнившимися. Сновидец не предполагает, что находится где-то еще, кроме как в своей кровати, но фактически он сознает себя спящим, лишь когда видение прямо указывает ему на это: «ты спишь, Атрид», — говорит зловещий Сон в «Илиаде», 2; «ты спишь, Ахилл», — произносит призрак Патрокла; «ты спишь, Пенелопа», — заявляет «бесплотный призрак» из «Одиссеи».[390]
Все это мало походит на наши собственные сновидения, и ученые склонялись к тому, чтобы счесть их, как и многие другие моменты у Гомера, «поэтическим вымыслом», или «эпической техникой».[391] Во всяком случае, эти сновидения весьма стилизованы, как показывают повторяющиеся формулировки. Скоро я вернусь к этому вопросу. Между тем можно отметить, что язык, использовавшийся греками во все эпохи для описания всевозможных видов сна, по-видимому, вызван к жизни тем видом сновидений, в котором сновидящий является пассивным созерцателем объективной картины. Греки никогда не говорили, подобно нам, что у них было сновидение, но всегда, что к ним оно пришло: δναρ ΐδεΐν, ένύπνιον ίδεΐν [увидеть сон, увидеть сновидение]. Эта фраза подходит только для сновидений пассивного типа, но можно обнаружить, что она используется и тогда, когда сновидящий сам является главным персонажем в картине сновидения.[392] Кроме того, уточняется, что сон не только «посещает» сновидца (φοιταν, επισκοπεί ν, προσελθεΐν и т. д.),[393] но и «стоит над» ним (έπιστήναι). Последний образ достаточно типичен для Геродота, у которого он взят как реминесценция гомеровской фразы στη δ' άρ' υπέρ κεφαλής, «он встал у его изголовья»;[394] но упоминания о нем в храмовых записях Эпидавра и Линда, а также у многих более поздних авторов, от Исократа до Деяний Апостолов,[395] едва ли можно объяснить подобным образом. Похоже на то, что идея объективного сна, сна наяву, пустила глубокие корни не только в литературной традиции, но и в народном воображении. И это предположение в какой-то мере усиливается такими упоминаемыми в мифах и священных легендах сновидениями, которые доказывают свою объективность тем, что оставляют после себя вещественные следы, подобные тем, которые наши спиритуалисты любят называть «аппорт»; наиболее известный пример — сон-инкубация Беллерофонта у Пиндара, в котором аппортом является золотая уздечка.[396]
Но вернемся к Гомеру. Стилизованные, объективные сновидения, о которых я говорил, являются не единственным видом сновидений, известных эпическим поэтам. Обыкновенный сон-забота тоже был знаком автору «Илиады» не меньше, чем нам, что явствует из знаменитого сравнения: «Словно во сне человек изловить человека не может, // Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно, // Так и герои, ни сей ни догонит, ни тот не уходит».[397] Поэт не приписывает такие кошмары своим героям, но он знает хорошо, на что это похоже, и блестяще использует для выражения фрустрации у человека. Кроме того, в сновидении Пенелопы об орле и гусях в книге 19 «Одиссеи» мы встречаем простой сон-исполнение желаний, пронизанный символами, обладающий тем, что Фрейд называет «сгущением» и «замещением». Когда Пенелопа оплакивает смерть своих прекрасных гусей,[398] убивший их орел внезапно заговаривает человеческим голосом и объясняет, что он — Одиссей. Это единственное сновидение у Гомера, которое интерпретируется символически. Правильно ли мнение, что оно является плодом деятельности позднего поэта, совершающего тем самым интеллектуальный прыжок от примитивности первой ступени Роуза до сложности третьей? Сомневаюсь. Исходя из любой серьезной теории композиционного строения «Одиссеи», трудно предположить, что книга 19 создана намного позже, чем книга 4, где упоминается сновидение примитивного «объективного» типа. Более того, практика символического истолкования сновидений была известна и автору «Илиады», 5, которая вообще считается одной из старейшей частей поэмы: мы читаем здесь об онейропулосе, не сумевшем истолковать сновидения своих сыновей, когда они отправились на Троянскую войну.[399]
Я полагаю, что правильное объяснение лежит не только в сопоставлении «раннего» и «позднего» отношений к сновидению как таковому, сколько в различении разных типов сновидений. Ибо греки, как и другие древние народы,[400] проводили отчетливую границу между значимыми и пустыми сновидениями; это проявляется у Гомера в эпизоде о вратах из слоновой кости и вратах из рога и поддерживается в течение всей античности.[401] Но и внутри класса значимых сновидений можно различить некоторые виды. В классификации, о которой сообщают Артемидор, Макробий и другие поздние авторы, но которая может происходить и намного раньше, выделяются три типа.[402] Первый — символическое сновидение, которое «окутывает в метафоры, подобно загадке, значение, которое не может быть понято без интерпретации». Второй — horama, или «видение», которое есть точное предвидение будущих событий, подобно сновидениям, описываемым в книге остроумного Дж. У. Данна. Третий называется chrematismos, или «оракул», и он бывает, «когда во сне родитель сновидящего или какое-нибудь другое уважаемое, влиятельное лицо — может быть, священник, а то и бог — прямо открывает сновидящему, что произойдет или чего не произойдет, или что нужно и чего не нужно делать».
Этот последний тип сновидений, мне думается, не совсем привычен для наших современников. Между тем существует немало свидетельств того, что подобные сновидения были известны в античности. Они фигурируют и в других античных классификациях. Халкидий, который следует схемам различных систематизаторов,[403] называет подобное сновидение «admonitio»,[404] т. е. «когда нас направляет и остерегает своими советами ангельское великодушие», и приводит в качестве примера сны Сократа из «Критона» и «Федона».[405] Вероятно, и античный врач Герофил (начало III в. до н. э.) подразумевал именно этот тип, когда различал «богом посланные» сновидения от тех, которые происходят либо от «естественной проницательности» самого ума, либо случайно, либо являются «исполнением желаний». Античная литература пестрит упоминаниями этих ниспосланных сновидений, в которых к сновидцу приходит, как у Гомера, некая призрачная фигура и дает ему прорицание, совет или предупреждение. Так, онейрос «встал» над Крезом и предупредил его о надвигающейся беде; Гиппарх узрел «высокого и красивого человека», который дал ему пророчество в стихах, подобно «безупречной и красивой» женщине, открывшей Сократу через цитату Гомера день его смерти; Александр видел «некоего седовласого, почтенной наружности человека», который тоже фигурировал у Гомера; Александр счел, что это и есть Гомер собственной персоной.[406]
Но мы знаем не только эту разновидность литературных источников, поразительное однообразие которых можно объяснить консерватизмом греческой литературной традиции. Обычный же вид «ниспосланного» сновидения, как и в Греции, так и в других местах, это сон, который требует сделать какое-либо дарственное посвящение или совершить иной религиозный акт;[407] до наших дней дошли конкретные свидетельства подобных событий, в виде многочисленных надписей, утверждающих, что их автор делает посвящение в «соответствии со сновидением» или «после виденного во сне».[408] Детали приводятся редко; однако имеется одна надпись, где некоему жрецу бог Сарапис во сне приказывает построить для него святилище, поскольку он-де устал жить во временных помещениях; и еще одна, дающая подробные правила для управления молитвенным домом, которые, как утверждается, получены во сне от Зевса.[409] Почти все свидетельства на надписях датируются эллинистическим или римским временем; но, пожалуй, это мало что значит, потому что еще Платон говорит в «Законах», что «повсюду у многих, особенно у всех женщин, и больных людей, у тех, кто подвергается опасности или каким-либо лишениям, а также и в противоположных случаях, когда на чью-либо долю выпадает какое-нибудь благополучие, есть обычай посвящать то, что у них есть в это время под рукой, богам, гениям и детям богов»; и в «Послезаконии» говорится, что «культы многих богов были основаны, и будут продолжать основываться, из-за встреч в сновидениях со сверхъестественными существами, знамениями, оракулами и предсмертными видениями».[410] Платоновское замечание о нередкости этих случаев становится еще более убедительным, если вспомнить, что сам он мало верил в их сверхъестественную природу.
Учитывая эти данные, мы должны, думается, признать, что стилизация «священного сна», или chrematismos'a, не является только литературной; это сон, ориентированый на «культурный стереотип» — в том смысле, в каком я определил его в начале данной главы, и он принадлежит к религиозному опыту всего народа, хотя поэты, начиная с Гомера, приспосабливали этот опыт для своих целей, используя его как литературный мотив. Такие сновидения играли важную роль в жизни других древних народов; значимы они и для многих народов наших дней. Большинство сновидений, описанных в ассирийской, хеттской и древнеегипетской литературе, — священные сновидения, в которых появляется бог и произносит вещее слово сновидцу, иногда предсказывая будущее, иногда требуя культового поклонения.[411] В монархическом обществах, естественно, привилегированными сновидящими считаются обычно цари (эта идея встречается в «Илиаде»);[412] простые же смертные вынуждены довольствоваться обычным символическим сном, который они толковали с помощью сонников.[413] Разновидность снов, коррелирующих с греческим chrematismos, тоже может совпадать со сновидениями нынешних дикарей, которые обыкновенно придают им особое значение. Отождествляется ли существо из сновидения с божеством или предком, естественно, зависит от местных культурных моделей. Иногда это только голос, подобный голосу Господа, говорящего с Самуилом, иногда это анонимный «высокий человек», такой, которого мы встречаем в греческих сновидениях.[414] В некоторых обществах оно обычно признается умершим отцом сновидца;[415] в других случаях психолог будет склонен увидеть в нем некоего квазиотца, выполняющего извечные функции предупреждения и руководства.[416] Если этот взгляд верен, мы обнаружим особую значимость во фразе Макробия: «родитель или некое другое уважаемое и влиятельное лицо». Идя дальше, мы рискнули бы предположить, что пока существовало традиционное семейное единство, подобное поддерживание во сне контакта с образом отца имело более глубокое эмоциональное значение и более весомый авторитет, чем оно имеет в нашем индивидуалистическом обществе.
Тем не менее «священный» характер греческого сновидения, по-видимому, не связан всецело с самоидентичностью существа из сна. Выразительность (энаргея) его сообщения не менее важна. В некоторых гомеровских сновидениях бог или эйдолон появляется во сне спящего в облике его друга,[417] и возможно, что в реальной жизни сны о знакомых часто истолковывались в подобной манере. Когда Элий Аристид искал исцеления в храме Асклепия в Пергаме, его слуга увидел в своем сне другого пациента, консула Сальвия, который говорил ему о литературных трудах его хозяина. Это было вполне достаточно для Аристида: он уверился, что призрачная фигура являлась самим богом, «выглядевшим как Сальвий».[418] Конечно, имело некоторое значение и то, что это был «искомый» сон, хотя человек, которого он посетил, не был самим ищущим: предполагалось, что любой сон в храмах Асклепия исходит от бога.
Практики, вызывающие желанное «священное» сновидение, использовались, да и продолжают использоваться во многих обществах. Они включают в себя, например, изоляцию от людей, молитву, пост, умерщвление плоти, сон на шкуре священного животного или контакт с каким-нибудь другим священным объектом, наконец, инкубацию (т. е. сон на священном месте) — или же комбинацию перечисленных элементов. В древнем мире полагались в основном на инкубацию, как делают и по сей день греческие крестьяне; но не забывались и другие практики. Так, пост требовался для вызывания определенных пророческих сновидений в таких оракулах, как «пещера Харона» в Малой Азии и святыня героя Амфиарая в Оропе;[419] в последнем также засыпали на шкуре жертвенного животного (барана).[420] Уединение в священной пещере для обретения всепроникающей мудрости фигурирует в легендах об Эпимениде и Пифагоре.[421] Даже индейская практика отсечения сустава пальца с целью вызвать сновидение имеет частичные параллели, о которых будет сказано ниже.[422] В поздней античности были и не столь болезненные способы получения пророческого сна: так, сонники рекомендовали спать с ветвью лавра под подушкой; магические папирусы пестрят описаниями чар и ритуалов, проводимых для частных лиц; а в Риме были евреи, которые продали бы любое сновидение за несколько монет.[423]
Ни одна из этих техник не упоминается Гомером, в том числе и инкубация.[424] Но, как мы уже видели, полагаться на аргументы «от молчания» в его случае особенно рискованно. Инкубацию практиковали в Египте, по меньшей мере, с XVI в. до н. э.; сомнительно также, чтобы о ней ничего не знала минойская культура.[425] Когда она впервые появляется в Греции, то обычно соединяется с культами Земли и мертвых, которые наверняка имеют догреческое происхождение. Предание гласило — возможно, небезосновательно, — что самый первый оракул Земли в Дельфах был прорицалищем сновидений;[426] в исторический период инкубация практиковалась в святынях героев — либо умерших людей, либо хтонических демонов — и у некоторых расселин, считавшихся входом в мир иной. Олимпийцы не покровительствовали им (что, видимо, и объясняет молчание Гомера); Афина в рассказе о Беллерофонте — исключение,[427] но в ее случае это может быть след ее доолимпийского прошлого.
Широко ли была распространена инкубация в Греции или нет, мы обнаруживаем, что в историческое время она использовалась преимущественно в двух специальных случаях — либо получить вещие сновидения от мертвых, либо из медицинских соображений. Наиболее известный пример первого — обращение Периандра за советом к своей умершей жене Мелиссе по одному важному вопросу в некромантейоне. Когда «образ» умершей появился перед посредником Периандра, он назвал себя и потребовал определенных культовых действий, настаивая на том, чтобы его требования были удовлетворены прежде, чем он даст ответ на необходимый вопрос.[428] В этом рассказе нет ничего невероятного, и, истинен он или ложен, в любом случае он отражает старую культурную модель, из которой в некоторых других обществах развились спиритуальные представления. Но в Греции гомеровская вера в Аид, равно как скептицизм классической эпохи, должны были тормозить подобное развитие; так и получилось, что предсказательные сновидения от мертвых сыграли очень небольшую роль в классический век.[429] Они, по-видимому, приобрели большее значение в некоторых эллинистических кругах, после пифагорейцев и стоиков, которые теснее сблизили умерших с живыми, перенеся область Аида в воздушную сферу. Во всяком случае, у Александра Полигистора мы читаем, что «весь воздух наполнен душами, которых почитают как даймонов и героев, и это они посылают людям сны и знания»; похожую теорию можно обнаружить у Посидония.[430] Но у тех, кто придерживался этого взгляда, не было особых оснований искать сновидения в специальных местах, ибо мертвые были повсюду; поэтому некромантия в античном мире не имела будущего.
Медицинская инкубация, с другой стороны, пережила период блестящего расцвета, когда в конце V в. культ Асклепия вдруг приобрел общеэллинское значение, и это положение сохранилось у него вплоть до позднейших языческих времен. О более глубокой подоплеке этого феномена речь пойдет несколько позже.[431] В данный же момент нас интересуют лишь те сновидения, которые бог врачевания посылал своим пациентам. Начиная с публикации с 1883 г. храмовых записей Эпидавра,[432] они много обсуждались; постепенное же смещение общего внимания в сторону нерациональных факторов человеческого опыта отразилось и на воззрениях ученых. Более ранние комментаторы довольствовались тем, что считали «Записи» умышленной подделкой жрецов либо же предполагали, без всяких на то оснований, что пациенты, находясь под воздействием наркотиков или гипноза, ошибочно принимали явь за сон, а священника в причудливом одеянии — за божественного целителя.[433] Ныне немногие, вероятно, удовлетворились бы этими грубыми объяснениями; из трех основных представителей, внесших вклад в дебаты, которые произошли на памяти нашего поколения — Вайнрайха, Герцога и Эделыптейна,[434] — можно наблюдать рост внимания к изначально религиозному характеру этого опыта. Мне кажется, это абсолютно оправдано. Но до сих пор нет единого мнения в вопросе о происхождении «Записей». Герцог думает, что они отчасти происходят от ранних вотивных табличек, посвящавшихся индивидуальными пациентами (эти таблички могли быть систематизированы и увеличены в числе в процессе объединения), а также отчасти и от храмовой традиции, которая привлекала к себе истории о чудесах из многих источников. С другой стороны, Эдельштейн понимает надписи как до некоторой степени правдоподобное воспроизведение переживаний пациента.
Окончательное разрешение этого вопроса едва ли возможно. Но, по-видимому, феномен сновидения или видения наяву, сориентированного на культуру, несколько ближе подведет нас к пониманию генезиса таких документов, как эпидаврские «Записи». Переживания этого типа отражают стиль верований, которые разделяются не только сновидцем, но и обычно всем его окружением. Форма этих переживаний определяется верой и, в свою очередь, подтверждает ее; следовательно, они с течением времени становятся все больше стилизованными. Как уже давно подметил Тайлор, «налицо порочный круг: во что сновидец верит, то он и видит, а то, что он видит, является тем, во что он и верит».[435] Ну, а что, если ему тем не менее не удается увидеть? Это должно было случаться в Эпидавре: как Диоген сказал о вотивных дощечках, посвященных другому божеству, «их могло бы быть еще больше, если бы те, кто не исцелился, тоже принесли посвящения».[436] Но отдельные провалы с индивидуальной точки зрения не имели значения: ибо воля бога непостижима — «потому что Он милостив к тому, к кому Он будет милостив». «Мне суждено ныне покинуть храм, — заявляет больной сводник в пьесе Плавта, — ибо я понимаю решение Асклепия: он не желает ни заботиться обо мне, ни спасать меня».[437] Наверняка так говорили многие больные. Но истинный верующий был, несомненно, бесконечно терпеливым пациентом: известно, как терпеливо дикари ожидают важного сновидения[438] и как люди вновь и вновь возвращаются в Лурд. Часто на практике страдающему приходилось довольствоваться откровением, которое было, мягко выражаясь, косвенным: мы уже видели, как сновидение другого лица о консуле тоже могло сослужить службу в случае крайней нужды. Впрочем, и Аристиду довелось пережить, как он верил, опыт личного присутствия бога, и описывал его в стиле, который стоит привести.[439] «Было похоже на то, будто что-то касается его, — говорит он о себе в третьем лице, — было ощущение того, что здесь находился кто-то еще; он пребывал между сном и бодрствованием, он хотел открыть глаза и все-таки беспокоился, как бы не проснуться слишком скоро; он слушал и слышал происходящее вокруг иногда как во сне, иногда словно наяву; волосы его вставали дыбом; он вскрикивал, он был счастлив; сердце его раздувалось, но не от гордости.[440] Какое человеческое существо могло бы выразить в словах этот опыт? Но всякий, кто испытал его, поймет меня и узнает это состояние ума». Здесь описывается вызванное у самого себя состояние транса, в котором пациент испытывает сильнейшее внутреннее чувство присутствия бога, и в конце концов слышит божественный голос, причем только наполовину проявленный. Возможно, что и многие другие предписания бога пациенты получали скорее в подобном состоянии, чем в непосредственном сновидении.
Опыт Аристида довольно субъективен; однако объективный фактор тоже может вступать в игру. В «Записях» Эпидавра мы читаем о некоем человеке, заснувшем днем за пределами храма. К нему подползла храмовая ручная змея и лизнула за больную ногу; он пробудился «исцеленным» и сказал, что видел во сне прекрасного юношу, наложившего повязку на его ногу. Это напоминает эпизод из «Богатства» Аристофана, где именно змея совершает исцеление после того, как больные имели видение бога. Мы также читаем об исцелениях, которые производили храмовые собаки, подходившие к бодрствовавшему пациенту и лизавшие пораженный участок его тела.[441] Во всем этом нет нечего фантастического, если не абсолютизировать силу подобных «лекарств»: привычки собак и терапевтический эффект слюны хорошо известны. И собаки, и змеи существовали вполне реально. Афинская надпись IV в. предписывает подавать лепешки священным собакам, и имеется также рассказ Плутарха о некоем умном храмовом псе, который обнаружил вора, укравшего посвященные богу вещи, и которого в награду кормили сытно за общественный счет до конца его жизни.[442] Храмовая змея фигурирует в мимах Герода: приходившим знатным госпожам советовали «почтительно» положить немного овсяной каши в нору, где она жила.[443]
Те, кому во время ночного посещения оказал благосклонность бог, рассказывали утром о своих переживаниях. И здесь следует принять во внимание феномен, названный Фрейдом «вторичной обработкой», эффект которой, согласно этому автору, заключается в том, «что сон теряет видимость абсурдности и бессвязности и становится примером интеллигибельного переживания».[444] В этом случае вторичная обработка, действуя вне ухищрений сознания, приводит сновидение или видение в более близкое соответствие с традиционным культурным стилем. Например, в сновидении человека с больными пальцами богоподобная красота фигуры из сна — разновидность традиционного[445] образа бога, которая легко могла добавиться на этой ступени. Но кроме этого, я думаю, нужно во многих случаях предполагать и третичную обработку,[446] в которую вносят свой вклад жрецы или, более часто, собратья по несчастью. Каждый слух исцеления, приносивший новую надежду страждущим, будет подхвачен и восхвален в этом ожидающем сообществе больных, которое, как сообщает Аристид, обладало более сильным чувством сплоченности, чем ученики в школе или команда на корабле.[447] Аристофан верно подмечает эту психологию, когда описывает группу больных, толпящихся вокруг Плутоса, поздравляя его с излеченным зрением, и слишком возбужденных, чтобы снова улечься спать.[448] Вероятно, именно к этой социальной среде мы должны отнести фольклорные мотивы в «Записях», а также длинные рассказы о хирургических операциях, проводившихся богом над спящими пациентами. Примечательно, что Аристид не знает современных ему хирургических приемов, но верит, что они часто исполнялись «во времена, когда жил дед нынешнего священника».[449] Даже в Эпидавре и Пергаме наступило время, когда появилось множество таких рассказов.
Следует, наконец, сказать и о медицинском аспекте данного феномена. Из «Записей» явствует, что исцеления происходили мгновенно,[450] и вполне возможно, что в некоторых случаях дело обстояло именно так. Нет смысла спрашивать, сколь долго длился процесс улучшения: ровно столько, чтобы пациент «ушел исцеленным». Не обязательно, чтобы таких исцелений было слишком много: как видно в случае Лурда, целительная святыня может поддерживать свою высокую репутацию и за счет очень небольшого количества удачных исцелений, при условии, что некоторые из них поражают воображение. Что касается получения предписаний, их качество обычно зависит не только от медицинских познаний самого сновидящего, но и от степени его бессознательного отношения к своей же болезни.[451] В нескольких примерах они вполне рациональны, хотя и не столь уж оригинальны, например, когда божественная мудрость рекомендует полоскание для больного горла и овощи от запоров. «Полный благодарности, — говорит реципиент одного откровения, — я ухожу исцеленным».[452] Чаще всего божественная фармакопея чисто магическая: бог заставляет своих пациентов глотать змеиный яд или золу со священного костра, или мазать глаза кровью белого петуха.[453] Эдельштейн верно указал, что подобные лекарственные средства до сих пор играют значительную роль в народной медицине;[454] но остается и важное различие, касающееся того, что в медицинских школах они были подвержены, пусть и немного, рациональной критике, тогда как в сновидениях, как говорил Аристотель, элемент критического рассуждения (τό έπικρΐνον) отсутствует.[455]
Влияние бессознательного состояния сновидящего можно видеть в указаниях, полученных во сне Аристидом; многие из них он записал. Как он сам говорит, «они совершенно не соответствуют тому, что можно было бы от них ожидать, и являются как раз тем, что при естественном ходе вещей обычно избегается». Их общая характерная черта — трудность в исполнении: они могут включать в себя рвотные средства, купание в реке зимой, пробежку босиком в мороз, умышленное кораблекрушение, а также обязательство отсечь в виде жертвы один из пальцев[456] — последний символ хорошо истолковал Фрейд. Эти сновидения выглядят как выражение глубоко укорененного желания самонаказания. Аристид всегда подчинялся им (хотя в случае пальца его бессознательное смягчилось настолько, что позволило ему принести в жертву вместо пальца кольцо с него). Тем не менее ему как-то удалось перенести последствия этих предписаний; как заметил профессор Кэмпбелл Боннер, Аристид, должно быть, стал после них хроническим инвалидом.[457] Несомненно, безоговорочное принятие подобных сновидений могло вызывать временное ослабление невротических симптомов. Но более широкому взгляду очевидно, что немного добрых слов можно сказать о системе, которая оставляла пациента на произвол его бессознательных импульсов, скрытых в обличье божественных советов. Можно также согласиться и с холодным суждением Цицерона о том, что «мало кто из излечившихся обязан этим исцелением Асклепию, а не Гиппократу»; и нам не следует позволить современной реакции против рационализма затемнить реальный долг, который человечество обязано принести древнегреческим врачам, отстаивавшим принципы рациональной терапии перед лицом вековых суеверий, подобных тем, которые мы рассматриваем.[458]
К упомянутым примерам самостоятельно вызванных видений, связанных с культом Асклепия, я могу добавить несколько общих замечаний о видениях наяву, или галлюцинациях. Вероятно, они были более типичны для прежних времен, чем для нынешних, т. к. они, по-видимому, довольно часто встречаются среди первобытных народов; но даже и у современных людей галлюцинации бывают чаще, чем это зачастую представляется.[459] В целом они имеют то же происхождение и ту же психологическую структуру, что и сны, и, подобно снам, отражают традиционный образ данной культуры. У греков самыми обычными видами этого феномена являются эпифания бога или слышание божественного голоса, который предписывает или воспрещает исполнение определенных действий. Под названием «spectaculum»[460] галлюцинации фигурируют в классификации сновидений и видений Халкидия; в качестве примера он ссылается на даймонион Сократа.[461] Принимая во внимание влияние литературной традиции на создание стереотипной формы, мы можем, пожалуй, сделать вывод о том, что переживания такого рода были очень частыми, продолжая встречаться и в историческое время.[462]
Вместе с профессором Латте[463] я полагаю, что когда Гесиод сообщает, как Музы разговаривали с ним на Геликоне,[464] то это не аллегория и не поэтическое украшение, а попытка выразить литературным слогом реальное переживание. Далее, у нас есть основание принять в качестве исторического видение Филиппидом Пана накануне Марафона, результатом чего явилось установление культа Пана в Афинах;[465] и, возможно, также и созерцание Пиндаром Матери богов в виде каменной статуи, что тоже завершилось созданием культа, хотя он и не относился к какому-то современному событию.[466] У этих трех видов переживаний имеются одна интересная деталь: они все происходили в уединенных горных районах. Гесиод испытал их на Геликоне, Филиппид — в безлюдном ущелье горы Парфенион, Пиндар — во время горной грозы. Может быть, это не случайно. Горные изыскатели, альпинисты и летчики иногда и в наши дни имеют странные переживания; в качестве хорошо известного примера можно вспомнить, как сэра Шеклтона и его товарищей в Антарктике часто посещал некий призрак.[467] А один из древнегреческих врачей описывает патологическое состояние, в которое может попасть человек, «если он путешествует по безлюдной дороге: ужас охватывает его, когда он видит какого-то призрака».[468] В этой связи нет необходимости напоминать о том, что Греции и была, и остается главным образом страной маленьких, разбросанных поселений, изолированных друг от друга обширными пространствами безлюдных горных кряжей, на фоне которых почти совершенно теряются случайные хутора. Психологическое влияние уединения в подобных местах не следует недооценивать.
Остается вкратце проследить шаги, с помощью которых горстка греческих интеллектуалов пришла к более рациональному пониманию сновидений. Насколько позволяют наши фрагментарные сведения, первым, кто отчетливо «указал» сну подобающее место, был Гераклит, заметивший, что во сне каждый из нас уединяется в своем собственном мире.[469] Эта мысль не только отрицает «объективный» сон, но и содержит, видимо, скрытые намеки на отрицание достоверности опыта сновидений в целом, ибо известное правило Гераклита гласит: «Кто намерен говорить с умом, должны крепко опираться на общее для всех» .[470] По-видимому, и Ксенофан тоже отклонял его достоверность, поскольку он отвергал любые формы прорицания, в число которых наверняка должны были входить и вещие сны.[471] Но эти ранние скептики не старались объяснить, насколько нам известно, как и почему происходили сны, и их скептические идеи не могли заставить отречься от общей традиции. Для иллюстрации того, каким образом старые способы мышления или, по крайней мере, старые способы выражения сумели просуществовать до конца V в., нам пригодятся два примера. В первом из них скептик Артабан, о котором пишет Геродот, говорит Ксерксу, что содержание большинства сновидений зависит от наших дневных забот, хотя он и продолжает рассуждать о снах в старой «объективистской» манере как о «блуждающих среди людей».[472] Второй — атомистическая демокритовская теория сновидений как эйдола, которые постоянно эманируют из людей и объектов и воздействуют на сознание спящего, проникая в поры его тела; несомненно, Демокрит пытается подвести под объективное сновидение механистическое основание, он даже сохраняет гомеровский термин для обозначения объективного характера сна.[473] Эта теория эксплицитно предусматривает существование телепатических снов, утверждая, что эйдола переносят образы (έμφάσεις) умственной деятельности существ.[474]
Впрочем, к концу V в. традиционный тип «священного сна», не поддерживаемый больше живой верой в старых богов,[475] стал клониться к упадку: подобные сны встречались все реже, значение их слабело — за исключением народного культа Асклепия. Есть реальные свидетельства того, что в это время стали более популярными другие подходы к пониманию сновидений. Религиозные умы теперь склонны трактовать факт значительного сновидения как доказательство внутренних способностей самой души, которые могут развиться, если душа освободится во сне от гнетущего присутствия тела. Это представление принадлежит к контексту идей, обычно называемых «орфическими»; я буду рассматривать их в следующей главе.[476] В то же время есть свидетельства и живого интереса к онейрокритике, т. е. искусству истолкования символов личного сновидения. Один раб из комедии Аристофана говорит, что можно за пару оболов найти специалиста по этому искусству; внук Аристида Справедливого, говорят, зарабатывал себе на жизнь с помощью πινάκιον (здесь — таблицы соответствий).[477] Из этих пинакиа со временем выросли первые греческие сонники, самые ранние из которых относятся к концу V в.[478]
Трактат Гиппократа On Regimen (περί διαίτης), который Йегер датировал примерно серединой IV в.,[479] делает интересную попытку рационализировать онейрокритику через соотнесение разных видов сновидений с физиологическим состоянием спящего, а также через понимание их как важных для врача симптомов.[480] Автор этого трактата признает и внерассудочные «священные» сны, а также соглашается с тем, что многие сновидения иллюстрируют исполнение желаний.[481] Но как врача его интересуют сны, выражающие в символической форме болезненные физиологические состояния. Он приписывает происхождение этих снов диагностической осведомленности души, которая во сне «становится сама себе госпожа» и способна исследовать свое телесное жилище очень внимательно[482] (здесь сказывается влияние «орфических идей»). Отталкиваясь от этой точки зрения, он тем не менее продолжает считать истинными многие традиционные истолкования, проводя серии аналогий, порой весьма причудливых, между внешним миром и телом человека, макрокосмом и микрокосмом. Так, земля символизирует в сновидении тело, река — кровь, дерево — репродуктивную систему, землетрясение во сне совпадает с физиологическими изменениями, сны об умерших относятся к съеденной нище, «ибо от умерших приходят пища, рост и семя».[483] Таким образом, он предвосхищает фрейдовский принцип, гласящий, что сон всегда эгоцентричен,[484] хотя его понимание этого принципа остается узкофизиологическим. Автор трактата не претендует на оригинальность своих интерпретаций — многие из них известны и гораздо раньше,[485] — но он заявляет, что в утверждениях более ранних толкователей отсутствовали рациональные основания, и это сказывалось в том, что они не прописывали никакого лечения, кроме молитвы, которой, по его мнению, недостаточно для выздоровления.[486]
Платон в «Тимее» предлагает интересное объяснение мантических сновидений: источником их являются прозрения рациональной части души, которые атем воспринимаются иррациональной ее частью как образы, отражающиеся на ровной поверхности печени; отсюда их темная символическая природа, требующая для себя истолкования.[487] Таким образом, он устанавливает косвенную связь между сновидением и реальностью, хотя, по-видимому, не оценивает ее слишком высоко. Намного более важное значение имеют два небольших трактата Аристотеля — «О сновидениях» и «О прорицании во сне». Его подход к этой проблеме сугубо рационалистичный, отбрасывающий любое суеверие. Временами он демонстрирует превосходную интуицию, как, например, в признании общего источника для снов, галлюцинаций больного человека и иллюзий, бывающих у человека нормального (напр., когда мы ошибочно принимаем неизвестное нам лицо за знакомого).[488] Он отрицает, что какие бы то ни было сны могут посылаться богом: если бы боги пожелали передать то или иное знание людям, они сделали бы это днем и уж наверное более разумно выбрали бы кандидатов для своих сообщений.[489] Тем не менее сны, не происходя от богов, все же могут посылаться даймонами, ибо «природа есть обитель даймонов»; это замечание, по словам Фрейда, содержит глубокий смысл, если его правильно понять.[490] О природе сбывающихся снов Аристотель в этих сочинениях, как позже и Фрейд, благоразумно умалчивает. Он больше не говорит и о внутренних способностях души к прорицанию, как делал раньше, в романтическую пору юности;[491] отрицает также и Демокритово учение об атомах-эйдола.[492] Два вида сновидений он признает постигаемыми внерассудочным путем. Во-первых, это сны, выражающие знание о здоровом состоянии сновидящего: они рационально объясняются Аристотелем как проникновение в сознание симптомов, игнорируемых во время бодрствования. Во-вторых, сны, которые осуществляются через их указывание какого-либо порядка действий сновидящему.[493] Если сбываются сны, не вписывающиеся в рамки этих идов, Аристотель считает это совпадением (σύμπτωμα); в противовес он выдвигает теорию импульса, действующего по аналогии с волнами, которые распространяются в воде или воздухе.[494] Весь подход Аристотеля к данной проблеме научный, а не религиозный; и еще можно спросить, действительно ли в этом вопросе современная наука продвинулась после него слишком далеко.
Во всяком случае, в поздней античности подобные взгляды не получили должного развития. Религиозное понимание сновидений было воскрешено стоиками; в сущности, оно разделялось даже перипатетиками, подобными Кратиппу, другу Цицерона.[495] Как полагает Цицерон, философы своим «покровительственным отношением к сновидениям» много постарались для того, чтобы продлить жизнь суеверию, чьим единственным достоинством в действительности остается увеличение бремени человеческих страхов и тревог.[496] Но на его предостережение не обратили внимания: сонники продолжали умножаться в числе. Император Марк Аврелий благодарил богов за полезный совет, которым они удостоили его во сне; Плутарх воздерживался от употребления в пищу яиц в силу указаний, полученных им в нескольких сновидениях; Диона Кассия во сне вдохновили написать историю; даже такой просвещенный хирург, как Гален, и тот готовился к операциям только после того, как получал благоприятный знак во сне.[497] Интуитивно ли понимая, что сны в конце концов связаны с внутренней жизнью человека, или, исходя из более простых соображений, которые я предположил в начале данной главы, античный мир в конце своей истории отказался довольствоваться одними лишь вратами из слоновой кости, но стал также все чаще и чаще ориентироваться на врата из рога.
Глава пятая. Греческие шаманы и происхождение пуританства
Через что только не должна пройти душа, чтобы вступить в царство бессмертных!
Герман МелвиллВ предыдущей главе мы проследили, как рядом с прежней верой в реальность божьих посланцев, вступающих в контакт с человеком во время сновидений и видений наяву, у некоторых авторов классического века возникает новая вера, которая связывает эти переживания с оккультной способностью, изначально присущей самому человеку. «... В блаженной доле // Все минуют конец, избавляющий от трудов; // И тело их следует за всемогущею смертью, // Но жив остается облик бытия (αιώνος είδωλο ν), // Ибо только он — от богов. // Он спит, когда члены наши — при деле их, //А когда на них накатывает дрема, // Он в несчетных снах являет нам близящийся суд // Меж теми, кому радость и кому беда».[498] Ксенофонт выражает это представление чисто прозаически и нащупывает логические связи, которые поэзия вправе пропустить: «Из всех состояний человека нет ничего ближе смерти, чем сон; между тем человеческая душа (псюхе) именно тогда оказывается более всего сродни богу и способна предвидеть будущее, поскольку в тот момент она, по-видимому, более всего освобождается от телесных уз».[499][500] Похожие утверждения встречаются и у Платона, а также во фрагментах одной из ранних работ Аристотеля.[501]
Идеи такого рода уже давно признаны, как элементы нового стиля античной культуры, выражениями нового взгляда на природу человека и судьбу, чуждого прежним греческим авторам. Споры о происхождении и развитии этого стиля и его воздействии на античную традицию без труда составили бы целый курс лекций или пухлый том. Поэтому я ограничусь тем, что вкратце рассмотрю основные мысли этих споров, которые критически исследовали древнегреческие способы истолкования нерациональных факторов в человеческой жизни. Но даже делая эту попытку, мне придется пересечь поле, утоптанное вплоть до скользкой грязи тяжелыми башмаками соперничавших друг с другом ученых, поле, на котором они зачастую в спешке цеплялись за фрагменты разложившихся, мертвых теорий, давно уже преданных забвению. Благоразумнее, наверное, продвигаться вглубь медленным шагом, осторожно выбирая верный уть посреди окружающего беспорядка. Начнем с вопроса о том, что же действительно было новым в этой новой системе верований. Во всяком случае, не идея воскресения. В Греции, равно как и почти повсеместно,[502] эта идея очень архаична. Если судить по содержимому гробниц жителей Эгейского региона, то уже начиная с неолитических времен они чувствовали, что потребность человека в пище, питье и одежде не прекращается с его смертью.[503] Я не случайно говорю «чувствовали», а не «верили», ибо такие действия, как кормление умершего, являются прямым откликом на внутренние эмоциональные стимулы и совершенно не обязательно должны быть опосредованы теоретической мыслью. Древний человек, можно сказать, кормит своего умершего родича исходя из тех же самых соображений, из каких маленькая девочка кормит свою куклу; и, подобно этой девочке, он не собирается убивать свою фантазию какими-то логическими рассуждениями. Когда архаический грек через трубочку льет жидкость в рот разлагающегося трупа, то он вряд ли понимает то, что же именно он делает; или, более абстрактно, он игнорирует разницу между трупом и призраком, воспринимая их как «консубстан-циональные».[504]
Заслуга поэтов гомеровского времени и заключалась в том, что это различие было сформулировано ясно и четко: призраки оказались отделены от трупов. В обеих поэмах есть эпизоды, из которых видно, что эти поэты гордились своей заслугой и полностью сознавали новизну и значение своего подхода.[505] Им в самом деле было чем гордиться: ибо рассудочное мышление сталкивается с наиболее сильным бессознательным сопротивлением именно тогда, когда пытается помыслить смерть. Но не следует полагать, что едва это различие было сформулировано, как его восприняли повсеместно или даже просто в большинстве регионов. Как показывают археологические находки, забота об умершем, вместе с подразумевающейся верой в идентичность между трупом и призраком, продолжала спокойно существовать и много позже, во всяком случае, в Великой Греции; она устояла и в период моды на кремирование,[506] а в Аттике стала столь расточительной, что сначала Солону, а потом Деметрию Фалерскому пришлось узаконить над ней контроль.[507]
Таким образом, не может быть и речи о возникновении в этот период идеи воскресения; она имплицитно содержалась уже в древних погребальных обычаях, в которых тот, кого хоронили, воспринимался одновременно и как призрак, и как труп; и эксплицитно присутствовала у Гомера, писавшего о тенях, которые, будучи чистыми духами, обитали в Аиде. Не может быть новой и идея о наградах и наказаниях после смерти. Посмертное наказание дерзкого отношения к богам, по-моему, встречается уже в «Илиаде»[508] и с еще большей очевидностью упоминается в «Одиссее»; в то же время Элевсинские мистерии обещали своим адептам счастливую жизнь после смерти, насколько мы можем проследить истоки этого учения, уже, возможно, в VII в.[509] Я думаю, больше никто не верит, что упоминание о «великих грешниках» в «Одиссее» — это «орфическая интерполяция»[510] или что Элевсинские упования — следствие «орфических реформ». И у Эсхила посмертное наказание определенного вида преступников столь тесно связано с традиционными «неписаными законами» и традиционными функциями Эриний и аластора, что я чувствую большое колебание в том, чтобы проигнорировать его стройную систему и отнести хотя бы один ее элемент к категории «орфическое».[511] Возможно, были какие-то отдельные случаи, но сама идея сохранялась; похоже на то, будто все, что смогло сделать новое движение, это обобщить ее. Но и в новых формулировках мы подчас можем узнать отклики очень старых представлений. Когда Пиндар, например, утешает убитого горем заказчика описанием счастливой загробной жизни, он уверяет его, что на небесах тоже будут лошади и доски для игры в шашки.[512] В этом обещании нет ничего нового: на погребальный костер Патрокла приносили лошадей; в могилах микенских царей находили шашки. Обстановка на небесах мало изменилась в ходе столетий; она осталась идеализированной копией того единственного мира, который мы знаем.
Отождествление псюхе, или «души», с личностью живого человека тоже не являлось изобретением нового движения. Эта идея уже была известна раньше, впервые возникнув, видимо, в Ионии. Правда, у Гомера псюхе не играет никакой роли в живом человеке, за исключением функции покидания тела; ее «esse» является не чем иным, как «superesse».[513] Но уже Анакреонт может, например, сказать своей любимой: «Ты повелеваешь моей душой», Семонид — говорит о том, что «душе дается добрый час»; в одной эпитафии VI в. из Эретрии автор жалуется, что призвание моряка «мало удовлетворяет душу».[514] Здесь псюхе — живое «я», точнее даже, жаждущее «я»; она берет на себя функции гомеровского тюмоса, а не гомеровского нуса. Между псюхе в этом смысле и сомой (телом) нет фундаментального противостояния; псюхе есть лишь ментальный коррелят сомы. В аттической Греции оба эти термина могли означать «жизнь»: афиняне, не различая, говорили άγωνίζεσθαι περί της ψυχής [«соревноваться относительно души... относительно тела»] или περίτοϋσώματος. В соответствующих контекстах любое из этих понятий может относиться к «личности»:[515] так, у Софокла Эдип в одном случае, обращаясь к себе, говорит: «моя душа», в другом — «мое тело»; и там и здесь он мог бы сказать «я».[516] Даже гомеровское различение тела и духа не очень отчетливо: не только в одной ранней аттической надписи говорится об умершей псюхе, но и, что самое удивительное, Пиндар повествует о том, как бог Аид мановением своего жезла велит идти в «град пустоты» телам тех, кто умер, — здесь труп и призрак вновь восстанавливают старую тождественность друг другу.[517] Я думаю, не будет большой ошибкой признать, что психологический словарь обычного человека в V в. находился в состоянии хаотического беспорядка, как это, собственно, бывает и сейчас.
Но и из этого беспорядка можно извлечь один факт, имеющий немаловажное значение для нашего исследования. О нем упомянул Барнет в своей знаменитой книге «Учение Сократа о душе»,[518] поэтому мы не задержимся долго на этом вопросе. Аттические авторы V в., как и их ионийские предшественники, употребляя термин « псюхе*, подразумевают скорее эмоциональное «я», чем рациональное. О псюхе говорится как о вместилище отваги, страсти, жалости, беспокойства, животных инстинктов и почти никогда (вплоть до Платона) как об обители разума; ее диапазон столь же широк, сколь и гомеровский тюмос. Когда Креонт у Софокла считает, что «безрассудно полагать, что понял мысль и душу человека», он расставляет элементы характера на шкале, которая тянется от эмоционального (псюхе) до интеллектуального (гноме) через средний термин (фронема), связывающий их обоих.[519] Следующее затем утверждение Барнета о том, что псюхе «остается чем-то таинственным и сверхъестественным», весьма далеким от нашего нормального сознания, является в качестве обобщения гораздо более спорным. Можно отметить, что псюхе иногда появляется и как орган сознания, будучи наделена некоей внерациональной интуицией.[520] Ребенок способен что-либо понять непосредственно своей псюхе, без участия сознания.[521] Гелен обладает «божественной» псюхе не потому, что он умнее или искуснее других людей, но потому, что он видящий.[522] Обычно представляют, что псюхе располагается где-то в глубинах организма,[523] и оттуда она может вещать своему «хозяину» его собственным голосом.[524] В большинстве подобных примеров душа выглядит как наследница гомеровского тюмоса.
Неясно, имелся ли для среднего афинянина V в. в понятии псюхе оттенок потустороннего мира; то, чего оно точно не имело, так это ни благожелательного отношения к пуританству, ни метафизического статуса.[525] «Душа» была не временной узницей телесной темницы, но самой жизнью, духом тела,[526] пребывая в нем как в собственном доме. Но именно в осмыслении данной проблемы в полной мере проявился новый религиозный стиль: наделяя человека глубинным «я» божественного происхождения и тем самым делая тело и душу отдельными, он ввел в европейскую культуру новую трактовку человеческого существования, которую мы можем назвать «пуританской». Откуда пришло это понятие? С тех пор как Родэ назвал его «каплей чуждой крови в греческих жилах»,[527] ученые пытались обнаружить источник этой чуждой «капли». Большинство из них искали его в восточном направлении — в Малой Азии, а то и дальше.[528] Что касается меня, то я склонен начать свои поиски в ином направлении.
Выдержки из Пиндара и Ксенофонта, с которых мы начали эту главу, предполагают, что одним из источников пуританского мировоззрения может быть эмпирическое наблюдение за тем, что «психическая» и «телесная» деятельность изменяются обратно пропорционально друг другу: псюхе наиболее активна тогда, когда тело спит или, как добавил Аристотель, когда оно находится при смерти. Именно это я имею в виду, когда называю ее «сокровенным я». Вера подобного рода — сущностный элемент шаманской культуры, до сих пор существующей в Сибири и оставившей следы своего прошлого пребывания на обширной территории, простирающейся по гигантской дуге от Скандинавии через всю Евразию вплоть до Индонезии;[529] высокая степень распространенности шаманизма — свидетельство его глубокой древности. Шаман может быть понят как психически неустойчивый человек, который в определенное время получает зов к религиозной жизни; откликаясь на этот зов, он проходит период суровых испытаний, которые обычно сопровождаются уединением, постом, а также влекут за собой переживания символической перемены пола. Из этого религиозного «укрытия» он выходит, обладая силой, реальной или воображаемой,[530] и может по своей воле переходить в состояние расщепления личности. В этом состоянии он не является, в отличие от Пифии или современного медиума, одержимым неким чужим духом; как считается, его собственная душа оставляет тело и путешествует где-то вдалеке, в основном в пространствах духовного мира. Шаман может пребывать одновременно в разных местах, т. е. у него есть способность к билокации. Из этих переживаний, о которых он повествует в импровизированной песне, шаман извлекает искусство прорицания, религиозную поэзию и навыки магической медицины, что делает его социально значимым. Он становится хранилищем сверхъестественной мудрости.
В Скифии, а также, возможно, и во Фракии, греки вступили в контакт с народами, которые, как показал швейцарский ученый Мейи, испытали влияние шаманской культуры. В данном вопросе уместно будет сослаться на его важную статью, опубликованную в 1935 г. в «Гермесе». Мейи предположил, что плоды этого контакта можно видеть в появлении в конце архаического века разнообразных ятромантеис,[531] провидцев, целителей-магов, религиозных учителей; некоторые из них связывают греческую традицию с Севером. Все они демонстрируют шаманские черты.[532] С Севера пришел Абарид, умевший, как рассказывали, летать верхом на стреле[533] (подобная вера до сих пор распространена в Сибири).[534] Он был настолько опытен в технике поста, что мог почти совсем обходиться без человеческой пищи.[535] Он умел ускользать от эпидемий, предсказывать землетрясения, слагать религиозные гимны и учил поклоняться своему северному богу, которого греки называли «гиперборейским Аполлоном».[536] На Север по приказу того же Аполлона отправился Аристей, некий грек с побережья Мраморного моря; возвратившись, он поведал о своих необычных переживаниях в поэме, которая вполне могла быть создана по модели психических путешествий северных шаманов. Совершил ли Аристей свое путешествие в теле или в духе, не совсем ясно; но в любом случае, как заметил Алфёльди, его одноглазые аримаспы, его грифоны, сторожащие сокровища, являются характерными персонажами центрально-азиатского фольклора.[537] В дальнейшем традиция наделила его шаманскими способностями к трансу и билокации. Так, душа Аристея, превращаясь в птицу,[538] могла по своей воле оставлять тело; когда он умер (или вошел в транс) дома, его в то же время видели в Кизике; много лет спустя он был замечен вновь — на этот раз в Мета-понте, на Дальнем Западе. Тем же самым даром обладал еще один грек, Гермотим из Клазомен, чья душа путешествовала вдаль и вширь, наблюдая события в отдаленных местах, в то время как его тело, которое покинула душа, оставалось дома. Подобные легенды об исчезающих и вновь появляющихся шаманах были достаточно известны в Афинах, поскольку и Софокл, упоминая о них в «Электре», не испытывает необходимости называть конкретные имена.[539] Об этих людях нам ничего, кроме легенд, не известно, хотя, в конце концов, и самый стиль легенды может быть немаловажен. Этот стиль заметен в одном из сказаний об Эпимениде, критском провидце, который очистил Афины от опасной беды, вызванной осквернением святилища. После того как Дильс обеспечил его четкими хронологическими рамками[540] и пятью страницами фрагментов, Эпименид начал выглядеть вполне исторично — даже несмотря на то, что все его фрагменты, по мнению Дильса, были составлены другими людьми, включая тот, который приводится в Послании к Титу. Эпименид прибыл из Кносса, и, может быть, именно этому факту он обязан своим огромным престижем: человек, выросший в тени дворца Миноса, мог также обладать и древней мудростью, особенно после сна в течение 57 лет в пещере таинственного критского бога.[541] Тем не менее предание соединило с ним идеальный образ северного шамана. Эпименид тоже являлся знатоком психических путешествий; как и Абарид, он был великим постником, живущим исключительно на растительной пище, секрету приготовления которой он выучился от нимф и которую он привык хранить —по причинам, известным лишь ему самому, — в бычьем копыте.[542] Другая специфическая особенность легенды о нем состоит в том, что после смерти обнаружилось, что его тело покрыто татуировкой.[543] Специфической эта особенность является потому, что греки использовали татуировочные иглы только для клеймения рабов. Возможно, это был его знак как посвященного, servus dei;[544] но архаический грек, вероятнее всего, предположил бы в его случае Фракию, где татуировку имели все лучшие люди, в частности, шаманы.[545] Что касается феномена «долгого сна», то и это, конечно, широко распространенный фольклорный мотив;[546] Рип ван Винкль[547] шаманом не был. Однако расположение этого мотива в самом начале легенды об Эпимениде подсказывает, что греки были наслышаны о феномене долгого «уединения», которое является шаманским послушничеством и которое в условиях сна или транса может иногда длиться весьма долго.[548]
Из всего вышесказанного резонно сделать вывод, что открытие Черного моря для греческой торговли и колонизации в VII в., впервые[549] столкнувшее греков с культурой, основанной на шаманизме, без сомнения, обогатило некоторыми новыми чертами традиционный греческий образ божественного человека, тейос анер. Эти новые элементы, скорее всего, были усвоены греческим сознанием потому, что они отвечали нуждам эпохи, как это произошло ранее с религией Диониса. Религиозный шаманский опыт индивидуален, не коллективен; но эта его черта совпадала с растущим индивидуализмом века, которому больше не были нужны коллективные дионисийские экстазы. Резонно предположить, что эти новые особенности повлияли на возникновение новой концепции отношений между телом и душой, которая появляется в конце века архаики.[550] Полагают, диалог Клеарха «О состоянии сна», убедивший Аристотеля в том, «что душа отделена от тела», содержит описание переживаний во время психического путешествия.[551] Впрочем, это художественное произведение, причем относительно позднего происхождения. Действительно ли кто-нибудь из «божественных людей», из тех, что описывались выше, извлекал столь абстрактные теоретические выводы из своего личного опыта, сказать трудно. Правда, Аристотель полагал, что Гермотим предвосхитил своего знаменитого земляка Анаксагора в своей доктрине нуса; но это может означать только то (как предполагал Дильс), что для доказательства самостоятельного существования нуса Анаксагор привлек местный шаманский опыт.[552] И Эпименид, как говорили, заявлял, что он был реинкарнацией Эака и много раз перевоплощался на земле[553] (это помогает объяснить высказывание Аристотеля о том, что его пророчества относились не к будущему, а к неизвестным событиям в прошлом).[554] Дильс осторожно полагал, что данная традиция должна иметь орфическое происхождение; он считал, что ее источником является некая орфическая поэма, сочиненная под именем Эпименида Ономакритом или кем-то из его друзей.[555] По соображениям, которые будут скоро разъяснены, я еще меньше уверен в этом, чем Дильс; что бы ни подразумевал данный взгляд, было бы неправомерно слишком полагаться на него.
Есть, однако, еще один, самый знаменитый греческий шаман, который несомненно умел делать теоретические выводы и который несомненно верил в перерождения. Я имею в виду Пифагора. Нет необходимости предполагать, будто он говорил именно о тех реинкарнациях, которые приписывал ему Гераклид Понтийский,[556] однако и нет причин оспаривать данные о том, что Пифагор — человек, который, согласно Эмпедоклу, накопил за десять-двадцать жизней огромную мудрость, и что он также тот человек, над которым Ксенофан насмехался за веру в возможность переселения души человека в тело собаки.[557] Как Пифагор пришел к этим идеям? Обычный ответ — «опираясь на орфические учения» — если и верен, создает только новые трудности. Я думаю, что он в этом кардинальном вопросе не зависел непосредственно от какого-то «орфического источника»; что и Пифагор, и Эпименид до него слышали о северном поверье в то, что «душа», или «дух-хранитель», умершего шамала может войти в тело живого шамана, усиливая его могущество и познания.[558] Не обязательно, чтобы из этого могла возникнуть какая-нибудь общая доктрина о перевоплощениях, и примечательно, что Эпименида подобной доктриной не наделяли; он просто утверждал, что жил прежде, в том числе в облике Эака, древнего человекобога.[559] Похожим образом говорили, что и Пифагор считает себя тождественным шаману Гермотиму;[560] но, по всей видимости, Пифагор расширил это учение очень далеко за изначально узкие пределы. Возможно, в этом и состоял его личный вклад; помня о его чрезвычайном престиже, мы должны, бесспорно, признать за Пифагором богатую силу творческого воображения.
Так или иначе, известно, что Пифагор основал своеобразный религиозный орден, сообщество мужчин и женщин,[561] образ жизни которых определялся ожиданием будущих жизней. Возможно, существовали прецеденты и до этого: вспомним фракийца Залмоксиса, описываемого у Геродота, — он в присутствии «лучших граждан» заявил, что не вообще душа человека бессмертна, но что это они и их потомки будут жить вечно; по-видимому, эти люди были избранными персонами, некой духовной элитой.[562] Греческие поселенцы во Фракии, от которых Геродот услышал эту историю, неизбежно должны были найти определенную аналогию между Залмоксисом и Пифагором: они превратили Залмоксиса в раба Пифагора. Геродот видел в этом абсурд: реальный Залмоксис, по его мнению, был даймоном, или, возможно, героизированным шаманом далекого прошлого.[563] Однако эта аналогия не столь абсурдна: разве пифагорейцы не обещали своим последователям, что те будут жить вновь и вновь и станут в конце концов даймонами или богами?[564] Более поздняя традиция соединила имя Пифагора с другим жителем северных краев, Абаридом; наделила его типичными шаманскими способностями — к пророчеству, билокации, магическому целительству; появились рассказы о его инициации в Пиэрии, посещении им духовного мира, о его мистической идентичности с «гиперборейским Аполлоном».[565] Некоторые из этих элементов могут быть более поздними по происхождению, но истоки легенды о Пифагоре восходят, по меньшей мере, к V в.,[566] и я склонен думать, что Пифагор сам немало постарался в укреплении ее достоверности.
Я еще более склонен верить в нее потому, что можно видеть, как нечто похожее реально осуществилось в случае Эмпедокла: легенда о нем содержит немало приукрашиваний тех утверждений, которые он делает в своих стихах. Менее чем через столетие после его смерти уже имели хождение рассказы, где повествовалось, как он останавливал магией ветры, вернул к жизни уже не дышавшую женщину и как в конце жизни, находясь в физическом теле, он исчез из этого мира и стал богом.[567] По счастливой случайности мы располагаем подлинным источником этих историй: у нас есть собственные слова Эмпедокла о том, что он может научить своих учеников останавливать ветры и воскрешать мертвых, и что он сам есть (или считали, что есть) бог во плоти: έγώ δ' ύμΐν θεός αμβροτος, ούκέτι θνητός [«я для вас бог бессмертный, а не смертный»].[568] Эмпедокл в некотором смысле является творцом собственной легенды; и если поверить его описанию того, какие толпы приходили к нему в поисках сокровенного знания или магического целительства, ее истоки тоже восходят к некоторым эпизодам его жизни.[569] Перед лицом этих обстоятельств мне кажется неосторожным полагать, что легенды о Пифагоре и Эпимениде вообще не имели корней в изначальной традиции и были выдуманы от начала и до конца сочинителями более поздних времен.
Как бы то ни было, фрагменты Эмпедокла — единственный источник из первых рук, благодаря которому мы все еще можем сформировать какое-то представление о том, кем в реальности был греческий шаман, ибо Эмпедокл — последний и запоздалый представитель того типа людей, который с его смертью прекратил всякое существование в Греции (хотя и продолжал процветать в других местах). Ученые удивлялись, как мог человек, способный к столь зорким наблюдениям и творческому мышлению, заметным в поэме «О природе», написать также и «Очищения», да еще и воображать себя божественным чародеем. Некоторые из них пытались объяснить это тем, что две поэмы принадлежали к различным периодам жизни Эмпедокла: либо он начал свой путь как чародей, затем разочаровался в магическом призвании и занялся натурфилософией; либо, как предполагают другие, он вначале был ученым, затем был обращен в «орфизм» или «пифагорейство», а в уединенной ссылке в последние годы жизни стал утешать себя самообманом величия: он-де бог, который некогда вернется — но не в Акригент, а на небеса.[570] Беда всех этих трактовок в их слабой обоснованности. Фрагмент, в котором Эмпедокл заявляет о своей власти останавливать ветры, вызывать или предотвращать дожди, воскрешать мертвых, по-видимому, принадлежит не к «Очищениям», а к поэме «О природе». Так же дело обстоит и с фрагментом 23, где поэт приказывает ученику вслушиваться в «слово бога» (мне трудно поверить в то, что это относится только к обычному поэтическому вдохновению от Муз).[571] То же и во фрагменте 15, где «то, что люди называют жизнью», по-видимому, ставится в контрастное положение с более реальным существованием — до рождения и после смерти.[572] Все это отбивает охоту объяснять непоследовательность Эмпедокла в «изначальных» строках. Нелегко и принять определение его Йегером как «нового, синтетического типа философской личности»,[573] поскольку любая попытка синтезировать его научные и религиозные воззрения фиксирует именно то, что у него отсутствует в принципе. Если я прав, Эмпедокл представляет собой не новый, но очень старый тип личности шамана, объединяя все еще неотдифференцированные черты волшебника, целителя и общественного деятеля.[574] После него эти функции расщепились: впредь философы уже не были ни поэтами, ни магами; и действительно, такой человек в V в. являлся анахронизмом. Но люди, подобные Эпимениду и Пифагору,[575] еще могли быть опытными мастерами во всех тех функциях, которые я перечислил. Они не «синтезировали» эти обширные области практического и теоретического знания; в своем статусе «человеко-богов» они практиковали все эти функции со знанием дела: «синтез» был личностным, а не логическим.
Таким образом, можно предположить существование некой линии духовной передачи, которая начинается в Скифии, пересекает Геллеспонт и выходит в азиатскую Грецию, соединяясь при этом, вероятно, с остатками минойской традиции, все еще бытовавших к тому времени на Крите, затем эмигрирует на Дальний Запад вместе с Пифагором и имеет своего последнего знаменитого представителя в лице сицилийца Эмпедокла; эти мужи распространили веру в автономное существование души, или «я», которое с помощью соответствующих техник может быть отделено от тела еще при жизни — «я», которое старше, чем тело, и которое переживет его. Но при этом неизбежно возникает вопрос: каким образом подобное развитие связано с мифологической личностью по имени Орфей и с религиозным учением, известным как «орфическое»? Попытаюсь дать краткий ответ.
Относительно Орфея я могу сделать одно предположение, с риском быть названным паншаманистом. Родина Орфея — Фракия, а во Фракии он является почитателем или соратником бога, которого греки отождествляли с Аполлоном.[576] Он соединяет в своем лице черты поэта, мага, религиозного учителя и прорицателя. Подобно некоторым легендарным сибирским шаманам,[577] он может своей музыкой заставить птиц и зверей слушать себя. Как и любой шаман, он посещает подземный мир, и причина этого визита тоже типично шаманская[578] — вызволить украденную душу. Наконец, магическое «я» Орфея существует как его поющая голова, которая продолжает прорицать и много лет спустя после его смерти.[579] Этот факт тоже предполагает влияние Севера: подобные же прорицающие головы встречаются в скандинавской мифологии и ирландской традиции.[580] Я бы сказал, что Орфей — фракийская фигура того же рода, что и Залмоксис: мифический шаман или прототип шамана.
Однако Орфей — одно, орфизм же — совсем другое. Я должен признаться, что теперь очень немного знаю о раннем орфизме, причем чем больше читаю о нем, тем знаю меньше. Двадцать лет назад я мог бы сказать о нем достаточно много (да и все мы многое могли бы рассказать о нем тогда). С тех пор я растерял немало из полученных знаний, и этой потерей я обязан Виламовицу, Фестюжьеру, Томасу и не в меньшей степени — выдающемуся ученому из Калифорнийского университета, профессору Линфорту.[581] Я проиллюстрирую свое нынешнее неведение, перечислив кое-что из того, что мне было некогда известно.
Было время, когда я знал, что:
— в классическую эпоху существовала некая орфическая секта или община;[582]
— орфическую «Теогонию» читали Эмпедокл[583] и Еврипид,[584] а Аристофан пародировал ее в «Птицах»;[585]
— поэма, фрагменты которой написаны на золотых сосудах, обнаруженных в Туриях и других местах, являются орфическим апокалипсисом;[586]
— Платон взял детали своих мифов о «мире ином» из этого же орфического апокалипсиса;[587]
— Ипполит у Еврипида — орфическая фигура;[588]
— «сома — сема» («тело — это темница») — орфическая доктрина.[589]
Когда я говорю, что не могу считать вышеназванные пункты достоверной информацией, это не значит, будто все они ложны. Последние два, по-моему, в самом деле ложные: не следует превращать замаранного кровью охотника в орфическую фигуру или называть «орфическим» учение, которое Платон таковым не считает. Но другие, вполне может статься, истинны. Я лишь хочу сказать, что не могу в настоящее время убедиться в их достоверности и что пока еще здание, выстроенное на этом фундаменте некоторыми искусными учеными, остается для меня карточным домиком; я назвал бы этот домик бессознательной проекцией на экран античности каких-то неудовлетворенных религиозных чаяний, характеризующих конец XIX и начало XX вв.[590]
Если же решиться хотя бы на время обойтись без этих краеугольных камней и вместо них одобрить более осторожную архитектонику Фестюжьера и Линфорта,[591] сколь много из первоначального сооружения может остаться? Боюсь, совсем немного, если, конечно, не залатать его на скорую руку материалом, взятым из фантастических теогоний, которые Прокл и Дамаскин читали тогда, когда Пифагор уже почти тысячелетие покоился в гробнице. Но я не осмеливаюсь на это, кроме тех редких случаев, когда и древность самого материала, и его орфическое происхождение гарантированы независимо друг от друга.[592] Позже я приведу некоторые такие примеры, хотя противоречия, безусловно, останутся. Но для начала проверим те неоспоримые знания об орфизме, которые имеются в наличии, и посмотрим, что из них может быть уместно для данной главы. Известно, например, что в V и IV вв. циркулировало несколько анонимных религиозных поэм, которые традиционно приписывались мифическому Орфею, но которые критические умы расценивали как относящиеся к более позднему времени.[593] Авторами их, скорее всего, были разные люди, и у меня нет оснований считать, что они излагали единую систематическую доктрину; платоновское высказывание о них как о βίβλων ομαδόν, «книжном шуме»,[594] предполагает скорее обратное. О содержании этих поэм я знаю очень мало. Но из достоверных источников мне известно, что по крайней мере некоторые из них исповедовали три следующих взгляда: тело есть темница души; вегетарианство — сущностный элемент жизни; неблагоприятные последствия грехов — как в этом мире, так и в последующем — могут быть смыты ритуальными средствами.[595] Что касается самой знаменитой доктрины «орфиков» — перевоплощения души, — то она, как ни странно, нигде открыто не засвидетельствована в классическую эпоху; но эта идея без особого труда может быть выведена из отношения к телу как к тюрьме, где в заточении за свои былые грехи томится душа.[596] Даже с этим добавлением общая сумма орфических идей не очень значительна. И этот факт не помогает мне найти какой-то критерий для отличения «орфической» психологии от «пифагорейской»; ибо пифагорейцы, как известно, тоже избегали мяса, практиковали катарсис и рассматривали тело как темницу,[597] да и Пифагор самолично, как мы уже видели, пережил опыт перевоплощения. Вряд ли возможно провести четкую границу между орфическим учением, по крайней мере в некоторых его формах, и пифагорейством. Ион Хиосский, авторитетный автор V в., думал, что Пифагор составил свои поэмы под именем Орфея, а Эпиген, который был специалистом в данном вопросе, атрибутировал четыре «орфических» поэмы конкретным пифагорейцам.[598] Существовали ли какие-нибудь орфические поэмы до Пифагора, а если да, то учили ли они о переселении душ, остается совершенно неизвестным. Для обозначения как раннеорфических, так и раннепифагорейских представлений о душе я буду использовать термин «пуританская психология».
Мы уже видели, каким образом восприятие шаманских поверий и практик могло оставить у столь думающих людей, как греки, рудименты подобной психологии; как понятие психического путешествия во сне или трансе могло обострить противостояние души и тела; как «уединение» шамана могло послужить моделью для практики аскесиса — сознательного развития психических способностей через воздержание и духовные упражнения; как истории об исчезающих и появляющихся шаманах могли развить веру в неразрушимое «я» — магической или демонической природы — и как передача магической силы или духа от умерших шаманов к живым могла быть обобщена в учении о реинкарнации.[599] Но должен подчеркнуть, что это только «потенции», логические или психологические возможности. Если некоторые греки актуализировали их, то наверняка потому, что они воспринимались, по словам Родэ, «как отклик на греческие духовные нужды».[600] И если вспомнить ситуацию в конце архаического периода, которая описывалась во II главе, мы убедимся, что они действительно ответили на конкретные нужды логического, нравственного и психологического характера.
Профессор Нильссон считает, что доктрина перерождений является продуктом «чистой логики» и что греки изобрели ее потому, что были «прирожденными логиками».[601] Можно согласиться с его мнением о том, что когда люди приняли понятие «души», существующей независимо от тела, естественно возникал вопрос, откуда эта «душа» явилась; естественным же ответом оказывалось, что она пришла из великого хранилища душ в Аиде. Указания на такого рода аргументы можно встретить у Гераклита, а также в «Федоне».[602] Сомневаюсь, впрочем, что религиозные верования могли часто приниматься, даже и философами, на основе чистой логики — логика в лучшем случае всегда есть ancilla fidei.[603] И эта конкретная вера находила благожелательный прием у многих людей, которые никоим образом не являлись прирожденными логиками.[604] Я более склонен принимать во внимание иные соображения.
С нравственной точки зрения, теория реинкарнации предлагала более удовлетворительное решение позднеархаической проблемы божьего суда, чем теория наследственной вины или посмертного наказания в другом мире. С ростом независимости индивида от гнетущей опеки традиционной семьи, с увеличением его прав как юридического «лица» понятие замещающей расплаты за чью-то ошибку стало уже непригодным. Когда земное законодательство признало, что только человек ответственен за свои поступки, законодательство небесное должно было рано или поздно поступить таким же образом. Что касается посмертного наказания, то оно объясняло, и довольно неплохо, почему боги терпимо относились к мирским успехам злодея, и новое учение, по существу, эксплуатировало его в полном объеме, используя мотив «подземного путешествия», чтобы сделать ужасы ада реальными и живыми для воображения.[605] Однако посмертное наказание не объясняло, почему боги столь терпимы к человеческому страданию, и, в частности, к несправедливому страданию невинного. Реинкарнация же объясняла. С ее точки зрения, ни одна человеческая душа не являлась невинной:[606] все в той или иной степени расплачивались за разные преступления, совершенные в прошлых жизнях. И вся эта тяжелая масса страдания, в этом ли мире или в другом, была не чем иным, как необходимой частью долгого воспитания души — воспитания, которое должно было иметь кульминацией освобождение ее от цикла перерождений и возвращение к божественным истокам. Только таким способом и только на этой космической временной шкале могла бы полностью реализоваться для каждой души справедливость во всем своем полном архаическом смысле — справедливость закона, гласящего, что «деятель пострадает».
Платон знает об этой моральной интерпретации перерождения: «Древние жрецы ясно рекли слово или сказание — как бы это ни называть — о том, что за пролитие крови мстит блюстительная Правда».[607] Безусловно, это старая интерпретация, но уж явно не старейшая. Для сибирского шамана опыт переживания прошлых жизней — не источник вины, но признак усиления его способностей, и в Греции, я полагаю, это была изначальная точка зрения; именно такое усиление способностей Эмпедокл воспринимал в Пифагоре, а несколько раньше то же самое утверждал и Эпименид. Только тогда, когда перерождения стали приписываться всем человеческим душам, они превратились из привилегии в обузу и начали служить для объяснения неравноправия в нашем земном жребии, а также для иллюстрации того, что, говоря словами пифагорейского поэта, человеческие страдания вызваны самим человеком.[608]
В основе требования решить «проблему зла» можно разглядеть некую глубинную психологическую потребность, а именно рационализацию тех необъяснимых ощущений вины, которые, как мы видели раньше, превалировали в архаическое время.[609] Люди, я полагаю, смутно сознавали — и, на взгляд Фрейда, правильно сознавали, — что такие чувства коренились в подспудном и прочно забытом опыте прошлого. Что было более естественно, чем интерпретировать эту интуицию (которая на самом деле, согласно Фрейду, есть смутное припоминание перенесенной в детстве травмы) как смутное припоминание греха, совершенного в прошлой жизни? Здесь мы, возможно, наталкиваемся на психологический источник того значения, которое пифагорейцы придавали «припоминанию» — не в платоновском смысле припоминания мира раз-воплощенных форм, некогда виденных бесплотной душой, но в более простом смысле тренировки памяти, с целью вспомнить деяния и страдания предыдущей жизни на земле.[610]
Впрочем, все это предположения. Несомненно же то, что эти поверья укрепили в своих сторонниках страх перед телом и отвращение к чувственной жизни, что было достаточно ново для Греции. Любая культура вины, по моему мнению, подготавливает почву для роста пуританства, т. к. она формирует бессознательную потребность в самонаказании, которую только данная идеология и может удовлетворить. Но в Греции, по-видимому, весь процесс пришел в движение под влиянием шаманских представлений. Греческое сознание истолковало эти представления в нравственном смысле; когда же это было сделано, мир телесных переживаний, разумеется, превратился в место тьмы и наказаний, а плоть стала «чужой оболочкой». «Удовольствие, — сообщает старый пифагорейский трактат, — во всех отношениях плохо: ибо мы явились сюда, чтобы понести наказания, и нам не следует уклоняться от них».[611] В той разновидности этого учения, которая, согласно Платону, появляется у орфиков, тело рисуется как темница души, где боги держат души взаперти до тех пор, пока она не искупит свою вину. В другой разновидности, упомянутой Платоном, пуританство нашло еще более радикальное выражение: тело воспринимается как гробница, где псюхе лежит замертво, ожидая воскрешения к истинной жизни, т. е. жизни бестелесной. Эта разновидность прослеживается вплоть до Гераклита, который, вероятно, использовал ее для иллюстрации своего вечного круговращения противоположностей — «путь вверх и вниз».[612]
Для людей, отождествлявших псюхе с эмпирической личностью, как преимущественно и делали в V в., подобная идея вообще не имела смысла; это был фантастический парадокс, комические возможности которого не ускользнули от внимания Аристофана.[613] Но она обретет не больший смысл, если мы отождествим «душу» с рассудком. Уместно предположить, что приверженцы вышеназванного взгляда считали, что находящийся в физическом теле «мертвец» не был ни рассудком, ни эмпирическим человеком, но сокровенным «я», пиндаровским «образом жизни», который вечен, хотя и может функционировать только в условиях сна или транса. О том, что человек имеет две «души», одну божественного, другую земного происхождения, уже учил (если верен наш поздний источник) Ферекид Сиросский. И примечательно, что Эмпедокл, на котором главным образом и основываются наши знания о раннем греческом пуританстве, избегает употреблять термин псюхе в отношении к вечному «я».[614] По-видимому, он представлял себе псюхе как состоящую из жизненной теплоты, после смерти превращающейся в элемент огня, из которого она некогда возникла (что было типичным взглядом для V в.).[615] Сокровенное «я», которое продолжает существовать сквозь череду перевоплощений, он называл не псюхе, но «даймоном». Этот даймон, видимо, ничего не имеет общего с восприятием или мышлением, которые, согласно Эмпедокл у, механически детерминированы; функция даймона — быть носителем потенциальной божественности[616] человека и актуальной его вины. Это ближе в некотором отношении к вечному духу, который шаман наследует от других шаманов, чем к рациональной «душе», в которую верил Сократ; но он оказался окрашен в морализаторские тона, став носителем вины; мир же чувств превратился в ад, где дух испытывает муки.[617] Эти муки Эмпедокл описывал в одной из самых загадочных и экспрессивных религиозных поэм, которые дошли до нас со времен античности.[618]
Еще одним аспектом доктрины было ее учение о катарсических средствах, с помощью которых сокровенное «я» могло подняться по лестнице бытия и которые ускоряли его окончательное освобождение. Если судить по заглавию, таков был главный мотив поэмы Эмпедокла, хотя разделы, в которых непосредственно звучал этот мотив, в основном утрачены. Понятие катарсиса не было к тому времени внове: как мы видели раньше,[619] оно являлось главной заботой религиозных умов в течение всего архаического периода. Но в новом образе веры оно потребовало нового содержания и нового направления: человек должен быть очищен уже не только от конкретных загрязнений, но и, насколько возможно, от любого следа чувственности, что и является условием его искупления. «Из общества чистых прихожу я, чистая царица над теми, кто остался внизу», — говорит душа Персефоне в поэме на золотых сосудах.[620] Главным средством спасения становится не столько справедливость, сколько чистота. И поскольку это «я», которое необходимо очищать, — магическое, а не рациональное, то и техники катарсиса — не рациональные, но магические. Они могут состоять из одного лишь ритуала, как в орфических книгах, которые Платон критиковал за их деморализующий эффект.[621] Или они могут использовать заклинающую силу музыки, как в пифагорейском катарсисе, который, по-видимому, развился из примитивного чародейства (επωδοί).[622] Или они могут сопровождаться аскесисом, т. е. практикой суровых самоограничений.
Как мы отмечали, необходимость в такого рода аскесисе имплицитно присутствовала с самого начала в шаманской традиции. Но архаическая культура вины придала ей особое направление. Вегетарианство, являющееся главной особенностью орфического и некоторых видов пифагорейского аскезиса, обычно понимается как естественное следствие учения о трансмиграции. Животное, которое вы убиваете ради пищи, может быть обителью человеческой души, или «я». Так это трактовал Эмпедокл. Но он не вполне логичен: ему следовало бы чувствовать то же самое отвращение и к поеданию растительной пищи, поскольку он верил, что его собственное сокровенное «я» когда-то обитало в кусте.[623] В основе его несовершенной рационализации лежит, я подозреваю, нечто более архаичное, а именно страх перед пролившейся кровью. У щепетильных умов страх подобного осквернения может охватить случай любого пролития крови — животного или человека. Как считает Аристофан, правилом Орфея было «не проливать крови», и говорили, что Пифагор избегал общаться с мясниками и охотниками — не столько потому, что они были злодеями, сколько по причине их нечистоты, чреватой заразительным осквернением для других людей.[624] Помимо пищевых табу, пифагорейское общество обязывало своих членов соблюдать и иные запреты, такие как молчание для неофитов и некоторые сексуальные ограничения.[625] Но, видимо, только Эмпедокл сделал последний, логичный шаг к манихейству: я не вижу причин сомневаться в том, что он отвергал брак и всякие сексуальные отношения,[626] хотя стихи, в которых он излагал это, до нас не дошли. Если предание достоверно в данном вопросе, то можно утверждать, что пуританство не только появилось в Греции, но и было доведено греческим сознанием до высшего теоретического предела.
Остается еще один вопрос. Какова изначальная основа всего этого неприятия? Как получается, что божественное «я» согрешает и мучается в смертном теле? Как выразил этот вопрос один пифагорейский поэт, «откуда появились люди, и откуда появилось столько зла?»[627] На этот трудный вопрос орфическая поэзия, во всяком случае поздняя, давала мифологический ответ. Все это началось-де со злых титанов, которые поймали ребенка Диониса, расчленили его на куски, сварили, поджарили, затем съели его, но были немедленно испепелены молнией Зевса; из дыма, поднявшегося над их останками, возник человеческий род, который тем самым унаследовал коварные наклонности титанов, но который в то же время сохранил крошечную порцию божественной материальной души. Эта душа, будучи субстанцией бога Диониса, все еще действует в людях как их внутреннее «я». Павсаний говорит, что эта история — или, скорей, та ее часть, где содержится рассказ о титанах — была изобретена Ономакритом в VI столетии (тем самым он подразумевает, что история о разрывании Диониса на куски — старше).[628] И всякий, кто верил Павсанию, вплоть до Виламовица, не находя ясных и несомненных аллюзий на миф о титанах у любого писателя, жившего раньше III в. до н. э., делал вывод, что этот миф наверняка является эллинистической выдумкой.[629] Данный вывод разделялся некоторыми учеными, мнения которых я уважаю,[630] и поэтому я долго колебался, прежде чем возразить и им, и Виламовицу. Действительно, есть основания для того, чтобы не принимать в расчет утверждения Павсания об Ономакрите;[631] однако ряд соображений все-таки убеждает меня в том, что миф очень архаичен. Первое — его древний характер: миф этот обыгрывается в ранних дионисийских ритуалах спарагмос и омофагия[632] и он подразумевает старую веру в наследственную вину, которая в эллинистический период стала восприниматься как глупое суеверие. Второе — цитата из Пиндара в платоновском «Меноне», где «наказание за старое преступление» естественным образом трактуется как относящееся к человеческой ответственности за убийство Диониса.[633] Третье: в одном месте «Законов» Платон упоминает людей, которые «подражают титанам»,[634] а в другом говорит о святотатственных импульсах, которые не исходят «ни от человека, ни от бога», но возникают «из-за старых, не искупленных очищением проступков».[635] И четвертое: известно, что ученик Платона Ксенократ связывал понятие тела как «темницы» с Дионисом и титанами.[636] В отдельных случаях эти явные отсылки к мифу могут быть при желании объяснены; но если взять их вместе, трудно поверить в то, что вся эта история не была знакома Платону и его окружению.[637]
Если это так, то древнее пуританство, подобно современному, имело собственную доктрину первородного греха, объяснявшую универсальность чувства вины. Правда, физическая трансмиссия вины из поколения в поколение не находилась в строгом соответствии с мнением о том, что носителем этой вины является постоянное сокровенное «я». Но это не должно нас очень удивлять. Индийские упанишады тоже стремились соединить старую веру в наследственное осквернение с новым представлением о реинкарнации;[638] да и христианская теология находит возможным увязать греховное наследие Адама с индивидуальным нравственным долгом. Миф о титанах ловко объяснял греческому пуританину, почему тот чувствует себя одновременно и богом, и преступником; «аполлоническое» чувство отдаленности от божественного и «дионисийское» чувство идентичности с ним были и объяснением, и уравновешиванием этого двойственного ощущения. Он действовал сильнее, чем любая логика.
Глава шестая. Рационализм и реакция на него в классическую эпоху
Едва ли не главное достижение цивилизации — процессы, которые разрушающе воздействуют на общества, в которых они происходят.
А. Н. УайтхедВ предыдущих главах книги я постарался показать на примерах конкретной области верований, как медленно, в течение веков, из отложений, оставленных сменяющими друг друга религиозными движениями, возникало образование, которое Гилберт Мюррей в одной из лекций назвал «конгломератом традиций».[639] Эта геологическая метафора в данном случае уместна, ибо религиозное развитие сродни геологическому: принципом его, за малыми исключениями, является агломерация[640] а не субституция[641]. Новые верования очень редко полностью стирают те, что были до них: либо старое живет как элемент нового — иногда как непризнаваемый и почти не осознаваемый элемент, — либо же оба они сосуществуют бок о бок, хотя, будучи несовместимы с точки зрения логики, в то же время принимаются разными индивидами или даже одним и тем же индивидом. В качестве примера первой ситуации вспомним, как гомеровские понятия, например ате, переходили в культуру вины и трансформировались там. Примером второй могут служить существовавшие в классическое время разнообразные представления о «душе», или «я»: труп, продолжающий жить в могиле; образы теней в Аиде; исчезающее дыхание, которое сливается с воздухом или растворяется в эфире; даймон, который перерождается в разных телах. Имея различный возраст и происходя из разных культурных традиций, все эти представления существовали на заднем плане рационального мышления V в.; можно было выбрать какую-то одну из них, или несколько, или даже все, ибо отсутствовала единая церковная организация, которая могла бы установить, что есть истина, а что — ложь. На вопросы, подобные вопросу о «душе», не было единого «греческого мнения»: наличествовал лишь беспорядочный набор противоречащих друг другу ответов.
Таким и был конгломерат традиций в конце века архаики; исторически он воспринимается как отражение изменений человеческих чаяний в череде сменяющихся поколений, а интеллектуально — как неупорядоченная масса. Мимоходом мы отмечали, как Эсхил пытался упорядочить эту массу и извлечь из нее то, что могло бы обладать нравственным смыслом.[642] Но в период времени, протекшего между эпохами Эсхила и Платона, эти попытки больше не возобновлялись. В этот период зазор между верованиями простонародья и верованиями интеллектуалов, который неявно присутствует уже у Гомера,[643] расширяется до полного разрыва, готовя почву для постепенного разложения этого конгломерата. В оставшихся главах книги речь будет идти о некоторых последствиях этого процесса, а также о попытках взять его под контроль.
Сам по себе данный процесс, взятый в своей целокупности, не входит в зону моего интереса. Он принадлежит к истории греческого рационализма, о котором писалось достаточно много.[644] Кое-что, однако, о нем стоит сказать. Прежде всего, греческое «Aufklärung», просвещение, не является изобретением софистов. Это необходимо отметить, поскольку до сих пор есть ученые, которые воспринимают «просвещение» и «течение софистов» как синонимичные понятия, относясь к ним с одинаковым порицанием или (менее часто) с одобрением. Просвещение, несомненно, намного старше софистики; оно уходит корнями в Ионию VI в., в работы Гекатея, Ксенофана и Гераклита, а в более позднем поколении его развивают мыслители умозрительного плана, например, Анаксагор и Демокрит. Гекатей — первый из греков, который заявил, что греческая мифология «смешна»,[645] и который старался сделать ее менее смешной путем рациональных объяснений, тогда как его современник Ксенофан критиковал гомеровские и гесиодовские мифы с этической позиции.[646] Для нашего исследования более важно, что Ксенофан отклонял достоверность прорицания:[647] если это так, то значит, что он практически единственный среди классических мыслителей Греции отвергал не только квазинаучное толкование знамений, но и весь глубоко укоренившийся комплекс представлений о вдохновении, который мы разбирали в предшествующих главах. Однако основным его вкладом было открытие относительности религиозных идей. «Если бы руки имели быки... чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди... быки на быков бы похожих образы рисовали богов и тела их ваяли»:[648] как только это было сказано, то лишь вопросом времени стало постепенное угасание традиционных религиозных идей. Сам Ксенофан был глубоко религиозным человеком: он верил в бога, «не похожего на смертных ни обликом, ни сознаньем».[649] Однако он понимал, что это все-таки вера, а не знание. Ни один человек, говорит он, не имел никогда и не будет никогда иметь несомненного знания о богах; даже если ему посчастливится найти точную истину, он не сможет познать то, что же именно он сделал, поскольку «во всем лишь догадка бывает».[650] Это честное различение познаваемого и непознаваемого снова и снова появляется у мыслящих умов V в.[651] и наверняка является одним из главных их достижений: на этом зиждется обоснование научной скромности.
Если вернуться к фрагментам Гераклита, мы найдем там немало критических стрел в адрес вышеназванного конгломерата; некоторые из них касаются тех типов веры, которые были рассмотрены раньше. Его отрицательное отношение к сновидениям уже отмечалось выше.[652] Он насмехался над катарсическим ритуалом, сравнивая тех, кто очищается кровью от крови, с человеком, который пытается отмыться от грязи, купаясь в грязи.[653] Это был прямой удар по религиозному очищению. Он высказывал недовольство тем, что «традиционные мистерии» проводились нечистым образом, хотя, к сожалению, мы не знаем, что именно подвергал он критике и какие именно мистерии имел в виду.[654] Далее, выражение νεκύες κοπριών έκβλητότεροι, «мертвецы отвратительнее навоза», которое, наверное, одобрил бы Сократ, являлось настоящим вызовом традиционному греческому благочестию: оно в трех словах ликвидирует как все заботы, связанные с погребальными обрядами, заботы, которые столь часто фигурируют в аттической трагедии и в греческой военной истории, так и в целом все переплетение чувств, концентрировавшихся вокруг трупа и призрака.[655] Другая максима из трех слов — ήθος άνϋρώπω δαίμων, «личность — даймон человека», подрывает основу большинства архаических представлений о врожденной удачливости и божьем искушении.[656] Наконец, Гераклит имел дерзость критиковать то, что по сей день является основной чертой греческой народной религии — культ образов, который, как он заявлял, напоминает беседу с домом хозяина вместо беседы с самим хозяином.[657] Будь Гераклит афинянином, он наверняка навлек бы на себя обвинение в богохульстве, замечает Виламовиц.[658]
Впрочем, не следует преувеличивать влияние этих ранних мыслителей. Ксенофан и в еще большей степени Гераклит производят впечатление личностей, обособленных от остального общества даже у себя на родине, в Ионии;[659] лишь через много лет после того, как они умерли, их идеи получили отклик в Великой Греции. Еврипид был первым из афинян, о котором мы можем с уверенностью сказать, что он читал Ксенофана.[660] Также первым он познакомил афинскую публику с учением Гераклита.[661] Но ко времени Еврипида процесс просвещения продвинулся и намного дальше. Возможно, именно Анаксагор научил его называть божественное солнце «глыбой золота»,[662] возможно, именно этот философ подвигнул его на насмешки над провидцами-профессионалами;[663] и, несомненно, под влиянием софистов и Еврипид, и все его поколение стали трактовать важнейшие нравственные вопросы в терминах номоса, а не фюсиса — «закона», «обычая», «соглашения», а не «природы».
Я не намереваюсь говорить слишком много об этом знаменитом противостоянии, истоки и разновидности которого были детально исследованы в недавней работе молодого швейцарского ученого Феликса Хайни-манна.[664] Но не будет излишне отметить, что способ подобного мышления может вести к самым разнообразным выводам, в зависимости от того, какое значение придавать терминам, в которых оно облекается. Понятие номоса может, например, символизировать конгломерат, воспринятый как наследственная ноша иррациональных обычаев; или может означать произвольное правило, сознательно налагаемое некоторыми классами в своих собственных интересах; или же оно может означать рациональную систему государственного законодательства, своего рода достижение, отличающее греков от варваров. Похожим образом и понятие фюсис может быть истолковано как неписаный, необусловленный, вечный «природный закон», в пику партикуляризму местных обычаев; или же как «естественные права» личности, заявляющие о себе вопреки деспотическому принуждению Государства; и это в свою очередь может перейти — как бывает всегда, когда права утверждаются без соответствующего признания обязанностей — в анархический имморализм чистой воды, в «естественное право сильного», как это выражено афинянами в мелийском диалоге и Калликлом в «Горгии». Неудивительно, что подобная антитеза, термины которой столь двусмысленны, вела к большому количеству аргументов, основанных на недоразумении. Но сквозь туман беспорядочного и, на наш современный взгляд, фрагментарного противоречия мы можем смутно различить две великие проблемы, за разрешение которых разгорались интеллектуальные сражения. Одна из них — этическая проблема источника и достоверности нравственных и политических обязанностей. Другая — психологическая, имеющая отношение к движущим силам человеческого поведения: почему люди поступают так, а не иначе, и как на них можно повлиять, чтобы они поступали лучше? Только второй вопрос будет нас занимать.
Пытаясь решить его, первое поколение софистов, в частности Протагор, отстаивали взгляд, оптимизм которого в ретроспективе выглядит патетически; тем не менее с исторической точки зрения он вполне понятен. «Добродетели и достоинству (арете) можно обучить»: подвергая критике свои традиции, модернизируя номос, созданный ранее, элиминируя из него последние признаки «варварской глупости» ,[665] человек мог обрести новое искусство жизни, и она могла бы возвыситься до таких уровней, которые раньше ему и не снились. Подобная надежда понятна в людях, видевших быстрый рост материального благосостояния после Персидских войн, а также беспримерный духовный расцвет, сопровождавший его, — кульминацией этого расцвета были уникальные достижения Перикловых Афин. Для этого поколения Золотой век был не утраченным раем из туманного прошлого, как у Гесиода; оно верило, что Золотой век находился не позади, а впереди, причем не очень далеко впереди. Самый худший представитель общества граждан, заявлял Протагор, лучше, чем самый благородный член общества дикарей.[666] Лучше пятьдесят лет пожить в Европе, чем вечность — в Китае. Но история, увы, недолго обладает оптимистическими настроениями. Думается, поживи Теннисон в Европе последние 50 лет, он пересмотрел бы свои предпочтения; да и Протагор перед смертью имел веские основания для переоценки своих взглядов. Вера в неизбежность прогресса просуществовала в Афинах даже меньше, чем в Англии.[667]
В этом своем диалоге «Протагор» Платон сталкивает вышеуказанное представление Протагора о природе человека с представлениями Сократа. На первый взгляд, они имеют друг с другом немало общего. Оба пользуются традиционным[668] утилитарным языком: «благо» означает «благо для кого-то», и оно почти не отличается от «выгоды» и «пользы». И у обоих присутствует традиционный[669] интеллектуалистский подход: они отстаивают мысль, в пику обыденному мнению своего времени, что если бы человек реально знал, что же для него является благом, он бы и действовал согласно своему знанию.[670] Однако каждый из них определяет свой интеллектуализм по-разному. Согласно Протагору, арете можно научиться, но не при помощи интеллекта: человек «овладевает ею» так же, как ребенок овладевает родным языком;[671] она передается не путем формального научения, но с помощью того, что антропологи называют «социальным контролем». Для Сократа, с другой стороны, арете есть (или должна быть) эпистеме, частью научного познания: в этом диалоге Платон даже заставляет его говорить, что одной из особенностей эпистеме является тщательное исчисление будущих страданий и удовольствий, и я даже думаю, что в реальности именно так он и говорил.[672] Тем не менее он сомневался, можно ли всецело выучиться арете, и это его сомнение я тоже считаю вполне историческим.[673] Для Сократа арете — то, что развивается изнутри вовне; это не набор поведенческих образцов, которые можно разучить и запомнить, но постоянный склад ума, возникающий из интуитивного постижения природы и значения человеческой жизни. В этом самопостоянстве он походит на способ бытия науки;[674] однако, думается, мы будем неправы, если истолкуем интуицию в чисто логическом ключе — ибо она охватывает всего человека.[675] Безусловно, Сократ считал, что необходимо «следовать аргументу, куда бы он ни вел»; но он знал, что слишком часто аргумент вел только к новым вопросам, и где ему не удавалось найти истину, он был готов следовать за другими ведущими. Не следует забывать, что Сократ очень серьезно относился и к сновидениям, и к оракулам,[676] и что он привык следовать своему внутреннему голосу, который знал больше,чем он сам (если верить Ксенофон-ту,[677] Сократ называл его довольно просто — «гласом божьим»).
Таким образом, ни Протагор, ни Сократ не соответствуют современному обыденному представлению о «греческом рационалисте». Но нам все же кажется странным, что оба они слишком легко не замечают роль, которую играет в повседневной человеческой жизни эмоциональный фактор. И мы знаем из Платона, что это казалось странным также и их современникам: интеллектуалы и обычные люди бесповоротно расходились в данном вопросе. «Большинство считает, — говорит Сократ, — что знание не обладает силой и не может руководить и начальствовать, потому-то о нем и не размышляют... Они полагают, что не знание управляет человеком, а что-либо другое: иногда страсть, иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще — страх. О знании они думают прямо как о невольнике: каждый тащит его в свою сторону».[678]
Протагор соглашается, что это обыденный взгляд, но считает, что не стоит обсуждать «мнение толпы, говорящей что попало».[679] Сократ, анализируя эту ситуацию, пытается объяснить ее в интеллектуальных терминах: близость удовольствия или боли является причиной ложных суждений, аналогичных ошибкам визуальной перспективы: научная нравственная арифметика откорректировала бы их.[680]
Едва ли подобное рассуждение могло подействовать на простого человека. Грек всегда ощущал, что страсть есть нечто таинственное, пугающее, что это некая сила, входящая в него, овладевающая им, а не то, чем овладевает он. То же слово pathos, которое является эквивалентом латинского passio, означает то, что «случается» с человеком, то, чем он становится как пассивная жертва. Аристотель сравнивает страстного человека с человеком спящим, безумным или пьяным: его разум, как и у них, находится в расстройстве.[681] В первых главах мы видели,[682] что гомеровские герои и люди архаического века интерпретировали подобный опыт в религиозных терминах — как ате, как передачу меноса или как прямое действие даймона, использующего ум и тело человека в качестве своих орудий. Таков типичный взгляд простого народа: «дикарь под воздействием сильной страсти видит себя одержимым или больным, что для него одно и то же».[683] Этот способ мышления отнюдь не исчез даже к концу V столетия. Так, Ясон в конце «Медеи» может объяснить поведение своей жены только как влияние аластора, демона, которого создает безнаказанное убийство; Хор в «Ипполите» считает, что Федра может быть одержимой, да и она сама вначале говорит о своем положении как об ате даймона.[684]
Но для поэта, а также для образованной части его аудитории, этот язык имеет теперь лишь символическое значение. Мир даймонов отброшен, человек остается наедине со своими страстями. И это придает раздумьям Еврипида о причинах преступлений своеобразную остроту: он показывает, как мужчины и женщины, лицом к лицу сталкиваясь с тайной зла, больше не воспринимают его как чуждое явление, вторгающееся в их сознание из ниоткуда, но как часть своего же бытия — ήθος άνθρώπφ δαίμων. Тем не менее, перестав быть сверхъестественным, зло не становится менее таинственным и пугающим. Медея знает, что она находится в тисках, — но не аластора, а своего собственного иррационального «я», тюмоса. Она упрашивает это «я» смилостивиться над ней, словно раб, просящий милости у жестокого хозяина.[685] Но тщетно: импульсы к действию скрыты в тюмосе, где их не могут достичь ни разум, ни жалость. «Я знаю, что делаю зло; но тюмос сильнее меня, тюмос, корень наихудших деяний человека».[686] С этими словами она покидает сцену; а когда возвращается, то осуждает своих детей на смерть, а саму себя — на жизнь в безысходном отчаянии. Ибо Медея не обладает сократовской «иллюзией перспективы»; она не ошибается в своей нравственной арифметике, так же как и не принимает свою страсть за действие злого духа. Здесь лежит ее высшая трагедия.
Думал ли поэт о Сократе, когда творил свою «Медею», я не знаю. Но сознательное неприятие им сократовского учения, мне кажется, видно[687] из знаменитых слов, которые он спустя три года вложил в уста Федры. Дурное поведение, заявляет она, не зависит от нехватки проницательности, «ибо множество людей имеют здравое понимание». Нет, мы знаем, в чем состоит наше благо, но мы не способны действовать, опираясь на наше знания: либо мешает некая инертность, либо нас отклоняет от цели «какое-нибудь сильное желание».[688] Это не выглядит как противоречие, ибо выходит за пределы того, что требует или даже просто предлагает драматическая ситуация.[689] Данные пассажи не стоят и особняком: нравственное бессилие рассудочных решений неоднократно утверждается во фрагментах из утраченных пьес Еврипида.[690] Но если судить по сохранившимся отрывкам, в своей последней работе Еврипида заботило не столько бессилие человеческого разума, сколько то, можно ли вообще рационально упорядочить человеческую жизнь и управление миром.[691] Этот мотив получает кульминацию в «Вакханках», религиозное содержание которых, как заметил один критик,[692] состоит в признании «потустороннего», находящегося вне наших моральных категорий и недоступного нашему рассудку. Я не утверждаю, что из этих пьес может быть извлечена какая-то систематическая философия жизни (это и не требуется от драматурга, пишущего в век всеобщих сомнений). Но если уж необходимо найти название для этого, то я все-таки думаю, что слово «иррациональный», которое когда-то было мною предложено,[693] подходит к Еврипиду больше, чем к кому бы то ни было.
Это, конечно, не означает, что Еврипид следовал крайностям «природной» школы, которая оправдывала человеческую слабость, заявляя, что страсти «естественны», поэтому они и истинны, мораль же есть условность, и потому, чтобы она не была помехой, ее надо отбросить. «Будь естественным, — говорит Несправедливость в "Облаках", — живи вволю, смейся над миром, не стыдись ничего».[694] Некоторые герои Еврипида следуют этому призыву, хотя и не в столь беспечной манере. «Так захотела природа, — считает некая заблудшая дочь, — а природа не подчиняется правилам: мы, женщины, были созданы для этого».[695] «Я не нуждаюсь в ваших советах, — говорит некий гомосексуалист. — Я понимаю все, но природа принуждает меня».[696] Даже самое глубокое из всех человеческих табу — запрет на инцест — теряет свое значение после реплики «нет ничего постыдного в подобном поступке».[697] Вполне возможно, что в окружении Еврипида были юные люди, которые высказывали подобные взгляды (мы можем сопоставить их с похожими взглядами нашей современной молодежи). Но сомневаюсь, разделял ли поэт их мнения. Ибо его Хор постоянно, и зачастую без особого драматического повода, пытается осуждать тех людей, которые «клевещут на законы и потакают беззаконным порывам»; целью которых является ευ κακουργεΐν, «совершить зло и убежать»; для которых айдос и арете — пустые понятия.[698] Эти неназванные личности, несомненно, — люди «природной» школы либо их ученики, «реалистичные» политики, которых мы встречаем у Фукидида.
В таком случае Еврипид, если я его правильно понимаю, отражает не только Просвещение, но и реакцию на него: так или иначе, он выступал против некоторых представителей рационалистической психологии одних и привлекательного имморализма других. Относительно силы общественной реакции на обе эти альтернативы имеются, конечно, и другие свидетельства. Публика, которая смотрела «Облака», предвкушала удовольствие от поджога «мыслильни», и ее мало заботило, сгорел бы там Сократ или нет. Однако сатирики — плохие свидетели, и вполне допустимо предположить, что «Облака» являются лишь дружеской шуткой Аристофана.[699] Более достоверные наблюдения можно вывести из других, не столь известных источников. Один фрагмент из Лисия[700] знакомит нас с неким пиршественным клубом. Этот клуб имел любопытное и шокирующее название: члены его именовали себя какодаймонистаи, пародируя название агатодаймонистаи, которое принимали иногда респектабельные общественные клубы. Лидделл и Скотт переводят их самоназвание как «дьяволопоклонники»; и действительно, таково буквальное значение слова; но Лисий, несомненно, прав, говоря, что они выбрали данный титул для того, чтобы «посмеяться над богами и афинскими обычаями». Далее он сообщает, что эти люди устраивали свои трапезы по несчастным дням; это предполагает, что целью общества была демонстрация своего презрения к суевериям через умышленные насмешки над богами, намеренное совершение как можно большего числа действий, традиционно считающихся неправильными, включая принятие несчастливого имени. Выглядит все это на первый взгляд вполне безвредно. Но, согласно Лисию, богам это пришлось не по нраву: большинство членов клуба умерло молодыми, а единственный, кто остался в живых — поэт Кинесий,[701] — приобрел столь тяжелую хроническую болезнь, что она оказалась мучительнее смерти. Этот немаловажный рассказ, мне кажется, достаточно хорошо иллюстрирует две вещи. Во-первых, он выражает желание свободы, а именно свободы от бессмысленных правил и иррациональных переживаний виновности, желание, которое принесли с собой софисты и которое сделало их учение столь привлекательным для развитой, интеллигентной молодежи. Во-вторых, он показывает, насколько сильной была реакция против такого рационализма в сердцах средних граждан: ибо Лисий наверняка опирается на громкий скандал в клубе для того, чтобы дискредитировать показания Кинесия в судебном процессе.
Но самое впечатляющее свидетельство реакции на Просвещение можно усмотреть в настойчивых преследованиях интеллектуалов по религиозным мотивам, что имело место в Афинах в последней трети V в. Около 432 г. до н. э.[702] или годом-двумя позже неверие в сверхъестественное,[703] а также астрономия[704] стали восприниматься как святотатство, подлежащее судебному разбирательству. Следующее тридцатилетие было свидетелем судебных процессов против ересей, что уникально для истории Афин. В числе жертв оказалось большинство лидеров прогрессивной афинской мысли — Анаксагор,[705] Диагор, Сократ, почти наверняка и Протагор[706] и, возможно, Еврипид.[707] Во всех этих случаях, кроме последнего, обвинения увенчались успехом: Анаксагор был изгнан; Диагору (а также, видимо, Протагору) пришлось спасаться бегством; Сократ, который мог бы сделать то же самое или хотя бы попросить вместо казни изгнание, предпочел остаться и выпить яд. Все это были известные личности. Сколько же могло пострадать за свои взгляды менее именитых людей, нам неизвестно.[708] Но и имеющихся сведений более чем достаточно для доказательства того, что великое время греческого Просвещения было, как и в наше время, эпохой судебных гонений, когда происходило изгнание ученых, преследование инакомыслия и даже (если верить преданию о Протагоре)[709] сжигание книг.
Растерянность и недоумение профессоров XIX в., конечно, не способствуют нашему постижению подобного способа действий. Он ставил их в тупик еще больше оттого, что гонения происходили именно в Афинах, «школе Эллады», «обители философии», и, насколько позволяют наши данные, нигде больше.[710] Отсюда и тенденция сомневаться в источниках, где только возможно; а там, где это не было возможно, считать, что подлинным мотивом, лежавшим в основе гонений, являлся политический. До определенной степени это было, конечно, правильно, по крайней мере в некоторых случаях: обвинители Анаксагора, как показывает Плутарх, метили в его покровителя Перикла; да и Сократ вполне мог избежать осуждения, если бы не был связан с личностями вроде Крития и Алкивиада. Но объяснив все это, мы все еще нуждаемся в том, чтобы показать, почему к этому периоду обвинение в нерелигиозности столь часто выбиралось как самое надежное средство для подавления нежелательного мнения или для дискредитации политического соперника. Мы склонны признать существование в народных массах религиозного фанатизма, на котором политики могли играть в своих собственных целях. И увеличение этого фанатизма наверняка стало основной причиной преследований.
Нильссон считал,[711] что гонения инспирировались профессиональными прорицателями, которые видели в успехах рационализма угрозу своему престижу, а то и своим доходам. Это вполне может быть правдой. Автором указа, который стимулировал серию преследований, был прорицатель-профессионал Диопет. Анаксагор вскрыл истинный характер так называемых «знамений», что, безусловно, могло вызвать недовольство;[712] что касается Сократа, то к его личному «оракулу»,[713] вполне вероятно, могли просто испытывать зависть.[714] Влияние прорицателей, впрочем, имело свои пределы. Если судить по постоянным насмешкам в их адрес со стороны Аристофана, их не слишком жаловали либо им не верили всецело (за исключением кризисных моментов):[715] как и политики, они могли играть на народных чувствах, но сами едва ли были способны породить эти чувства.
Вероятно, более важным было влияние военной истерии. Если согласиться, что войны отбрасывают свои тени задолго до того, как они разражаются и производят в обществе полнейший психологический хаос, то эпоха преследований очень неплохо согласуется с самой длинной и самой катастрофичной войной в истории Греции. Совпадение это едва ли случайно. Давно было замечено, что «во времена, опасные для общества, общая тенденция к единомыслию резко возрастает: люди сбиваются в плотную массу и становятся еще более нетерпимы, чем раньше, к проявлению "странностей" во взглядах».[716] Мы видим, что это наблюдение подтвердилось в двух мировых войнах, и можно предположить, что и в эпоху античности было не иначе. Античность действительно имела основания для того, чтобы настаивать на религиозном единомыслии в военное время, когда очень сильна роль бессознательного. Оскорбить богов, сомневаясь в их существовании или называя солнце камнем, было рискованно и в мирное время; а в период войн это являлось практически государственной изменой, пособничеством врагу. Ибо религия обязывает к коллективной ответственности. Боги не удовлетворяются наказанием одного святотатца: разве не говорил Гесиод, что целые города часто страдали из-за одного преступника?[717] То, что подобные идеи были все еще живы в умах афинского народа, явствует, например, из невероятного истерического шума, поднятого фактом уродования герм.[718]
Таким образом, суеверный ужас, основанный на солидаристских настроениях города-государства, по моему мнению, может частично объяснить феномен религиозных гонений. Конечно, хочется верить, что это полное объяснение. Но было бы нечестным не признать, что новый рационализм нес с собой и реальные, и воображаемые опасности для социального порядка. Отвергнув конгломерат традиций, многие отвергли вместе с ним религиозные ограничения, державшие человеческий эгоизм в узде. К людям высоких нравственных принципов — Протагору или Демокриту — это не относилось: их сознание было достаточно зрелым, чтобы выстоять без подпорок. Иначе дело обстояло с большинством их учеников. Для них освобождение индивида означало безграничную свободу самоутверждения; оно означало права без обязанностей, исключая обязанность самоутверждаться. «То, что их отцы называли владением собой, они назвали оправданием малодушия».[719] Фукидид приписывал подобные взгляды военной эпохе; несомненно, это являлось непосредственной причиной; Виламовиц правильно отметил, что зачинателям резни в Коркире не пришлось учиться переоценке ценностей у Гиппия. Новый рационализм не заставлял людей вести себя подобно зверям, люди и без него всегда были способны на это. Но он учил их искать причину совершавшихся дикостей только в самих себе, и это в то время, когда внешние соблазны брутального поведения были особенно сильны. Как заметил один автор в отношении к нашему просвещенному веку, редко когда столь много детей выплескивалось вместе с водой из столь немногочисленных купелей.[720] Здесь залегает ближайшая опасность, которая всегда обнаруживает себя, когда конгломерат традиций находится в процессе распада. Говоря словами профессора Мюррея, «антропология старается показать, что эти конгломераты практически не имеют возможности быть истинными или даже просто разумными; но, с другой стороны, ни одно общество не может существовать без них или же подвергнуть их коренному изменению без ущерба для себя».[721] Некоторый смутный намек на последнюю истину можно найти в умонастроениях тех, кто обвинил Сократа в развращении юношей. Страхи их были не беспочвенны; но, как и все пугливые люди, они использовали незаконное оружие и привели к гибели невинного человека.
Просвещение влияло на социальный механизм и иначе, более длительным образом. Слова Якоба Буркхардта, сказавшего о религии XIX столетия, что она была «рационализмом для немногих и магией для большинства», в целом могут быть перенесены и на греческую религию конца V в. и далее. Благодаря Просвещению и отсутствию всеобщего образования расхождение верований немногих и верований большинства стало непреодолимым — не к пользе и для тех и для других. Платон, по-видимому, — последний греческий интеллектуал, который не отделялся от общества; но его последователи, за очень небольшим исключением, производят впечатление, что они существуют скорее вне общества, чем внутри него. Они в первую очередь «мудрецы» и только потом — граждане (если вообще считают себя таковыми); соответственно, и их контакт с современными социальными реалиями во многом случаен. Это хорошо изученное явление. Куда реже ученые отмечали регрессивный характер народной религии в эпоху Просвещения.
Первые знаки подобного регресса появились во время Пелопоннесской войны, и они были, несомненно, хотя бы частично вызваны этой войной. Находясь во власти стрессов, стимулированных войной, люди начали отходить от слишком высоких для них культурных образцов Периклова века; в механизме появились сбои, и сквозь образовавшиеся трещины то там, то тут стали проникать элементы примитивизма. Когда же эти элементы вошли в силу, уже не оказалось никакого эффективного контроля за их ростом. Так как интеллектуалы все дальше уходили в свой собственный мир, народное сознание становилось все более беззащитным, хотя нужно сказать, что в течение еще нескольких поколений комические поэты продолжали делать все возможное, чтобы этого не произошло. Ослабление тисков гражданской религии располагало людей к избранию для себя собственных богов, вместо того чтобы просто поклоняться богам традиционным, как делали их отцы; оставшись без руководства, все больше простых людей с облегчением возвращалось к примитивным удовольствиям и утехам.
Хотелось бы закончить эту главу несколькими примерами вышеназванной регрессии. Один из них нам уже приходилось отмечать[722] — это рост потребности в магическом целительстве, который в течение одного-двух поколений трансформировал Асклепия из незаметного героя в могучего бога и сделал его храм в Эпидавре не менее известным местом паломничества, чем нынешний Лурд. Резонно предположить, что его слава в Афинах (как, возможно, и в других местах) расцвела после Великой чумы 430 г.[723] Это наказание божье, согласно Фукидиду, убеждало некоторых, что религия была бесполезна,[724] поскольку не давала защиты от бацилл; но других оно, бесспорно, настраивало на поиски новой, более эффективной магии. Все происходит в свое время: уже в 420 г., в период мирной передышки, Асклепий был торжественно введен в Афины, сопровождаемый, или, лучше сказать, представленный своей священной змеей.[725] Пока ему не выстроили постоянное жилище, он пользовался гостеприимством не кого-нибудь, а самого поэта Софокла — этот факт имеет определенное отношение к пониманию поэзии Софокла. Как заметил Виламовиц,[726] не стоит думать, будто Эсхил либо Еврипид угощали священную змею. Но ничто не иллюстрирует поляризацию греческого сознания в этот период лучше, чем тот факт, что поколение, которое оказывало такое почтение к этой лечебной рептилии, было также свидетелем и выхода в свет некоторых сугубо научных трактатов Гиппократа.[727]
Второй образчик регрессивных тенденций можно увидеть в моде на иноземные культы, преимущественно весьма эмоционального, «оргиастического» толка, развивавшиеся с завидной быстротой во время Пелопоннесской войны.[728] Но еще до того, как она разразилась, в Афинах начали поклоняться фригийской «Горной матери» Кибеле, а также ее фракийскому двойнику, Бендиде; появились мистерии фракийско-фригийского Сабазия — своеобразного дикого, неэллинизированного Диониса; а также ритуалы азиатских «умирающих» богов, Аттиса и Адониса. Я уже анализировал это примечательное явление в другом месте,[729] поэтому здесь не буду больше обращаться к этой теме.
Спустя одно-два поколения регрессия принимает еще более грубые формы. О том, что в IV в. в Афинах была чрезвычайно распространена «магия для многих», причем в буквальном смысле слова, мы можем судить из достоверных источников, описывающих «defixiones». Практика defixio[730] или κατάδεσις — это разновидность магического нападения. Верили, что можно ограничить волю индивида или причинить ему смерть, проклиная его через призывание инфернальных сил; проклятие записывалось на какой-нибудь прочный материал — свинцовую табличку, глиняный черепок — и помещалось в выбранную могилу. Сотни таких «defixiones» находили во время раскопок во многих частях средиземноморского бассейна,[731] и подобные практики наблюдаются изредка и сегодня как в Греции,[732] так и в других частях Европы.[733] Но примечательно, во-первых, что самые старые их образцы обнаружены именно в Греции, большей частью в Аттике; во-вторых, в то время как очень немногие предметы могут быть с несомненностью отнесены к V в., в IV столетии они неожиданно становятся весьма многочисленными.[734] В число тех, кто подвергался проклятию, входили такие широко известные деятели, как Фокион и Демосфен;[735] это предполагает, что подобная практика не была направлена только против рабов или чужеземцев. В самом деле, даже Платону было естественно считать, что эти действия стоят затраченного труда, хотя в то же время он полагал, что необходимо издавать против них законы,[736] равно как и против родственного им способа магического нападения — повреждения или уничтожения воскового изображения врага.[737] Платон отмечает, что люди действительно боялись этой магической агрессии, и советовал применять против нее законодательные меры (а в случае профессиональных колдунов — смертную казнь), но не потому, что сам верил в черную магию — относительно которой он высказывал вполне здравые суждения,[738] — но потому, что черная магия, с его точки зрения, выражает злую волю и имеет злотворные психологические последствия. Это не было личным беспокойством старого моралиста. Судя по одному пассажу из Демосфеновой речи «Против Аристогитона»,[739] можно сделать вывод, что в IV в. делались реальные попытки подавить магию жесткими законодательными санкциями. Если собрать в одно целое все эти источники IV в., контрастирующие с почти полным молчанием о магии в источниках V в.,[740] то можно сделать вывод, что одним из последствий Просвещения было возрождение магии, причем уже в следующем поколении.[741] Это не так парадоксально, как кажется на первый взгляд: разве не возникла схожая реакция на другой конгломерат традиций, уже в наше время?
Все признаки, которые я упомянул — воскресение обычая инкубации, вкус к оргиастической религии, широкое распространение магического нападения, — могут быть рассмотрены как регрессивные. В некотором смысле они являлись возвратом к прошлому; но вместе с тем они были также и знамением приближавшихся событий. Как мы увидим в последней главе, эти признаки указывают на характерные особенности греко-римского мира. Но прежде чем подойти к этому вопросу, необходимо рассмотреть попытку Платона уравновесить создавшееся положение.
Глава седьмая. Платон, понятие иррациональной души и конгломерат традиций
Бессмысленно возвращаться к традиционной вере после того, как она оставлена, ибо главное условие для носителя подобной веры состоит в том, что он не должен знать о своей принадлежности традиции.
Ал-ГазалиВпредыдущей главе описывался распад системы традиционных верований, которая действовала в V столетии, и был сделан ряд предварительных выводов. Здесь же я рассмотрю отношение Платона к создавшемуся положению. Этот вопрос важен не только по причине особого места, которое Платон занимает в истории европейской мысли, но, во-первых, потому, что Платон более отчетливо, чем кто бы то ни было, понимал присущие распаду конгломерата опасности, и, во-вторых, потому, что в своем последнем завещании миру он выдвинул предложения, представляющие большой интерес и касающиеся стабилизации положения средствами контрреформации. Я хорошо понимаю, что для того, чтобы исследовать этот вопрос во всей полноте, пришлось бы анализировать социальную философию Платона; но чтобы удержать обсуждение в допустимых пределах, предлагаю сконцентрироваться на прояснении двух вопросов:
Во-первых, какое значение сам Платон придавал нерациональным факторам человеческого поведения и как он их истолковывал?
Во-вторых, какие уступки он собирался делать иррационализму популярных верований ради стабилизации конгломерата?
Необходимо отчетливо различать, насколько это возможно, оба эти вопроса, хотя, как мы увидим, не всегда легко решить, где Платон выражает собственные взгляды, а где он просто использует устоявшийся язык. При ответе на первый вопрос мне придется повторить одно или два положения, о которых я уже сообщал в печати,[742] но добавлю к этому некоторые соображения, ранее не рассматривавшиеся.
Сделаю одно предположение. На мой взгляд, философия Платона не вызрела целиком и полностью в его собственной голове или в голове Сократа; я воспринимаю ее как органическую вещь, которая растет и видоизменяется отчасти в силу внутреннего закона роста, отчасти под влиянием внешних стимулов. И здесь уместно вспомнить, что и жизнь Платона, и его взгляды развиваются в промежутке между смертью Перикла и началом македонской гегемонии.[743] Хотя вполне вероятно, что все его произведения принадлежат к IV столетию, сама его личность и мировоззрение сформировались в V столетии, и на ранних диалогах Платона все еще лежат отблески исчезнувшего социального мира. По-моему, лучшим примером является «Протагор», действие которого разворачивается в «золотые годы», перед Великой войной; по своим оптимистическим настроениям, мягкой доброжелательности, откровенному утилитаризму, по своему Сократу, который все еще вполне реален, этот диалог кажется достаточно верным отображением прошлого.[744]
Таким образом, отправной момент для умственного развития Платона был исторически обусловлен. Будучи племянником Хармида и родственником Крития, а также одним из юных учеников Сократа, он был в целом сыном Просвещения. Он вырос в социальной среде, которая не только гордилась тем, что решала все вопросы на рациональной основе, но и имела обыкновение интерпретировать все человеческие действия в терминах разумного эгоизма, веря, что «добродетель» (арете) состоит в основном в налаживании рационального образа жизни. Эта гордость, это обыкновение и эта вера не оставляли Платона до самого конца; структура его мысли никогда не переставала быть рационалистической. Однако элементы этой структуры временами причудливым образом изменялись. Для этого были веские причины. Переход от пятого столетия к четвертому знаменовался (как, собственно, и в наше время) событиями, которые могли бы привести любого рационалиста к переоценке своих принципов. Куда мог завести общество моральный и материальный крах установки на разумный эгоизм, проявилось в судьбе афинской гегемонии; а куда он мог завести индивида — в судьбе Крития, Хармида и их друзей-тиранов. И с другой стороны, странный суд над Сократом, мудрейшим человеком в Греции, в кризиснейший момент его жизни, как бы нарочно и без особого повода насмехается над этим принципом, во всяком случае, в той форме, в какой он понимался тогда.
Я думаю, именно эти события побудили Платона если не расстаться со своим рационализмом, то трансформировать его путем привлечения метафизического измерения. Платону понадобилось немало лет, возможно, десятилетие, чтобы усвоить новые проблемы. В те годы он, несомненно, размышлял над некоторыми важными изречениями Сократа, например, что «псюхе человека несет в себе нечто божественное» или что «главная цель человека состоит в поиске своего блага».[745] Но я согласен с мнением большинства ученых, что побудительной причиной расширения Платоном этих положений в новую, трансцендентальную психологию был личный его контакт с пифагорейцами Западной Греции, которых он посетил в 390 г. Если я прав в своем предположении относительно исторических предшественников пифагорейского движения, то в лице Платона, по сути, скрещиваются традиции греческого рационализма и магико-религиозных верований. Ранние истоки последних принадлежат северной шаманской культуре; но в той форме, в какой мы встречаем их у Платона, эти верования подверглись двойному процессу — интерпретации и наложения. Хорошо известный эпизод из «Горгия» показывает на конкретном примере, как некоторые философы — такие, например, как друг Платона Архит — истолковывали старые мифологические фантазии — скажем, о судьбе души — в аллегорической форме, что придавало им нравственное значение.[746] Эти философы расчищали почву для Платона; и уместно предположить, что именно он творчески переработал подобные религиозные идеи, переведя их с уровня откровения на уровень рационального аргумента.
Решающий шаг был им сделан тогда, когда он отождествил автономное «сокровенное» «я», которое является носителем чувства вины и которое в то же время потенциально божественно, с рациональной сократовской псюхе, достоинством которой считается обладание знанием. Этот шаг повлек за собой полное перетолкование старой шаманской культуры. Тем не менее образ этой культуры сохранил свою жизненную силу, и главные его особенности можно узнать у Платона. Без изменения в его систему входит феномен реинкарнации. Транс шамана, с его умением отъединять сокровенное «я» от тела, стала той практикой ментальной отрешенности и концентрации, которая очищает рациональную душу — практикой, которую Платон фактически наделяет авторитетом традиционного логоса.[747] Тайное знание, обретаемое в трансе, стало созерцанием метафизической истины; «воспоминание» прошлых земных жизней[748] превратилось в «припоминание» бестелесных форм (что создало основу для новой эпистемологии); в то же время на мифологическом уровне «долгий сон» и «путешествие в подземный мир» формируют модель для переживаний Эра, сына Армения.[749] Наконец, мы, вероятно, лучше поймем много критиковавшихся Платоновых «стражей», если воспримем их как новую, рационализированную разновидность шаманов, которые, подобно их первобытным предшественникам, готовятся к своему высокому служению в ходе специальной тренировки, полностью трансформируя свое сознание; подобно тем, они должны пройти посвящение, почти полностью отсекающее их от нормальных человеческих условий; подобно тем, должны обновлять свое общение с глубинными источниками мудрости, периодически уходя в «уединение»; и, подобно тем, они будут вознаграждены после смерти особым статусом в духовном мире.[750] Возможно, приближение к этому глубоко специфическому типу человека существовало уже в пифагорейских общинах; но Платон желал провести эксперимент намного дальше, подведя под него серьезную научную основу и используя его как инструмент для будущей контрреформации.
Фантастическое описание новой разновидности правящего класса часто приводилось как доказательство того, что оценка Платоном человеческой природы была весьма нереалистичной. Но шаманизм не имеет отношения к обычной человеческой природе; он стремится использовать возможности исключительного типа личности. И в «Государстве» тоже доминирует подобная направленность. Платон откровенно признавал, что только ничтожная часть людей обладает врожденными способностями к тому, чтобы со временем стать совершенными стражами.[751] Для всех же остальных, т. е. для подавляющего большинства людей, он (по-видимому, на всех этапах развития своей мысли) допускал, что поскольку они не подвергаются соблазнам власти, наилучшим практическим руководством к хорошей жизни будет разумный гедонизм.[752]
В диалогах среднего периода, будучи в то время озабочен особыми людьми и совершенными способностями, он проявляет слабый интерес к психологии обычного человека. В более поздних произведениях, уже отказавшись от идеи царей-философов как от неисполнимой мечты и не считая власть закона самодовлеющей,[753] он уже больше внимания уделял мотивам, управляющим поведением простого человека, полагая, что даже философ не может избежать их влияния. На вопрос, согласился бы кто-нибудь из нас с жизнью, в которой он обладал бы мудростью, пониманием, знанием, полной памятью об исторических событиях, но при этом не испытывал бы ни наслаждения, ни боли, большой или малой, ответом в «Филебе» было выразительное «нет»: мы привязаны к жизни чувств, являющейся частью нашей человечности, и не можем отказаться от нее даже для того, чтобы стать «наблюдателями всего времени и всего существования»,[754] подобно царям-философам. В «Законах» говорится, что единственной практической основой общественной морали является вера в то, что добродетель вознаграждается, «ибо никто, — говорит Платон, — не согласился бы, если на то была его воля, с теми способами деятельности, которые приносят ему больше горя, чем радости».[755] С этими взглядами мы, похоже, возвращаемся в мир «Протагора» и Джереми Бентама. Положение законодателя, впрочем, не тождественно положению простого человека. Последний хочет быть счастливым; но Платон, который теоретически издает для него законы, хочет ему блага. Платон поэтому старается убедить его, что благо и счастье совпадают. В эту истину Платон, кажется, верил; но даже если и не верил, ему все равно пришлось бы считать, что это — истина, поскольку она есть «самая полезная ложь, которую когда-либо высказывали».[756] Изменились не собственные взгляды Платона; изменилась только его оценка человеческих способностей. Во всяком случае, в «Законах» добродетель простого человека зависит не от обладания знанием и даже не истинным мнением как таковым, но скорее от процесса социального обусловливания или адаптирования,[757] с помощью которых его побуждают признать некоторые «полезные» верования и действовать на их основе. В конце концов, говорит Платон, это не столь уж трудно: люди, которые верят в Кадма или драконовы зубы, поверят во что угодно.[758] Далекий от предположения, которое выдвигал его наставник — «если жизнь не познана, то это для человеческого существа и не жизнь»,[759] — Платон теперь, по-видимому, считает, что большинство человеческих существ могут сохранить вполне сносное нравственное здоровье, если тщательно выберут диету «заклинаний» (έπχρδαί)[760] — т. е., в данном случае, изучение мифов и укрепление этических постулатов. В принципе он принимает дихотомию Буркхардта: рационализм для немногих, магия для большинства. Мы убедились, впрочем, что его рационализм оживлен идеями, которые некогда были магическими; а с другой стороны, позднее мы увидим, как его «заклинания» начали служить рациональным целям.
Были и другие пути, которые выводили Платона в его признании значения аффективных элементов за пределы рационализма V в. Это с очевидностью явствует из эволюции его концепции зла. По правде говоря, Платон до конца своей жизни[761] продолжал повторять сократовское утверждение, что «никто не совершит ошибки, если сможет ее избежать»; однако он уже не был согласен с тем, что Сократ рассматривал нравственную ошибку как разновидность зрительной ошибки в перспективе.[762] Сформировавшийся у Платона магико-религиозный взгляд на псюхе воспринимал ее в контексте пуританского дуализма, который приписывал все грехи и страдания псюхе загрязнению, возникающему из ее контакта со смертным телом. В «Федоне» он изложил эту доктрину в философских терминах и придал ей формулировку, которая стала классической: только тогда, когда после смерти или путем самодисциплины рациональное эго очищается от «глупости тела»,[763] оно может восстановить свою истинную природу, божественнную и безгрешную; добродетельная жизнь — вот практика этого очищения, μελέτη θανάτου. Как в античности, так и в наши дни рядовой читатель был склонен рассматривать это мнение как последнее слово Платона о материи. Но Платон являлся слишком проницательным и, в сущности, слишком реалистичным мыслителем, чтобы надолго удовлетвориться теорией, изложенной в «Федоне». Когда он повернулся от сокровенного «я» к эмпирическому человеку, то оказался вынужден принять иррациональный фактор в пределах самого сознания и, следовательно, понимать моральное зло как отражение психологического конфликта (στάσις).[764]
Это обнаруживается уже в «Государстве»: тот же отрывок из Гомера, который в «Федоне» иллюстрировал диалог души со «страстями тела», становится в «Государстве» внутренним диалогом между двумя «частями» души;[765] страсть больше не воспринимается как посторонняя инфекция, но считается необходимой частью сознательной жизни — т. е. именно так, как современные люди знают ее — и даже как источник энергии, подобной фрейдовской либидо, которая может быть «канализована» либо в сенсорную, либо в интеллектуальную активность.[766] Теория внутреннего конфликта, ярко проиллюстрированная в «Государстве» в рассказе о Леонтии,[767] была отчетливо сформулирована в «Софисте»,[768] где она определялась как неправильная установка души, которая вызвана «какой-то травмой»[769] и которая является разновидностью душевного расстройства; с другой стороны, говорится, что она — причина трусости, невоздержанности, несправедливости и, по-видимому, нравственного зла в целом, отличающегося от невежества или интеллектуальных ошибок. Это нечто иное, чем рационализм ранних диалогов и пуританизма «Федона», и ведет гораздо дальше их; я считаю эту теорию личным вкладом Платона.[770]
Тем не менее Платон не оставил концепцию трансцендентного рационального «я», совершенное единство которого мыслится им как гарантия его бессмертия. В «Тимее», где он пытается переформулировать свое прежнее отношение к человеческой судьбе в терминах, часто встречающихся в его поздней психологии и космологии, мы вновь сталкиваемся с единой душой «Федона», и примечательно, что Платон использует для нее старый религиозный термин, который Эмпедокл употреблял для обозначения сокровенного «я» — он называет его даймоном.[771] В «Тимее», однако, имеется другой вид души — «смертное начало, где гнездятся ужасные и непреодолимые страсти».[772] Означает ли это, что, согласно Платону, человеческая личность расщеплена надвое? Конечно, неясно, что объединяет или может объединить вечного даймона, пребывающего в голове человека, с набором иррациональных импульсов, гнездящихся в груди или «скованным, подобно неукротимым зверям», в животе. Это напоминает нам наивное мнение одного перса у Ксенофонта, для которого было несомненно, что он имеет две души: ибо, говорил он, одна и та же душа не может быть одновременно хорошей и плохой, не может сразу желать и благородных деяний и низких, исполнять и не исполнять конкретное действие в конкретный момент.[773]
Но платоновское разграничение в эмпирическом человеке даймона и зверя — не столь уж непоследовательное, как может показаться современному читателю. Оно коррелирует с похожим разграничением Платоном человеческой природы: пропасть между бессмертной душой и смертной соответствует пропасти между человеком, каким он может быть, и человеком, как он есть. Взгляд Платона на человеческую жизнь как на проживаемую повседневность наиболее отчетливо проявляется в «Законах». Здесь он дважды заявляет, что человек — марионетка. Сотворили ли боги человека для забавы или из более серьезных побуждений, нельзя сказать наверняка; все, что мы знаем, это то, что живое существо находится под неусыпным контролем, и любые его надежды и страхи, удовольствия и страдания дергают его взад и вперед, кружа в каком-то вихре.[774] В этом же тексте афинянин с сожалением говорит, что приходится серьезно относиться к делам человеческим, и замечает, что человек — игрушка в божьих руках, «и это стало его наилучшим назначением»: мужчины и женщины «пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры... Ведь люди в большей части куклы — и лишь немного причастны истине». «Ты полностью принижаешь наш человеческий род!» — возмущенно говорит спартанец. И афинянин оправдывается: «Я взирал на бога и под этим впечатлением сказал сейчас свои слова. Если тебе угодно, будем считать наш род не презренным, но достойным серьезного попечения».[775]
Платон улавливает в подобном способе мысли религиозный характер, и мы часто встречаемся с ним у более поздних мыслителей, от Марка Аврелия до Т. С. Элиота; последний высказался почти в таком же роде: «Человеческая природа способна вынести лишь малую часть реальности». Это согласуется и со многими другими идеями «Законов» — например, что люди, словно стадо овец, не способны управлять собой;[776] что бог, а не человек, есть мера вещей;[777] что человек есть собственность бога (κτήμα)[778] и что если он желает быть счастливым, ему следует быть ταπεινός, «смиренным» перед богом; это слово почти все языческие авторы употребляют с презрительным оттенком.[779] Следует ли нам расценить все это как старческое брюзжание, как угрюмый пессимизм раздражительного и уставшего от жизни человека? Возможно, здесь есть доля истины, ибо подобные взгляды резко контрастируют с яркой картиной божественной природы души и ее высокого предназначения, которую Платон изобразил в диалогах среднего периода творчества и от которой, конечно, никогда не отрекался впоследствии. Но мы можем вспомнить философа из «Государства», для которого, как для аристотелевского «великого духом», человеческая жизнь не видится как что-то значительное (μέγα τι);[780] можем вспомнить, что в «Меноне» людская масса уподоблена теням, бесшумно движущимся в Аиде, а концепция человеческих существ как имущества бога появляется уже в «Федоне».[781] Вспоминается и еще одно место из «Федона», где Платон с нескрываемым удовлетворением предсказывает будущее своих сограждан: в следующем воплощении некоторые из них станут ослами, другие волками; что касается μέτριοι, респектабельной элиты общества, то они могут рассчитывать на превращение в пчел или муравьев.[782] Несомненно, отчасти это шутка; но именно подобная шутка всплывет много веков спустя у Джонатана Свифта. Она подразумевает, что каждый человек, за исключением философа, находится на грани того, чтобы стать животным; впрочем, это трудно совместить, как видели уже древние платоники,[783] с тем взглядом, что человеческая душа по существу своему рациональна.
Памятуя о подобных примерах, следует, мне кажется, признать две линии или тенденции в платоновском понимания статуса человека. Во-первых, это вера в человеческий разум, которую он унаследовал от V в. и для которой нашел религиозное обоснование, уравняв разум с внутренним «я» шаманской традиции. Во-вторых, это горькое признание человеческой несостоятельности, пришедшее к нему под влиянием того, что происходило в Афинах и Сиракузах. Оно тоже выражалось религиозным языком — как отрицание ценности любых вещей этого мира по сравнению с «вещами запредельными». Психолог сказал бы, что отношение между этими двумя тенденциями не было отношением простой противоположности, но что первое стало компенсацией — или сверхкомпенсацией — за другое: чем меньше Платон интересовался реальным человечеством, тем больше возвышал он душу. Напряжение между двумя тенденциями вылилось в свое время в мечту о новом правлении святых, элите чистых людей, которые соединяли бы в своем лице не очень схожие друг с другом особенности (если воспользоваться терминологией г-на Кестлера) йогина и комиссара и тем самым не только спаслись бы сами, но и спасли все общество. Когда же эта иллюзия растаяла, подспудное разочарование Платона все больше и больше выступало на поверхность, выражаясь в религиозных терминах, пока не нашло свое логичное завершение в идее создания совершенно «закрытого» общества,[784] которым правит не просвещенный разум, но (под руководством бога) традиция или религиозный закон. «Йогин», с его верой в возможность и необходимость интеллектуального преображения, не полностью исчез и в этом случае, но он, конечно, отступает на второй план перед «комиссаром», занятым проблемой укрепления социальных устоев. Исходя из этой интерпретации, пессимизм «Законов» не выглядит старческим помрачением ума: это плод личного платоновского переживания жизни, которое, в свою очередь, несло в себе семена более поздней мысли.[785]
Именно в свете подобной оценки человеческой природы необходимо рассматривать позднейшие платоновские идеи, касающиеся стабилизации конгломерата. Но прежде чем обратиться к ним, я должен сказать кое-что о его взглядах на другой аспект иррациональной души, который занимает нас в этой книге, а именно на значение, традиционно приписываемое этому аспекту как источнику или каналу интуитивного проникновения. В этом вопросе, мне кажется, Платон до конца своих дней оставался верен принципам своего наставника. Знание, как отличающееся от истинного мнения, осталось для него делом интеллекта, способного подвести под иррациональные поверья рациональное основание. Интуициям и провидца, и поэта он неизменно отказывал в праве называться знанием — не из-за того, что считал их совершенно беспочвенными, но потому, что их основы невозможно доказать.[786] Поэтому он полагал верным, когда, например, при решении военных вопросов последнее слово давалось полководцу, а не провидцу, сопровождавшему его в походе; кроме того, только софросюне, рациональное суждение, сумело бы отличить истинного провидца от шарлатана.[787] В еще большей степени должны быть подвергнуты рациональной и нравственной цензуре опытного законодателя плоды поэтической интуиции. Все это находилось в согласии с сократовским рационализмом.[788] Впрочем, как мы уже отмечали,[789] Сократ достаточно серьезно относился к иррациональной интуиции, выражалась ли последняя в снах, внутреннем голосе «даймона» или в прорицаниях Пифии. И Платон тоже относился к ней всерьез. О псевдонаучных занятиях типа гадания по птичьему полету или по печени он отзывался с нескрываемым презрением;[790] но к «неистовству, ниспосланному как божественный дар», которое возвышает пророка или поэта, очищает человека в ритуале корибантов — к нему, как мы недавно видели, он относился так, как если бы действительно верил во вторжение сверхъестественного в жизнь человека.
Насколько далеко намеревался зайти Платон в восприятии данного способа отношения au pied de la lettre?[791] В последние годы вопрос этот поднимался довольно часто, и на него давались различные ответы;[792] однако единомыслие достигнуто не было, да и вряд ли это произойдет. Лично я высказался бы следующим образом:
а) Платон считал реальной и значительной аналогию между медиумизмом, поэтическим творчеством и некоторыми патологическими состояниями религиозного сознания; все три имеют видимость «данности»[793] ab extra;[794]
б) Традиционные религиозные толкования этих феноменов, как и других феноменов конгломерата, он принимал условно — не потому, что считал их адекватными, но потому, что не было более подходящего языка для описания этой таинственной «данности»;[795]
в) Воспринимая (пусть и с иронией) поэта, пророка и корибанта как своебразные каналы[796] божьей или демонической[797] воли, Платон тем не менее ставил их деятельность намного ниже интеллектуальной,[798] утверждая, что они должны находиться под рациональным контролем и критикой, поскольку разум — не пассивная игра скрытых сил, но активное проявление божества в человеке, даймон по самой своей сути. Думается, живи Платон в наше время, он бы глубоко интересовался новейшей глубинной психологией, хотя и с недоверием относился бы к ее тенденции свести человеческий рассудок до инструмента рационализации бессознательных импульсов.
Многое из вышесказанного относится к четвертому типу «божественного неистовства», описанного Платоном, — неистовству эротическому. Это тоже некая «данность», то, что случается с человеком помимо его воли или без понимания им происходящего; это следствие деятельности грозного даймона.[799] Здесь тоже — причем в первую очередь[800] — Платон признавал силу божественного милосердия и использовал старый религиозный слог[801] для выражения этого своего признания. Но Эрот имел в контексте платоновской мысли особое значение: это модус существования, который сводит воедино две природы в человеке — божественную и животную.[802] Хотя Эрот коренится в общем для человека и животных[803] физиологическом сексуальном влечении (этот факт, к несчастью, затемняется неправильным современным употреблением понятия «платоническая любовь»), он также усиливает и то динамическое влечение, которое направляет душу на поиски удовлетворения, превосходящего земной опыт. Таким образом, он охватывает всю человеческую личность и создает эмпирический мост между человеком как таковым и человеком, каким он может быть. Платон здесь фактически очень близко подходит к фрейдовским концепциям либидо и сублимации. Но он никогда, по-моему, полностью не соединял эту линию мысли с остальной своей философией; если бы он сделал это, понятие интеллекта как самодостаточной целостности, независимой от тела, могло подвергнуться опасности, и Платон не собирался рисковать этим.[804]
Теперь обратимся к предложениям Платона по реформированию и стабилизации конгломерата традиций.[805] Они разрабатываются в его последней работе, «Законах», и могут быть вкратце суммированы следующим образом.
1. Под религиозную веру подводится логическое основание через доказательство некоторых наиболее важных ее положений;
2. Вере дается юридическое обоснование путем введения этих положений в устойчивый легальный кодекс; на любого человека, проповедующего неверие в них, налагаются соответствующие наказания;
3. Ей дается воспитательное обоснование через придание этим положениям статуса обязательного предмета обучения для всех детей;
4. Наконец, ей дается социальное обоснование путем расширения тесного союза религиозной и гражданской жизни на всех уровнях — как мы выразились бы, союза Церкви и Государства.
Разумеется, большинство этих предложений было выдвинуто просто для того, чтобы усилить и обобщить уже существовавшие в Афинах религиозные практики. Но когда мы воспринимаем их вместе, то видим, что они представляют первую попытку систематически разрешить проблему контроля за религиозной верой. Сама по себе эта проблема не нова: в век господства веры никто не считает нужным доказывать, что боги существуют, никто не изобретает способы поверить в них. Но некоторые из предложенных методов были, в принципе, новыми: в частности, никто до Платона, по-видимому, не осознавал важности раннего религиозного обучения как средства социализации будущего взрослого. Более того, когда мы более пристально взглянем на сами предложения, станет очевидно, что Платон попытался не только стабилизировать, но и реформировать, не только укрепить традиционную структуру, но и, по возможности, отбросить отгнивающее и заменить его на что-то более стойкое.
Основные положения Платона таковы:
а) боги существуют;
б) они озабочены судьбой человечества;
в) их нельзя подкупить.
Аргументы, которые он использует для доказательства этих утверждений, нас не интересуют: они принадлежат к истории теологии. Но стоит отметить те идеи, которые, по его мнению, ответственны за разрушение традиции, а также те, которые он одобрял.
Кто же те боги, существование которых Платон стремился доказать и поклонение которым хотел укрепить? Ответ будет довольно неопределенным. Что касается объектов поклонения, то в одном эпизоде из «Законов» приводится вполне традиционный список: боги Олимпа, городские боги, подземные боги, местные даймоны и герои.[806] Это обычные объекты общественного культа, боги, которые, как он постоянно утверждает в «Законах», «существуют согласно традиционному обычаю».[807] Но об этих ли богах думал Платон, их ли существование стремился доказать? Мы имеем основание усомниться в этом. В «Кратиле» его Сократ говорит, что мы ничего не знаем об этих богах, даже не знаем их настоящих имен, а в «Федре» — что мы воображаем себе бога, не видя его, не сформировав точной идеи о том, на что или на кого он похож.[808] В обоих эпизодах упоминаются традиционные мифологические боги. А подтекст, по-видимому, таков, что культ подобных богов не имеет рационального основания ни на эмпирическом уровне, ни на метафизическом. Степень его обоснованности, с точки зрения Платона, в лучшем случае того же порядка, что и обоснованность интуиции поэта или провидца.
Высшее божество, в которое верил сам Платон, было, по-моему, совершенно особым существом; говоря словами «Тимея», «творца и родителя этой Вселенной трудно отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать».[809] Разумеется, Платон понимал, что образ такого бога невозможно ввести в конгломерат, не исказив его; во всяком случае, он воздерживался от такой попытки. Но был еще один тип богов, которого мог видеть каждый, божественная сущность которого признавалась простым народом[810] и относительно которого философ мог сделать, по мнению Платона, логически выверенные утверждения. Эти «видимые боги» были не чем иным, как небесными телами — или, более точно, божественными умами, посредством которых эти тела одушевлялись и контролировались.[811] Главные новшества платоновского проекта религиозной реформы касались подчеркивания не столько божественного характера солнца, луны и звезд (ибо здесь не было ничего нового), сколько их культа. В «Законах» помимо того, что «звезды — это "небесные боги", а солнце и луна — "великие боги"», Платон настаивает на том, что все люди должны возносить им молитвы и приносить жертвы.[812] Узловой пункт новой государственной церкви — объединенный культ Аполлона и солнечного бога Гелиоса, для которого будет назначен первосвященник и которому будут поклоняться даже высшие политические чины.[813] Этот объединенный культ — вместо обычного культа Зевса — отражает союз старого и нового: Аполлона, означающего традиционализм масс, и Гелиоса, символизирующего новую, «естественную» религию философов;[814] это последняя решительная попытка Платона навести мосты между интеллектуалами и народом и тем самым спасти единство греческой веры и греческой культуры.
Подобное соединение религиозной реформы с неизбежностью компромисса можно проследить и в других основоположениях Платона. Имея дело с традиционной проблемой божьей справедливости, он последовательно отрицает не только старую веру в «завистливых» богов,[815] но и (с некоторыми исключениями для религиозного закона)[816] старую идею о том, что злой человек наказывается в своих потомках. То, что деятель пострадает лично, для Платона является демонстрацией очевидного закона космоса, которому нужно обучать так же, как и постулатам веры. Конкретное же действие закона, впрочем, не является очевидным: оно принадлежит к области «мифа» или «колдовства».[817] Его собственное отношение к этому вопросу проявляется в выразительном пассаже из кн. 10 «Законов»:[818] закон космической справедливости есть закон духовного притяжения; в этой жизни, да и во всей череде жизней, каждая душа естественным образом притягивается к близкому ей обществу, и в этом лежит ее наказание или вознаграждение; Аид же — не конкретное место, но состояние души.[819] И к этому Платон добавляет еще одно предупреждение, которое по своей форме означает переход от классического мировоззрения к эллинистическому: если кто-нибудь требует от жизни личного счастья, пусть он вспомнит, что не космос существует для него, но он существует ради космоса.[820] Все это, конечно, превосходило уровень понимания простого человека, как хорошо было известно Платону; если я правильно его понимаю, он не предлагает сделать подобную мысль частью обязательного официального вероучения.
С другой стороны, третья идея Платона — о том, что богов нельзя подкупить — подразумевала более решительное столкновение с традиционными верованиями и практиками. Это влекло за собой отказ от обычной интерпретации жертвоприношения как выражения благодарности за посылаемые благодеяния, «do ut des»[821] — взгляд, который он задолго до этого осудил в «Евтифроне», по причине того, что в этом случае религия сводится к какому-то торгашеству (εμπορική τις τέχνη).[822] Однако очевидно, что столь большой акцент он ставит на этом пункте — ив «Государстве», и в «Законах» — не просто из теоретических соображений: он критикует некоторые широко распространенные религиозные практики, которые, с его точки зрения, создают угрозу для общественной морали. «Бродячие священники и прорицатели» и поставщики катарсического ритуала, которые осуждаются в часто обсуждавшемся эпизоде из кн. 2 «Государства», а затем и в «Законах»,[823] не являются, по-моему, теми мелкими шарлатанами, которые во все времена охотятся за невежественными и суеверными людьми. Ибо они, как говорится в обоих эпизодах, сбивают с толку целые города;[824] подобных достижений мелкие шарлатаны добиваются редко. Диапазон платоновского критицизма, на мой взгляд, шире, чем желали бы признать некоторые ученые: я думаю, он критикует целую традицию ритуального очищения, прочно находившуюся в руках частных, «нелицензированных» лиц.[825]
Это не значит, что он предлагал вовсе упразднить ритуальное очищение. Для самого Платона единственным эффективным катарсисом была, несомненно, практика умственной отрешенности и концентрации, которая описывается в «Федоне»:[826] опытный философ может очистить свою душу без помощи ритуала. Но простой человек не был способен на это, и вера в ритуальный катарсис слишком глубоко укоренилась в народном сознании, чтобы Платон предложил полностью ликвидировать ее. Он чувствовал, впрочем, необходимость в чем-то похожем на церковь, а также в каноне официальных ритуалов, чтобы предотвратить религию от возможного выхода из-под контроля, когда она способна стать опасной для общественной морали. В области религии, как и в области морали, великим врагом, с которым приходилось сражаться, был индивидуализм; поэтому Платон взирал на Дельфы, чтобы выстроить против него защиту. Нет необходимости думать, будто Платон верил в то, что Пифия буквально испытывала вдохновение. Я лично думаю, что его отношение к Дельфам весьма напоминало отношение современных «политических католиков» к Ватикану: он видел в Дельфах великую консервативную силу, которая могла быть использована в целях стабилизации греческой религиозной традиции и контроля как за расширением материализма, так и за ростом еретических тенденций внутри самой традиции. Отсюда и его подчеркивание, как в «Государстве», так и в «Законах», того момента, что авторитет Дельф должен быть абсолютным во всех религиозных вопросах.[827] Отсюда и выбор Аполлона, который разделяет с Гелиосом высшее положение в иерархии государственных культов: в то время как к Гелиосу почти не применимы рациональные формы почитания, Аполлон высвобождает, в регулируемых и безвредных дозах, многие архаические магические ритуалы, которых эти культы требуют.[828]
«Законы» приводят много примеров этой легализованной магии, причем некоторые из них на редкость архаичны. Например, животное или даже просто неодушевленный объект, который стал причиной смерти человека, должен быть предан суду, осужден и выброшен за пределы государства, поскольку он несет с собой «миасму», осквернение.[829] В этом, как и многих других вопросах, Платон следует афинской религиозной практике и дельфийскому авторитету. Не стоит думать, будто он сам придавал какую-то ценность поступкам подобного рода; он соглашался с ними только потому, что хотел оставить без изменения значение Дельф и удержать суеверия в разумных границах.
Остается сказать несколько слов о тех запретах, которые, с точки зрения Платона, облегчают принятие его реформированной версии традиционных верований. Те, кто нарушают их словом или делом, должны быть призваны к ответу и, если вина будет доказана, они должны получить не меньше пяти лет одиночного заключения в исправительном заведении, где будут подвергнуты интенсивной религиозной пропаганде при полном отсутствии всех других видов человеческого общения; если же эта мера не исцелит их, они должны быть преданы смерти.[830] Платон фактически желает воскресить процессы над еретиками, проходившие в V в. (он дает понять, что тоже осудил бы Анаксагора, если бы тот не изменил своих взглядов);[831] необходимо проверять, не несут ли новые взгляды вреда. Тот факт, что судьба Сократа не научила Платона опасным последствиям, происходящим от подобных мер, может показаться странным.[832] Но он чувствовал, что свобода мысли в религиозных вопросах влечет за собой столь большую угрозу обществу, что против нее зачастую полезно бывает принять соответствующие контрмеры. «Ересь», возможно, не очень удачное слово, используемое в этой связи. Предложенное Платоном теократическое государство, действительно, в некоторых аспектах предвосхищает средневековую теократию. Однако инквизиция Средних веков была преимущественно озабочена тем, чтобы люди не пострадали в небесной жизни от тех ложных взглядов, которые они отстаивали в жизни нынешней; это была, так или иначе, открытая попытка спасти души за счет тел. Платон же заботился совсем об ином. Он хотел спасти общество от развращения опасными идеями, которые, на его взгляд, способны незаметно разрушить стремление к социальной активности.[833] Он чувствовал свою обязанность запретить как антисоциальное любое учение, которое подрывает максиму о том, что честность есть лучшая политика. Следовательно, мотивы, лежащие в основе его законодательных актов, — прагматические и светские; поэтому здесь ближайшим историческим аналогом может служить не инквизиция, а те процессы над «интеллектуальными отступниками», с которыми наше собственное поколение столь хорошо знакомо.
Таковы, вкратце, были платоновские предложения по реформе конгломерата. Они не были проведены в жизнь, и конгломерат остался нереформированным. Надеюсь, из следующей, заключительной главы будет видно, почему стоило тратить так много времени на анализ этих предложений.
Глава восьмая. Страх свободы
Самые большие трудности у человека начинаются тогда, когда он может делать то, что ему хочется.
Т. Г. ХакслиЯ должен начать эту заключительную главу с признания. Изначально общая идея лекций, на которых основывается данная книга, состояла в том, чтобы показать, каким было отношение греков к некоторым проблемам на всем временном протяжении от Гомера до последних языческих неоплатоников, протяжении столь же долгом, что и эпоха, отделяющая античность от наших дней. Но по мере накопления материала и написания лекций стало очевидно, что это не могло быть выполнено, разве что ценой неисправимой поверхностности. Таким образом, я фактически рассмотрел только треть предполагаемого периода, но даже и здесь оставил немало пробелов. Большая часть того, что хотелось сказать, осталась нерассказанной. Все, что я могу теперь сделать, — это бросить перспективный взгляд столетий на восемь вперед и задаться вопросом: какие изменения произошли в оценивании людьми интересующих нас идей и по какой причине? Не могу надеяться, что в столь кратком обзоре приду к точным или безусловным выводам. Но все же следует попытаться нарисовать общую картину занимающих нас проблем и сформулировать ее адекватным образом.
Мы начнем с описания того времени, когда греческий рационализм, казалось, почти праздновал окончательный триумф, с великого века интеллектуальных достижений, начавшегося с основания в 335 г. до н. э. Лицея и продолжавшегося вплоть до конца III в. Этот период стал свидетелем того, как греческие наука трансформировалась из беспорядочной смеси отдельных наблюдений и априорных положений в систему методических дисциплин. В более абстрактных науках — математике и астрономии — был достигнут такой уровень, который не смогли превзойти до XVI столетия; были сделаны первые организованные исследования во многих других областях — ботанике, зоологии, географии и истории языка, литературы и социальной жизни. Но не только в науке дух эпохи оказался столь бурным и созидательным. Складывается впечатление, что быстрое расширение пространственного горизонта, которое явилось следствием завоеваний Александра, в то же время расширило и все горизонты сознания. Несмотря на отсутствие политической свободы, общество III в. до н. э. во многих отношениях подошло к идеалу «открытого»[834] общества ближе, чем это было где-либо раньше; ближе, чем любое другое общество вплоть до новейшего времени. Традиции и институты древнего «закрытого» общества, были, конечно, все еще живы и все еще влиятельны: инкорпорация города-государства в то или иное эллинистическое царство, конечно, не означала быструю потерю им своего старого нравственного значения. Но хотя город стоял на месте, его стены, как выразился некто, пали: его установления оказались открытыми для критики со стороны разума; в традиционные способы жизни полиса все больше проникала, видоизменяя их, космополитическая культура. Впервые в греческой истории стало мало значить, где человек родился или какие у него предки: те люди, которые доминировали в афинской интеллектуальной среде того времени — Аристотель и Феофраст, Зенон, Клеанф и Хрисипп, — все были чужестранцами; только Эпикур имел афинские корни, да и он по своему рождению являлся жителем колонии.
И наряду с этим выравниванием локальных особенностей, со свободным передвижением человека в пространстве существовал и аналогичный процесс выравнивания временных особенностей, новая свобода для ума двигаться вспять по времени, по своей воле выбирая из прошлого опыта человечества такие моменты, которые можно было лучше усвоить и применить к настоящему. Индивид начал сознательно использовать традицию, вместо того чтобы быть использованным ею. Наиболее отчетливо это проявляется у эллинистических поэтов, отношение которых к данному вопросу напоминало отношение современных поэтов и художников. «Если говорить о традиции сегодня, — замечает г-н Оден, — то мы больше не думаем о ней так, как думало еше восемнадцатое столетие — т. е. как о способе действий, который передается из поколения в поколение; мы имеем в виду сознание всего прошлого в настоящем. Оригинальность больше не означает легкое индивидуальное изменение традиции непосредственных предшественников; она мыслится как способность находить в любой жизни любой эпохи или местности ключ к пониманию событий своей собственной жизни».[835] То, что это являлось истиной для большей части (если не всей) эллинистической поэзии, едва ли нужно доказывать; это объясняет как силу, так и слабость работ типа «Аргонавтики» Аполлония или «Аэции» Каллимаха. Но мы можем также обратиться и к эллинистической философии: использование Эпикуром идей Демокрита и применение стоиками идей Гераклита — подходящие для этого примеры. Вскоре мы увидим,[836] что то же самое обнаруживается и в области религиозных верований.
Разумеется, именно в этот век греческая гордость за человеческий разум достигла своих вершин. Нам следует отвергнуть, говорит Аристотель, старое положение, которое рекомендовало покорность и понимало человека в контексте его смертности; человек имеет в самом себе нечто божественное, а именно интеллект, и до тех пор пока мы можем оставаться на этом уровне опыта, мы можем жить так, как будто мы и не смертны.[837] Основатель стоицизма пошел еще дальше: согласно Зенону, интеллект человека не просто сродни богу, он и является богом, частью божественной субстанции в ее чистом или активном состоянии.[838] И хотя Эпикур не делал подобных заявлений, он все-таки утверждал, что с помощью постоянных размышлений над философскими истинами можно жить «словно бог среди людей».[839]
Однако обычный человек, конечно, живет иначе. Аристотель понимал, что мало кто может долго удержаться на уровне чистого разума;[840] и он, и его ученики осознавали — возможно, лучше, чем кто бы то ни было в Греции, — что если мы хотим достичь ясного понимания человеческой природы, необходимо исследовать иррациональные факторы в жизни человека. Я вкратце уже показал здравомыслие и утонченность их подхода к этому виду проблем в вопросе о катарсическом воздействии музыки, а также в теории сновидений.[841] При более благоприятных обстоятельствах я бы посвятил целую главу отношению Аристотеля к иррациональному; впрочем, это упущение можно извинить, поскольку существует небольшое, но великолепное произведение м-ль Круассан, «Аристотель и мистерии», которое в интересной и исчерпывающей манере затрагивает хотя и не всю рассматриваемую мной тему, но некоторые из ее наиболее важных аспектов.[842]
Подход Аристотеля к эмпирической психологии и, в частности, к психологии иррационального, к сожалению, перестал разрабатываться уже во втором поколении его учеников. После того как естественные науки отказались от изучения собственно философских проблем (это произошло в начале III в.), психология осталась в руках философов (где она оставалась — думаю, к ущербу для себя — вплоть до совсем недавнего времени). Догматические рационалисты эллинистической эпохи, по-видимому, мало заботились об объективном изучении человека как такового; их внимание было направлено на сияющую картину того, каким человек может быть, на идеал sapiens либо идеал святости. Для того, чтобы приблизить эту картину к жизни, Зенон и Хрисипп намеренно повернули вспять, к эпохе до Платона и Аристотеля — к наивному интеллектуализму V столетия. Достижение нравственного совершенства, говорили они, не зависит ни от природных задатков, ни от научения; оно зависит исключительно от упражнений ума.[843] И здесь не было «иррациональной души», с которой спорил бы разум: так называемые страсти были просто ошибками в суждении или досадными препятствиями, создаваемыми этими ошибками.[844] Если исправить ошибку, помеха автоматически исчезнет, оставив разум не затронутым радостью или печалью, надеждой или страхом, оставив его «бесстрастным, не сожалеющим ни о чем, совершенным».[845]
Эта фантастическая психология была принята и поддерживалась на протяжении более чем двух столетий, но не из-за своих достоинств, а потому, что она мыслилась как необходимое дополнение к этической системе, пытавшейся соединить альтруистическую деятельность с полной внутренней отрешенностью.[846] Посидоний, как известно, выступил против этого и требовал возвращения к Платону,[847] считая, что теория Хрисиппа шла вразрез как с наблюдением, которое показывало, что элементы характера должны быть врожденными,[848] так и с нравственным переживанием иррациональности и зла как глубоко укорененных в человеческой природе и контролируемых только с помощью катарсиса.[849] Но его протест не оказался настолько сильным, чтобы уничтожить теорию; ортодоксальные стоики продолжали пользоваться интеллектуалистским лексиконом, хотя, видимо, с меньшей уверенностью. Позиция эпикурейцев или скептиков не очень расходилась со стоиками в этом вопросе. Обе школы стремились изгнать страсти из жизни человека; идеалом обеих была атараксия, свобода от лишних эмоций; в одном случае это достигалось через опору на истинные мнения о человеке и боге, а в другом — через идею отсутствия мнений вообще.[850] Эпикурейцы столь же высокомерно, как и стоики, заявляли, что без философии не может быть добродетели[851]; на подобное заявление не решались ни Аристотель, ни Платон.
С этой рационалистической психологией и этикой сочеталась рационалистическая же религия. Для философа сущность религии заключалась уже не в культовых действиях, а в безмолвном созерцании божественного и в понимании родства человека с ним. Стоик созерцал звездное небо и прочитывал там выражение тех же самых рациональных и моральных законов, которые он открывал в своей собственной душе; эпикуреец, в некотором отношении более духовный, чем стоик, созерцал невидимых богов, которые пребывают в далеких intermundia,[852] и тем самым находил в себе силу приближать свою жизнь к их жизни.[853] Для обеих школ божество перестало быть синонимом правящей Власти и стало вместо этого воплощением рационального идеала; эта трансформация произошла благодаря работе классических греческих мыслителей, особенно Платона. Как правильно подчеркивал Фестюжьер,[854] стоическая религия есть прямое наследие «Тимея» и «Законов», и даже Эпикур иногда показывает большую близость Платону, чем он сам решился бы признать.
В то же время все эллинистические школы — даже скептики,[855] — подобно Платону, были озабочены тем, как избежать разрыва с традиционными формами культа. Правда, Зенон заявлял, что храмы не нужны — ведь истинным богом является интеллект человека.[856] И Хрисипп говорил, что представлять богов в облике человека — наивность.[857] Тем не менее стоицизм находил местечко и для антропоморфных богов, воспринимая их как аллегорические фигуры или символы;[858] и когда в «Гимне» Клеанфа мы находим, что стоический бог украшен эпитетами и атрибутами гомеровского Зевса, то это, по всей видимости, больше, чем простая стилистическая формальность, — это серьезная попытка наполнить старые формы новым содержанием.[859] Эпикур тоже старался сохранить форму и очистить содержание. Как говорят, он скрупулезно соблюдал все культовые предписания,[860] но подчеркивал, что из них должен быть удален всякий страх божьего гнева или надежды на получение материальных благ; для него, как и для Платона, взгляд «do ut des» на религию — самое большое богохульство.[861]
Было бы рискованно полагать, что такие попытки очистить традицию имели большое влияние на народные верования. Как говорил Эпикур, «то, что я знаю, толпа не одобряет, а из того, что одобряет она, я ничего не понимаю».[862] Но нелегко понять, что же одобряла толпа в эпоху Эпикура. Тогда, как и теперь, обычный человек начинал высказываться о высоких материях только, как правило, на надгробных плитах — и не всегда даже на них. Сохранившиеся эпитафии на надгробиях эллинистической эпохи менее сдержанны, чем эпитафии предшествующего времени, и можно предположить — хотя и не стоит целиком этому доверять, — что традиционная вера в Аид медленно таяла, начиная заменяться либо явным отрицанием любой загробной жизни, либо смутными надеждами о том, что умерший отправится в некий лучший мир — «на остров блаженных», «к богам» или даже в «вечный космос».[863] Я бы не спешил придавать слишком большое значение последнему типу эпитафии: мы знаем, что скорбящие родственники способны заказать любую «подходящую для них надпись», которая не всегда может соответствовать какому-либо реальному верованию.[864] Тем не менее эпитафии на надгробиях, если их воспринять целиком, наводят на мысль, что распад конгломерата вступил на следующую стадию.
Что касается официальной, или гражданской, религии, то, разумеется, она пострадала от отсутствия гражданской автономии: в городе-государстве религия и общественная жизнь были столь тесно переплетены друг с другом, что исчезновение одной не могло не нанести ущерба другой. И о том, что традиционная религия в Афинах оказалась расшатанной до основания уже через полвека после Херонеи, нам известно из гимна Гермокла в честь Деметрия Поли-оркета;[865] ни в одном из гимнов более раннего периода, сложенных в честь какого-либо значительного политического события, не заявлялось, что боги города либо индифферентны, либо просто не существуют и что эти бесполезные бревна и камни теперь заменены «истинным» богом, т. е. самим Деметрием.[866] Лесть может быть неискренней; скептицизм, очевидно, нет — и при этом он наверняка разделялся многими, поскольку говорится, что данный гимн был весьма популярен.[867] В то, что эллинистическое почитание правителей всегда было неискренним и что оно было политическим трюком и ничем более, по-моему, никто в наши дни уже не поверит после эпохи многочисленных разновидностей массового низкопоклонства перед диктаторами, царями, а при отсутствии оных — спортсменами.[868] Когда старые боги ушли, пустующие троны стали взывать о преемственности — и чуть ли не любой человек с улицы, обладал ли он какими-то достоинствами или нет,[869] мог быть поставлен на престол. Поскольку культ правителей (в древних или современных своих модификациях) имеет религиозное значение для индивида,[870] он является прежде всего выражением беспомощной зависимости последнего; тот, кто относится к другому человеку как к божественному, тем самым присваивает самому себе статус ребенка или животного. Думаю, именно некое родственное чувство дало рост еще одной характерной особенности раннеэллинистической эпохи — широкому распространению культа Тюхе — «Удачи», или «Фортуны». Подобный культ, как заметил Нильссон, является «последней ступенью в секуляризации религии»:[871] при отсутствии какого-либо положительного объекта чувство зависимости соединяется с чисто негативной идеей непостижимого и непредсказуемого, которая и есть Тюхе.
Не хотелось бы создать ложного впечатления сложности религиозного положения, излишне упрощая его. Официальное поклонение богам города, разумеется, не прекращалось; это была устоявшаяся часть общественной жизни, стабильное выражение гражданского патриотизма. Но в широком смысле о нем можно сказать то, что говорится о христианстве в наши дни, а именно, что оно стало «более или менее рутинным, не оказывающим особого влияния на насущные жизненные цели».[872] С другой стороны, продолжавшийся упадок традиции делал верующего свободным в выборе его собственных богов,[873] точно так же как этот упадок создавал для поэта свободу в выборе его собственного стиля; да и незаметность, уединенность жизни в больших городах, где человек чувствовал себя ничтожеством, могли усилить во многих потребность в некоем божественном друге или помощнике. Известное замечание Уайтхеда о том, что «религия есть то, что человек делает со своим одиночеством»,[874] как бы ни трактовать это общее определение, достаточно точно описывает религиозную ситуацию начиная со времени Александра. И один из способов того, что человек делал со своим одиночеством в этот период, было создание небольших частных клубов, посвященных почитанию индивидуальных богов, старых или новых. Надписи говорят нам кое-что о деятельности подобных «аполлонистов», «гермесовцев», «вакхистов» или «серапистов», но мы не в состоянии слишком глубоко проникнуть в их взгляды. Реально можно сказать только то, что эти объединения служили как социальным, так и религиозным целям, в неизвестных нам, но, видимо, в разных пропорциях: некоторые из этих ассоциаций едва ли были чем-то большим, чем обеденными клубами; другие придавали себе статус настоящего общества, с выбранным божественным попечителем или покровителем во главе, заменяя тем самым наследственную местную общину прежнего закрытого общества.[875]
Таковы, в самом общем очертании, отношения между религией и рационализмом в III в.[876] Рассматривая картину в целом, какой-нибудь проницательный наблюдатель, живший примерно в 200 г., наверное, предсказал бы, что через несколько поколений распад традиционной структуры станет необратимым и что за ним последует совершенный век Разума. Однако он наверняка ошибся бы в обоих пунктах — подобно тому, как ошиблись в своих прогнозах рационалисты XIX в. Наш воображаемый греческий рационалист с удивлением бы узнал, что спустя полтысячелетия после его смерти Афина все еще получала периодические подношения в виде нового платья от благодарных людей;[877] что в Мегаре продолжали приносить в жертву быков в память героев, погибших во время Персидских войн восемью столетиями раньше;[878] что древние табу, охранявшие ритуальную чистоту, все еще ревностно соблюдались во многих местах.[879] Ибо для vis inertiae[880] который удерживает этот вид феноменов от развития и который Мэтью Арнольд некогда назвал «великой неспешностью вещей»,[881] никакой рационалист никогда не сделает соответствующего допущения. Боги уходят, но их ритуалы остаются, и никто, за исключением горстки интеллектуалов, не замечает, что они перестали что-либо значить. В материальном смысле конгломерат традиций не распался окончательно; большая его часть по инерции просуществовала в течение столетий, изрядно прогнив, прельщая скорее своим фасадом, — и все это было до того дня, когда христианство отбросило фасад и обнаружило, что под ним фактически скрывалась пустота — только увядающий местный патриотизм и изношенные религиозные чувства.[882] Так, по крайней мере, происходило в городах; по-видимому, для сельских язычников отдельные старые ритуалы все еще продолжали что-то означать, как означают немногие из них, в тусклой, полупонятной манере, до сего дня.
Подобный ход истории очень удивил бы наблюдателя, жившего в III в. до н. э. Но что поразило бы его больше всего — это то, что греческая цивилизация вступила не в век разума, а в эпоху постепенного интеллектуального упадка, который продолжался, с редкими обманчивыми оживлениями и блестящими арьегардными боями, вплоть до пленения Византии турками; его бы потрясло, что в течение целых шестнадцати столетий, которые еще должны были истечь, греческий мир не произвел ни одного поэта, равного по своему дарованию Феокриту, ни одного ученого, сравнимого с Эратосфеном, ни одного математика уровня Архимеда и что единственное великое имя в философии принадлежало учению, которому тоже суждено было угаснуть — трансцендентальному платонизму.
"Понимание причин этого долговременного упадка — одна из главных проблем мировой истории. Мы затрагиваем здесь только один ее аспект, который можно для удобства назвать «возвращением иррационального». Но даже это настолько большая тема, что я берусь проиллюстрировать то, что имею в виду, только указав вкратце несколько типичных примеров этого нисходящего развития.
В предыдущих главах мы видели, как зазор между верованиями интеллектуалов и верованиями народа, различимый уже в древнейшей литературе греков, расширился в конце V в. до практически полного размежевания, и как рост рационализма интеллектуалов сопровождался регрессивными симптомами в народной вере. Хотя это размежевание в целом поддерживалось быстрыми изменениями в социальной стратификации и получением доступа к образованию более широких слоев населения, в относительно «открытом» эллинистическом обществе оно создавало больше возможностей для взаимодействия между двумя группами. Мы уже отметили, что в Афинах III в. до н. э. скептицизм, некогда ограничивавшийся интеллектуалами, начал заражать все население; и то же самое позже произошло в Риме.[883] Но после III в. появляется другой вид взаимодействия, когда возникают квазинаучные произведения, обычно сочинявшиеся под псевдонимами и зачастую утверждавшие, что они основываются на божественном откровении. В эти произведения вошли древние восточные суеверия и не столь древние фантазии эллинистических масс; обрядившись в одеяния, заимствованные из греческой науки или философии, они добились того, чтобы их благосклонно приняла большая часть образованного класса. После этого ассимиляция происходила двумя путями: в то время как рационализм, ограниченного или негативного типа, продолжает распространяться сверху донизу, антирационализм распространяется снизу вверх и, в сущности, занимает главенствующее положение.
Астрология — самый подходящий для этого пример.[884] Мюррей считал, что она «поразила эллинистическое сознание, наподобие того как какая-нибудь новая болезнь поражает далеких островитян».[885] Но это сравнение не совсем соответствует фактам, насколько они нам известны. Возникнув в Вавилоне, она затем появилась в Египте, где, по-видимому, с ней столкнулся Геродот.[886] В IV в. Евдокс свидетельствовал о ее существовании в Вавилоне наряду с астрономией; но он смотрел на нее скептически,[887] и нет доказательств, что астрология пользовалась тогда популярностью у греков, хотя в мифе из «Федры» Платон, как бы забавляясь, разыгрывал вариации на астрологические темы.[888] Около 280 г. до н. э. более подробные сведения, доступные греческим читателям, были изложены в сочинениях вавилонского жреца Бероса, не вызвав, по всей видимости, особенного ажиотажа. Настоящая мода на астрологию, похоже, начинается со II в. до н. э., когда стали широко распространяться доходчиво написанные пособия по астрологии (особенно популярным был трактат, составленное под именем вымышленного фараона, «Откровения Нехеисо и Петосириса»)[889], а также появились, даже в Риме, практикующие астрологи.[890] Почему это случилось именно тогда, а не раньше? Идея астрологии явно не была внове, и интеллектуальная почва для ее принятия задолго до того была подготовлена астральной теологией, которую разрабатывали и платоники, и аристотелианцы, и стоики; впрочем, позднее Эпикур предупреждал мир о ее опасности.[891] Можно предположить, что ее широкому распространению благоприятствовали политические условия: в те беспокойные полстолетия, которые предшествовали римскому завоеванию Греции, было особенно важно знать, что должно было произойти в ближайшем будущем. Можно также предположить, что один «вавилонский грек», который в то время наследовал линию Зенона,[892] явился вдохновителем некоего trahison des clercs[893] (Стоя уже использовала это влияние для успешной борьбы с гелиоцентрической концепцией Аристарха, которая, будь она принята, могла бы помешать развитию и астрологии, и стоической религии).[894] Но под этими непосредственными причинами мы можем заподозрить нечто более глубокое и менее сознаваемое: в течение столетия или больше индивид сталкивался лицом к лицу со своей интеллектуальной свободой, а теперь он трусливо сбегал от этой опасной перспективы, считая, что лучше жесткий детерминизм астрологической Судьбы, чем суровое бремя повседневной ответственности. Рациональные люди, подобные Панэтию и Цицерону, пытались остановить это отступление, выдвигая логические аргументы, как пришлось позже делать и Плотину;[895] но ощутимого эффекта это не вызывало: некоторые бессознательные мотивы недосягаемы для рациональной критики.
Помимо астрологии, во II столетии развивалась и другая иррациональная доктрина, которая глубоко повлияла на мысль поздней античности и всего Средневековья — теория оккультных способностей, или сил, имманентных определенным животным, растениям и драгоценным камням. Хотя ее истоки, по-видимому, намного старше, впервые в систематической форме она была представлена Болом из Менды, которого считали «демокритианцем»; вероятно, он творил ок. 200 г. до н. э.[896] Его система была тесно связана с магической медициной и алхимией; довольно скоро она также соединилась и с астрологией, удачным дополнением для которой она и стала. Неудобство в отношении звезд всегда заключалось в том, что они были недоступны — как для молитвы, так и для магии.[897] Но если, как теперь утверждалось, каждая планета имеет своих представителей в животном, растительном и минеральном царствах, связанных с ней некоей оккультной симпатией, то можно воздействовать на эти планеты магически, путем манипуляции с ее земными двойниками.[898] Будучи основанными на древнем представлении о мире как о магическом единстве, идеи Бола становились неизбежно притягательными для стоиков, которые уже воспринимали космос как организм, части которого соединялись друг с другом общностью опыта.[899] С первого столетия до н. э. и далее Бола стали цитировать как научного авторитета, сравнимого по статусу с Аристотелем и Феофрастом,[900] и его взгляды вплелись в уже сложившуюся картину мира.
Многие исследователи полагают, что I столетие до н. э. — своего рода решительная Weltwende,[901] время, когда прилив рационализма, который за последние сто лет наступал гораздо медленнее, чем прежде, исчерпал наконец все свои ресурсы и сменился отливом. Все философские школы, кроме эпикурейской, приняли в это время новое направление. Прежний рациональный дуализм сознания и материи, Бога и Природы, души и инстинктов, дуализм, который рационалисты считали преодоленным, заново утверждает себя в новых формах и с новой энергией. В новом, неортодоксальном стоицизме Посидония этот дуализм появляется как напряжение противоположностей внутри концепции единого космоса и единой человеческой природы, которую отстаивала старая Стоя.[902] Примерно в это же время внутренние трансформации в Академии положили конец чисто критической фазе в развитии платонизма, сделали его более спекулятивным и вывели его на дорогу, которая, по сути, привела впоследствии к Плотину.[903] Равным образом примечательно воскрешение пифагорейства, после двух столетий полузабвения, но уже не как формальной научной школы, а как религиозной организации и как специфического стиля жизни.[904] Оно откровенно полагалось теперь не на логику, а на авторитет: Пифагора стали представлять как вдохновенного святого, греческого двойника Зороастра или Остана, и ему тоже были приписаны непосредственными учениками многочисленные апокрифы. В сущности, от его имени проповедовали архаичную веру в автономный характер магического «я»; в мир как место тьмы и наказания; а также в необходимость катарсиса; но это теперь соединялось с идеями, происходящими из звездной религии (которая действительно имела связи со старым пифагорейством),[905] от Платона (который был представлен как пифагореец), из оккультизма Бола[906] и из других видов магической традиции.[907]
Все эти события — скорее признаки, чем причины общего изменения в интеллектуальном климате средиземноморского мира; ближайшим аналогом подобных изменений может стать романтическая реакция на рационалистическую «естественную теологию», которая вспыхнула в начале XIX столетия и которая все еще влиятельна в наши дни.[908] Восхищение космосом и чувство единства с ним, которые нашли выражение в раннем стоицизме, стали часто[909] заменяться ощущением того, что физический мир — во всяком случае, часть его, считающаяся «подлунной» — находится под властью злобных сил и что душа переживает не единство с ним, а полный разрыв. Мысли людей все больше занимали заботы о разного рода техниках индивидуального спасения: одни полагались на священные книги, якобы обнаруженные в восточных храмах или продиктованные богом какому-нибудь вдохновенному пророку;[910] другие искали личного откровения в прорицании, сновидении или видении наяву;[911] третьи пытались спастись через ритуал, проходили инициацию в те или иные «мистерии», расплодившиеся к тому времени, либо использовали услуги частного колдуна.[912] Ощущалась растущая потребность в оккультизме, который, в сущности, является попыткой завоевать Царство Небесное материальными средствами: его хорошо определили как «вульгарную форму трансцендентализма».[913] И философия следовала параллельным курсом, только на более высоком уровне. Большинство школ уже задолго до того перестали ценить истину ради нее самой,[914] но в век Империи они, за небольшим исключением,[915] окончательно оставили любое стремление к незаинтересованному познанию и откровенно стали представлять себя наставниками в спасении. Философ не просто воспринимает помещение, в котором он читает лекции, как амбулаторию для лечения израненных душ;[916] в принципе, в этом не было ничего нового. Он не просто психотерапевт, но также, как выражался Марк Аврелий, «жрец и советник богов»,[917] и философские учения начинают провозглашать, что они имеют скорее религиозную ценность, чем научную. «Цель платонизма, — считает христианский наблюдатель II в. н. э., — встретиться с Богом лицом к лицу».[918] Профанное же знание ценилось лишь настолько, насколько оно совпадало с подобными целями. Сенека, например, с одобрением отзывается о том мнении, что нам не следует заботиться об исследовании вещей, которые и познать невозможно, и вообще бессмысленно познавать, например, такие, как причина приливов или принцип перспективы.[919] В подобных высказываниях мы уже чувствуем предвестие наступления Средних веков. Именно в этом интеллектуальном климате взросло христианство; именно он сделал возможным триумф новой религии, оставив свои следы в христианском учении;[920] но не христиане создали его.
Что же тогда его сформировало? Одна из трудностей в попытке дать на этот вопрос недвусмысленный ответ состоит в недостатке глубокого и всестороннего анализа всех сопутствующих фактов, которые могли бы помочь нам уловить внутреннюю связь между «деревьями» и «лесом». Мы обладаем блестящими исследованиями «деревьев», хотя и не всех; но о «лесе» мы имеем только импрессионистические мазки. Когда появится второй том «Истории» Нильссона,[921] когда Нок опубликует свои долгожданные Гиффордские лекции по эллинистической религии и когда Фестюжьер закончит серию важных исследований по истории религиозной мысли, обманчиво озаглавленных «Откровения Гермеса Трисмегиста» ,[922] обычный специалист вроде меня, может статься, окажется в более выигрышном положении для коррекции своих знаний; пока что ему лучше воздержаться от поспешных суждений. Тем не менее я закончу эту главу тем, что попытаюсь сказать несколько слов о предполагаемых объяснениях неудачи греческого рационализма.
Некоторые из них в действительности только заново ставят проблемы, которые они считают решенными. Нет большой пользы в том, чтобы говорить, что греки стали декадентами или что греческое сознание подверглось восточному влиянию, и при этом не объясняя, почему это произошло. Оба утверждения в каком-то смысле могут быть правильными, хотя я думаю, что лучшие ученые наших дней поколебались бы соглашаться с любым безоговорочным суждением, как это обычно было принято в прошлом столетии.[923] Но даже если это правда, такие огульные утверждения не продвинут решение вопросов, до тех пор пока сущность и причины этой кажущейся дегенерации не станут более ясными. Не соглашусь я и с тем, чтобы в качестве истинной причины принимать факт расового скрещивания, пока не выяснится либо то, что культурные основания передаются в семенной жидкости, либо что гибридные породы являются обязательно более низкими по своим достоинствам, нежели породы «чистые».[924]
Если же попробовать дать более взвешенные ответы, необходимо убедиться в том, что они действительно соответствуют фактам, а не продиктованы исключительно нашими пристрастиями. Это не всегда делается. Когда один широко известный британский ученый уверяет меня, что «трудно сомневаться в том, что сверхспециализация науки и развитие народного образования в эллинистическую эпоху привели к упадку умственной активности»,[925] я боюсь, он просто проецирует в прошлое свой личный диагноз некоторых болезней современной эпохи. Тот уровень специализации, который мы наблюдаем сегодня, был совершенно незнаком греческой науке, а некоторые величайшие имена истории античности — это как раз имена неспециалистов: Феофраст, Эратосфен, Посидоний, Гален, Птолемей. И всеобщее образование тоже не было известно: есть более веский повод считать, что эллинистическая мысль скорее ощущала недостаток народного образования, чем его избыток.
Кроме того, некоторые излюбленные социологические толкования имеют ту отрицательную сторону, что они не вполне годятся для объяснения исторических фактов.[926] Так, отсутствие политической свободы способно повлиять на снижение интеллектуальной активности, однако это вряд ли может считаться определяющим фактором: ибо великий век рационализма, с конца IV по конец III в., не был, конечно, временем политической свободы. Столь же нелегко выискивать причины в военных бедствиях и экономическом обнищании. Да, действительно, есть свидетельства того, что подобные обстоятельства благоприятствуют повышению интереса к магии и прорицательству[927] (совсем недавние по времени примеры — мода на спиритизм во время и после Первой мировой войны, на астрологию во время и после Второй);[928] и я склонен полагать, что сложные перипетии I столетия до н. э. способствовали началу отступления от рациональности, а положение дел в III в. н. э. помогло окончательно его завершить. Но если бы это было единственной действующей причиной, то следовало бы ожидать, что два столетия между ними — исключительно долгий период мирного существования, личной безопасности и, в целом, достойного правления — будут и временем возобновления рационалистической тенденции, а не ее постепенного угасания.
Другие ученые подчеркивали внутренний упадок греческого рационализма. «Он рассеялся, — говорит Нильссон, — словно огонь, исчезающий после сгорания топлива. В то время как наука увязла в бесплодной логомахии и бездумном компилировании, религиозный дух показывал большую жизненность».[929] Как отмечает Фестюжьер, «on avait trop discute, on etait las des mots. II ne restait que la technique».[930][931]
На современный слух это описание имеет знакомо-тревожащее звучание, но есть и достаточно древние свидетельства, подтверждающие его. Если, далее, спросить, почему отсутствовало новое «топливо», ответ обоих авторов будет традиционный: греческой науке не удалось развить экспериментальный метод.[932] Если продолжать спрашивать, почему ей это не удалось, нам обычно отвечают, что греческий способ мышления был в основном дедуктивным; подобное истолкование я не нахожу слишком вразумительным.
Марксистский анализ дает здесь более ясный ответ: эксперименты не могли развиваться потому, что отсутствовали серьезные технологии; серьезных же технологий не было потому, что человеческий труд являлся дешевым; человеческий же труд являлся дешевым потому, что рабы были в изобилии.[933] Так с помощью цепи искусных выводов возникновение средневекового мировоззрения связывается с институтом рабства. Некоторые из этих выводов, думается, требуют дополнительной проверки; но для подобной задачи я еще недостаточно подготовлен. Рискну, впрочем, сделать два замечания. Во-первых, экономическая аргументация лучше объясняет застой механики после Архимеда, чем застой медицины после Галена или астрономии после Птолемея. Во-вторых, паралич научной мысли в целом может очень хорошо годиться для объяснения скуки и нетерпеливости интеллектуалов, но не столь хорошо объясняет новые умонастроения масс. Подавляющее число тех, кто обращался к астрологии или магии, подавляющее число почитателей Митры или Христа, в сущности, не были тем контингентом людей, которые непосредственно и сознательно тревожились бы из-за стагнации науки; и мне трудно быть уверенным в том, что их религиозные взгляды могли фундаментально трансформироваться, например, в том случае, если бы какой-нибудь ученый изменил их экономическое положение, изобретя паровой двигатель.
Если будущие историки должны достичь более полного объяснения значения происходивших процессов, то, я думаю, не отвергая ни интеллектуальный, ни экономический факторы, им придется принять во внимание факторы другого рода, менее сознательные и не столь жестко рационалистичные. Я уже отмечал, что в основе принятия астрального детерминизма лежит, среди прочего, страх перед свободой — бессознательное бегство от тяжелой ноши индивидуального выбора, который открытое общество налагает на своих членов. Если такой мотив принять как vera causa (и есть веские основания считать, что он является vera causa[934] и в наши дни),[935] можно усмотреть его проявление во многих сферах. Можно, например, увидеть его в отвердевании философских спекуляций до степени квазирелигиозных догм, которые гарантировали индивиду неизменные жизненные правила; или в подозрительном отношении к непонятным научным исследованиям, выраженном Клеанфом или Эпикуром; позднее, на более популярном уровне, в потребности в пророке или священном писании; и вообще в возвышенном почитании письменного слова, характерном для позднеримской и средневековой эпох, в готовности, как отмечает Нок, «принимать любые утверждения на одном основании, что они содержались в книгах или даже просто потому, что люди говорили, будто они содержались в книгах».[936]
Когда люди придвигаются к открытому обществу столь близко, как греки в III в. до н. э., подобное отступление не происходит быстро или единообразно. Я для человека это, конечно, не происходит безболезненно. Ибо отказ от ответственности в любой сфере всегда куплен за определенную цену, обычно в форме невроза. И мы можем обнаружить косвенные свидетельства того, что страх свободы — не просто красивая фраза для обозначения роста иррациональных тревог и ярких проявлений невротического чувства вины, наблюдаемого на поздних[937] стадиях этого отступления. Эти чувства не были новыми в религиозных переживаниях греков: мы встречались с ними при изучении архаической эпохи. Но столетия рационализма ослабили их социальное влияние и, тем самым, пусть и косвенно — их власть над индивидом. Теперь они показываются в новых обличьях и с новой энергией. Я не могу здесь вдаваться в детали; но мы можем понять степень происшедших перемен, сравнив «Суеверного» Феофраста, который имел едва ли большее значение, чем быть старомодным блюстителем традиционных табу, с описанием Плутархом суеверного человека как такого, который «сидит в общественном месте, одетый в мешковину или грязное рванье, или валяется нагишом в луже, каясь в том, что он называет своими грехами».[938] Живописание Плутархом религиозного невроза может быть дополнено и из других источников: среди ярких индивидуальных свидетельств — лукиановский портрет Перегрина, который, искупая свои грехи, обратился сначала к христианству, затем к языческой философии, а после эффектного суицида стал восприниматься как языческий чудотворец;[939] и самопортрет другого интересного невротика — Элия Аристида.[940] Наличие витающих в массах тревожных настроений отчетливо демонстрируется не только в воскресшем опасении посмертных наказаний,[941] но и в более близких страхах, следы которых обнаруживаются в дошедших до наших дней молитвах и амулетах.[942] Язычники и христиане одинаково молили в век поздней Империи о защите от невидимых опасностей — от сглаза и демонической одержимости, от «демона-обманщика» и «безголовой собаки».[943] Один амулет обещает защиту «от всякой напасти, от ночных кошмаров и от воздушных демонов», второй — «от врагов, обвинителей, воров, ужасов и привидений», третий — христианский — от «нечистых духов», скрывающихся под кроватью, в стропилах или даже в мусорном ведре.[944] Как показывают эти несколько примеров, иррациональное вернулось окончательно и бесповоротно.
Здесь я должен оставить эту проблему. Однако, прежде чем завершить книгу, мне придется сделать еще одно признание. Я намеренно воздерживался от использования современных параллелей, поскольку знаю, что подобные параллели заводят в тупик столь же часто, как и проясняют.[945] Но как никто не в состоянии убежать от своей тени, так и ни одно поколение не может вынести суждение о тех или иных проблемах прошлого без обращения, явного или неявного, к собственным насущным проблемам. Не считаю нужным скрывать от читателя, что при написании этих глав, и особенно последней из них, я постоянно имел в виду нашу современную ситуацию. Мы тоже являемся свидетелями медленного распада конгломерата традиций, когда-то начавшегося среди образованного класса, а теперь уже почти повсеместно развертывающегося в массовом масштабе, хотя все еще и далекого от завершения. Мы тоже пережили великий век рационализма, ознаменованный научными достижениями, превзошедшими все, на что была способна прежняя мысль, и столкнувшими человечество с перспективой общества более открытого, чем когда-либо прежде. И за последние сорок лет мы тоже испытали активное неприятие подобной перспективы. Похоже, прав Анд-ре Мальро, сказавший, что «западная цивилизация начала сомневаться в своих верительных грамотах».[946]
Каков же смысл этого неприятия, этого сомнения? Колебания ли это перед прыжком или начало панического бегства? Я не знаю. О подобных вещах скромный профессор-эллинист судить не может. Тем не менее он может сделать кое-что — например, напомнить читателям, что некогда цивилизованные люди очень близко подобрались к подобному же прыжку — но, подобравшись, отказались от него. И он может просить своих читателей поразмышлять над обстоятельствами, связанными с этим отказом.
Что же было причиной отказа — конь или всадник? Лично я думаю, что конь — другими словами, те иррациональные элементы в человеческой природе, которые управляют, без нашего знания об этом, и нашим поведением, и большей частью того, что мы считаем своим мышлением. И если я прав в своем предположении, я могу видеть в нем и основания для надежды. Как продемонстрировали эти главы, люди, ставшие творцами первого европейского рационализма, никогда — вплоть до эллинистической эпохи — не являлись «чистыми» рационалистами: иначе говоря, они глубоко и образно понимали силу, чудо и опасности иррационального. Но они могли описывать то, что происходило за порогом сознания, только мифологически или символически; они еще не обладали инструментом ни для его понимания, ни для контроля за ним. В эпоху эллинизма слишком многие из них сделали фатальную ошибку, думая, что могут игнорировать иррациональное. Современный же человек начинает обретать подобный инструмент. Последний все еще далек от совершенства, и не всегда его держит опытная рука; во многих областях, включая историю,[947] его возможности и ограничения все еще нуждаются в проверке. Тем не менее вселяет надежду, что если мы используем его мудро, то сможем лучше понять сущность нашего коня; что, лучше поняв его, мы будем более искусны в преодолении его страхов; и что, преодолев страх, конь и всадник сделают в один прекрасный момент решающий прыжок, и сделают его успешно.
Приложение I. Менады[948]
«В искусстве, а также в поэзии представление об этих диких состояниях экстаза являлось, по-видимому, лишь игрой воображения, ибо в прозаической литературе содержится очень немного исторических свидетельств о женщинах, которые устраивали праздничные процессии[949] под открытым небом. Подобный род деятельности достаточно чужд духу затворничества — обычному уделу женщин в Греции... Праздники вакханок проводились главным образом на Парнасе». Так высказывается Сэндис во введении к своему великолепному изданию «Вакханок». С другой стороны, Диодор говорит (4. 3), что «во многих греческих государствах конгрегации (βακχεία) женщин собираются раз в два года, причем незамужним девушкам позволяется носить тирс и участвовать в процессиях наряду с замужними женщинами'(συνενθουσιάζειν)». Со времен Сэндиса были обнаружены и другие античные письменные свидетельства, которые подтвердили правоту наблюдения Диодора. Мы знаем теперь, что подобные фестивали-биеннале (τριετηρίδες) проводились в Фивах, Опе, Мелосе, Пергаме, Приене, Родосе; и они засвидетельствованы в Элее Аркадской Павсанием, в Митилене — Элианом, на Крите — Фирмиком Матерном.[950] Их характер может сильно варьироваться от места к месту, но мы едва ли усомнимся в том, что они обычно включали в себя женские оргии, экстатического или квазиэкстатического типа, описываемые Диодором, которые часто, если не всегда, сопровождались ночными орибасиями, т. е. танцами в горах. Этот странный ритуал, описываемый в «Вакханках» и практикуемый женскими союзами в Дельфах вплоть до времен Плутарха, отправлялся, конечно же, повсеместно: в Милете жрица Диониса еще в конце эллинистической эпохи[951] уводила женщин в горы; в Эритрее название Мимантобатес само говорит об орибасиях на горе Мимов.[952] Сам Дионис есть орейос (Festus, р. 182), орейманес (Truph. 370), орескиос, оурефойтес (Anth. Pal. 9. 524); и Страбон, рассматривая дионисийские и другие родственные мистериальные культы, говорит в целом о τάς ορειβασίας τών περί τό θείον σπουδαζόντων [о «скитаниях по горам ревностных служителей богов и самих богов»] (10. 3. 23). Старейшая литературная аллюзия — в гомеровском «Гимне Деметры», 386: ήϊς' ήΰτεμαινάς όρος κατά δάσκιον ϋλης [«ринулась, словно менада в горах по тенистому лесу»].
Орибасии устраивались ночью, в период зимнего солнцестояния, происходя подчас в довольно суровых и рискованных условиях: Павсаний[953] говорит, что в Дельфах женщины забирались на самую вершину Парнаса (а это 8000 футов высоты); Плутарх[954] описывает случай, происшедший, видимо, при его жизни, когда группа, в которой он находился, была остановлена снежным бураном, и им пришлось возвращаться, — а когда они вернулись, их одежды были тверды от мороза, как доски. Какова же была цель практики? Многие народы устраивают танцы, посвященные сбору урожая, основываясь на принципах симпатической магии. Но такие танцы повсеместно устраиваются каждый год, подобно тому как каждый год созревает урожай, и не проводятся раз в два-три года, как орибасии; время их проведения — весна, а не зима; и их сцена — плодородные земли, а не голые вершины гор. Поздние греческие авторы считали, что танцы в Дельфах отмечают некие события: они танцуют, сообщает Диодор (4. 3), «в память о тех менадах, которые, говорят, были в древние времена связаны с богом». Возможно, он прав в отношении своего собственного времени; но ритуал обычно древнее мифа, посредством которого он истолковывается, и имеет более глубокие психологические корни. Наверняка было время, когда менады (фиады или вакханки) действительно становились на несколько часов или дней тем, на что указывало их имя, — дикими женщинами, человеческая природа которых временно вытеснялась какой-то другой. Было ли так во дни Еврипида, нам неизвестно; дельфийская традиция, зафиксированная Плутархом,[955] утверждает, что этот ритуал совершенно трансформировал личность, как это утверждали и в IV столетии; впрочем, свидетельства очень слабы, и характер личностных изменений не совсем ясен. Существуют, однако, параллельные феномены в других культурах, которые могут помочь нам понять смысл парода «Вакханок» и наказания Агавы.
Во многих обществах — возможно, во всех — есть люди, которым, как считает Олдос Хаксли, «ритуальные танцы приносят такие религиозные переживания, которые кажутся им более удовлетворительными и убедительными, чем любые другие... Через танец им легче получить знание о божественном».[956] Г-н Хаксли думает, что христианство совершило ошибку, когда оно позволило танцу стать полностью светским,[957] потому что, говоря словами магометанского святого, «тот, кто знает силу танца, пребывает в Господе». Но сила танца — опасная сила. Подобно другим видам отрешенности от себя, его легче начать, чем кончить. В необычайном плясовом сумасшествии, которое периодически охватывало Европу с XIV по XVII вв., люди плясали буквально до упаду, подобно танцору из «Вакханок» (136) или плясуну с одной берлинской вазы (no. 2471),[958] и лежали без сознания, часто прямо под ногами пляшущих товарищей.[959] Подобные вещи чрезвычайно заразительны. Как замечает в «Вакханках» (778) Пенфей, это распространяется, словно лесной пожар. Желание танцевать охватывает людей бессознательно: например, в Льеже в 1374 г., после того как некоторые одержимые пришли в город и полунагими, с гирляндами на головах, стали танцевать в честь св. Иоанна, «многие люди, на вид вполне здравые, внезапно оказались обуянными демонами и присоединились к плясунам»; эти люди оставили свои дома и семьи, подобно фиванкам в пьесе; даже юные девы оборвали свои связи с семьей и подругами и ушли вместе с пляшущими.[960] Против подобной мании «ни юный, ни старый», сообщает один источник из Италии XVII в., «совершенно не может устоять; даже девяностолетние старики при звуках тарантеллы отбрасывали свои костыли, как если бы некое магическое вещество, восстанавливающее юность и энергию, потекло вдруг в их жилах, заставляя их присоединяться к самым неистовым танцорам».[961] Так вновь и вновь повторялось то, что Еврипид описал в «Вакханках», в сцене с Кадмом и Тиресием, и подтверждалось замечание поэта (206 сл.), что Дионису покорны все возрасты. Даже скептики, подобные Агаве, иногда против своей воли заражались этой манией, что шло вразрез с их убеждениями.[962] В Эльзасе в XV и XVI столетиях считали, что плясовое безумие могло быть наслано на какую-нибудь жертву с целью причинить ей страдание.[963] В некоторых случаях искусственная одержимость появлялась вновь через регулярные интервалы, возрастая в интенсивности ко дню св. Иоанна или св. Витта, после чего все постепенно возвращалось на круги своя;[964] в то же время в Италии периодическое «лечение» страдающих музыкой и экстатическими танцами, по-видимому, выросло впоследствии в ежегодное празднество.[965]
Последний факт помогает объяснить то, каким образом из спонтанных вспышек массовой истерии в Греции могла развиться практика ритуальных орибасий, происходившая в фиксированные дни. Трансформируя подобную истерию раз в два года в организованный ритуал, дионисийский культ удержал ее в определенных границах и дал ей сравнительно безвредный выход. Парод из «Вакханок» демонстрирует, что истерия была поставлена на службу религии: случившееся на горе Киферон — истерия в чистом виде, ужасная вакханалия,[966] которая ниспосылается как наказание на слишком надменных персон, обуревая ими против воли. Дионис присутствует двояким образом, как св. Иоанн и как св. Витт; он — причина безумия и спаситель от безумия, Бакхос и Люсиос.[967] Мы должны помнить об этой двусмысленности, если хотим правильно понять произведение. Сопротивление Дионису означает подавление в своей природе глубинных инстинктов; наказание же — это внезапное полное снятие внутренних препятствий, когда инстинкты прорываются и всякая цивилизованность исчезает.
Существует определенное сходство в деталях между оргиастической религией, описанной в «Вакханках», и оргиастическими религиями других регионов; это сходство стоит отметить хотя бы из-за того, что благодаря им можно установить, что «менады» — реальные, а не вымышленные фигуры, и что они существовали, под разными именами, в самые разные эпохи и в разных регионах. Первое сходство относится к флейтам, тимпанам или литаврам, которые являются обязательным элементом пляски менад в «Вакханках» и изображениях менад на греческих вазах.[968] Для греков они были «оргиастическими» музыкальными инструментами par excellence;[969] их использовали во всех великих культах, где применялись ритуальные танцы, — причем не только в культе Диониса, но и в культах азиатской Кибелы и критской Реи. Они могли даже вызывать безумие, но в гомеопатических дозах также и лечить его.[970] И две тысячи лет спустя, в 1518 г., когда сумасшедшие плясуны св. Витта танцевали по всему Эльзасу, вновь звучала та же музыка — музыка барабана и свирели, преследуя те же двусмысленные цели: спровоцировать сумасшествие и вылечить его. Мы обладаем протоколом заседания Страсбургского городского совета, в котором рассматривался данный вопрос.[971] Это, конечно, не продолжение традиции, возможно, даже не совпадение; скорее, подобная практика похожа на переоткрытие реально существующей причинной связи, о которой сегодня разве что военное ведомство да Армия спасения имеют довольно смутное представление.
Второй момент сходства — необычные движения головой во время дионисийского экстаза. Эти движения постоянно подчеркиваются в «Вакханках»: «Он нежные кудри // По ветру распустит...» (150); «встряхивать кудрями не долго будет...» (241); «он голову все вскидывал да гнул» (930); похожим образом в другой трагедии одержимая Кассандра «пророчица // Феба, в эфир погружает взор, // Если дыханью бога внемлет» (/. А. 758). Та же особенность встречается у Аристофана (Lysist. 1312: ταί δέ κόμοα σείονθ' дяхр βακχαν [«Кудри их, как у вакханок, // Дрогнут...»]) и постоянно, хотя и не столь выразительно, описывается у поздних писателей: менады продолжают «вскидывать головы» у Катулла, Овидия, Тацита.[972] И мы видим эту запрокинутую голову и вздернутое вверх горло в античных произведениях искусства, например, на геммах, фигурируемых в книге Сэндиса на с. 58 и 73, или у менад на барельефе в Британском музее (Marbles II, pl. xii, Sandys, p. 85).[973] Но этот жест — не просто условность греческой поэзии и искусства; во все времена и повсеместно он характеризует особый тип религиозной истерии. Приведу три независимых современных свидетельства: «они то и дело отбрасывают головы назад, что заставляет их длинные черные волосы метаться; это очень усиливает дикость их внешности» ;[974] «их длинные волосы метались взад и вперед из-за резких и быстрых движений головы»;[975] «голова моталась из стороны в сторону или откидывалась далеко назад, делая горло непомерно высоким и выпяченным».[976] Первая фраза — из отчета одного миссионера о танце каннибалов в Британской Колумбии — в конце этого танца был разорван на части и съеден человек; вторая описывает сакральный танец поедателей коз в Марокко; третья — из клинического описания истерии одним французским психиатром.
Но это не единственная аналогия, которую можно обнаружить. У экстатических танцоров Еврипида «на кудрях // Огонь горел, и их не жег» (757).[977] Этот феномен известен повсеместно. В Британской Колумбии танцор пляшет с горящими угольями в руках, смело поигрывает ими и даже кладет в рот;[978] подобные факты зафиксированы в Южной Африке,[979] а также на Суматре.[980] В Сиаме[981] и Сибири[982] плясун заявляет, что тело его неуязвимо — до тех пор пока в нем пребывает бог — подобно тому как считались неуязвимыми танцоры с Киферона (Ba. 701). И наши европейские медики нашли объяснение или полуобъяснение этому явлению у себя в госпиталях: во время своих припадков истерик часто имеет анальгезию — всякая чувствительность к боли у него притупляется.[983]
Интересное сообщение о применении — одновременно и спонтанном, и целительном — экстатического танца и экстатической музыки (труба, барабан и дудка) в Абиссинии в начале XIX в. можно обнаружить в «Жизни и приключениях Натаниэла Пирса, описанных им самим во время пребывания в Абиссинии с 1810 по 1819 г.». (I. 290 ff.). Это произведение имеет некоторые точки сходства с драмой Еврипида. В кульминационный момент танца «она вдруг припустила с такой быстротой, что ни один бегун на свете не смог бы догнать ее (ср. Ba. 748, 1090); но, пробежав ярдов двести, внезапно остановилась как вкопанная» (ср. Ba. 136 и прим. 11 ниже). Туземная жена Пирса, оказавшаяся во власти мании, плясала и скакала, «больше напоминая какую-то олениху, чем человеческое существо» (ср. Ba. 366 сл., 166 сл.). И, наконец, «я видел их в этих припадочных танцах с бутылкой маисового вина на голове, причем не проливалось ни капли, и бутылка не падала, хотя они при этом принимали самые экстравагантные позы» (ср. Ba. 775 сл., Nonnus, 45. 294 сл.).
Все детали описания набега менад на фиванские селения (Ba. 748-764) совпадают с описаниями подобных же действий, наблюдаемых и в других обществах. У многих народов люди, находящиеся в аномальных состояниях, естественных или производных, наделены привилегией воровать у членов общины; препятствовать же им опасно, поскольку они в этот момент находятся в контакте со сверхъестественным. Так, в Либерии неофитам, которые проходят инициацию в лесу, разрешается совершать грабительские набеги на соседние деревни, унося оттуда все, что они пожелают; таковы также действия членов тайных союзов в Сенегале, архипелаге Бисмарка и т. д. в течение того времени, когда их обряды проходят в отдалении от общины.[984] Подобное положение дел, бесспорно, принадлежит той ступени социальной организации, которую Греция к V в. оставила далеко позади; но миф или ритуал, возможно, сохраняли память о ней, и Еврипид, скорее всего, встречал его в живом виде в Македонии. Слабые пережитки этого ритуала, вероятно, можно видеть сегодня в поведении мимов Визы: «Одним словом, — говорит Доукинс, — все, что плохо лежит, может быть захвачено как залог, требующий выкупа, и кориции [девушки] часто с этой целью крадут детей».[985] Не являются ли эти девушки прямыми потомками менад, ворующих детей (Ba. 754, упоминаемые также у Нонна и изображенные на вазах)?[986]
Еще один, тоже архаичный элемент — держание в руках змеи (Ba. 101 сл., 698, 768). Еврипид не понимал смысла этого ритуала, хотя ему и было известно, что Дионис может явиться в обличье змеи (1017 сл.). Эта трансформация запечатлена на вазах; после же Еврипида данный элемент становится частью литературного портрета менады;[987] но живая змея воспринималась как божественная испостась уже в древнем культе Сабазия[988] и, вероятно, в македонском дионисийстве;[989] позднее, в классические времена, змею тоже делали участницей соответствующего ритуала.[990] То, что такое держание, даже без всякой лежащей в его основе веры в божественный характер змеи, может стать мощным фактором вызывания религиозного возбуждения, видно на примере любопытного современного сообщения[991] о некоем ритуале (его удалось сфотографировать), в котором использовались гремучие змеи. Этот ритуал практиковался общиной Церкви Святости в глухих шахтерских деревушках в округах Лесли и Перри, штат Кентукки. Согласно этому сообщению, держание змеи (которое явно основывалось на евангельском «они возьмут змей», Мк. 16: 18) формирует часть религиозного церемониала и сопровождается экстатическими танцами, которые длятся до полного измождения участников. Змей вынимают из ящиков и передают из рук в руки (по-видимому, в этом участвуют и мужчины, и женщины); фотографии показывают, как один из участников ритуала поднимает змею высоко над головой (ср. Demos, de cor. 259: υπέρ της κεφαλής αϊωρών [«поднимая над головой»]), другой подносит ее близко к лицу. «Один человек запустил ее себе под рубашку и крепко схватил, чтобы она, извиваясь, не смогла вырваться и упасть на землю», — удивительно близкая параллель соответствующему ритуальному действию сабазиан, о котором пишут и Климент, и Арнобий[992] и на основании которого мы не можем согласиться с Дитрихом,[993] утверждающим, что рассматриваемое действие «может означать только сексуальное соединение бога с посвященным» .
Остается сказать несколько слов о кульминационном моменте дионисийского зимнего танца, весьма похожего на кульминацию колумбийского и марокканского танцев, упомянутых выше, а именно разрывание на части животного и проглатывание сырых кусков его тела — спарагмос и омофагия. Злорадные описания этого действа христианскими Отцами можно смело не принимать в расчет, и трудно определить, насколько ценны анонимные свидетельства схолиастов и лексикографов по данному вопросу.[994] Однако существование подобных явлений в греческом оргиастическом ритуале в классическую эпоху подтверждает не только заслуженно авторитетный Плутарх,[995] но и свод правил, регулировавших дионисийский культ в Милете (276 г. до н. э. ),[996] где мы читаем: μή έξεΐναι ώμοφάγιον έμβαλεΐν μηθενί πρότερον ή ή ιέρεια υπέρ τής πόλεως έμβάλη [«не позволяется никому бросать сырое мясо (жертвенного животного), прежде чем жрица не бросит его за пределами города»]. Фраза ώμοφάγιον έμβαλεΐν вызывала замешательство среди ученых. Не думаю, что она означает «бросить жертвенное животное в яму» (Wiegand, ad loc.) или «бросить лопатку от туши в священное место» (Haussolier, R. Ε. G. 32. 266). Скорее всего, происходившее было более кровавым, наподобие того ритуала, который Эрнест Фесиджер лицезрел в Танжере в 1907 г.:[997]
«Какие-то люди спускаются с холмов в город, находясь в полуголодном и эйфорическом состоянии. После обычного битья в тамтамы, визга дудок и монотонного танца живую овцу бросают посреди площади, куда подбираются все посвященные и терзают животное кусок за куском, пожирая их сырыми». Автор добавляет историю о том, как «однажды некий танжерский мавр, наблюдавший за происходящим, заразился общим безумием толпы и бросил ребенка прямо в ее гущу». Правда это или нет, данный пассаж дает ключ к пониманию эмбалейн, а также показывает возможные опасности от неконтролируемой омофагии. Власти Милета были постоянно озабочены насущной проблемой удержания дионисийского ритуала в строгих границах.
В «Вакханках» спарагмос происходит сперва на фиванском скотном дворе, а потом с Пенфеем; в обоих случаях он описывается с таким смаком, который современному читателю трудно понять. Подробное же описание омофагии, вероятно, даже афинской публике было трудно переварить; Еврипид говорит о ней дважды — в Ba. 139 и Cret. fr. 472, и каждый раз очень бегло и отрывочно. Трудно судить, какое психологическое состояние он описывает в словах ώμοφάγον χάριν; но примечательно, что дни, предназначенные для омофагии, были «несчастливыми и черными днями».[998] Те, кто практикуют подобный обряд в наши дни, по-видимому, переживают при этом одновременно высшую экзальтацию и высшее отвращение, благоговение и ужас, добро и зло, чистоту и осквернение; в их душе царит такой же резкий конфликт эмоциональных позиций, который проходит сквозь все страницы «Вакханок» и который лежит в основе любой религии дионисийского типа.[999]
Позднеантичные авторы трактовали омофагию в том же духе, в каком они трактовали дионисийский танец, и как некоторые объясняют христианское причастие: это просто ритуал, организованный в память о том дне, когда ребенок Дионис сам был разорван на куски и съеден.[1000] Но эта практика, по-видимому, покоится на очень простых постулатах дикарской логики. Гомеопатические эффекты от поедания плоти хорошо известны во всем мире. Если желаешь иметь сердце льва, нужно съесть льва; если хочешь быть хитрым, нужно отведать змею; поедающие цыплят и зайцев становятся трусами; любители свинины получат маленькие свиные глазки.[1001] Рассуждая подобным образом — если хочешь быть таким, как бог, нужно съесть бога (или, во всяком случае, что-нибудь божественное). И нужно съесть его быстро и в сыром виде, прежде чем кровь вытечет из него: только так можно добавить его жизнь к своей, ибо «кровь есть жизнь». Бог не всегда присутствует, когда нужно его съедать, да и небезопасно есть его в обычное время и без должной подготовки к принятию таинства. Но раз в два года он присутствует в кругу танцующих в его честь: «Беотийцы, — замечает Диодор (4. 3), — и другие греки, а также фракийцы, верят, что в это время происходит его эпифания среди людей» — такая же, о которой пишется в «Вакханках». Он может являться во многих обличьях — растительной, животной, человеческой; и поедают его тоже во многих обличьях. Во времена Плутарха на кусочки разрывался плющ, а потом эти кусочки разжевывались:[1002] это может быть отголоском архаичного ритуала или суррогатом какого-то кровавого действа. У Еврипида в «Вакханках» разрывают быков,[1003] раздирают на части и съедают козла;[1004] мы также слышим об омофагии фавнов[1005] и раздирании гадюк.[1006] Поскольку во всех них можно с большей или меньшей вероятностью признать воплощения бога, я склонен принять мнение Группе,[1007] что омофагия была таинством, в котором бога представляли в его зверином обличье; в этом обличье бог раздирался на части и поедался своими поклонниками. И я уже рассматривал в другом месте,[1008] что некогда существовала более мощная, потому и более пугающая форма этого таинства, а именно раздирание на части и, возможно, съедание бога в форме человека; и история Пенфея есть отчасти отражение этого акта, что идет вразрез с модными эвгемеристическими идеями, согласно которым эта история — только выражение исторического конфликта между проповедниками дионисийства и их оппонентами.
В целом я постарался показать, что еврипидовское описание феномена менад нельзя понять как «чистую игру воображения»; что письменные свидетельства (какие бы они не были неполные) отражают более близкое родство этого феномена с реальными религиозными течениями, чем осознавали викторианские ученые; и что менада, какими бы неправдоподобными не казались некоторые ее действия, является не мифологической фигурой,[1009] но существовавшим и до сих пор существующим типом человека. Дионис все еще имеет и своих почитателей, и свои жертвы, хотя мы и называем их другими именами; и Пенфей столкнулся с проблемой, с которой другим гражданским властям пришлось сталкиваться в реальной жизни.
Приложение II. Теургия[1010]
За последние полстолетия мы значительно продвинулись в знании магических поверий и практик поздней античности. Но на фоне этого общего прогресса особой разновидностью магии — теургией — фактически пренебрегали, и она, как следствие, осталась до сих пор не изученной в должной мере. Первый шаг к ее пониманию был сделан более пятидесяти лет назад Вильгельмом Кроллем, когда он собрал и проанализировал фрагменты «Халдейских оракулов».[1011] Позднее профессор Жозеф Бидез обнаружил и прокомментировал[1012] ряд интересных византийских текстов, принадлежащих главным образом Пселлу, которые, по-видимому, происходят из утраченного комментария Прокла на «Халдейские оракулы» (возможно, через работу христианского оппонента Прокла — Прокопия из Газы); неоценимый вклад внесли Хопфнер[1013] и Айтрем,[1014] особенно в том, что они обратили внимание на многие схожие черты между теургией и греко-египетской магией.[1015] Но многое все еще неясно и, вероятно, останется таковым, до тех пор пока разрозненные тексты, касающиеся теургии, не будут собраны и изучены в целом[1016] (задача, которую, видимо, понимал Бидез, но которая по причине его смерти не была осуществлена). Настоящая статья не претендует на полноту и еще менее на окончательность, но лишь стремится: 1) прояснить взаимоотношения между неоплатонизмом и теургией в их историческом развитии; 2) исследовать фактический modus operandi,[1017] который, по-видимому, был присущ обоим основным направлениям теургии.
I. Основоположник теургии
Насколько мы знаем, самая ранняя фигура, которую описывают как теурга — это Юлиан,[1018] живший при Марке Аврелии.[1019] Возможно, как считал Бидез,[1020] он изобрел особый род деятельности, чтобы отличить себя от простого теолога: последний говорил о богах, он же, Юлиан, «воздействовал на них», а то и, возможно, «творил» их.[1021] Об этой личности нам известно до обидного мало. Свида говорит, что он был сыном «халдейского философа», тоже Юлиана,[1022] автора работы о демонах в четырех книгах, и что сам он написал Θεουργικά, Τελεστικά, Λόγια δι' έπων [«Теургика», «Телестика», «Изречения»]. То, что эти «прорицания в гекзаметре» были (как предполагал Лобек) не чем иным, как Oracula Chaldaica, на который Прокл написал обширный комментарий (Marinus, vit. Prodi 26), является сомнительным на основании упоминания схолиастом Лукиана[1023] τά τελεστικά Ιουλιανού α Πρόκλος ύπομνηματίζει, οίς ό Προκόπιος άντιφθέγγεται [«посвящения в таинства Юлиана, на которые ссылается Прокл и которым возражает Прокопий»] и утверждения Пселла, что Прокл «увлекался эпе, или, иначе, логиями, в которых Юлиан излагал халдейские доктрины».[1024] По собственному признанию, Юлиан получил эти оракулы от богов: они были теопарадота.[1025],[1026] Как он на самом деле получил их, неизвестно. Как указывал Кролль, их стиль и содержание больше соотносятся с веком Антонинов, чем с более ранней эпохой.[1027] Юлиан, конечно, мог выдумать их; но их слог столь причудлив и напыщен, их мысль столь темна и бессвязна, что вряд ли здесь можно видеть работу искусного выдумщика: они скорее напоминают трансоподобные бормотания современных «спиритических медиумов». Это представляется не столь невозможным ввиду того, что нам известно о поздней теургии: она могла вести свое происхождение от «откровений» какого-нибудь визионера или медиума, а личный вклад Юлиана состоял, как считает Пселл (или его источник, Прокл),[1028] в переложении их на стихи. Это вполне согласуется с распространенной практикой официальных оракулов;[1029] переложение на гекзаметр дало бы возможность ввести какое-то подобие философских выкладок и систематичности в бессвязный вздор. Но благочестивый читатель все равно ощущал бы большую потребность в каком-то прозаическом объяснении или комментарии, и эту потребность Юлиан, по-видимому, тоже удовлетворил; ибо, конечно, это его цитирует Прокл (in Tim. III. 124. 32) как ό θεουργός έν τοις ύφηγητικοΐς [«наставляющего в теургии»]. Марин, возможно, подразумевает этот же комментарий, когда он говорит о τά Λόγια και τα σύστοιχα τών Χαλδαίων συγγράμματα [«о богоданных оракулах и прочих изложениях халдейского учения»] (vit. Prodi 26), а также Дамаскин (II. 203. 27), когда он цитирует οί θεοί και αυτός ό Οεουργός [«боги и сам теург»]. Был ли этот комментарий идентичен «Теургике», упомянутой Свидой, мы не знаем. Прокл в одном месте (in Tim. III. 27. 10) цитирует Юлиана έν έβδομη τών Ζωνών [«в седьмом поясе»], и эта цитата очень напоминает раздел из «Теургики», описывающей в 7 главах семь планетных сфер, через которые душа спускается и поднимается вновь (ср. in Remp. II. 220. 11 сл.). О возможном содержании «Телестики» см. ниже, раздел IV.
Каким бы ни было возможное происхождение «Халдейских оракулов», они, без сомнения, включали в себя не только предписания по культу огня и солнца,[1030] но и инструкции по магическому призыванию богов. Традиция представляет обоих Юлианов как могущественных магов. Согласно Пселлу,[1031] Юлиан-старший «вызвал» для своего сына дух Платона; кроме того, считали, что они способны с помощью чародейства (αγωγή) вызвать призрак бога Хроноса.[1032] Они могли также заставить душу человека покинуть тело и вновь вернуться в него.[1033] Их известность не ограничивалась неоплатонической средой. Сильная гроза, которая спасла римскую армию во время похода против квадов в 173 г. н. э., была приписана магическому искусству Юлиана-младшего;[1034] по версии Пселла, Юлиан сделал человеческую маску из глины, которая выпускала «ужасные молнии» во врагов.[1035] Созомен слышал о том, как он расколол камень магическим способом (Hist. Eccl. I. 18); а одна колоритная христианская легенда рассказывает, как он состязался в демонстрации магических сил с Аполлонием и Апулеем: Рим страдал от чумы, и каждому чародею выделили для медицинских экспериментов по одному сектору города; Апулею потребовалось пятнадцать дней, чтобы прекратить чуму, Аполлонию — десять, а Юлиан остановил ее простым властным словом.[1036]
II. Теургия в неоплатонической школе
Творцом теургии был маг, а не неоплатоник. А творец неоплатонизма не был ни магом, ни — как бы не уверяли нас некоторые современные авторы — теургом.[1037] Последователи Плотина никогда не считали его теургосом., да и он сам не использует в своих сочинениях термин теургия или родственные ему слова. Фактически нет доказательств[1038] того, что он когда-либо слышал о Юлиане и о его «Халдейских оракулах». Если бы он знал о них, то наверняка подверг бы той же уничтожающей критике, как и откровения «Зороастра и Зостриана, и Никофея, и Аллогена, и Меса, и других того же сорта», которые были изложены и изучены на его семинарах.[1039] В своем выдающемся произведении, защищающем основы греческого рационализма — «Против гностиков» (Enn. 2. 9), он очень ясно показывает и свое отвращение ко всяким маниакальным «особым откровениям» ,[1040] и свое презрение к τοις πολλοίς, οϊ τάς παρά τοις μάγοις δυνάμεις Οαυμάζουσι [«многим, которые удивляются магическим способностям»] (с. 14, I. 203. 32 Volkmann). Не то чтобы он отрицал эффективность магии (да и какой человек в III столетии мог отрицать ее?): она его просто не интересовала. Он видел в ней просто низведение до среднего обывательского уровня «истинной магии, которая есть сумма любви и ненависти во вселенной», таинственной и достойной восхищения симпатии, организующей единый космос; люди восхищаются человеческой гоэтией [колдовством] больше, чем магией природы только потому, что меньше знакомы с последней.[1041]
Несмотря на все это, в статье «Теургия», которая появилась в недавнем томе Паули-Виссова, Плотин называется теургом, и Айтрем недавно заявил, что «Plotin, dont sans doute derive la theurgie».[1042],[1043] Главные основания для подобного мнения, по-видимому, таковы: 1) приписываемое Плотину[1044] египетское происхождение, а также то, что он обучался в Алексан рии под руководством Аммония Саккаса; 2) атрибутируемые ему глубокие[1045] познания в области египетской религии; 3) его опыт unio mystica (Porph. vit. Plot. 22); 4) происшествие в римском храме Исиды (ibid., 10). Из этих положений лишь последнее кажется мне достойным внимания. О первом достаточно сказать, что имя Плотина — римское, что его образ жизни и речь характерно греческие и что на основании того немногого, что нам известно об Аммонии Саккасе, ничто не указывает на его занятия теургией. Относительно знакомства с египетской религией, раскрывающегося в «Эннеадах», можно сказать, что оно ограничивается лишь несколькими вопросами самого общего плана; Порфирий изучил столько же, если не больше, читая Хере-мона.[1046] А что касается Плотинова unio mystica, то всякому внимательному читателю должно быть ясно из пассажей, подобных Enn. 1. 6. 9 или 6. 7. 34, что он достигается не с помощью ритуалов заклинания или исполнения предписанных действий, но посредством внутренней дисциплины ума, которая не влечет за собой никакого искусственного элемента и ничего общего не имеет с магией.[1047] Остается еще событие в Исее. Это, возможно, теургия или нечто на нее похожее. Но сведения о ней основываются только на слухах, циркулировавших внутри самой школы (см. ниже, с. 423). Да и в любом случае разовое посещение спиритического сеанса не делает из человека спиритуалиста, особенно если, как у Плотина, оно происходит по инициативе другого лица.
Плотин — человек, который, как считает Вильгельм Кролль, «с помощью большого интеллектуального и нравственного усилия поднялся над той туманной атмосферой, которая его окружала». Пока он жил, он возвышал вместе с собой и своих учеников. Но после его смерти туман начал снова сгущаться, и поздний неоплатонизм во многих отношениях есть регресс к бесхребетному синкретизму, от которого Плотин старался избавиться. Конфликт между личным влиянием Плотина и суевериями эпохи разительно сказывается в колеблющейся позиции его ученика Порфирия[1048] — искреннего, образованного, обаятельного человека, однако непоследовательного и не особо творческого мыслителя. Глубоко религиозный по своему темпераменту, он имел неизлечимую слабость к оракулам. Еще до встречи с Плотином[1049] он успел опубликовать сборник работ под названием Περί της έκ λογίων φιλοσοφίας [«О философии на основании изучения оракулов»].[1050] Некоторые из них упоминают медиумов, да и сами, несомненно, являются тем, что мы называем плодами «комнаты для сеансов» (см. ниже, раздел V). Но в этом сборнике нет ни одной ссылки на «Халдейские оракулы» (а также термина «теургия»); возможно, он еще не подозревал об их существовании, когда писал о них. Позже, когда Порфирий выучился Плотиновой манере задавать вопросы, он адресовал ряд чрезвычайно детальных и часто иронически звучащих вопросов о демонологии и оккультизме египтянину Анебону[1051] и указал, среди прочего, на тщетность стараний наложить магические ограничения на божество.[1052] Видимо, гораздо позднее,[1053] уже после смерти Плотина, он выкопал «Халдейские оракулы» — из той безвестности, в которой они пребывали (как и многие подобные книги) более чем столетие, написал на них комментарий[1054] и «постоянно ссылался на них» в своем трактате de regressu animae.[1055] В этом произведении он утверждал, что теургические теле таи [таинства] могут очистить пневматике псюхе [духовную душу] и сделать ее «aptam susceptioni spirituum et angelorum et ad videndos deos» [«пригодной к принятию духов и ангелов и к видению богов»], но предупреждал своих читателей, что практика эта рискованна и способна принести не меньше вреда, чем пользы, отрицая, что она помогает душе возвратиться к богу.[1056] В принципе, Порфирий продолжал сохранять в своем сердце преданность Плотину.[1057] Тем не менее он сделал опасную уступку оппонирующим направлениям.
Отзвук подобных направлений проявился в комментарии Ямвлиха на «Халдейские оракулы»[1058] и в дошедшем до нас трактате «О мистериях».[1059] Это настоящий манифест иррационализма, который утверждает, что дорога к спасению идет не через разум, а через ритуал. «Ведь не мысль связывает теургов с богами: в противном случае что препятствовало бы людям, занимающимся философией, вступать в теургическое единение с богами? На самом же деле это не так. Теургическое единение дают свершение неизреченных и богоугодно осуществляющихся превыше всякого мышления дел и сила мыслимых только богами невыразимых символов. Даже когда мы не мыслим, условные знаки (συνθήματα) сами по себе делают свое дело, и неизреченная сила богов, к которым восходят эти знаки, узнает свои изображения сама по себе, но не потому, что побуждается нашим мышлением»[1060] (de must. 96. 13 Parthey). Павшим духом язычникам IV столетия подобные идеи предлагали заманчивое утешение. «Теоретические философы» спорили уже девять столетий, и что из этого вышло? Только очевидный упадок культуры да постепенный рост христианского αΟεότης,[1061] который столь откровенно слизывал кровь с умирающего эллинизма. Как вульгарная магия является обычно последним прибежищем отчаявшихся в самих себе, тех, для кого и человек, и Бог стали одинаково чужды, так теургия превратилась в убежище отчаявшейся интеллигенции, которая уже чувствовала la fascination de l'abime.[1062]
Тем не менее даже и в следующем поколении после Ямвлиха теургия, похоже, не была полностью принята в неоплатонической школе. Евнапий в одном интересном пассаже (vit. soph. 474 сл. Boissonade) описывает Евсебия из Минда, ученика Эдесия (который сам был учеником Ямвлиха), проповедовавшего, что теургия — занятие «безумных людей, которые совершенно неверно понимают некоторые свойства материи», и настраивавшего будущего императора Юлиана против «этого театрального чудотворца» — теурга Максима: он заканчивает свою речь словами, которые живо напоминают Плотина: συ δέ τούτων μηδέν θαυμάσης, ώσπερ ουδέ έγώ, τήν διά του λόγου κάθαρσιν μέγα τι χρήμαύπολαμβάνων [«ты, а не я, не должен ничему такому дивиться, принимая теургическое очищение за нечто великое»] и на которые принц отвечает: «Вы можете продолжать хранить верность своим книгам: я же знаю, куда теперь идти» — и отправляется к Максиму. Вскоре после этого мы видим, как юный Юлиан просит своего друга Приска сделать для него копию комментария Ямвлиха на сочинение его тезки (Юлиана-теурга); ибо, говорит он, «я жаден до Ямвлиха в философии и до моего тезки в теософии (т. е. в теургии) и думаю, что никто с ними не сравнится».[1063]
Покровительство Юлиана на время сделало теургию очень влиятельным течением. В ходе его реформ языческого жречества теург Хрисанфий оказался архиереем в Лидии; Максим же, в качестве теургического консультанта императорского двора, стал преуспевающим и влиятельным eminence grise[1064] т. к. υπέρ τών παρόντων έπί τούς θεούς άπαντα ανέφερον [«он все запредельное возводил к богам»] (Eunap. р. 447 Boiss.; ср. Amm. Marc. 22. 7. 3 и 25. 4. 17). Но Максим дорого заплатил за это в ходе последующей христианской реакции: вначале его заставили уплатить штраф, затем пытали и, вероятно, в 371 г. казнили по обвинению в заговоре против императоров (Eunap. р. 478; Amm. Marc. 29. 1. 42; Zosimus 4. 15). В течение какого-то времени после этого события теурги благоразумно скрывались;[1065] традиция их искусства втайне сохранялась в некоторых семьях.[1066] В V столетии ее снова открыто проповедовали и практиковали афинские неоплатоники: Прокл не только написал трактат Περί αγωγής [«Об образе жизни»], а затем комментарий на «халдейские оракулы», но и лично имел видения (αϋτοπτουμένοις) сияющих «гекатических» фантазмов и слыл, подобно основателю теургического культа, великим «вызывателем дождя».[1067] Потом теургия Юлиана вновь ушла в подполье, но не умерла окончательно. Пселл описывал ритуал теагогии, почти аналогичный языческой теургии, который проводил некий архиепископ (τοις Χαλδαίων λόγοις επόμενος [«следуя халдейским оракулам»]): следовательно, это еще имело место быть в Византии в XI в.;[1068] а комментарий Прокла на «Оракулы» в XIV в. был известен, прямо или косвенно, Никифору Григоре.[1069]
III. Сеанс в храме Исиды
Порфирий, vita Plotini 10 (16. 12 ff. Volk.): «Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-то из друзей познакомил его с Плотином; желая показать ему свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы вызвать его демона-хранителя, и Плотин легко согласился. Заклятие демона было устроено в храме Исиды — по словам египтянина, это было единственное чистое место в Риме; и когда демон был вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин воскликнул: "Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон низшей породы!" — и тотчас запретил и о чем-либо спрашивать этого бога, и даже смотреть на него, потому что товарищ их, присутствовавший при зрелище и державший в руках сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их». [Цит. по: Порфирий. Жизнь Плотина // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 431].
Этот любопытный отрывок анализировался Хопфнером в OZ II. 125, и более обстоятельно — Айтремом в Symb. Oslo. 22. 62 ff. Впрочем, нам не следует придавать ему слишком большого исторического значения. Использование Порфирием слова φα,σίν [они говорят][1070] показывает, что сведения о «сеансе» он не получил ни от самого Плотина, ни от другого «клиента»; а поскольку он говорит, что этот случай ускорил составление Плотином трактата Περί του είληχότος ήμας δαίμονος [«О полученном по жребию нашему даймоне»] {Enn. 3. 4), он должен был произойти (равно как и составление этого трактата) еще до прибытия Порфирия в Рим, и по меньшей мере за 35 лет до публикации «Жизни...». Свидетельство, на котором основывается его рассказ, не получено из первых рук и, возможно, значительно отстоит по времени от данного события. Оно не может, как правильно говорит Айтрем, «avoir la valeur d'une attestation authentique» .[1071].[1072] Тем не менее оно показывает, пусть и немного в двусмысленной манере, что в III столетии на довольно высоком уровне проводились специфические магические процедуры.
Ни цель, ни место сеанса не должны нас сильно удивлять. Вера в вечный даймон очень архаична и широко распространена, и она была воспринята и рационализирована, хотя и по-своему, Платоном и стоиками.[1073] То, что она, видимо, играла какую-то роль в греко-египетской магии, подтверждается PGM vii. 505 ff., где содержится один заговор, к сожалению, сохранившийся не полностью, который озаглавлен Σύστασις ιδίου δαίμονος [«Состояние своего даймона»].[1074] (Это не следует, однако, смешивать с типичным призыванием паредроса, или «близкого друга», связь которого с магом создается в ходе самой магической процедуры.) О даймоне, который оказывается богом, ср., помимо Plot. Enn. 3. 4. 6 (I. 265. 4 Volk.): δαίμων τούτω θεός [«даймон поэтому бог»] (цит. Айтремом), еще Olymp, in Ale. p. 20 Cr., где, различая фейои даймонес и более низшие ранги, он говорит, что oi κατ' ούσίαν εαυτών βιοΰντες και ώς πεφύκασι τόν θείον δαίμονα έ'χουσιν είληχότα... κατ' ούσίαν δέ έστι ζην τό πρόσφορον αίρείσθαι βίον τη σειρφ ύφ' ην ανάγεται, οίον στρατιωτικόν μέν, έάν ύπό τήν άρεϊκήν, κτλ [«живущие согласно своей собственной сущности изначально имеют назначенного по жребию божественного даймона... согласно сущности неизбежно, что одна жизнь предпочитает подневольный образ жизни, например, военный, который протекает под властью Ареса»]. Что касается выбора места, то он достаточно хорошо объясняется широко известным требованием τόπος καθαρός [чистое место] для магических операций,[1075] к чему следует добавить утверждение Херемона о том, что египетские храмы были доступны в обычное время только тем, кто очистился и перенес суровые посты.[1076]
Но вот что смущало Айтрема, равно как и меня самого, так это роль, которую играют птицы (ας κατείχε φυλακής ένεκα) в защите операторов от атак злобных духов (смысл здесь, конечно, не в том, чтобы операторы удерживали птиц от улетания, как считают Маккенна, Брейер и Гардер: ибо тогда их присутствие было бы в целом необъяснимо). Защитные меры иногда предписываются и папирусами.[1077] Но каким образом птицы могли действовать как φυλακή [охрана]? И почему их убиение заставило исчезнуть призрак? Хопфнер говорит, что бога прогнала нечистота смерти: птиц принесли в жертву для того, чтобы вызвать άπόλυσις [освобождение];[1078] но это жертвоприношение было сделано раньше времени и без особой надобности. Айтрем, с другой стороны, вспоминая PGM xii. 15 ff., где удушение птиц является частью ритуала по оживлению восковой фигуры Эрота, думает, что реальным намерением скорее всего было жертвоприношение и что Порфирий или его информатор просто плохо понимали, что произошло: он считает, что мотивы, связанные с филосом, «invraisembables».[1079] В поддержку этого взгляда он мог бы привести собственное утверждение Порфирия из «Письма к Анебону»,[1080] гласящее, что δια νεκρών ζώων τά πολλά αίθεαγωγίαι επιτελούνται [«из-за множества убитых животных божественные видения прекращаются»], который, по-видимому, выводит объяснение Хопфнера из обсуждения. Есть, однако, еще один пассаж из Порфирия, где подразумеваются теургические мистерии: в de abst. 4. 16 (255. 7 Ν.) он говорит: όστις δέ φασμάτων φύσιν ίστόρησεν, οίδεν καθ' όν λόγον άπέχεσθαι χρή πάντων ορνίθων, καί μάλιστα όταν σπεύδη τις έκ τών χθονίων άπαλλαγήναι καί πρός τούς ουράνιους θεούς ίδρυνθήναι [«всякий, кто исследовал природу видений, знает, почему нужно воздерживаться от всех птиц, особенно тогда, когда кто-то стремится освободиться от подземных богов и возвести себя к небесным богам»]. Это столь напоминает случай в Исее (ибо άπέχεσθαι едва ли может означать воздержание от убийства в той же мере, как и от еды), что трудно не почувствовать, что Порфирий имел в виду именно это. Можно также сравнить пифагорейское правило, которое специально запрещало принесение в жертву петухов (Iamb. vit. Pyth. 147, Protrept. 21).
Но если это так, почему же все-таки там были птицы? Возможно, потому, что само их присутствие являлось фюлаке. Орнитес, без уточнения описания, — обычно домашняя птица, катойкидиои орнитес (ср. L.-S., s. v.). Домашняя же птица, как указывал Кюмон,[1081] когда ее завезли в Грецию из Персии, сохранила и титул священной птицы, гонительницы тьмы и, следовательно, демонов.[1082] Плутарх, к примеру, знает, что кюнес кай орнитес принадлежат Оромазду (Ормузду).[1083] Может ли не быть вероятным, что в этом вопросе, как и в своем культе огня, теургическая традиция сохранила следы иранских религиозных идей и что если уж не египетский жрец, то по крайней мере Порфирий думал о функции птиц как апотропаической[1084] и об их убиении как грубом нарушении небесных порядков? Есть одно позднее свидетельство, поддерживающее это предположение: так, мы узнаем из Прокла, что петухи — солнечные существа, μετέχοντες καί αυτοί τοΰ θείου κατά τήν εαυτών τάξειν, а также то, что ήδη τινά τών ηλιακών δαιμόνων λεοντοπρόσωπον φαινόμενον, άλεκτρύονος δειχθέντος, αφανή γενέσθαι φασίν ύποστελλόμενον τά τών κρειττόνων συνθήματα.[1085] [«... они и сами участвуют согласно своей природе в явлении божества... кто-то из солнечных даймонов является в обличье льва, а когда показывается петух, говорят, что при его исчезновении благоприятные знаки исчезают»].
IV. Modus Operandi: τελεστική
Прокл высокопарно определяет теургию как «силу, превышающую всю человеческую мудрость, дающую дар пророчества, очищающую ступени посвящения — словом, в нее включены все действия, имеющие отношение к божественной одержимости» (Theol. Plat., p. 63). Ее вполне можно понять как магию, которая приспособлена к религиозным целям и которая основывается на априорном религиозном откровении. Там, где вульгарная магия использовала религиозные имена и формулы для профанных целей, теургия пользовалась процедурами вульгарной магии в религиозных целях: ее телосом было ή προς τό νοητόν πυρ άνοδος [«целью было восхождение по умопостигаемому огню»] (de myst. 179. 8), что позволяло ее приверженцам избежать эймармене (ού γάρ ύφ' είμαρτην άγελην πίπτουσι θεουργοί [«ведь теурги не относятся к толпе, над которой властвует судьба»], Or. chald. p. 59 Kr.; ср. de myst. 269. 19 сл.) и гарантировало της ψυλής άπαθανατισμός [«бессмертие души»] (Procl. in Remp. I. 152. 10).[1086] Но теургия имела и более непосредственную выгоду: книга III «О мистериях» полностью посвящена техникам прорицания, и, как утверждают, Прокл получил от даймонов много откровений о прошлом и будущем (in Remp. I. 86. 13).
Насколько можно судить, теургические обряды были очень похожи на обряды вульгарной магии. Можно выделить два главных типа: 1) обряды, связанные исключительно с использованием сюмбола или сюнтемата, 2) обряды, в которых предполагалось участие впадающего в транс «медиума».
Из этих двух типов теургии первый известен как телестике, и он главным образом связан с освящением (τελείν, Procl. in Tim. III. 6. 13) и оживлением магических статуй с целью получить от них оракулы — Procl. in Tim. III. 155. 18: τήν τελεστικήν καί χρηστήρια καί αγάλματα θεών ίδρΰσθαι έπί γης και διά τίνων συμβόλων επιτήδεια ποιεΐν τά έκ μερικής ύλης γενόμενα και φθαρτής εις τό μετέχειν θεού κα'ι κινεΐσθαι παρ' αυτού κα'ι προλέγειν τό μέλλον [« во время таинств оракулы и статуи бога воздвигаются на земле, и надо произвести необходимые действия для вызывания божества, опираясь на некоторые символы, сделанные из сыроватого вещества, подверженного гниению, а затем прийти из-за этого в возбуждение и предсказывать будущее»]; Theol. Plat. I. 28, p. 70: ή τελεστική διακαθήρασα καί τινας χαρακτήρας και σύμβολα περιτιΟεΐσατώάγάλματιέμψυχοναύτόέποίησε [«таинство, в котором очистили некоторые изображения и символы и расположили их вокруг статуи, сделало ее живой»]; это же имеется в виду in Tim. I. 51. 25, III. 6. 12 сл., in Crat. 19. 12.[1087] Можно предположить, что по крайней мере часть этой традиции восходит к «Телестике» Юлиана: так, использование сюмбола непосредственно прослеживается вплоть до «Халдейских оракулов».[1088]
Чем же были эти сюмбола и как они использовались? Самый ясный ответ дается в одном из писем Пселла:[1089] εκείνη γάρ (sc. ή τελεστική επιστήμη) τά κοίλα τών αγαλμάτων ϋλης έμπιπλώσα οικείας ταΐς έφεστηκυίαις δυνάμεσι, ζώων, φυτών, λίθων, βοτάνων, ριςών, σφραγίδων, εγγραμμάτων, ένίστε δέ καί αρωμάτων συμπαθών, συγκαθιδρύουσα δέ τούτοις κα'ι κρατήρα κα'ι σπονδεΐα καί Ουμιατήρια, έμπνοα ποιεί τά είδωλα και τή άπορρήτφδυνάμει κινεί [«ведь согласно этой (науке о таинствах) наполняют полость статуи подобающим веществом, состоящим из надлежащих частей, животных, растений, камней, трав, корней, драгоценных камней, записок, и иногда приятными ароматами и воздвигают вместе с ними сосуды, чаши для возлияний, кадильницы, что, таким образом, делает изображения живыми и заряжает их тайной силой»]. Это исконная теургическая доктрина, истоки которой, несомненно, коренятся в комментарии Прокла на «Халдейские оракулы». Животные, травы, камни и следы фигурируют в de myst. 233. 10 сл. (ср. Aug. Civ. D. 10. 11), а Прокл приводит список магических трав, камней и т. д., пригодных для различных целей.[1090] Любое божество имеет свое симпатическое представительство в животном, растительном и минеральном царстве, каждое из которых или является само, или содержит сюмболон своей божественной основы и, следовательно, находится еп rapport[1091] с последней.[1092] Эти сюмбола таились внутри статуй,[1093] так что о них мог знать только телестес [посвященный] (Procl. in Tim. I. 273. 11). Сфрагидес (выгравированные геммы) и эгграмата (письменные формулы) соответствуют χαρακτήρες καί ονόματα ζωτικά [«живые буквы и письмена»] 6. 13. Характерес (буквы, включающие, среди прочего, семь гласных, символизирующих семь планетных божеств)[1094] могут быть либо записанными (Οέσις), либо устными (έκφώνησις).[1095] Правильный способ произношения их был профессиональной тайной, передаваемой изустно.[1096] Атрибуты бога могли быть также с магическим эффектом поименованы в устном заклинании.[1097] Далее, «жизнедающие имена» содержали некоторые тайные заклинания, которые сами боги открыли Юлианам, тем самым позволив им получить ответы на их молитвы.[1098] Так может быть в случае с ονόματα ßapßapu, которые, согласно «Халдейским оракулам», теряют свою эффективность, если их перевести на греческий.[1099] Некоторые из них действительно совпадают с именами богов;[1100] что же до остальных, то их характер не имеет для нас смысла: αυτό τούτο έστιν αυτού τόσεμνότατον [«само это есть самое священное его (бога)»] (de myst. 254. 14 сл.).
Во всем этом теургическая телестике была далеко не оригинальна. Древние травники и лапидарии переполнены названиями, взятыми из «астрологической ботаники» и «астрологической минералогии», которые связывали определенные растения и драгоценные камни с особыми планетными богами и истоки которых восходят по меньшей мере к Болу из Менды (ок. 200 г. до н. э.).[1101] Эти сюмбола уже использовались в заклинаниях греко-египетской магии; так, Гермеса заклинают, называя его растение и дерево; лунную богиню — перечисляя соотносимых с ней животных, и т. д., заканчивая: εί'ρηκά σου τά σημεία καί τά σύμβολα τού ονόματος [«я изрек твои признаки и знаки имени»].[1102] Характерес, списки атрибутов, ономата барбара [варварские имена] принадлежат к стандартной греко-египетской materia magica; их применение было знакомо Лукиану (Menipp. 9 fin.) и Цельсу, и идея их эффективности, пропадающей при переводе на другой язык, была решительно поддержана Оригеном в полемике с Цельсом (с. Cels. 1. 24 сл.). О боге, открывающем свое подлинное имя в ходе магической процедуры, ср. PGM i. 161 сл.; о важности правильного экфонесиса [восклицания] — PGM v. 24, и т. д.
И производство магических статуэток богов не было ни новым занятием, ни монополией теургов.[1103] Оно основывалось в конечном счете на архаичной и широко распространенной вере в естественную симпатию, связывающую образ с оригиналом,[1104] той же вере, которая лежит в основе магического использования образов человеческих существ ради envoutement.[1105] Центром ее распространения был, конечно, Египет, где, в свою очередь, она коренилась в аборигенных религиозных представлениях.[1106] Поздний герметический диалог «Асклепий» знает о «statuas animatas sensu et spiritu plenas» [«оживленные статуи, исполненные чувств и духа»], которые предсказывают будущее «sorte, vate, somniis, multisque aliis rebus» [«через жребий, прорицание, сновидения и многие другие вещи»] и могут вызывать и лечить болезни: искусство создания подобных статуй, введение в освященные образы — с помощью трав, драгоценностей и запахов — душ даймонов или ангелов, было открыто древними египтянами: «sie deorum fictor est homo» [«человек есть создатель таких богов»].[1107] Магические папирусы описывают способы создания подобных образов-фигурок и их оживления (ζωπυρεΐν, xii. 318) — напр., iv. 1841 сл., где говорится, что образ должен быть полым (как статуи, о которых сообщал Пселл), чтобы поместить туда магическое имя, написанное на золотом листе; 2360 сл., где полая статуя Гермеса содержит магическую формулу, осенена венком и освящена жертвоприношением петуха.
Начиная с I в. н. э.[1108] мы уже слышим об индивидуальном[1109] производстве и использовании магических статуэток неегипетского происхождения. Нерон обладал одной такой статуэткой, подаренной «plebeius quidam et ignotus» [«каким-то неведомым плебеем»], которая предупреждала его о заговорах (Suet. Nero 56); Апулея обвиняли — возможно, справедливо — в обладании подобным предметом.[1110] Лукиан в своем «Любителе истины» сатирически изобразил веру в них;[1111] Филострат упоминает об их применении в качестве амулетов.[1112] В III столетии Порфирий цитировал оракул Гекаты,[1113] дававший инструкции по изготовлению магического образа, который смог бы привести почитателя к созерцанию богини во сне.[1114] Но реальная мода на это искусство пришла позднее — видимо, благодаря Ямвлиху, который видел в нем самую эффективную защиту традиционного культа образов против насмешек христианских критиков. В то время как Порфирий в трактате Пери агалматон не утверждал, что боги буквально присутствуют в образах, их символизирующих,[1115] Ямвлих в одноименной работе заявлял, что «идолы божественны и исполнены божественного присутствия», и доказывал это описанием πολλά απίθανα.[1116] Его ученики привыкли ждать знамения от статуй и незамедлительно приписывали им свои собственные апифана: так, Максиму чудилось, будто статуя Гекаты смеется, а факелы в ее руках автоматически зажигаются;[1117] Гераиск имел столь тонкую восприимчивость, что мог сразу же отличить «живую» статую от «неживой» через ощущения, которые они вызывали в нем.[1118]
Навыки изготовления прорицающих фигур перешли от умирающего языческого мира в репертуар средневековых магов, где они имели долгую жизнь, хотя и не получили большого распространения по сравнению с фигурами, вызывающими envoutement. Так, булла папы Иоанна XXII, датированная 1326 или 1327 г., обвиняет некоторых людей в том, что они, магическим путем заточив демонов в статуи или другие объекты, вопрошают их и получают ответы.[1119] Два следующих вопроса тоже предполагают связь с теургической телестике, хотя она и не может быть прослежена здесь подробно. Во-первых, повлияло ли это искусство на веру, подобную вере средневековой Италии или Византии, в телесмата (талисманы) или «statuae averruncae» — заколдованные изваяния, присутствие волшебных существ в которых, скрытое или видимое, имело силу отвратить природную катастрофу или военное поражение?[1120] Были ли некоторые из этих телесмата (обычно приписываемые безымянным или легендарным магам) действительно работой теургов? Зосим говорит (4. 18), что теург Несторий спас Афины от землетрясения в 375 г. н. э., освятив такую телесму (статую Ахилла) в Парфеноне, в соответствии с инструкциями, полученными им во сне. Теургической также, по-видимому, была статуя Зевса Филиоса, освященная μαγγανείαις τισί καί γοητείαις [«всякими заклинаниями и чарами»] в Антиохии современником Ямвлиха, ревностным язычником Феотекном, который практиковал τελεταί [таинства], μυήσεις [посвящения] и καθαρμοί [очищения] в связи с этим освящением (Eus. Hist. Eccl. 9. 3; 9. 11). Видимо, тот же характер имела и статуя Юпитера с золотыми молниями, которая в 394 г. была «освящена с помощью некоторых ритуалов» , с целью помочь армии языческого претендента на трон, Евгения, в битве с войсками Феодосия (Aug. Civ. Dei 5. 26): здесь угадывается рука Флавиана, ведущего сторонника Евгения, человека, известного своей симпатией к языческому оккультизму. Кроме того, άγαλμα τετελεσμένον [магическая статуя], которая защитила Регий от огня Этны и морского наводнения, включала в себя στοιχεία [азбука, буквы] на манер сюмбола теургии и папирусов: έι γάρ τω ένί ποδί πυρ άκοίμητον ετύγχανε, καί έν τω έτέρω ύδωρ άδιάφθορον [« если у одной ноги был неугасаемый огонь, у другой — чистая вода»].[1121] Во-вторых, предполагала ли теургическая телестике, с точки зрения средневековых алхимиков, попытку создания искусственных человекоподобных существ («гомункулов»), чем они сами были постоянно заняты? Здесь связь идей менее очевидна, однако интересное доказательство определенной исторической преемственности было выдвинуто арабистом Паулем Краусом,[1122] преждевременная смерть которого является серьезной утратой для науки. Он указывает, что большой алхимический корпус, приписываемый Джабиру ибн Хайяну (Геберу), не только отсылает в этой связи к работе (апокрифической?) Порфирия «Книга порождения»,[1123] но и использует неоплатонические спекуляции об образах, в том смысле, который предполагает знание подлинных работ Порфирия, включая, возможно, и «Письмо к Анебону».[1124]
V. Modus Operandi: транс медиума
В то время как телес тике старалась ввести при сутствие бога в бездушное «вместилище» (υποδοχή), цель другой разновидности теургии состояла во временной инкарнации его в человеческое тело (κάτοχος, или, более технически — δοχεύς).[1125] Как первый вид этого искусства основывался на широком понимании идеи природной и спонтанной симпатии между образом и оригиналом, так последний — на распространенной вере в то, что спонтанные изменения личности происходили благодаря одержимости богом, даймоном или покойником.[1126] То, что техника вызывания подобных изменений восходит к Юлианам, можно вывести из утверждения Прокла о том, что способность души оставлять тело и возвращаться в него подтверждается όσα τοις έπί Μάρκου θεουργοΐς έκδέδοται καί γάρ εκείνοι διά δή τίνος τελετής τό αυτό δρώσινείς τόν τελούμενον [«подобное делается теургами при Марке. Ведь они через таинство совершают это для посвящаемого»].[1127] А что подобные техники практиковали также другие люди, иллюстрирует оракул, приводимый из сборника Порфирия Фирмиком Матерном (err. prof. rel. 14) и начинающийся так: «serapis vocatus et tra corpus hominis collocatus talia respondit» [«вызванный Серапис входит в человеческое тело и отвечает следующее»]. Ряд оракулов Порфирия основывается, как усмотрел Фредерик Майерс,[1128] на изречениях медиумов, которые входили в транс намеренно, и при этом не в официальных святынях, а в частных местах. Этому классу принадлежат указания по завершению транса (άπόλυσις), которые якобы давал бог через впадающего в транс медиума,[1129] что имеет свои аналоги в папирусах и едва ли может формировать часть официального прорицательства. Того же типа «оракул», приводимый (из Порфирия) Проклом в in Remp. I. 111. 28, «ούφέρειμετούδοχήοςή τάλαινα καρδία», φηοί τις θεών [«Жалостливое сердце не в силах переносить и вмещать», — говорит некто из богов]. Такой частный эйскрисис отличался от официальных оракулов тем, что бог считался вошедшим в тело медиума не в силу спонтанного акта милости, но в ответ на мольбу, а то и давление[1130] оператора (κλήτωρ).
Этот тип теургии особенно интересен своей очевидной аналогией с современным спиритуализмом: будь мы лучше информированы о нем, мы могли бы надеяться, что какое-то сравнение обоих суеверий могло бы пролить свет на их психологическую и физиологическую основу. Но наша информация удручающе скудна. Из Прокла известно, что перед «сеансом» и оператор, и медиум проходили очищение огнем и водой[1131] (in Crat. 100. 21) и что они облачались в специальные хитоны с особыми поясами, соответствующими призываемому божеству (in Remp. 11. 246. 23); это, по всей видимости, соответствует Νειλαίη οθόνη или σινδών [нильская ткань... полотно] порфириевского оракула (Praep. Ευ. 5. 9), передвижение которого было основным элементом аполисиса (ср. PGM iv. 89: ωνδονιάσας κατά κεφαλής μέχρι ποδών γυμνόν... παΐδα [«облачив с головы до ног обнаженного... мальчика»], «lintea indumenta» [льняная одежда] магов в Amm. Marc. 29. 1. 29, и «purum pallium» [чистый паллий] Apul. Apol. 44). Медиум носил также венок, имевший магическую эффективность,[1132] и держал в руке или носил на одежде, εικονίσματα τών κεκλημένωνθεών [«изображения призываемых богов»][1133] или другие необходимые сюмбола.[1134] Что еще делалось для стимулирования транса, не совсем ясно. Порфирий знает людей, которые стараются вызвать одержимость «путем точного соблюдения характерес» (как делали и средневековые маги), но Ямвлих презрительно относится к этой процедуре (de myst. 129. 13; 131. 3 сл.). Ямвлих признает использование атмои [испарений] и эпиклесиса [прославления] (ibid., 157. 9 сл.), но отрицает, что они имеют какое-либо воздействие на сознание медиума; Апулей, с другой стороны (Apol. 43), говорит о медиуме, отправляющемся ко сну, «seu carminum avocamento sive odorum delenimento» [«или при помощи заклинаний, или благодаря использованию испарений»]. Прокл знает о практике мазания глаз стрихнином и другими наркотиками с целью вызывания видений,[1135] но не приписывает ее теургам. Возможно, эффективность операций в теургической деятельности, как и в спиритуализме, являлась психологическим, а не физиологическим феноменом. Ямвлих говорит, что не всякий может быть потенциальным медиумом; самые надежные — «дети и простые люди».[1136] Этот взгляд вписывается в русло общего античного представления;[1137] да и современный опыт в целом имеет тенденцию к тому, чтобы поддержать его, по крайней мере относительно второй части этого требования.
Поведение и психологическое состояние медиума описываются весьма обстоятельно, хотя и туманно, Ямвлихом (de myst. 3. 4-7), а в более ясных выражениях — Пселлом (orat. 27, Scripta Minora I, 248. 1 сл., опираясь на Прокла: ср. также CMAG VI. 209. 15 сл., и Op. Daem. xiv, PG 122. 851). Пселл различает случаи, когда личность медиума полностью пассивна, так что абсолютно необходимо иметь рядом нормального человека, чтобы следить за ним, от тех, когда сознание (παρακολούϋησις) продолжает Οαυμαστόν τινα τρόπον [«(действовать) достойным удивления образом»], вследствие чего медиум знает τίνα τε ενεργεί καί τί φθέγγεται καί πόθεν δει άπολύειν τό κι νουν [«(знает), что делать и что изрекать и как нужно выпустить наружу возбуждение»]. Оба эти вида транса встречаются и в наши дни.[1138] Ямвлих говорит, что симптомы транса сильно варьируются в зависимости от разных «контактеров» и по разным случаям (111. 3 сл.); здесь могут быть: анестезия, в том числе нечувствительность к огню (110. 4 сл.); телесные движения или полная неподвижность (111. 17); изменения в голосе (112. 5 сл.). Пселл упоминает о риске υλικά πνεύματα [«вещественных дуновений» |, вызывающих конвульсивные движения (κίνησιν μετά τίνος βίας γενομένην [«движение, возникшее при помощи мистической силы»]), которые медиумы послабее не способны вынести;[1139] в другом месте он говорит о κάτοχοι [одержимых], закусывающих губу и невнятно бормочущих что-то сквозь зубы (CMAG VI. 164. 18). Большинство этих симптомов могут быть проиллюстрированы на примере транса миссис Пайпер, которую исследовала миссис Генри Сидгвик.[1140] Из этого, я думаю, резонно заключить, что состояния, описываемые древними и современными наблюдателями, являются если не идентичными, то по крайней мере аналогичными (можно добавить примечательное наблюдение, приводимое Порфирием, ар. Eus. Praep. Ευ. 5. 8, из Пифагора Родосского, что «боги» в первый раз являются неохотно, но приходят более легко потом, когда они уже имеют сформированную привычку — т. е. когда в транс привыкает впадать определенная личность).
Мы не слышим, чтобы эти «боги» демонстрировали какие-то доказательства своей идентичности; видимо, их идентичность действительно зачастую была под вопросом. Согласно Порфирию, трудно отличить явление бога от присутствия ангела, архангела, даймона, архонта или человеческой души (de myst. 70. 9). Ямвлих признает, что не очистившиеся или неопытные операторы иногда вызывают не того бога или, еще хуже, одного из тех злых духов, которых называют антитеои[1141] (ibid., 177. 7 сл.). Говорили, что он лично разоблачил лже-Аполлона, который на самом деле был лишь духом какого-то гладиатора (Eunap. uii. soph. 473). Ложные ответы атрибутируются Синезием (de insomn. 142а) таким назойливым духам, которые «подскакивают и занимают место, приготовленное для более высоких существ»; его комментатор, Никифор Григора (PG 149, 540а), приписывает этот взгляд «халдеям» (Юлиану?) и цитирует (из «Халдейских оракулов»?) предписание о том, как поступать в таких ситуациях. Согласно другому объяснению, ложные ответы возникают из-за «плохих условий»[1142] (πονηρά κατάστασις τοΰ περιέχοντος [«плохое состояние атмосферы»], Porph. ар. Eus. Praep. Ευ. 6. 5= Philop. de mundi creat. 4. 20) или из-за отсутствия эпитедейотеса [годности];[1143] есть и другие причины, например, хаотическое состояние ума медиума или несвоевременное вмешательство его нормального «я» (de myst. 115. 10). Все эти способы оправдания неудач описываются в литературе по спиритизму.
Помимо изрекания прошлого или будущего устами медиума боги подчас показывали видимые (изредка — слышимые)[1144] знаки своего присутствия. Тело медиума может заметно удлиняться или расширяться,[1145] он может начать левитировать (de myst. 112. З).[1146] Но обычно манифестации бога принимали форму светящихся призраков: так, Ямвлих считает, что, если эти «блаженные видения» отсутствуют, операторы не могут быть уверены в том, что они делают (de myst. 112. 18). Прокл различал два типа сеансов: «автоптические», где театес сам свидетельствовал о духовных феноменах, и «эпоптический», где ему приходилось довольствоваться теми описаниями, которые ему сообщал κλήτωρ (ό την τελετήν διατιθέμενος) [«глашатай, совершающий таинство»].[1147] В последнем случае, конечно, видения навлекали подозрения в чистой субъективности; Порфирий, похоже предполагал то же самое, тогда как Ямвлих энергично отрицает, что энтусиасмос или мантике могут иметь субъективное происхождение (de myst. 114. 16; 166. 13), и упоминает о вещественных следах, остающихся после посещения богов.[1148] Поздние писатели прилагают усилия к тому, чтобы объяснить, почему только некоторые люди, благодаря ли естественному дару или иератике дюнамис [священной силе], способны наслаждаться подобными видениями (Procl. in Remp. 11. 167. 12; Hermeias in Phaedr. 69. 7 Couvreur).
Феномен светящихся призраков восходит к «Халдейским оракулам», в которых утверждалось, что при произнесении определенных заклинаний оператор должен увидеть «пламя в форме мальчика» или «бесформенный огонь, из которого исходит голос»; он может увидеть и другие вещи.[1149] Вспомним πυραυγή φάσματα [«огненные видения»], которые, по слухам, были показаны «халдеями» императору Юлиану,[1150] φάσματα Έκατικά φωτοειδή [«светящиеся гекатические видения»], которые, по его словам, лично видел Прокл (Marin, vit. Procl. 28), и упоминаемые Ипполитом правила призывания огненного призрака Гекаты естественными, хотя и в чем-то опасными средствами (Ref. Huer. 4. 36). В de myst. 3. 6 (112. 10 сл.). Эти феномены недвусмысленно связываются с медиумизмом: дух как огненная или светящаяся форма, входящая в тело медиума или выходящая из него, может быть виден оператором, медиумом, а иногда и всеми присутствующими: последнее (Проклова αυτοψία), как говорят, имеет наибольшую ценность. Явная аналогия с так называемой «эктоплазмой» или «телеплазмой», которые, как утверждают современные наблюдатели, выходят и входят в тела определенных медиумов, была отмечена Хопфнером[1151] и другими. Подобно «эктоплазме», привидения могут не иметь формы или иметь ее: один из оракулов Порфирия (Praep. Εν. 5. 8) говорит о «чистом огне, вошедшим в священные формы» (τύποι), но, согласно Пселлу (PG 122, 1136с), бесформенные призраки заслуживают наибольшего доверия, и Прокл (in Crat. 34. 28) приводит для этого причину: άνω γάρ αμόρφωτος ούσα δια τήν πρόοδον έγένετο μεμορφωμένη [«будучи бесформенной, постепенно стала оформленной»]. Феномен светимости, который обычно приписывается им, бесспорно, связан с «халдейским» (иранским) культом огня; но это так же напоминает и φωταγωγίαι [огни] папирусов,[1152] так же как и «огни» современной комнаты для сеансов. Прокл говорил о формообразующих процессах, которые происходят «в свете»:[1153] это предполагает λυχνομαντεία, подобную той, которая предписывается в PGM vii. 540 ff., где маг говорит (561): εμβηΟι αύτοϋ (sc. του παιδός) εις τήν ψυχήν, 'ίνα τυπώσηται τήν άΟάνατονμορφήν ένφωτί κραταιω καί άφθάρτω [«войди в душу его (ребенка) и создай там бессмертную форму из сильного и неугасаемого света»]. Айтрем[1154] перевел здесь τυπώσηται как «воспринять» (уникальное ощущение, не испытанное ранее); но, помня о только что приведенных пассажах, я думаю, нам следует переводить эту фразу как «дать форму» («abbilden» у Прайзенданца), т. е. предположить, что имеется в виду материализация. «Сильный бессмертный свет» замещает смертный свет лампы, точно так же как в PGM iv. 1103 сл. наблюдатель видит, как свет лампы становится «сводчатообразным», потом обнаруживает, что этот свет заменен «очень сильным светом, растущим в пустоте», и, наконец, созерцает бога. Но использовалась ли когда-нибудь лампа в теургии, мы не знаем. Конечно, одни типы фотагогии проводились в темноте, другие в полутемном помещении, тогда как лихномантия [прорицание по лампе] не фигурирует среди различий φωτός αγωγή, перечисленных в de myst. 3. 14. Тем не менее впечатляет сходство языка.[1155][1156]
Послесловие[1157]
Вплоть до последних десятилетий многие исследователи античности считали, что древние греки с их антропоморфными богами, с их идеалами разума, меры и гармонии были прирожденными рационалистами, не знавшими об иррациональных факторах человеческой практики и поведения. Этот взгляд укоренился отчасти под влиянием трудов историков философии — Д. Бернета, Э. Целлера, М. Нильссона и других, — рассматривавших греков как «прирожденных» рационалистов, а расцвет греческой культуры — как триумф рационализма.
В книге Э. Р. Доддса «Греки и иррациональное» предпринята попытка опровергнуть преувеличенные оценки рационализма греков и пересмотреть некоторые распространенные представления о греческой культуре, причинах ее расцвета и упадка.
Первая часть книги начинается с рассмотрения аспектов религии и психологии в творчестве Гомера.
Автор справедливо оспаривает распространенное среди известной части ученых мнение, будто во всей истории никогда не было поэмы менее религиозной, чем «Илиада», и что так называемая религия Гомера, боги которого «очаровательные выдумки поэтов», по существу вовсе не была религией. Рассматривая сложную проблему соотношения божественной и человеческой воли у Гомера, Доддс обращает внимание читателя на своеобразный вид «религиозного» опыта» гомеровских героев, связанный с безымянным демоном, неопределенным, сверхъестественным агентом ате[1158] (частичное помутнение рассудка или временное помешательство). Речь идет о тех случаях, когда источник неразумного поведения героев усматривается не в них самих, а во внешней силе, в божественном вмешательстве. Так, например, Агамемнон утверждает, что не он был виноват в несправедливости по отношению к Ахиллесу, а Зевс, Мойра и Эриния, как бы «вложившие» в него «дикое ослепление» (Илиада, XIX, 86 и сл.). В то же время Агамемнон не уклоняется от ответственности и предлагает Ахиллесу крупный выкуп за несправедливое деяние, совершенное им в состоянии «ослепления», помимо его желания и воли. Тот факт, что Агамемнон считает себя, так сказать, «без вины виноватым», не является уверткой, хитростью или неискренностью; это глубокое убеждение, разделяемое не только им самим, но и Ахиллесом и даже Гомером. «Ослепление» было ниспослано богом, входило в его планы, а значит, Агамемнон не мог ему противостоять. Однако было бы крайним анахронизмом, замечает Доддс, из подобного представления о неизбежности ате заключать, что Агамемнон считал себя детерминистом: вопрос о «свободе воли» и «детерминизме» неведом героям Гомера, но зато они прекрасно осознавали разницу между нормальным поведением человека и поведением под влиянием ате (см. с. 20).
К состоянию сознания, аналогичному ате по источнику происхождения, Доддс причисляет также менос. В отличие от постоянных жизненных сил — тюмос и нус — менос представляет собой временный прилив энергии, неожиданное ощущение силы и полноты страсти — словом, является кратковременным «пылом», имеющим своим источником тайный акт какого-то божества и потому нуждающимся в сверхъестественном объяснении. Находясь в состоянии божественного меноса, человек ведет себя необычно и может даже безнаказанно сражаться с богами (имеется в виду ранение Диомедом Афродиты и Ареса; Илиада, V, 330-351; II, 855-859). Этим «психическим вмешательством» безымянных демонов, неопределенных богов, которые могут вдохновить на подвиг или же отнять разум у человека и тем самым использовать его в качестве своего орудия, Гомер и объясняет отклонение от нормального поведения, то есть такое состояние человека, когда он не может понять причины этого отклонения (см. с. 22-29).
Полемизируя с Нильссоном, согласно которому апелляция к божественному вмешательству — это всего лишь дань традиции, отживший «механизм» объяснения, Доддс утверждает, что «религиозный опыт», связанный с ате и меносом, явился зародышем, из которого впоследствии возник «божественный механизм». Автор пишет: «Один из результатов переноса события из внутреннего мира во внешний состоит в том, что исчезает неопределенность: неясный даймон неизбежно становится конкретным, личностным божеством... Поэты, разумеется, не измыслили богов... Однако они наградили их персональностью и тем самым... сделали для греков невозможным впасть в магический тип религии, который превалировал у их восточных соседей» (с. 31-32).
По мнению Доддса, Гомеру свойственно объяснять характер, чувства и поведение человека в терминах рассудка. Ахиллес «знает дикие вещи, как лев» (Илиада, XXIV, 41) и «не знает сострадания» (Илиада, XVI, 35), Полифем «не ведает закона» (Одиссея, IX, 189). Нестор и Менелай (у Доддса неточность: сказано Агамемнон вместо Менелай) «знают взаимную дружбу» (Одиссея, III, 277). Эти термины, отмечает Доддс, не просто идиомы; они выражают рационалистический подход к объяснению поведения людей, наложивший отпечаток на всю греческую мысль: так называемые «парадоксы Сократа» («добро есть знание» и «никто не ошибается намеренно») представляют собой обобщенную формулировку того, что стало укоренившейся традицией мышления греков. Усматривая именно в рационализме Гомера один из источников религиозной идеи психического (божественного) вмешательства, автор говорит: «Если характером является само знание, тогда то, что не есть знание, не является частью характера и приходит к человеку извне. Когда человек действует в манере, противоположной системе сознательных установок, которую он, как считается, "знает", его деятельность не принадлежит ему изнутри, но продиктована ему. Иначе говоря, несистематические, нерациональные импульсы, а также действия, проистекающие из них, имеют тенденцию к исключению из Я и приписыванию их постороннему источнику» (с. 35-36).
Таким образом, Доддс считает источником религиозной идеи Гомера о психическом (божественном) вмешательстве интеллектуалистическую интерпретацию характера и поведения человека, и это можно считать новым словом в современном «гомероведении». Однако автор оставляет открытым вопрос о происхождении столь ярко выраженного интеллектуализма (рационализма) Гомера, апеллирующего в наиболее сложных ситуациях к человеческому разуму как к высшей инстанции. («Может быть, разум поможет?», Илиада, XIV, 62). Складывается впечатление, что Доддс, по существу, исходит из оспариваемой им идеи об «изначальности» рационализма греков. Надо полагать, что многое в рационализме Гомера не было бы загадочным, если бы автор обратился к социально-политическим условиям гомеровской Греции и, в частности, к гомеровской («военной»)демократии.
Несмотря на некоторые попытки объяснить трансформацию религиозных идей как результат социально-политических изменений, происшедших в греческом обществе VII-VI веков до н. э., автор ограничивается лишь крайне общими высказываниями об «экономическом кризисе» и «глубоком политическом конфликте» VI века, делая при этом акцент на распаде патриархальной семьи в греческом обществе в тот период, в результате которого личные права сына расширяются за счет ограничения прав отца.
Несмотря на попытки автора исследовать «неосознанные желания», проявляющиеся во сне и в видениях, методом психоанализа, положительных результатов он достигает преимущественно тогда, когда объективно отходит от этого метода. Упоминая, например, о традиционном (гомеровском) отношении к снам как к «объективным» явлениям и о разделении снов на виды (вещие, невещие, символические и т. п.), автор раскрывает новые аспекты некоторых высказываний древнегреческих философов. О Гераклите, например (и отчасти о Ксенофане), он говорит: это первый философ, который не только дискредитировал «объективный» характер сна, но и отверг практику снов в целом, призывая следовать не сновидениям, а объективно существующему «общему».
О трактовке Демокритом снов и сновидений автор пишет следующее: «Демокритовская атомистическая теория снов как эйдола, которые постоянно эманируют из людей и предметов и воздействуют на сознание спящих, проникая в поры их тела, несомненно, является попыткой подвести механистическую основу под объективный сон и подтверждением гомеровского понимания объективного характера сна. Эта теория предвосхищает "телепатические сны", объявляя, что эйдола переносят образы умственной деятельности существ» (с. 180). Трудно сказать, в какой мере Демокрит предвосхитил так называемые «телепатические сны», но признание им «объективности» как сновидений, так и богов тесно связано, по нашему мнению, с его теорией познания и является последовательным выводом из его материализма, а не результатом его «непоследовательности», как это обычно утверждается в нашей популярной (а иногда и в академической) литературе по истории философии.
Доддс выдвигает тезис, согласно которому греческий рационализм, завершившийся деятельностью софистов и приведший к греческому Просвещению, был как одной из причин расцвета греческой культуры, так и одной из причин ее упадка. Подобное утверждение может показаться парадоксальным и вызвать возражения. Обратимся поэтому к доводам автора. Прежде всего, он считает, что религиозно-мифологическая вера греков явилась объединяющим началом греческих общин в духовной сфере, основой греческой «общности». Этим и объясняется то внимание, которое Доддс уделяет процессу разложения греческой народной веры и его последствиям. Наметившаяся уже во времена Гомера брешь между «верой народа и верой интеллектуалов» в V веке до н. э. привела к их окончательному разрыву и к распаду народной религии (см. с. 264). Корни этого разрыва, по мнению автора, следует искать еще у Гекатея (VI век до н. э.), который был первым из греков, объявившим греческую мифологию «смешной» и взявшимся «исправить» ее путем рационального объяснения мифов. А его современник Ксенофан впервые подверг критике греческую мифологию с точки зрения морали. Отвергая антропоморфизм богов, Ксенофан отвергал и дар прорицаний (мантику), а вместе с ним и весь комплекс идей о вдохновении как результате божественного дара. Еще один удар народной религии он нанес, утверждая относительность религиозных верований: каковы люди, говорил он, таковы и их боги. Что же касается Гераклита, продолжает Доддс, то он не только отрицал ценность сновидений, но зачастую открыто нападал на народную веру: высмеивая ритуал катарсиса (очищения) и поклонения изваяниям богов, Гераклит «наносил прямой удар по идее религиозного очищения» (с. 266), а его высказывание о том, что «мертвецы отвратительнее навоза», отвергает всю суету похоронных обрядов, подробно описываемую и в аттической трагедии, и в греческой военной истории (см. там же). И, наконец, утверждая, что «личность — даймон человека», Гераклит отрицал иррациональную веру в судьбу, в божественный соблазн и божественное вмешательство. Ссылаясь на Виламовица, Доддс говорит, что, «будь Гераклит афинянином, его бы привлекли к суду за богохульство» (с. 267).
Таким образом, автор приходит к выводу, что разрыв между «верой немногих и верой большинства» (с. 282) (в ущерб тем и другим) достиг своей высшей точки в эпоху софистов, когда на обсуждение были поставлены фундаментальные моральные проблемы и номос («закон», «обычай» или «договор») был противопоставлен фюсис («природе»).
Резким расхождением между рационализмом немногих и иррациональной религиозной верой большинства, совпавшим с периодом Пелопоннесской войны — самой длительной и разрушительной из всех войн в истории Греции, — Доддс объясняет серию судебных преследований «интеллектуалов» (Анаксагора, Диагора, Сократа и Протагора) по религиозным мотивам, имевшим место в Афинах в последней трети V века. Связывая необычную для греков и для истории Афин вспышку религиозного фанатизма с «истерией» военного времени, когда в условиях общей опасности появляется необходимость в единстве и поэтому возникает нетерпимость к любому «шатанию», автор приходит к следующему заключению: «Античность действительно имела основания для того, чтобы настаивать на религиозном единомыслии в военное время, когда очень сильна роль бессознательного. Оскорбить богов, сомневаясь в их существовании или называя солнце камнем, было рискованно и в мирное время; а в период войн это являлось практически государственной изменой, означая пособничество врагу. Ибо религия обязывает к коллективной ответственности» (с. 280).
Доддс идет еще дальше, утверждая, что «новый рационализм» (то есть рационализм V века) принес с собой не только иллюзорную, но и реальную угрозу общественному порядку, давая возможность политическим деятелям вроде Крития оправдывать произвол и насилие. Разрушая традиционную веру и укоренившиеся нравственные нормы, такой рационализм ничего не давал взамен широким слоям народа: он был рационализмом для немногих и непостижимой магией для большинства. Более того, обособляясь и оставляя народное сознание без руководства, «новый рационализм» способствовал регрессу народной веры, что приводило людей к произвольному выбору богов и возвращению к примитивным формам веры. Отсюда и популярность разных видов магии (и это в эпоху Гиппократа!), распространение в Афинах и других частях Греции иностранных культов (Аттиса, Адониса, Сабазия), первобытных форм дионисийства и т. п. (см. с. 232-286).
По мнению Доддса, эти события заставили Платона пересмотреть свое рационалистическое учение о душе и преобразовать его, обогатить новыми идеями, а также попытаться реформировать народную религию. К числу новых идей, выводящих Платона за пределы ограниченного рационализма V века, Доддс относит мысль о возрастающем значении эмоциональных элементов и иррациональных факторов в поведении человека, которая возникла в процессе эволюции взглядов философа. Так, если в «Федоне» бессмертная душа резко противопоставляется бренному телу и отмечается стремление «божественной» души очиститься от «безрассудного» тела (с. 309), то уже в «Государстве» этот диалог разумной и безгрешной души со «страстями тела» переходит в размышления о моральном зле, явившемся результатом внутреннего психологического конфликта между «частями» души; страсти рассматриваются Платоном не как имеющие внешнее общественному порядку, давая возможность политическим деятелям вроде Крития оправдывать произвол и насилие. Разрушая традиционную веру и укоренившиеся нравственные нормы, такой рационализм ничего не давал взамен широким слоям народа: он был рационализмом для немногих и непостижимой магией для большинства. Более того, обособляясь и оставляя народное сознание без руководства, «новый рационализм» способствовал регрессу народной веры, что приводило людей к произвольному выбору богов и возвращению к примитивным формам веры. Отсюда и популярность разных видов магии (и это в эпоху Гиппократа!), распространение в Афинах и других частях Греции иностранных культов (Аттиса, Адониса, Сабазия), первобытных форм дионисийства и т. п. (см. с. 232-286).
По мнению Доддса, эти события заставили Платона пересмотреть свое рационалистическое учение о душе и преобразовать его, обогатить новыми идеями, а также попытаться реформировать народную религию. К числу новых идей, выводящих Платона за пределы ограниченного рационализма V века, Доддс относит мысль о возрастающем значении эмоциональных элементов и иррациональных факторов в поведении человека, которая возникла в процессе эволюции взглядов философа. Так, если в «Федоне» бессмертная душа резко противопоставляется бренному телу и отмечается стремление «божественной» души очиститься от «безрассудного» тела (с. 309), то уже в «Государстве» этот диалог разумной и безгрешной души со «страстями тела» переходит в размышления о моральном зле, явившемся результатом внутреннего психологического конфликта между «частями» души; страсти рассматриваются Платоном не как имеющие внешнее происхождение, а как необходимые части жизни духа и даже как источник энергии, подобно фрейдовскому либидо, которое может вызвать или чувственную, или интеллектуальную активность (с. 310). То же самое можно сказать и относительно понимания Эроса Платоном: Эрос соединяет в человеке две природы (животную и божественную), прокладывает мост между человеком, каков он есть, и человеком, каким он должен быть (см. с. 318). В соответствии с оценкой человеческой натуры Платон попытался перекинуть мост между мыслителями и народом, между новой «естественной религией философов» и традиционными верованиями масс, с тем чтобы стабилизировать общественную жизнь, спасти единство греческой веры и греческой культуры (см. с. 321-322). Но эта отчаянная попытка, предпринятая Платоном на закате жизни, как известно, не увенчалась успехом. Доддс заключает, что со стремлением стабилизировать общественную жизнь связана идея позднего Платона о союзе религиозной и гражданской жизни, его требование запретить свободу мысли в религиозных вопросах, а также предложение создать теократическое государство, которое в известных отношениях предвосхитило средневековую теократию, но отличалось от последней тем, что спасение души должно было достигаться в нем не умерщвлением тела, а борьбой с угрожающими обществу «опасными мыслями».
В последней главе рассматриваемой книги, весьма характерно названной «Страх свободы», Доддс обращается к вопросу о причинах упадка греческой культуры, точнее, выделяет из этой сложной проблемы, которая, по его мнению, должна стать одной из главных проблем мировой истории, один аспект, условно определяемый им как «возврат к иррационализму» (с. 355).
В идейно-культурном плане основную ответственность за «возврат к иррационализму» в античном мире автор возлагает на греческий рационализм, в особенности на рационализм эпохи эллинизма, переоценивавший человеческий интеллект и игнорировавший (за крайне редким исключением) иррациональные моменты в природе человека. Если Аристотель и его ученики, почитая разум божественным, отдавали себе отчет в необходимости изучения иррациональных факторов в поведении человека, то Зенон, основатель стоицизма, утверждал, что «интеллект человека не просто сродни богу, он и является богом, частью божественной субстанции в ее чистом или активном состоянии» (с. 346). Не интересуясь изучением человека каков он есть и направляя свое внимание на создание картины человека каким он может быть, то есть на возможность идеального sapiens, или мудреца, Зенон и Хрисипп считали, что «достижение морального совершенства зависит не от естественной одаренности, не от привычек, а только он умственных упражнений». Для них, отмечает далее автор, «не существовало никакой иррациональной души, противостоящей разуму; так называемые "страсти" были лишь ошибками в суждениях или досадными препятствиями, создаваемыми этими ошибками» (с. 347). Отсюда и их уверенность в том, что исправление ошибки автоматически ведет к исчезновению страдания: держи разум не тронутым печалью, «бесстрастным», ни о чем не сожалеющим и самоудовлетворенным — и ты будешь счастлив!
Хотя Посидоний, пытавшийся реформировать стоицизм в духе платоновско-пифагорейской традиции, восстал против подобных взглядов и утверждал, что теория Хрисиппа противоречит как моральному опыту, так и наблюдениям, показывающим врожденность основных элементов характера, и что иррационализм и зло присущи человеку и контролируются только некоторого рода «катарсисом», но безуспешно: его протест не смог «уничтожить теорию» (см. с. 348).
Разумеется, было бы ошибкой пытаться провести аналогию (Доддс и не пытается делать это) между протестом Посидония против взглядов традиционного стоицизма на природу человека и способы его воспитания, с одной стороны, и современными, развернувшимися в последнее время дискуссиями вокруг философских, социально-этических, психологическо-педагогических проблем, связанных с соотношением социального и биологического в человеке, его способностями и поведением, задачами его воспитания — с другой. Вместе с тем нельзя безоговорочно отрицать элемент сходства между древними и современными спорами вокруг проблем природы человека и оставаться глухим к «перекличке» эпох.
Ссылаясь на изменчивость человеческой природы, ортодоксальные стоики и эпикурейцы в соответствии со своей рационалистической этикой и психологией предложили рационализированную религию, основанную главным образом не на культе, а на безмолвном созерцании божества и сознании близости к нему человека. По словам Доддса, «стоик созерцал звездное небо и прочитывал там выражение тех же самых рациональных и моральных законов, которые он открывал в своей душе; эпикуреец, в некотором отношении более духовный, чем стоик, созерцал невидимых богов... Для обеих школ божество перестало быть синонимом правящей Власти и стало вместо этого воплощением рационального идеала» (с. 348).
Согласно автору, односторонний рационализм эллинистических школ привел народную религию к окончательному упадку и способствовал дальнейшему увеличению в ней регрессивных элементов. В Афинах III века до н. э. скептицизм, затронув мыслителей, вследствие распространения образования в широких народных массах начал «заражать» все население: «В то время как рационализм ограниченного и негативного типа продолжал распространяться от верхов к низам, антирационализм (магическая медицина, астрология, алхимия и т. п. — Ф. К.) распространялся от низов к верхам и, в сущности, занимал главенствующее положение (с. 356).
Нельзя, конечно, всю ответственность за «провал греческого рационализма» возлагать на «интеллектуалов» эллинистического периода (стоиков, скептиков и эпикурейцев), равно как нельзя коллективную опору духовной жизни греков видеть лишь в их религиозно-мифологической вере. Отдавая себе в этом отчет, Доддс утверждает, что победе иррационализма и увеличению влияния магии и прорицаний способствовали и социально-политические факторы, такие, например, как покорение Греции Римом, которые, однако, не были решающими. «Так, отсутствие политической свободы способно повлиять на снижение интеллектуальной активности, однако это вряд ли может считаться определяющим фактором: ибо великий век рационализма, с конца IV по конец III в., не был, конечно, временем политической свободы. Столь же нелегко выискивать причины в военных бедствиях и экономического обнищания» (с. 364). Что же в таком случае следует считать решающей причиной падения греческого рационализма и всей греческой культуры? По мнению Доддса, — явления психического порядка: «страх свободы» и бегство от нее. Индивид, оказавшись «лицом к лицу с собственной интеллектуальной свободой... бежал прочь от этой ужасной перспективы, считал, что лучше суровый детерминизм астрологической судьбы, чем бремя ежедневной ответственности» (с. 358).[1159]
Нетрудно заметить, что рассуждения автора не совсем ясны. С одной стороны, он считает, что утрата политической свободы в эллинистический период могла содействовать «обескураживанию интеллектуальной практики», а с другой — говорит о будто бы обретенной в этот период «индивидуальной свободе», с которой греки не знали что делать. Рассуждения же автора о «бремени ежедневной ответственности», которую граждане греческих полисов сняли с себя, не лишено, разумеется, известного основания. Напомним, что Плутарх, живший в условиях римского господства над греческими полисами и считавший борьбу против римлян бессмысленной, предлагал в качестве реальной политики повиновение, не переходящее тем не менее в самоунижение, когда всякое решение отсылается на утверждение высшей власти, вынуждая властителей быть еще в большей степени деспотами, чем они сами желают. Однако нельзя недооценивать и факт завоевания Греции сперва Македонией, а затем Римом. Возможно, что именно падение полиса в результате обострения социально-политических и экономических противоречий, утрата политической свободы и отстранение граждан от общественно-политической деятельности, без которой греки не мыслили себе ни общественной, ни индивидуальной жизни, и явились главными причинами того, что Доддс называет «возвратом к иррационализму».
В заключение отметим, что из разнообразного круга проблем, рассмотренных английским исследователем в книге «Греки и иррациональное», мы в первую очередь выделили те, которые представляют интерес для философской общественности. Хотелось бы подчеркнуть, что автор, исследуя некоторые аспекты греческой культуры на всем протяжении ее истории, давая характеристику греческого рационализма и вскрывая недостатки и односторонности этой культуры, в отличие от некоторых современных западных авторов, сам не оказался во власти иррационализма и не капитулирует перед волной антиинтеллектуализма, охватившего определенные слои современного западного общества. Пафос его книги направлен на воспитание исторического мышления и на утверждение идеи о включенности человека в исторический процесс. Автор разделяет точку зрения древних мыслителей, считавших историю «наставницей жизни», и призывает внять печальному опыту, пережитому Грецией, которая в критический момент своей истории предпочла религиозную веру философскому разуму, иррациональные упования — рациональным поискам, астрологию — нелегкому бремени гражданской ответственности.
Что же касается этических и психологических факторов падения (как, впрочем, отчасти и расцвета) греческой культуры, то надо полагать, что одним из них был свойственный грекам индивидуализм, элементы которого достаточно четко проявляются, например, в поведении гомеровского Ахиллеса, в родоплеменной морали (в культуре стыда, по терминологии Доддса), не говоря уже о разрушительном индивидуализме эпохи греческого Просвещения — субъективистской и индивидуалистической философии софистов, против которой со всей решительностью выступали Сократ и Платон.
Примечания
1
«Любое человеческое сознание, каким бы высоким ни было его интеллектуальное развитие, содержит в себе неискоренимую первобытную основу» (фр.). (Здесь и далее астериксом обозначены примечания переводчика.)
(обратно)2
Fry R., Last Lectures, 182 ff.
(обратно)3
Mazon, Introduction ά l'Iliade, 294.
(обратно)4
Murray, Rise of the Greek Epic, 265.
(обратно)5
Tradition and Design in the Iliad, 222. Курсив мой. Похожим образом Вильгельм Шмид думает, что «гомеровское представление о богах не может быть религиозным» (Schmid W., Gr. Literaturgeschichte, I. i. 112 f.).
(обратно)6
первым делом, прежде всего (лат.)
(обратно)7
Il. 19.86 сл.
(обратно)8
Цитаты из «Илиады» даются в переводе Н. И. Гнедича.
(обратно)9
Il. 137 сл. Ср. 9. 119 сл.
(обратно)10
19. 270. сл.
(обратно)11
1. 412.
(обратно)12
9. 376.
(обратно)13
1. 5.
(обратно)14
Il 6. 357. См. 3. 164, где Приам говорит, что не Елена, а боги ответственны (αίτιοι) за войну, и Od. 4. 261, где она говорит о своей ате.
(обратно)15
Il 12. 254 сл.; Od. 23. 11 сл.
(обратно)16
Il 6. 234 сл.
(обратно)17
17. 469.
(обратно)18
оборот речи (фр.)
(обратно)19
Ср. Wilamowitz, Die I lias und Homer, 304 f., 145.
(обратно)20
Об этом истолковании ате см. W. Havers, «Zur Semasiologie von griech. ίτη», Ztschr. f. vgl. Sprachforschung, 43 (1910) 225 ff.
(обратно)21
Переход к этому значению можно заметить уже в Od. 10. 68, 12. 372 и 21. 302. Либо это может относиться к послегомеровским временам. Лидделл и Скотт находят аналоги для него в Il. 24. 480, но я думаю, это неверно; см. Leaf & Ameis-Hentze ad loc.
(обратно)22
Множественное число дважды используется для обозначения действий, являющихся показателями состояния сознания — в Il. 9. 115 и (если верен взгляд, высказанный в прим. 20) Il. 10. 391. Это постепенное и естественное расширение первоначального смысла.
(обратно)23
11. 61; 21. 297 сл.
(обратно)24
Il 10. 391 обычно цитируется как единственное исключение. Значение этого пассажа, однако, может быть таким, что не глупый совет Гектора пробудил ате в Долоне, но этот совет был симптомом собственного ате Гектора (либо же он был вдохновлен божественным образом). Атаи тогда следует понимать в том же самом смысле, как в 9. 115, поскольку обыкновенно атаи понимаются как «действия, производящие безрассудную страсть». В Od. 10. 68 соратники Одиссея упоминаются как покорные исполнители, начиная с эпизода с ΰπνος σχέτλιος [«беспробудный сон»].
(обратно)25
Il. 16. 805.
(обратно)26
Ibid., 780.
(обратно)27
вопреки судьбе.
(обратно)28
Ibid., 684-691.
(обратно)29
11. 340.
(обратно)30
См. Levy-Bruhl, Primitive Mentality, 43 ff.; Primitives and the Supernatural, 57 f. (Eng. trans.).
(обратно)31
Od. 12. 371 сл. См. 10. 68.
(обратно)32
Il. 9. 512: τφατηνάμ' έπεσθαι. ίνα βλαφΟε'ιςάποτίση. [«...да Обида // Ходит за ним по следам и его, уязвляя, накажет»].
(обратно)33
Il. 19. 91. В 18. 311 Афина, в своем качестве богини мудрости, отбирает разумение у троянцев, так что они радуются неумному совету Гектора. Это, впрочем, не называется там ате. Но в «Телемахии» Елена делает Афродиту ответственной за свое ате.
(обратно)34
судьба, жребий.
(обратно)35
Il. 24. 49, где множественное число, возможно, относится просто к «уделам» различных индивидов (Wilamowitz, Glaube, I. 360). «Могущественные пряхи» из «Одиссеи» (7. 187) кажутся чем-то вроде индивидуальных судеб, схожих с норнами скандинавских мифов (см. Chadwick, Growth of Literatur, I. 646).
(обратно)36
См. Nilsson, History of Greek Religion, 169. Точка зрения Корнфорда о том, что мойра «символизирует локальное упорядочивание мира» и что «понятие индивидуального жребия или судьбы развивается в зрелую форму весьма поздно» (Cornford, From Religion to Philosophy, 15 ff.), кажется мне не совсем обоснованной и, разумеется, не поддерживается выдержками из Гомера, где «мойра» все еще достаточно конкретно используется для, например, обозначения «помощи» в посылании пищи (Od. 20. 260). И Джордж Томсон не убеждает меня, когда говорит, что Мойры возникли как «символы экономической и социальной функций первобытного коммунизма» или что «они развились из культа неолитических богинь-матерей» (Thomson G», The Prehistoric Aegean, 339).
(обратно)37
Snell, Philol. 85 (1929-1930) 141 ff., и (более обстоятельно) Chr. Voigt, Ueberlegung u. Entscheidung... bei Homer, указывают, что у Гомера отсутствует слово, обозначающее акт выбора или решения. Но вывод о том, что у Гомера «человек все еще не обладает сознанием личной свободы и решения отвечать за себя» (Voigt, op. cit., 103), кажется мне не совсем верно выраженным. Я бы скорее сказал, что гомеровский человек не обладает представлением о воле (оно развилось в Греции довольно поздно) и потому «не обладает» представлением о «свободе воли». Это не значит, что он не различает на практике между собственными действиями и действиями, которые он приписывает постороннему вмешательству в его психику: так, Агамемнон может сказать, что έγώ δ'ούκ αίτιος είμι, άλλα Ζευς [«не я виновен, но Зевс»]. Пожалуй, не так уж неправомерно будет предположить, что описываемое в таких пассажах, как Il. 11. 403 сл. или Od. 5. 355 сл., есть в действительности разумное решение, принятое после рассмотрения возможных альтернатив.
(обратно)38
Il. 16. 849 сл. См. 18. 119, 19. 410, 21. 82 и сл., 22. 297-303, а о «сверхдетерминации» — гл. II, с. 53.
(обратно)39
Rhode, Rh. Mus. 50 (1896) 6 ff. (- Kl. Schriften, II. 229). Cp. Nilsson, Gesch. d. gr. Ret. I. 91 f., и, contra, Wilamowitz в своем введении к Eumenides, и Rose, Handbook of Greek Mythology, 84.
(обратно)40
15. 233 сл.
(обратно)41
« Одиссея» цитируется в переводе В. И. Жуковского.
(обратно)42
Il. 19. 418. Ср. Σ В ad loc, επίσκοποι γαρ είσιν τώνπαρά φύσιν «ведь они являются исследователями того, что существует вопреки природе».
(обратно)43
Fr. 94 Diels. [«Солнце не преступит положенных мер, а не то его разыщут Эринии, союзницы Правды» — Фрагменты ран них греческих философов, М., 1989. С. 220. Пер. А. В. Лебедева.]
(обратно)44
Во всех случаях, кроме одного [Od. 11. 279 сл.), эти утверждения сделаны от лица живых индивидов. Это с очевидностью противоречит мнению (расхожему в период расцвета анимистических теорий) о том, что Эринии — это мстительные мертвецы. Является фактом, что: 1) у Гомера они никогда не наказывают убийцу; 2) что боги, как и люди, имеют «собственных» Эриний. Эринии Геры (Il. 21. 412) имеют ту же функцию, что и Эринии Пенелопы (Od. 2. 135) — защитить честь матери путем наказания сына-преступника. Можно сказать, они являются персональной проекцией материнского гнева, θεών έρινύς, которая в «Фиваиде» (fr. 2 Kinkel) услышала проклятие живого Эдипа, воплощает в персональной форме гнев богов, перешедший в проклятие: здесь «Эриния» и «проклятие» могут быть равнозначными понятиями (Aesch. Sept. 70, Eum. 417). С этой точки зрения Софокл не внес ничего нового, но лишь использовал традиционный язык, когда его Тиресий угрожает Креонту Αϊδου κα'ι θεών ερινύες (Ant. 1075) [«знай, ты моих решений не изменишь» — см.: Софокл. Трагедии. Пер. С. В. Шервинского. М., 1958. С. 187.]; их функция — наказать выступление Креонта против воли мойры, т. е. естественного хода событий, согласно которому мертвый Полиник принадлежит Аиду, а живая Антигона — άνω θεοί «вышним богам» (1068-1073). Относительно положения мойры ср. требование Посейдона быть ίσόμορος και όμή πεπρωμένος αϊση [«равного с ним и в правах и судьбой одаренного равного»] Зевсом (77. 15. 209). Я нахожу обоснованной внутреннюю связь Эринии с мойрой, подчеркиваемую также и Эдуардом Френкелем (Fraenkel) в комментарии на Aga т. 1535 сл.
(обратно)45
Il. 9. 454, 571; 21. 412; Od. 2. 135.
(обратно)46
Il. 15. 204.
(обратно)47
Od. 17. 475.
(обратно)48
P. V. 516: Μοΐραι τρίμοριροι μνήμονες τ' Ερινύες [«три мойры, Эвмениды с долгой памятью» — Эсхил. Трагедии. Пер. А. К. Пиотровского. М. 1989. С. 249], а также Eum. 333 сл. и 961: Μοΐραι ματρικασιγνήται «мойры, единоутробные сестры». Еврипид в утерянной пьесе об Эринии заявляет, что другие ее имена — τύχη, νέμεσις, μοίρα, ανάγκη (fr. 1022). Ср. также Aeschylus, Sept. 975-977.
(обратно)49
Eum. 372 сл., и др.
(обратно)50
Проблема отношения богов к мойре (которое неразрешимо в логических терминах) обсуждалась в науке уже давно — см. особенно Е. Leitzke, Moira и. Gottheit im alten griech. Epos, который скрупулезно излагает материал; Ε. Ehnmark, The Idea of God in Homer, 74 ff.; Nilsson, Gesch. d. gr. Rel. I. 338 ff.; W. C. Greene, Moira, 22 ff.
(обратно)51
судьба, рок.
(обратно)52
Έρινύς Деметры и глагол έρινύειν в Аркадии — Paus. 8. 25. 4 сл.; αϊσα в Аркадии — IG V. 2. 265, 269; на Кипре — GDI I. 73.
(обратно)53
Ср. Е. Ehnmark, The Idea of God in Homer, 6 ff; и о значении слова менос — J. Böhme, Die Seele и. Das Ich im Homerischen Epos, 11 ff., 84 f.
(обратно)54
сила, мужество, гнев.
(обратно)55
дух, душа, жизнь; желание; мысль; мужество; гнев.
(обратно)56
Il. 5. 125 и сл., 136; 16. 529.
(обратно)57
Факт, что о царях думали как о носителях особого меноса, который передавался им за их достойное правление, пожалуй, может явствовать из использования фразы ιερόν μένος [«священная сила»] (ср. ιερή ϊς), хотя Гомер в ее употреблении (Алкиной, Od. 7. 167; Антиной, Od. 18. 34) и руководствуется просто метрическим соответствием. Ср. Pfister, P.-W., s. ν. «Kultus», 2125 ff.; Snell, Die Entdeckung des Geistes, 35 f.
(обратно)58
Od. 24. 318.
(обратно)59
Кони — Il. 23. 468; βοός μένος [*менос быка»] — Od. 3. 450. В Il. 17. 456 кони Ахилла получают менос.
(обратно)60
Il. 6. 182, 17. 565. Так, авторы-врачи говорят о меносе вина (Hipp. acut. 63) и даже о меносе голода (vet. med. 9), отмечая силу их воздействия на человеческий организм.
(обратно)61
Il. 20. 242. Ср. «Дух Господень», который «сошел» на Самсона, позволяя тому совершать сверхчеловеческие подвиги (Суд. 14: 6, 15: 14).
(обратно)62
Il. 13. 59 сл. Физическая передача силы через касание у Гомера, впрочем, встречается нечасто, как и в греческих верованиях вообще, что контрастирует с тем значением, которое придается в христианстве (как и во многих примитивных культурах) «возложению рук».
(обратно)63
Il. 13. 61, 75. γυΐα δ' έθηκεν ελαφρύ [«члены ему сотворила легкими, ноги и руки»] — часто встречающаяся формула в описаниях передачи меноса (5. 122, 23. 772); ср. также 17. 211 сл.
(обратно)64
Ср. примечание Лифа (Leaf) к 13. 73. В Od. 1. 323 Телемах чувствует передачу силы, хотя точно не говорится, как.
(обратно)65
Il. 12. 449. Ср. Od. 13. 387-391.
(обратно)66
Il. 3. 381: όέΐα μάλ', ώστε θεός [«от очей, как богиня // Вдруг похищает»], Aesch. Supp. 100: πάνάπονονδαιμονίων [«безмятежность присуща всем божествам»], и т. д.
(обратно)67
Il. 5. 330 сл., 850 сл.
(обратно)68
Il. 6. 128 сл.
(обратно)69
Il. 5. 136; 10. 485; 15. 592.
(обратно)70
Il. 15. 605 сл.
(обратно)71
Il.17. 210.
(обратно)72
Od. 1. 89, 320 сл.; 3. 75 сл.; 6. 139 сл.
(обратно)73
Od. 22. 347 сл. Ср. Демодок, 8. 44, 498, и Pindar, Nem. 3.9, где поэт просит Музу даровать ему «богатое изобилие песен, бьющее ключом из моего ума». Как выразился Маккей, «Муза — это скорее источник оригинальности поэта, чем его традиционности» (MacKay, The Wrath of Homer, 50). Chadwick, Growth of Literature, III, 182, приводит из Радлоффа интересную по своей точности параллель с киргизским поэтом, который заявляет: «Могу я петь любую песнь, ибо бог вложил этот дар в сердце мое. Он подает слова мне на язык, и мне их совсем не приходится искать. Я не учился петь свои песни. Все возникает в глубине моей души».
(обратно)74
Od. 17. 518 сл., Hes. Theog. 94 сл. ( =H. Hymn 25. 2 сл.). Ср. гл. III, с. 126 сл.
(обратно)75
Об использовании Гомером термина даймон и о связи его с теосом (которую мы не будем здесь анализировать) см. Nilsson в Arch. f. Ret. 22 (1924), 363 ff., и Gesch. d. gr. Ret. I, 201 ff.; Wilamowitz, Glaube, I, 362 ff., E. Leitzke, op. cit., 42 ff. Согласно Нильссону, даймон первоначально был не только неопределимым, но и безличным, «простой манифестацией силы (оренда)»; однако в этом вопросе я все же склонен присоединиться к сомнениям, выраженным у Rose в Наrv. Theol. Rev. 28 (1935) 243 ff. Я полагаю, что, в то время как «мойра» постепенно развилась из безличной «участи» в личную «судьбу», «даймон» двигался в противоположном направлении — отличного «посылателя» (ср. δαίω.δαιμόνη) к безличному «счастью». Существует некая историческая точка, где оба эти развивающиеся понятия встречаются друг с другом и где они становятся почти синонимами.
(обратно)76
Изредка также и Зевса (14. 273 и т. д.), который в этих эпизодах выступает, возможно, не столько как индивидуальный бог, сколько как представитель обобщенной божественной воли (Nilsson, Greek Piety, 59).
(обратно)77
9. 381.
(обратно)78
14. 178; ср. 23. 11.
(обратно)79
19. 10; 19. 138 сл.; 9. 339.
(обратно)80
2. 124 сл.; 4. 274 сл.; 12. 295.
(обратно)81
19. 485. Ср. 23. 11, где похожим образом объясняется ошибка в идентификации.
(обратно)82
15. 172.
(обратно)83
12. 38.
(обратно)84
14. 488.
(обратно)85
Если его вторжение вредоносно, он обычно называется не «теос», а «даймон».
(обратно)86
На это отличие впервые указал О. Jörgensen, Hermes (1904), 357 ff. Об исключениях из правила, выведенного Йоргенсеном, см. Calhoun, AJP 61 (1940) 270 ff.
(обратно)87
Ср. даймона, который приносит несчастье или приводит нежеланных гостей — 10. 64, 24. 149, 4. 274 сл., 17. 446 и который называется κακός [дурной, злой], в первых двух из этих выдержек, а также στυγερός δαίμων [ужасный даймон], причиняющий болезнь (5. 396). Эти пассажи являются несомненными исключениями из вывода Энмарка (Ehnmark, Anthropomorphism and Miracle, 64) о том, что даймоны «Одиссеи» — просто неотождествленные олимпийские боги.
(обратно)88
2. 122 сл.
(обратно)89
1. 384 сл.
(обратно)90
1. 320 сл.
(обратно)91
Il. 15. 461 сл.
(обратно)92
Е. Heden, Homerische Götterstudien.
(обратно)93
Nilsson, Arch. f. Rel. 22. 379.
(обратно)94
Ehnmark, The Idea of God in Homer, chap. V. Ср. также Linforth, «Named and Unnamed Gods in Herodotus», Univ. of California Publications in Classical Philology, IX. 7 (1928).
(обратно)95
См., например, пассажи, цитируемые у Леви-Брюля: Levy-Bruhl, Primitives and the Supernatural, 22 ff.
(обратно)96
Il. 4. 31. Cm. P. Cauer, Kunst der Ubersetzung, 27.
(обратно)97
Весьма неплохой, по причине своей обыденности, образчик значимости непонятного, виден в том факте, что чихание — эта столь беспричинная и естественная физическая конвульсия — считается знамением у очень многих народов, в том числе у гомеровских греков (Od. 17. 541), равно как и у греков классического (Xen. Anab. 3. 3. 9) и римского периода (Plut. gen. Socr. 581 сл.). Ср. Halliday, Greek Divination, 174 ff., и Tylor, Primitive Culture, I. 97 ff.
(обратно)98
Какой-то аналог ате, вероятно, можно усмотреть в состоянии, называемом fey [«обреченный на смерть», «роковой» (шотл.)], или fairy-struck, которое, по поверьям, внезапно находит на людей и «заставляет их совершать нечто абсолютно непохожее на их прежнюю деятельность» (Pobert Kirk, The Secret Commonwealth).
(обратно)99
«Götter und Psychologie bei Homer», Arch. f. Rel. 22. 363 ff. Выводы этой работы суммируются также в его History of Greek Religion, 122 ff.
(обратно)100
Как указывает Снелль (Snell, Die Entdeckung des Geistes, 45), «излишний» характер очень многих божественных вторжений показывает, что они не изобретались просто для облегчения поэтического замысла (поскольку и без них ход событий остался бы прежним), но основываются на более древнем пласте верований. Кауэр считал (Cauer, Grundfragen, I. 401), что «натуралистичность» многих гомеровских чудес была бессознательным приноравливанием к настроениям эпохи, когда поэты переставали верить в чудеса. Однако изобилие чудес — факт, распространенный в примитивной культуре. Ср., например, Ε. Е. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among Azande, 77, 508, и критику позиции Кауэра в: Ehnmark, Anthropomorphism and Miracle, chap. iv.
(обратно)101
Напр., Il. 16. 712 сл.. В Il. 13 43 сл. физическое и (60) психическое вторжение идут рука об руку. Несомненно, представление об эпифаниях богов в битве тоже коренилось в народных верованиях (та же самая вера, которая создала ангелов в Монсе), хотя, как замечает Нильссон, в более поздние времена обычно не боги, а герои появляются таким способом.
(обратно)102
Il. 1. 198.
(обратно)103
Ср. Voigt, Überlegung и. Entscheidung... bei Homer, 54 ff. Чаще всего предупреждение дается богом, «маскирующимся» под человека; это, возможно, происходит из более ранней формы, в которой совет давался человеком самому себе, предостереженным богом или даймоном (Voigt, ibid., 63).
(обратно)104
Hdt. 2. 53. Лоуи заметил, что первобытный художник, следуя своему эстетическому импульсу, «может подойти к созданию образа, который одновременно синтезирует все сущностные моменты его религии, не противореча им ни в одной части, однако добавляет ряд мазков, которые подчас не просто затеняют, но и материально изменяют предшествующую картину. Пока положение вещей остается неизменным, новый образ — не более чем индивидуальная версия общей нормы. Но едва этот вариант... возвышается до уровня стандартной репрезентации, он становится источником соответствующих народных представлений» (Lowie, Primitive Religion, 267 f.). Это замечание относится к визуальным искусствам, однако оно дает точное описание тех условий, при которых, как мне кажется, греческая религия воздействовала на становление эпоса.
(обратно)105
Snell, Die Entdeckung des Geistes, chap. i. Ср. также Böhme, op. cit., 76 ff., и W. Marg, Der Charakter i. d. Sprache der frühgriechischen Dichtung, 43 ff.
(обратно)106
Od. 22. 17.
(обратно)107
Il. 4. 43: εκών άέκοντί γε θυμώ [«гнева и ты моего не обуздывай...»]. Как указывал Пфистер (P.-W. XI. 2117 ff), эта относительная независимость аффективного элемента — общее место в сознании примитивных народов (ср., например, Warneck, Religion der Batak, 8). О слабом «эго-сознании» первобытных племен см. также Hans Kelsen, Society and Nature (Chicago, 1943), 8 ff.
(обратно)108
Od. 9. 299 сл. Здесь я отождествляется с первым голосом, но принимает предупреждение второго. Похожая множественность голосов и изменение самотождественности, по-видимому, содержатся в примечательном эпизоде Il. 11. 403-410. (Ср. Voigt, op. cit., 187 ff) Один из героев Достоевского в «Подростке» описывает эту колеблющуюся связь между я и не-я очень тонко: «Это точно так, как если бы второе я человека стояло за первым; человек сам чувствами и разумом обладает, но другое я побуждает делать что-то вовсе бессмысленное, а иногда и очень смешное; и внезапно вы замечаете, что страстно стремитесь сделать именно эту смешную вещь, Бог знает, почему; т. е. вы хотите этого как бы против собственной воли: хоть и боретесь с этим изо всех сил, все равно этого же и хотите».
(обратно)109
Напр., Il. 5. 676: τρόπεΟυμόν Άθήνη [«сердце его... обратила Паллада»]; 16. 691: (Ζεύς) θυμόνένίστήθεσσινάνηκε [«[Зевс] и [Патрокловы] перси неистовым духом наполнил»]; Од. 15. 172: ένί θυμώ αθάνατοι (Ιάλλουσι [«мне всемогущие боги // В сердце вложили»). Тюмос есть орган пророчества, Il. 7. 44, 12. 228 (ср. Aesch. Pers. 10: κακύμαντις... θυμός [«и предчувствие беды пророчит»]; 224: Ουμόμαντις. Также и Eur. Andr. 1073: πρόμαντις θυμός [«тоскует сердце, мой вещун»], и Trag. Adesp. fr. 176: πηδών ft' ό θυμός ενδοθεν μαντεύεται [«дух, бьющийся внутри, пророчествует»].
(обратно)110
Напр., Il. 16. 805: ihn φρένας είλε [«смута надушу нашла»]; Il. 5. 125: έν γαρ τοι στήθεσσι μένος... ήκα [«в перси тебе я послала отеческий дух сей бесстрашный»].
(обратно)111
Il. 9. 702 сл. Ср. Od. 8. 44: «бог» дал Демодоку дар пения, поскольку тюмос подстегивает его.
(обратно)112
Ср. W. Marg, op. cit., 69 ff.; W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, 33 ff.
(обратно)113
Il. 24. 41; Od. 9. 189; Od. 3. 277.
(обратно)114
Il. 16. 35, 356 сл.
(обратно)115
Та же самая идея была выдвинута W. Nestle, NJbb, 1922, 137 ff.; он находит сократовские парадоксы «echt griechisch» [«истинно греческими»] и отмечает, что они присущи уже и наивной психологии Гомера. Но следует остерегаться рассматривать этот традиционный «интеллектуализм» как позицию, сознательно выбранную представителями интеллектуальной «.элиты»; в действительности он является просто неизбежным следствием отсутствия концепции воли (ср. L. Gernet, Pensee juridique et morale, 312).
(обратно)116
Хорошее объяснение этих терминов можно найти в: Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, 222 ff. Мы сами являемся наследниками старой и сильной (ныне, однако, клонящейся к упадку) культуры вины; этот факт, вероятно, может объяснить, почему столь многие ученые не могут согласиться с тем, что гомеровская религия имеет право называться «религией».
(обратно)117
Il. 9. 135 сл. О важности тиме у Гомера см. W. Jaeger, Paideia, I. 7 ff.
(обратно)118
Il. 22. 105. Ср. 6. 442, 15. 561 сл., 17. 91 сл.; Od. 16. 75, 21. 323 сл.; Wilamowitz, Glaube, I. 353 ff.; W. J. Verdenius, Mnem. 12 (1944), 47 ff. Санкцией айдоса является немесис, общественное осуждение: ср. Il. 6. 351, 13. 121 сл.; Od. 2. 136 сл. Использование для описания поведения терминов καλόν [прекрасное] и αίσχρόν [отвратительное] тоже кажется типичным в культуре стыда. Эти слова означают не то, что действие благоприятно или вредоносно для деятеля или что оно правильное или неправильное в глазах божества, но то, что оно видится «прекрасным» или «безобразным» в глазах общества.
(обратно)119
Когда идея вторжения в сознание пустила крепкие корни, она должна была, без сомнения, поощрять импульсивное поведение. Подобно тому как современные антропологи, вместо того чтобы говорить, вместе с Фрэзером, о том, что дикари верят в магию оттого, что ложно рассуждают, склонны считать, что дикари ложно рассуждают оттого, что их вера в магию социально обусловлена, так и мы, вместо того чтобы вместе с Нильссоном полагать, что гомеровский человек верит в психические вторжения из-за своей импульсивности, скажем, что он высвобождает свои импульсы из-за того, что его вера в психические вторжения социально обусловлена.
(обратно)120
О значении страха перед высмеиванием как социального мотива см. Raul Radin, Primitive Man as Philosopher, 50.
(обратно)121
Обычно конец архаического века датируется Персидскими войнами, и для политической истории этот водораздел несомненен. Но для истории мысли истинное расхождение наступает позднее, с расцветом софистических учений. И даже тогда линия демаркации хронологически неопределенна. По складу своего мышления, а не по литературной технике, Софокл все еще принадлежит исключительно старому времени (это заметнее, быть может, в его последних пьесах); во многом это же относится и к его другу Геродоту (ср. Wilamowitz, Hermes, 34 [1894]; Ε. Meyer, Forschungen ζ. alt. gesch. II. 252 ff.; F. Jacoby, P.-W., Supp.-Band II. 479 ff). С другой стороны, Эсхил, борясь за иную интерпретацию и рационализацию наследия архаического века, является в каком-то смысле провозвестником новых времен.
(обратно)122
Чувство амехании хорошо показывает на примере ранних лирических поэтов Snell, Die Entdeckung des Geistes, 68 ff. Ha следующих страницах я буду в основном опираться на блестящую статью Latte, «Schuld u. Sünde i. d. gr. Religion», Arch. f. Rel. 20 (1920-1921), 254 ff.
(обратно)123
Все мудрые герои Геродота знают это: Солон (1. 32), Лмасис (3. 40), Артабан (7. 10 е). О значении слова φθόνος ср. Snell, Aischylos и. das Handeln in Drama, 72, η. 108; Cornford, From Religion to Philosophy, 118, и о связи с ταραχή [тревога, страх] — Pind. Isthm. 7. 39: ό δ' αθανάτων μή θραοοέτοι φθόνος [«да не тронет зависть неболсителей» — здесь и далее цитаты из Пиндара приводятся по изданию: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. Пер. М. Л. Гаспарова.]. Слово Ταρύσσειν обычно используется для описания сверхприродного вмешательства, напр. Aesch. Cho. 289; Plat. Laws 865e.
(обратно)124
Il. 24. 525-553.
(обратно)125
Семонид из Аморгоса, 1. 1 сл. Bergk. [Цит. по: Поэты и лирики Древней Эллады и Рима. Пер. Я. Голосовкера. М., 1963. С. 71]. О значении εφήμεροι [скоротечность, кратковременность] см. Н. Frankel, TARA 77 (1946) 131 ff.; о значении τέλος [исход, результат] см. F. Wehrli, Λάθε βιώσας, 8, п. 4.
(обратно)126
Theognis. 133-136, 141-142. [Цитата из Феогнида приводится по: Античная литература. Греция. Антология. М., 1989. Ч. I, с. 101. Пер. В. Вересаева]. Об отсутствии у человека понимания его положения ср. также Гераклит, fr. 78 Diels: ήθος γύρ άνΟρώπειον μέν ούκ έχει γνώμας θείον δέ έχει [«Человеческая натура не обладает разумом, а божественная обладает» — Фрагменты ранних греческих философов, М., 1989, с. 241], и об отсутствии у него контроля над своим положением — Н. Apoll. 182 сл., Simonides, frs. 61, 62 Bergk; Solon, 13. 63 сл. Таковы также и взгляды Софокла, для которого все человеческие поколения суть ничто— ίσα και τό μηδέν ζώσας «словно нисколько не пожив», О. Т. 1186 — когда мы рассматриваем их так, как видны они богам и времени; с этой высоты они — не что иное, как призраки, тени.
(обратно)127
Agam. 750.
(обратно)128
Эта не относящаяся к правилам морали вера по сей день распространена у примитивных народов (Levy-Bruhl, Primitive and the Supernatural, 45). Моралистическую окраску она принимает в классическом Китае: «От богатства и знатности, — говорится в "Дао-дэ цзине" (? IV в. до н. э. ) — возникает гордыня, а гордыня неизбежно приводит к краху. Когда все идет хорошо, совершенномудрый отходит в тень». Это наложило отпечаток и на Ветхий Завет: напр., Ис. 10: 12 сл.: «Посмотрю на успех... и на тщеславие высокоподнятых глаз его. Он говорит: "Силою руки моей и моею мудростию я сделал это"... Величается ли секира перед тем, кто рубит ею?» О понятии κόρος [гордость] см. Притч. 30: 8 сл.: «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы пресытившись я не отрекся Тебя и не сказал: "Кто Господь?"»
(обратно)129
Od. 5. 118 сл. Ср. 4. 181 сл., 8. 565 сл., а также 13. 173 сл., 23. 210 сл. Все это высказывается в виде речей. Примеры, которые некоторые находят в «Илиаде», напр. 17. 71, относятся к другому типу и едва ли могут считаться истинными причинами фтоноса.
(обратно)130
Pers. 353 сл., 362. Строго говоря, здесь нет нового развития. Мы уже отмечали похожую «сверхдетерминацию» у Гомера (гл. I, с. 20, 34). Она встречается и у современных дикарей: напр., Эванс-Притчард говорит, что у азанде «вера в смерть от естественных причин и в смерть от колдовства не исключают друг друга» (Witchcraft, Oracles ahd Magic).
(обратно)131
Solon, fr. 13 Bergk (ср. Wilamowitz, Sappho и. Sim. 257 ff., Wehrli, op. cit. , 11 ff., и R. Lattimore, AJP 68 [1947] 161 ff.; Aesch. Agam. 751 сл., где их мнение контрастирует с общераспространенной точкой зрения; Hdt. 1. 34. 1.
(обратно)132
Напр., Hdt. 7. 10. Софокл, по-видимому, нигде не морализирует эту идею, которая появляется в El. 1466, Phil. 776 и утверждается как основная мысль в Ant. 613. И ср. также Aristophanes, Plut. 87-92, где считается, что Зевс должен иметь особое недовольство против χρηστοί [добрых].
(обратно)133
О гибрисе как πρώτον κακόν [первичное зло] см. Theognis, 151 сл.; о его универсальности — Н. Apoll. 541: ϋβρις θ', ήθέμις έστϊ καταθνητών ανθρώπων «надменность и закон присущи смертным», и Archilochus, fr. 88: ώ Ζεΰ... охи δέ θηρίων ϋβρις τε και δίκη μέλει «О Зевс... тревожат твоя звериная надменность и правда». Ср. также Гераклит, fr. 43 D.: ϋβριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν [«своеволие надо гасить пуще пожара».]. Об опасности счастья ср. замечание Мюррея о том, что «когда в греческой поэзии кто-нибудь упоминается как счастливый человек, то имеется в виду, что он потерял осторожность» (Aeschylus, 193).
(обратно)134
I.A. 1089-1097.
(обратно)135
Il. 9. 456 сл., 571 сл.; ср. Od. 2. 134 сл., 11. 280. Уместно отметить, что трое из этих пассажей встречаются в сюжетах, которые можно считать заимствованиями из эпосов Великой Греции, тогда как четвертый принадлежит к «Телемахии».
(обратно)136
Il. 16. 385 сл. О гесиодовском характере 387-388 см. Leaf ad loc; мы, однако, не рассматриваем эти строки как «интерполяцию» (ср. Latte, Arch. f. Hei. 20. 259).
(обратно)137
См. Arthur Platt, «Homer's Similes», J. Phil. 24 (1896), 28 ff.
(обратно)138
Мне кажется, что те, кто думают иначе, смешивают наказание за лжесвидетельство как раздражение на посягательство божественной тиме (4. 158 сл.) и наказание за пренебрежение гостеприимством Зевса Ксениоса (23. 623 сл.) с особым вниманием к справедливости как таковой.
(обратно)139
Od. 7. 164 сл., 9. 270 сл., 14. 283 сл. Это контрастирует с судьбой Ликаона — см. II. 21. 74 сл.
(обратно)140
Od. 6. 207.
(обратно)141
Od. 1. 32 сл. О значении этого часто обсуждавшегося места см. К. Deichgraber, Gott. Nachr. 1940, и W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, 24. Даже если και в 1. 33. надо понимать как «также», я не могу согласиться с Виламовицем (Glaube, II. 118), что «der Dichter des α hat nichts neues gesagt» [«поэт в 1-й главе "Одиссеи" не сказал ничего нового»].
(обратно)142
Od. 23. 67: δι' ατασθαλίας έπαθον κακόν [«сами погибель они на себя навлекли из-за нечестия»], те же слова, которые говорит Зевс в 1. 34. Конечно, нужно помнить, что «Одиссея», в отличие от «Илиады», содержит большое количество эпизодов, связанных с волшебством, и что герой волшебного рассказа всегда побеждает в конце. Однако поэт, придавший поэме окончательную форму, не преминул воспользоваться возможностью подчеркнуть пример божественной справедливости.
(обратно)143
Theognis, 373-380, 733 сл. Ср. Hes. Erga 270 сл., Solon, 13. 25 сл., Pind. fr. 201 В. (213 S.). Аутентичность выдержек из Феогнида иногда оспаривалась, однако без особых на то оснований (ср. W. С. Greene, Moira, App. 8, и Pfeiffer, Phllol. 84 [1929], 149).
(обратно)144
Poetics 1453a 34. [См. Аристотель. Сочинения, в 4-х тт. М., 1984, т. 4]
(обратно)145
Solon, 13. 31; Theognis, 731-742. Ср. также Soph. О. С. 964 сл. ( Webster, Introduction to Sophocles, 31, определенно ошибается, утверждая, что Эдип отвергает объяснение наследственной вины.) Геродот видит такое наказание с отсрочкой как особенность θείον [божественного закона] и противопоставляет его человеческому закону (τό δίκαιον), 7. 137. 2.
(обратно)146
Ср., напр., эпизод с Аханом, в котором все домочадцы, включая даже животных, погибают из-за мелкой религиозной обиды, нанесенной одним из членов семейства (Иис. Н. 7:24 сл.). Но подобные массовые казни позднее были запрещены, и доктрина наследственной вины открыто осуждается Иеремией (31:29 сл.) и Иезекиилем (18:20, «сын не понесет вины отца», и вся глава в целом). Как устойчивая народная вера, это представление появляется в Ин. 9:2, где ученики спрашивают: «Кто содеял грех, этот человек или его родители, что он родился слепым?»
(обратно)147
Некоторые примеры можно найти у Леви-Брюля: The «Soul» of the Primitive, chap. II, а также Primitives and the Supernatural, 212 ff.
(обратно)148
Cp. Kaibel, Epigr. graec, 402; Antiphon, Tetral. II. 2. 10; Plutarch, ser. vind. 16, 559d.
(обратно)149
Hdt. 1. 91. Cp. Gernet, Recherches sur le developpement de la pensee juridique et morale en Givce, 313; этот автор создает неологизм chosisme [от французского chose, «вещь», «предмет»], чтобы описать концепцию αμαρτία [заблуждение, проступок].
(обратно)150
«Семейная солидарность в Греции». См. особенно р. 403 ff., 604 ff.
(обратно)151
Theaet. 173d., Rep. 364bc. Ср. также [Lys] 6. 20; Dem. 57. 27; и скрытый критицизм в: Isocrates, Busiris 25.
(обратно)152
Laws, 856с: πατρός ονείδη και τιμωρίας παίδων μηδενί συνέπεσΟαι [«Посрамление и наказание отца не распространяется ни на кого из детей»]. Это, однако, воспринимается как исключение (850с); и наследие религиозной вины признается в связи с назначением жрецов (759с) и со святотатством (854 b, где я понимаю «вину» как пину титанов; ср. infra, гл. V, прим. 133).
(обратно)153
Plut. Ser. vind. 19, 561с сл. Если верить Диогену Лаэртскому (4. 46), Бион имел личную причину для резкого высказывания об идее наследственной вины: он и вся его семья были проданы в рабство из-за того, что отец нанес кому-то оскорбление. Его
reduetio ad absurdum семейной солидарности имеет параллели современных примитивных культурах: см. Levy-Bruhl, The «Soul» of the Primitive, 87; Primitive Mentality, 417.
(обратно)154
снисходительность, гуманность, человеколюбие.
(обратно)155
Theognis, 147; Phocyl. 17. Справедливость — дочь Зевса Hes. Erga 256; Aesch. Sept. 662) или его паредрос [помощник] Pind. Ol. 8. 21; Soph. О. С. 1382). Ср. досократическую трактовку природного закона как дике, исследованную Н. Kelsen, Society and Nature, гл. V, и G. Vlastos, CP 42 (1947) 156 ff. Этот акцент на законности — социальной, природной или сверхприродной — является, по-видимому, отличительной чертой культур вины. Природа психологической связи была отмечена Маргарет Мид в ее послании к Международному Конгрессу по психическому здоровью в 1948 г.: «Уголовный закон, который отмеряет наказание за доказанные преступления, является на государственном уровне копией отцовской власти, что развивает некий идеальный образ отца, благоприятствующий развитию комплекса вины». Знаменательно, что в «Илиаде» дикайос встречается всего трижды, и только однажды этот термин означает «справедливый».
(обратно)156
Il. 15. 12, 16. 431 сл., 19. 340 сл., 17. 441 сл.
(обратно)157
суеверный.
(обратно)158
Ср. Rohde, Kl. Schriften, II. 324; P. J. Koets, Δεισιδαιμονία, 6 сл. ΛεισίΟεος встречается в Аттике как личное имя начиная с VI в. (Kirchner, Prosopographia Attica, s. v.). Φιλόθεος не засвидетельствован вплоть до IV в. (Hesperia 9 [1940], 62).
(обратно)159
Лидделл и Скотт (и Campbell Bonner, Harv. Theol. Rev. 30 [1937] 122) ошибочно считают развитым чувство теофилос в Isocrates, 4. 29. Контекст показывает, что речь идет о любви афинян к Деметре: πρός τοίις προγόνους ημών ευμενώς διατεΟείσης [«от старших благорасположение устанавливается »].
(обратно)160
Magna Moralia, 1208 b 30: άτοπον γαρ αυ εϊη εϊ τις φαίη φιλεΐν τόν Aiu [«Дружба с богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви»]. Возможность филии между богом и человеком отклоняется Аристотелем также и в E. N. 1159а 5 сл. Но едва ли стоит сомневаться, что афиняне любили свою богиню: ср. Aesch. Eum. 999: παρθένου φίλιις φίλοι [*с вами дева Зевесова, // Милая с любимыми»], и Solon, 4. 3 сл. Те же самые взаимоотношения абсолютной веры — в «Одиссее», между Афиной и Одиссеем (см. особенно Od. 13. 287 сл.). Несомненно, это происходит от ее изначальной функции защитницы микенских царей (Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, 491 ff.).
(обратно)161
To, что Гомер не знает ничего о магическом катарсисе, отрицается Штенгелем: (Stengel, Hermes, 41, 242) и другими. Но то, что очищения, описываемые в Il.. 1. 314 и в Od. 22. 480 сл., мыслятся как катарсические в магическом смысле, кажется вполне очевидным, в одном случае в связи с передачей λύματα [нечистоты], в другом из-за описания серы как κακών άκος [вредного средства]. Ср. Nilsson, Gesch. I. 82.
(обратно)162
Od. 15. 256 сл.; Antiphon, de caede Herodis, 82 сл. О более старой позиции ср. также Hes. fr. 144.
(обратно)163
Od. 11. 275 сл.; Il. 23. 679 сл. Ср. Aristarchus, SA на Iliad 13. 426 и 16. 822; Hesiod, Erga 161 сл.; Robert, Oidipus, I. 115.
(обратно)164
Ср. L. Deubner, «Oedipusprobleme», АЫ. Ahad. Berl. 1942, No. 4.
(обратно)165
Заражающий характер μίασμα впервые засвидетельствован в Hes. Erga 240. Leges sacrae [священные слова] Сирены (Solmsen, Inscr. Gr. dial. No. 39) содержат детальные предписания о степени ее распространения в индивидуальных случаях; об аттическом законе ср. Dem. 20. 158. То, что она была широко развита в классический период, видно из таких примеров, как Aesch. Sept. 597 сл., Soph. О. С. 1482 сл., Eur. /. Т. 1229, Antiph. Tetr. 1. 1. 3, Lys. 13. 79. Еврипид протестует против нее в Her. 1233 сл., /. Т. 380 сл.; но Платон, несомненно, идя на компромисс, исключает в Laws, 881е из любой религиозной или гражданской деятельности всякого, кто имел добровольный, пусть и слабый, контакт с оскверненным человеком — до тех пор, пока тот не очистится.
(обратно)166
Эта дистинкция впервые отчетливо была выражена Rohde, Psyche (Eng. trans.), 294 ff. Механическая природа миасмы видна не только из ее инфекционное™, но и из того, что ее можно избежать довольно легкими способами: ср. Soph. Ant. 773 сл., с примечаниями Джебба, и афинскую традицию предания преступника смерти через самостоятельное употребление им яда.
(обратно)167
Kardiner, The Psychological Frontiers of Society, 439.
(обратно)168
См. интересную лекцию F. Zucker, SyneidesisConscientia (Jenaer Akademische Reden, Heft 6, 1928). Думается, достойно упоминания, что рядом со старыми «объективными» словами для обозначения религиозной вины (άγος. μίασμα) мы в последние годы V в. встречаем термин для сознания такой вины (в форме ли сомнений в ее присутствии или в форме угрызений совести). Этот термин — ένθύμιον (или ένθυμία — Thuc. 5. 16. 1), слово, долгое время использовавшееся для описания чего-то «влияющего на человеческую душу», но употреблявшееся Геродотом, Фукидидом, Антифонтом, Софоклом и Еврипидом в специфическом значении чувства религиозной вины (Wilamowitz к Heracles 722; Hatch, Harv. Stud, in Class. Phil. 19. 172 ff.). У Демокрита έγκύρδιον — в том же самом смысле (fr. 262). Как считает Виламовиц, оно исчезло с упадком старых верований, психологическим коррелятом которых и являлось.
(обратно)169
Eur. Or. 160-1604, Ar. Ran. 355, и широко известная надпись в Эпидавре (начало IV в.), цитируемая Феофрастом, apud Porph. abst. 2. 19, который определяет αγνεία [чистоту] как φρονεΐν όσια [благочестивая мысль]. (Я пренебрегаю Epicharmus, fr. 26 Diels, которого не могу счесть подлинным.). Как показал Роде (Psyche, ix, η. 80), изменение данной точки зрения хорошо иллюстрируется в Eur. Hzzipp. 316-318, где под миасма френос Федра подразумевает нечистые мысли, а Кормилица понимает эту фразу как относящуюся к магическому нападению (миасма может быть вызвана проклятием, напр., Solmsen, Inscr. Gr. dial. 6. 29). Противопоставление руки и сердца фактически приводило к противопоставлению внешнего и внутреннего физического органа, но поскольку последний был опорой сознания, то физическое осквернение также становилось и нравственным осквернением (Festugicre, La Saintete, 19 f.)
(обратно)170
Pfister, Art. κάθαρσις, P.-W., Supp.-Band VI (я считаю эту статью лучшим аналитическим разбором религиозных идей, связанных с очищением). О первоначальном неразличении «объективного» и «субъективного» и о последующем отличении первого от второго см. также Gernet, Pensee juridique et morale, 323 f.
(обратно)171
Ср., например, катарсическое жертвоприношение Зевсу Мейлихию [Милостивому] во время диасии, которому, как сообщается, предлагали μετά τίνος στηγνότητος [с какой-то угрюмостью]. (Σ Lucian, Icaromen. 24) — не в смысле «духа раскаяния», но в смысле «атмосферы уныния», порождаемой чувством враждебного отношения божества.
(обратно)172
Свидетельство о локрийской дани и ссылки на ранние споры о ней можно найти в: Farnell, Hero Cults, 294 ff. Ср. также Parke, Hist, of the Delphic Oracle, 331 ff. К схожему контексту идей принадлежит и практика «посвящения» (δεκατεύειν) виновных людей Аполлону. Это означало их порабощение и превращение их земель в выгоны для скота; подобная операция была проведена против Крисы в VI п., угрожала Медизерсу в 479 г. и Афинам в 404 г. (Ср. Parke, Hermathena, 72 [1948] 82 ff.)
(обратно)173
Eur. Hipp. 276.
(обратно)174
Тюмос — Aesch. Sept. 686; Soph. Ant. 1097; френ, френес — Aesch. Supp. 850; Soph. Ant. 623.
(обратно)175
Aesch. Cho. 382 сл. (Зевс); Soph. Aj. 363, 976 (безумие, посланное Афиной, называется ате).
(обратно)176
Aesch. Бит. 372 сл. Ср. Soph. Ant. 603, и Ερινύες ήλιθιώναι (т. е. ηλιθίουςποιοΰοχιι [«Эринии да сделают глупыми»]) в аттическом defixio [проклятии] (Wunsch, Defix. Tab. Att., 108).
(обратно)177
Возможно, Soph. Track. 849 сл. И ср. концепцию Геродота о гибельных решениях как предопределенных судьбой человека, который принимает их: 9. 109. 2: τηδέ κακώς γύρ έδει πανοικίη γενέσθαι, πρός ταΰτα είπε Ξέρξη κτλ [«Это послужило причиной ее собственной гибели и гибели всего дома», — сказал он Ксерксу на это]; 1. 8. 2, 2. 161. 3, 6. 135. 3.
(обратно)178
Panyassis, fr. 13. 8. Kinkel.
(обратно)179
Erga 214 сл.
(обратно)180
Theognis 205 сл.
(обратно)181
выгоды, прибыль.
(обратно)182
Theognis 133, Aesch. Cho. 825 сл., Soph. О. С. 92; Soph. Ant. 185 сл. В дорийском законодательстве ате, по-видимому, полностью секуляризируется и становится термином, обозначающим любое законное наказание: leg. Gortyn. 11. 34 (GDI 4991).
(обратно)183
спасение, благо, счастье.
(обратно)184
Eur. Tro. 530 (ср. Theognis, 119); Soph. Ant. 533. Отличается Soph. О. C. 532: здесь Эдип называет своих дочерей бедами, плодом его γάμων άτα [грех брака] (526).
(обратно)185
Ср. расширение смысла этого слова, в связи с чем понятия αλιτήριος [грешный], παλαμναΐος [убийца], προστρόπαιος [взывающий о мести] относились не только к виновному человеку, но и к сверхъестественному существу, которое наказывает его (Ср. W. Н. P. Hatch, Harv. Stud, in Class. Phil. 19 [1908]. 157 ff.) — μένος «της, Aesch. Cho. 1076.
(обратно)186
«Кого бог хочет погубить, того он сперва обманывает».
(обратно)187
In Leocratem 92. Ср. подобную анонимную гноме, о которой сообщает Soph. Ant. 620 сл.
(обратно)188
Theognis, 402 ff.
(обратно)189
Aesch. Pers. 854 (ср. 472, 724 сл.) — контраст к 808, 821 сл. άπατη [обман, хитрость] бога для Эсхила является δικαία [справедливость] (fr. 301). В число тех, кого он осуждает за приписывание богам причины зла, Платон включил Эсхила, на основании слов Ниобы: θεός μέν αίτίαν φύει [Ιροτοΐς, οταν κακώσαι δώμα παμπήδην Οέλη [«Причину смертным бог родит, // Когда чей-либо дом желает истребить»] (fr. 162, apud PI. Rep. 380a). Но в своей цитате Платон не упоминает скрытое «но», которое содержало, как мы теперь знаем из папируса Niobe (Ό. L. Page, Greek Literary Papyri, I. 1, p. 8), предупреждение против того, чтобы ΰβρις. μή θρασυστομεϊν [«чтобы не говорить дерзко»]. Здесь, как и везде, Эсхил с очевидностью признавал возможность человека повлиять на свою собственную судьбу.
(обратно)190
Aesch. Agam. 1486; ср. 160 сл., 1563 сл.
(обратно)191
Ibid., 1188 сл., 1433, 1497 сл.
(обратно)192
Hdt. 6. 135. 3.
(обратно)193
«Этот призрак Микен» (фр.).
(обратно)194
Glotz, Solidarity, p. 408; К. Deichgräber, Gött. Nachr. 1940.
(обратно)195
Eur. Med. 122-130. Федра тоже считает, что в ее состоянии повинен даймон — Hipp. 241. И нам известно из одного трактата в гиппократовском корпусе (Virg. 1, VIII. 466 L.), что при умственном расстройстве в сновидениях и наяву появляются гневные даймоны.
(обратно)196
Aeschin. in Ctes. 117. Эсхин знал, что он живет в неспокойное, революционное время, когда старые центры власти уступали место новым (ibid., 132), и это побуждало его, как и Геродота, везде видеть руку божью. Так, он говорит о фиванцах как την γε θεοβλάβειαν και τήν άφροσύνην ούκ ανθρωπίνως άλλά δαιμονίως κτησάμενοι (ibid., 133) [«по крайней мере сумасшедшие и безумные — не людей, но даймонов добыча»].
(обратно)197
Theogn. 637 сл., Soph. Ant. 791 сл. Об Έλπις [Надежде] см. Wehrli, ΛάΟε βιώσας, 6 ff.
(обратно)198
Η. and Η. A. Frankfort, The Intellectual Adventure of Ancient Man, 17.
(обратно)199
Sem. Amorg. 7. 102; Soph. Ο. T. 28. Ср. также гл. III, прим. 14, и о похожих верованиях — Keith, Rel. and Phil, of Veda and Upanishads, 240.
(обратно)200
О взглядах современных афинян см. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, 21 ff. Об убийстве, спровоцированном в виде Эринии, ср. Aesch. Cho. 283: προσβολάς Ερινυών εκ των πατρφων αιμάτων τελουμένας [«вылетят Эринии из крови отчей»], Verrall ad loc; ibid., 402; Antiphon, Tetral. 3. 1. 4.
(обратно)201
Soph. Ant. 603. Ср. глагол δαιμονάν, используемый для обозначения как «потайных мест» (САо. 566), так и «одержимых» людей (Sept. 1001, Phoen. 888).
(обратно)202
Eur. Or. 395 сл. Если платоновские письма VII и VIII считать подлинными, то даже Платон верил в реальность существ, наказывающих за убийство: VII. ЗЗбв: ή πού τις δαίμων ή τις άλιτήριος έμπεσών [«или некий даймон, или некая пагуба нападает»] (ср. 326е); VIII. 357а: ξενικαί ερινύεςέκώλυσαν [«гостеприимные Эринии помешали»].
(обратно)203
Hes. Erga. 314: δαίμονι δ' οίοςέησθα. тоέργάζεσΟαιαμεινον [«Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее // Вечным богам...». — Пер. В. В. Вересаева, 309-314], и Phocyl. fr. 15.
(обратно)204
См. гл. I, с. 18. Наряду с более индивидуальным «даймоном» гомеровское понятие личной мойры тоже сохранилось, став распространенным моментом в трагедии. Ср. Archilochus, fr. 16: πάντα τύχη και μοίρα, Περίκλεες, άνδρί δίδωσιν [«все судьба и мойра, Перикл, мужам дарит»], Aesch. Again. 1025 сл., Cho. 103 сл. и т. д.; Soph. О. Т. 376, 713 и т. д., Pind. Nem. 5. 40: «Врожденная доля — мера всем свершениям человеческим» и Plato, Gorg. 512е: πιστεύσαντα ταίς γυναιςϊν ότι τήν είμαρμένην ούδ' αν εις έκφύγοι [«поверив женщинам, что от своей судьбы никому не уйти»] [Цитаты из Платона даются по изданию: Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. М. 1990-1994.]. Гомеровская фраза θανάτου (-οιο) μοίρα [«расцвела вражда»] появляется у Эсхила в «Персах», 917, в Aga т. 1462. Иногда понятия даймона и мойры сращиваются: Ar. Thesm. 1047: μοίρας άτεγκτε δαίμων [«неумолимо божество судьбы»] (пародия на трагедию); Lys. 2. 78: ό δαίμων ό τήν ήμετέραν μοϊραν είληχώς [«божество, которому досталось управлять нашей судьбой, неумолимо» — Лисий. Речи. М., 1994. Пер. С. И. Соболевского].
(обратно)205
δαίμων (в религиозной интерпретации) и τύχη (с профанной точки зрения на отсутствие погребения) не виделись как взаимоисключающие понятия и фактически соединялись: Ar. Αυ. 544: κατά δαίμονα και <τινα> συντυχίαν άγαθήν [«согласно даймону и счастливой судьбе»], Lys. 13. 63: τύχη και ό δαίμων [«судьба и воля божества»], [Dem. 48. 24], Aesch. in Ctes. 115, Aristotle, fr.44. Еврипид, однако, различает их как две альтернативы (fr. 901. 2). В понятии θεία τύχε (Soph. Phil. 1326, и часто у Платона) «случай» приобретает такую же религиозную ценность, которую ему придает и первобытное мышление (см. гл. I, прим. 25).
(обратно)206
Theogn. 161-166.
(обратно)207
Hdt. 1. 8. 2. Ср. выше прим. 55.
(обратно)208
Pind. Pyth. 5. 122 сл. Но он не всегда морализирует народную религию подобным образом. Ср. Ol. 13. 105, где «счастье» γένος [рода] спроецировано вовне как даймон.
(обратно)209
Стоический «даймон» оказывается ближе к фрейдовской концепции, чем платонический: он является, как считает Бонхеффер (Bonhöffer, Epiktet, 84), «идеалом, противостоящим эмпирической личности», и одна из его основных функций — наказать «я» за его телесные грехи (ср. Heinze, Xenokrates, 130 f.; Norden, Virgilis Aeneid VI, pp. 32 f.). У Апулея (d. Socr. 16), даймон является ipsis penitissimis mentibus vice conscientiae [«в самом точном смысле переменой сознания»].
(обратно)210
Phaedo 107d; Rep. 617de, 620de (где Платон избегает фатализма народного мышления тем, что в его учении душа сама выбирает себе руководителя); Tim. 90а~с (обсуждается ниже, гл. Vn, с. 311).
(обратно)211
Ср. М. Ant. 2. 13, с примечанием Фаркухарсона; Plut. gen. Socr. 592bc; Plot. 2. 4; Rohde, Psyche, XIV, n. 44; J. Kroll, Lehren des Hermes Trismegistos, 82 ff. Норден, loc. cit., показывает, каким образом эта идея была принята христианскими авторами.
(обратно)212
Fr. Pfister, P.W., Supp.-Band VI, 159 f. Ср. его Religion d. Griechen u. Romer (Bursian's Jahresbericht, 229 [1930]), 219.
Свидетельства ο φαρμακοί собраны в: Murray, Rise of the Epic, App. А. В своем мнении о том, что этот ритуал — изначально катарсический, я следую Deubner, Attische Feste, 193 ff., равно как и самим грекам. Обзор других точек зрения см. Nilsson, Gesch. I, 98 f.
(обратно)213
Pfister, P.W., Supp.-Band VI, 162.
(обратно)214
Cp. Nilsson, Gesch. I, 570 ff., и Diels, «Epimenides von Kreta», Berl. Sitzb. 1891, 387 ff.
(обратно)215
Некоторые ученые склонны полагать, что отличие архаики от гомеровской религии заключается в возрождении прагреческих, «минойских» представлений. Возможно, это истинно в отдельных случаях. Но большинство особенностей, которые я подчеркивал в этой главе, по всей вероятности, имеют индоевропейские корни, и мы не должны, я думаю, столь уверенно ссылаться именно на «минойскую» религию в этом контексте.
(обратно)216
Как полагает Малиновский, когда человек испытывает бессилие в практической ситуации, «дикарь он или цивилизованный, знает ли магические приемы или вообще не ведает об их существовании и пребывает в пассивном бездействии — то, что пытается внушить ему разум, меньше всего может успокоить его. Его нервная система, да и весь организм в целом, толкают его к некоей компенсирующей деятельности... в которой страсть находит себе выход и которая существует благодаря бессилию, субъективно обладает всеми достоинствами реальной деятельности, где эмоции, если им не препятствовать, проявляются естественным путем». (Malinovski, Magic, Science and Religion). Есть некоторые свидетельства, что тот же принцип считается полезным для традиционных обществ: напр., Линтон (в: А. Kardiner, The Individual and His Society, 287 ff.) отмечает, что среди последствий, произведенных тяжелым экономическим кризисом в племенах танала на Мадагаскаре, были резкое увеличение суеверных страхов и упрочение веры в злых духов, которая первоначально отсутствовала.
(обратно)217
Plut. Apophth. Lac. 223а.
(обратно)218
Напр. Hes. Erga 5 сл.; Archilochus, fr. 56; Solon, frs. 8, 13. 75; Aesch. Sept. 769 сл., Agam. 462 сл. и т. д.
(обратно)219
Murray, Rise of the Greek Epic, 90; ср. Il. 5. 9, 6. 14, 13. 664 и Od. 18. 126 сл. Подобная позиция естественна для культуры стыда: богатство приносит тиме (Od. 1. 392, 14. 205 сл.). Этот взгляд сохранялся и при Гесиоде, который, хотя и сознавал сопутствующие опасности, использовал его для подкрепления своего «евангелия труда»: Erga 313: πλούτω δ' ύρετή και κΰδος όπηδεΐ [«вслед за богатством идут добродетель с почетом»].
(обратно)220
Об источниках см.: Glotz, Solidarite, 31 ff.
(обратно)221
власть отечества.
(обратно)222
Arist. Pol. 1. 2, 1252b 20: πάσα γαρ οικία βασιλεύεται ύπο του πρεσβυτάτου [«во всякой семье старший облечен полномочиями царя»]. Ср. Е. N. 1161а 18: φύσει άρχικόν πατήρ υιών... ku'i βασιλεύς βασιλευομένων [«отец — виновник самого существования... а кроме того, еще и воспитания, и образования»]. Платон использует более сильные термины: он говорит о собственном статусе юноши как πατρός και μητρός και πρεσβυτέρων δουλείαν (Laws 701b) [«подчинения старшим, отцу и матери»].
(обратно)223
Eur. Hipp. 971 сл., 1042 сл. (Для Ипполита лучше смерть, чем изгнание; Alcmaeonis, fr. 4 Kinkel (apud [Apollod.] Bibl. 1. 8. 5); Eur. Or. 765 сл.; Il. 1. 590 сл. Из мифов следует, что в ранние времена изгнание было необходимым следствием άποκήρυςις [публичного объявления о лишении наследства], правила, которое Платон предлагал сохранить (Laws 928е).
(обратно)224
Ср. Glotz, op. cit., 350 ff.
(обратно)225
Plato, Laws 878de, 929a-c.
(обратно)226
Почитание родителей по шкале обязаностей идет сразу после страха божьего: Pind. Pyth. 6. 23 сл. и Σ ad loc; Eur. fr. 853; Isocr. 1. 16; Xen. Mem. 4. 4. 19, и т. д. Об особых санкциях свыше, относящихся к оскорблениям родителей, см. //. 9. 456 сл.; Aesch. Eum. 269 сл.; Eur. fr. 853; Isocr. 1. 16; Xen. Mem. 4. 4. 21; Plato, Euthyphro 15d; Phaedo 114a; Rep. 615c; Laws 872e и особенно 880e сл.; также Paus. 10. 28. 4; Orph. fr. 337 Kern. О чувствах сына при невольном отцеубийстве ср. историю Алфаимена, Diod. 5. 59 (но следует отметить, что он, как и Эдип, оказывается, в сущности, героем).
(обратно)227
История Феникса, как и конец его речи в II. 9. 432-605, вероятно, отражает ситуацию в поздней Великой Греции; ср. гл. I, с. 18. Другие истории сложены уже после Гомера (проклятие Эдипа впервые появляется в «Фиваиде», fr. 2 и 3 К.; ср. Kobert, Oidipus, I. 169 сл). Платон продолжает верить в силу отцовского проклятия (Laws 931се).
(обратно)228
Plat. Rep. 377e-378b. Миф о Кроне, разумеется, имеет параллели во многих культурах; но его сходство с хурритскохеттским эпосом о Кумарби столь велико, что это дало повод для предположений о заимствовании (Е. Forrer, Mel. Cumont, 690 ff.; R. D. Barnett, JHS 65 [1945] 100 f.; H. G. Güterbock, Kumarbi [Zurich, 1946], 100 ff.). Однако это не приуменьшает его значения: придется спросить, какие чувства руководили греками, чтобы позволить чудовищной восточной фантазии занять одно из центральных мест в своей мифологии. Часто (и, вероятно, правильно) считалось, что «отделение» Урана от Геи мифологизирует воображаемое физическое отделение неба от земли, которые первоначально являлись одним целым (ср. Nilsson, Hist, of Greek Religion, 73). Но мотив кастрации отца едва ли естественный и, конечно, не обязательный элемент в таком мифе. Я полагаю, что его присутствие в хеттской и греческой теогониях трудно объяснить иначе, чем как отражение бессознательных человеческих желаний. Подтверждение этому взгляду, вероятно, можно найти в легенде о рождении Афродиты из отсеченного органа древнего бога (Hes. Theog. 188 сл.), легенде, которую можно прочесть как символизацию достижения сыном сексуальной свободы через убийство своего отца-соперника. Несомненно то, что в классический период история о Кроне часто всплывала как прецедент кощунственного поведения сына: ср. Aesch. Eum. 640 сл.; Ar. Nub. 904 сл.; Αν. 755 сл.; Plato, Euthyphro 5е-6е.
(обратно)229
фигура отцеубийцы, видимо, довлела над воображением классического века: Аристофан выводит ее на сцену как действующее лицо (Αυ. 1337 сл.) и показывает, как отцеубийца размышляет над своим случаем (Nub. 1399 сл.); для Платона он — главный пример злодейства (Gorg. 456d; Phd. 113е fin., и т. д.). Соблазнительно видеть в этом нечто большее, чем просто отражение софистических каверз или особого «конфликта поколений» в конце V в., хотя они, несомненно, помогли сделать образ отцеубийцы популярным.
(обратно)230
прекрасно... отвратительно.
(обратно)231
Plato, Rep. 571с; Soph. О. С. 981 сл.; Hdt. 6. 107. 1. То, что откровенные сны Эдипа были общим местом в поздней античности и что их значение много обсуждалось όνειροκριτικοί [снотолкователями), явствует из очень подробной дискуссии о них у Артемидора (I. 79). На первый взгляд, это подразумевает менее глубокое и менее жесткое подавление инцестуозных влечений, чем обычно принято в нашем обществе. Однако Платон специально подчеркивает, что инцест не только повсеместно рассматривался как αισχρών αίσχιστον, но и что большинство людей совершенно не осознавали импульсов, ведущих к нему (Laws 838е). Следует скорее сказать, что необходимая маскировка запретного импульса осуществлялась не в пределах самого сна, но в последовательном процессе интерпретации, которая придавала ему безопасный смысл. Античные авторы, впрочем, упоминают и то, что может быть названо скрытыми Эдиповыми снами, например, сон о нырянии в воду (Hipp, περί διαίτης 4. 90, VI. 658 Litt.)
(обратно)232
Ср. S. Luria, «Väter und Söhne in den neuen literarischen Papyri», Aegyptus, 7 (1926) 243 ff.; эта статья содержит немало интересных сведений о семейных отношениях в классический период, но мне кажется, в ней несколько преувеличивается значение интеллектуальных влияний и, в частности, влияние софиста Антифонта.
(обратно)233
G. М. Calhoun, «Zeus the Father in Homer», TARA 66 (1935) 1 ff. И наоборот, поздняя греческая мысль полагала, что к отцу следует относиться как к «богу»: θεός μέγιστος τοις φρονοΟοτν oi γονείς [«бог является величайшим для тех, кто следует предкам»] (Dicaeogenes, fr. 5 Nauck); νόμοςγονεΟσιν ίσοθέουςτιμάς νέμειν [«закон родительский божественному равен»] (Menander, fr. 805 К.)
(обратно)234
Представление о божьем фтоносе часто рассматривалось учеными как простая проекция зависти, ощущаемой неудачником к счастливцу (ср. тщательно разработанную, но слишком пристрастную книгу Ranulf). Несомненно, в этой теории есть доля истины. Конечно, божий и человеческий фтоносы имеют много общего — напр., оба проявляются через дурной глаз. Но, скажем, выдержка из Геродота (7. 46. 4.) ό δέ θεός γλυκύν γεύσας τόν αιώνα φθονερός έν αύτώ ευρίσκεται έών [«а божество, позволив человеку вкусить сладости жизни, оказывается при этом завистливым» — Цит. по: Геродот. История. М. 1993.], указывает, на мой взгляд, в другом направлении. Она скорее совпадает с мнением Пиаже, заметившего, что «дети иногда думают противоположное тому, что они желают, как если бы реальность являла нечто разрушительное для их желаний» (цит. по: A. R. Burn, The World of Hesiod, 93, который подтверждает это суждение своим личным опытом). Такое состояние ума — типичный побочный продукт культуры вины, в которой домашняя дисциплина сурова и репрессивна. Оно может легко сохраняться и в жизни взрослого, находя себе выражение в квазирелигиозных терминах.
(обратно)235
Родэ обратил внимание на сходство между греческими идеями об осквернении и очищении и похожими идеями Древней Индии (Rohde, Psyche, chap, ix, п. 78). Ср. Keith, Religion and Philosophy of Veda and Upanishads, 382 ff., 419 f., и в отношении Италии — Η. J. Rose, Primitive Culture in Italy, 96 ff., 111 ff., и Η. Wagenvoort, Roman Dynamism (Eng. trans., 1947), chap. v.
(обратно)236
Я бы охотно допустил и то, что предпочтение Аристотелем из трагедийных сюжетов ужасных деяний, совершенные έν ταίς φιλίαις [«в дружеских отношениях»] (Poet. 1453b 19), а из историй — таких, где преступный акт предотвращается в последний момент άναγνιόρισις [«узнаванием»] (1454а 4), бессознательно обусловлено их высокой эффективностью в качестве реакции чувства вины, несмотря на то, что второе из этих предпочтений находится в резком противоречии с его общим взглядом на трагедию. О катарсисе как ответной реакции см. ниже, гл. III, с 120, 123.
(обратно)237
См. особенно книги Кардинера, The Individual and His Society и The Psychological Frontiers of Society, а также Clyde Kluckhohn, ♦Myths and Rituals: A Geheral Theory., Harv. Theol. Rev. 35 [1942] 74 ff., и S. de Grazia, The Political Community (Chicago, 1948).
(обратно)238
См. великолепные ремарки Латте (Latte, Arch. f. Rel. 20. 275 ff.). Как он указывает, религиозное сознание не только терпимо относится к этическим парадоксам, но и часто воспринимает их как глубочайшее откровение трагического смысла жизни. Молено вспомнить, что эти парадоксы сыграли важную роль в христианстве: так, ап. Павел верил, что Господь «кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9:18), а молитва Господня включает мольбу «И не введи нас во искушение» (μη είσενέγκρς ήμΰς εις πειραομόν). Ср. мысль Рудольфа Отто о том, что «религиозным людям Ветхого Завета гнев Божий, отнюдь не умаляющий Его Божественности, представляется как естественное выражение ее, совершенно необходимым элементом "священного" как такового» (11. Otto, The Idea of the Holy, 18). Я полагаю, что это одинаково верно и для людей типа Софокла. И то же самое замечательное «священное» можно усмотреть в богах архаического и раннего классического искусства. Как заявил в своей вступительной речи профессор К. М. Робертсон (London, 1949), «они действительно воспринимаются в человеческой форме, но их божественность отличается от человечности в одном страшноватом аспекте. Для этих вневременных, бессмертных существ обычные люди — словно мухи для резвящихся детей, и эта холодность заметна даже в их изваяниях вплоть до конца V столетия».
(обратно)239
Цит. по: Софокл. Драмы. Пер. Φ. Ф. Зелинского. М., 1990.
(обратно)240
Plato, Phaedrus 244а.
(обратно)241
Цитаты из Платона даются по изданию: Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1990—1994.
(обратно)242
Ibid., 244b: των παλαιών oi τύ ονόματα τιθέμενοι ουκ αίσχρόν ήγοϋντο ουδέ όνειδος μιινίαν [«те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали неистовство безобразием и позором»]; это подразумевает, что нынешние люди воспринимают его как постыдное. Hipp. morb. sacr. 12, говорит об αισχύνη, чувствуемой эпилептиками.
(обратно)243
Ibid., 265а.
(обратно)244
Ibid., 265b.
(обратно)245
См. ниже, гл. VII, с. 318.
(обратно)246
дело не ясно (лат.).
(обратно)247
Hdt. 6. 84 (ср. 6. 75. 3).
(обратно)248
Hdt. 3. 33. Ср. также Xen. Mem. 3. 12. 6.
(обратно)249
Caelius Aurelianus, de morbis chronicis, 1.5 = Diels, Vorsocr. 31A 98. Cp. A. Delatte, Les Conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes presocratiques, 21 ff. Однако сомнительно, что это учение восходит к самому Эмпедоклу.
(обратно)250
О. Weinreich, Menehrates Zeus und Salmoneus (Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft, 18).
(обратно)251
О смешивании в народном созании эпилепсии с одержимостью в разные периоды см. обстоятельную монографию О. Тет-kin, The Falling Sickness (Baltimore, 1945), 15 ff., 84 ff., 138 ff. Многие чрезвычайно выразительные описания «бесноватых», созданные в Средние века и эпоху Возрождения, содержат элементы, характерные для эпилепсии, например, язык, высунутый «подобно хоботу слона», «чудовищно большой, длинный, свисающий изо рта»; «жесткость и напряженность всего тела, ступни касаются головы», «тело выгнуто назад, словно лук»; непроизвольный выплеск мочи в конце припадка (Т. К. Oesterreich, Possession, Demoniacal and Other, Eng. trans., 1930, p. 18, 22, 179, 181, 183). Все это рационально мыслящие врачи воспринимали как признаки эпилепсии; см. Aretaeus, De causis et signis acutorum morborum [О причинах и признаках острых болезней], 1 ff. Kühn (он тоже упоминает о том, что у страдающих возникает ощущение, что их избивают).
(обратно)252
Ср. Hdt. 4. 79. 4: ήμέας ό θεός λαμβάνει [«бог охватывает нас»] и прилагательные νυμφόληπτος [одержимый, помешанный], θεόληπτος [одержимый богом] и т. д; Cumont, L'Egypte des astrologues, 169, п. 2. Но слово эпилептос уже в de morbo sacro используется без религиозного подтекста. Aretaeus, op. cit., 73 К., приводит четыре причины для объяснения того, почему эпилепсия называлась ιερά νόσος [священная болезнь]: а) δοκέει γάρ τοΐσι ές τήν σελήνην άλιτροισι άφικνεΐσθαι ή νοΰσος [«полагают ведь нечестиво, что болезнь — от увеличения Луны»] (эллинистическая теория, ср. Temkin, op. cit., 9 f., 90 ff.); b) ή μέγεθος τοΰ κακοΰ ιερόν γάρ τό μέγα [«великое то дело, что божественное то величие»]; с) ή ίήσιος ούκ ανθρωπινής άλλά θείης [«приходит не от человеческого, а от божественного»] (ср. morb. sacr. 1, VI. 352. 8 Litt.); d) ή δαίμονος δόξης ές τόν άνθρωπον εσόδου [«полагают, что от демонов — к человеку»]. Последняя причина, вероятно, была исконной, но народное мнение по таким вопросам всегда неопределенно и хаотично. Платон, который не верил в сверхъестественный характер эпилепсии, тем не менее оставил для нее термин иера носос, на том основании, что она воздействует на голову, являющейся «священной» частью человека (Tim. 85ab). В Эльзасе она до сих пор называется «heiliges Weh» [священная болезнь].
(обратно)253
Morton Prince, The Dissociation of a Personality. Ср. также P. Janet, L'Automatisme psychologique; A. Binet, Les Alterations de la personalite; Sidis and Goodhart, Multiple Personality; F. W. H. Myers, Human Personality, chap. II. Значение этих случаев для понимания древних идей одержимости было подчеркнуто Е. Bevan, Sibyls and Seers, 135 ff., и его признавал уже Родэ (Psyche, App. viii).
(обратно)254
Ср. Seligman, JRAI (1924) 261: «У представителей одного неразвитого народа, с которыми я был лично знаком... я наблюдал более или менее распространенную веру в возможность легкого расщепления личности».
(обратно)255
Хождение во сне относится к состоянию de morbo sacro (с. 1, VI. 354. 7 Litt.); говорится, что оно вызывается, по мнению магических целителей, Гекатой и покойниками (ibid., 362. 3); духи завладевают живым телом, которое его собственник оставляет незащищенным во время сна. Ср. trag, adesp., 375: ένυπνον φάντασμα φοβή χθόνιας 0"Εκάτης κώμονέδέξω [«ты видел во сне страшного призрака и шествующую под землей Гекату»]. О сверхъестественных истоках лихорадки ср. демонов лихорадки Ήπιάλης, Τΐφυς, Εύόπας [Эпиал, Тиф, Эуоп] (Didymus apud Σ Ar. Vesp. 1037); храм Фебрис [богиня лихорадки] в Риме — Cic. N. D. 3. 63; Pliny, Ν. Η. 2. 15; и supra, гл. II, прим. 74.
(обратно)256
Ср. Oesterreich, op. cit., 124 f.
(обратно)257
Od. 18. 327. В «Илиаде», с другой стороны, такие выражения, как έκ δέ oi ηνίοχος πλήγη φρένας (13. 394) [«но возница его цепенел, растерявшийся в мыслях»], не подразумевают ничего сверхъестественного: временная ситуация оцепенелости от ужаса, в которой оказался возница, имеет нормальные человеческие причины. В Л. 6. 200 сл. о Беллерофонте, вероятно, думают как о повредившемся в уме благодаря богам, но используемый для этого язык описания очень неясен.
(обратно)258
Od. 20. 377. Apoll. Soph. (Lex. Hom. 73. 30 Bekker) объясняет эпимастос как эпиплектос, Гесихий — как эпилептос. Ср. W. Havers, Indogerm. Forschungen, 25 (1909) 377 f.
(обратно)259
Od. 9. 410 сл. Ср. 5. 396: στυγερός δέοίέχραε δαίμων [«поскольку злой демон к нему прикоснулся»], однако здесь болезнь, пожалуй, физическая.
(обратно)260
См. В. Schmidt, Volksleben der Neugriechen, 97 f.
(обратно)261
Hipp. morb. sacr. 18 (VI. 394. 9 ff Litt.). Cp. aer. aq. loc. 22 (II. 76. 16 ff. L.), трактат, который, возможно, является работой того же автора (Wilamowitz, Berl. Sitzb. 1901, i. 16) и flat. 14 (VII. 110 L.). Но и медики не были единодушны в этом вопросе. Автор гиггаократовского Prognostiken, похоже, верит в то, что некоторые болезни содержат в себе «нечто божественное» (с. 1, II. 112. 5 L.). Тем не менее Нестле (Nestle, Griech. Studien, 522 f.) полагает, что этот взгляд отличается от взглядов автора morb. sacr.: здесь «священные» болезни — особый класс болезней, который важно познать врачу (ибо они неисцелимы человеческими средствами). Фактически не исчезло и магическое отношение к эпилепсии: напр., [Dem.] 25. 80 упоминает о нем; а в поздней античности Александр из Тралл говорит, что «некоторые» используют амулеты и магические предписания для лечения этой болезни, но безуспешно (I. 577 Puschmann).
(обратно)262
Вопрос раба в Ar. Vesp. 8: άλλ' ή παραφρονείς έτεόν ή κορυβαντιφς [«ты корибанствуешь или говоришь в безумии истины?!»], возможно, имеет в виду различение «естественного» и «священного» безумия. Но различие между παραφρονεΐν и κορυβαντιάν может быть просто разницей в степени: корибантам приписывается более умеренное расстройство (infra, с. 122 сл.).
(обратно)263
Ar. Aves 524 f. (Ср. Plautus, Poenilus 527); Theothr. Char. 16 (28 J.) 14; Pliny, Ν. Η. 28. 4. 35, «despuimus morbos, hoc est, contagia regerimus» [«мы извергаем душевные болезни, храня себя от заражения»], и Plautus, Captioi 550 ff.
(обратно)264
«Душевные расстройства, которые, на мой взгляд, исключительно распространены среди греческих крестьян, ставят страдальца не просто вне круга его товарищей, но и в некотором смысле над ним. К его бормотаниям прислушиваются с каким-то трепетом, и в той степени, в какой их можно понять, они воспринимаются как пророчества» (Lawson, Mod. Greek Folklore and Anc. Greek Religion, 299). О даре пророчества, приписываемом эпилептикам, см. Temkin, op. cit., 149 ff.
(обратно)265
Soph. Aj. 243 сл. Среди дикарей широко распространена вера в то, что человек в аномальном состоянии вещает на особом «священном» языке; ср., напр., Oesterreich, op. cit., 232, 272; Ν. Κ. Chadwick, Poetry and Prophecy, 18 f., 37 f. Сравните также псевдоязыки, на которых говорят некоторые «контактеры» и религиозные энтузиасты; они часто заявляют, подобно Аяксу, что этому научили их «духи» (Е. Lombard, De la glossolalie chez les premiers Chretiens et les phenomenes similaires, 25 ff.).
(обратно)266
Soph. О. Т., 1258: λυσσώντι δ'αύτω δαιμόνων δείκνυσί τις [«вела его в безумье сила свыше»]. Домочадец добавляет, что Эдипа «вели» к верному месту (1260); иначе говоря, Эдип временно обладает ясновидением сверхъестественного происхождения.
(обратно)267
Plato, Tim. 71e. Ср. Arist. div. p. somn. 464a 24: ένίους των εκστατικών προοραν [«что некоторые из безумных предвидят»].
(обратно)268
Heraclitus, fr. 92d: «Сивилла же бесноватыми устами несмеянное, неприкрашенное, неумащенное вещает, и голос ее простирается на тысячу лет чрез бога». Контекст из Plut. Pyth. or. 6, 397а определенно показывает, что фраза «чрез бога» является частью вышеприведенной цитаты и что подразумеваемый бог — Аполлон (ср. Delatte, Conceptions de l'enthousiasme, 6, п. 1).
(обратно)269
Psyche, 260, 289 ff.
(обратно)270
С мнением Родэ согласны, напр., Hopfner в P.-W., s. v. μαντική; Ε. Fasher, Προφήτης, 66; W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, 60; Oesterreich, Possession, 311. Не согласны с ним Farnell, Cults, IV. 190 ff.; Wilamowitz, Glaube der Hellenen, II. 30; Nilsson, Geschichte, I. 515 f.; Latte, «The Coming of Pythia», Harv. Theol. Reo. 33 (1940) 9 ff. Профессор Parke, Hist, of the Delphic Oracle, 14, считает, что аполлоновская Пифия произошла от древнего оракула Земли в Дельфах, и склоняется к мнению, что это-де может объяснить ее пол (видимо, следует думать, что у Аполлона был и мужской жрец); но на этот аргумент, мне кажется, уже адекватно ответил Латте.
(обратно)271
Устами Тиресия Еврипид говорит, что Дионис, среди прочего, еще и бог экстатических пророчеств (Во. 298 сл.); и из Hdt. 7. Ill явствует, что женский медиумический транс реально практиковался при фракийском оракуле Диониса в краю сатров (ср. Eur. Нес. 1267, где говорится, что «есть во Фракии вещий Дионис»). Но поскольку в Греции в момент его появления уже существовал бог с мантическими функциями, то с Диониса, по-видимому, эта функция была снята или, по крайней мере, она отошла на второй план. В римскую эпоху у него был оракул (с мужским жрецом) в Амфиклее в Фокиде (Paus. 10. 33. 11, IG IX. 1. 218); но это не засвидетельствовано раньше, и данный культ показывает восточные влияния (Latte, loc. cit., 11).
(обратно)272
О Финикии см.: Gressmann, Altorientalische Texte и. Bilder гит А. Т., I. 225 ff. О хеттах см.: Α. Götze, Kleinasiatische For schungen, I. 219; О. R. Gurney, «Hittite Prayers of Mursiii II», Liverpool Annals, XXVII. Ср. C. J. Gadd, Ideas of Divine Rule in the Ancient East (Schweich Lectures, 1945), 20 ff. Можно вспомнить и о ряде ассирийских оракулов, датируемых с правления Асархаддона, в которых через уста (находящейся в трансе?) жрицы, чье имя приводится, вещает богиня Иштар: см. A. Guillaume, Prophecy and Divination among the Hebrews and Other Semites, 42 ff. Подобно θεομάντεις в Plato, Apol. 220, о таких пророках говорится, что они «изрекают то, чего не знают сами» (A. Haldar, Associations of Cult Prophets among the Ancient Semites, 25). Гадд считает, что экстатические прорицания в целом древнее, чем пророчества как предмет обучения («оракулы и пророчества имеют тенденцию делаться со временем практиками формального прорицания»); того же мнения и Хэллидей (Halliday, Greek Divination, 55 ff.).
(обратно)273
Nilsson, Greek Popular Religion, 79, следуя В. Hrozny, Arch. Or. 8 [1936] 171 ff. Впрочем, прочтение «Апулунас», которое, по словам Грозны, правильно расшифровывает хеттскую иероглифическую надпись, оспаривается другими компетентными хеттологами: см. R. D. Barnett, JHS 70 [1950] 104.
(обратно)274
Ср. Wilamowitz, «Apollon», Hermes, 38 [1903] 575 ff.; Glaube, I. 324 ff., и, для тех, кто не читает по-немецки, его оксфордские лекции об Аполлоне, переведенные Мюрреем.
(обратно)275
Кларос — Paus. 7. 3. 1; Бранхиды (Дидима) — ibid., 7. 2. 4. Ср. С. Picard, Ephese et Claros, 109 ff.
(обратно)276
Ср. мнение Фарнелла (Cults, TV. 224). Древние источники собраны там же, 403 ff.
(обратно)277
Hdt. I. 182. Ср. А. В. Cook, Zeus, И. 207 ff., и Latte, loс. cit.
(обратно)278
пророк... бесноваться, неистовствовать.
(обратно)279
Например, Курциус, Мейе, Буасак, Хофманн. Ср. Plato, Phaedr. 244с и Eur. Ва. 299.
(обратно)280
Od. 20. 351 сл. Я не могу согласиться с Нильссоном (Gesch. I. 154), что эта сцена есть «dichterisches Schauen, nicht das sogennante zweite Geschieht» [«поэтический вымысел, а не так называемое второе зрение»]. Параллель с символикой кельтского видения, которую провел ad. loc. Монро, представляется во многом случайной. Ср. также Aesch. Eum. 378 сл.: τοΐον έπ'ι κνέφας άνδρ'ι μύσους πεπόπαται, και δνοφεράν τιν' άχλύν κατή δόγματος αύδΰται πολύστονος φάτις [«Облаком темным застилает мужа вина. Тенью полной осеняет поруганный дом мрак многоустой толпы, нависая грозой».]; символическое видение крови — Hdt. 7. 140. 3; и выдержка из Плутарха, приведенная в следующем примечании, так же как и «Сага о Ньяле», с. 126.
(обратно)281
Plut. Pyrrh. 31: έν τή πόλει των Άργείων ή τοΰ Λυκείου προφήτις Απόλλωνος έξέδραμε βοώσα νεκρών όρΰν και φόνου καταπλέω τήν πόλιν [«...а в Аргосе Аполлонида, прорицательница Ликейского бога, выбежала, крича, что ей привиделся город, полный убитых...». — Цит. по: Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2-х тт. М., 1990. Пер. С. Ошерова.].
(обратно)282
В запланированное время практика подобного пророчества может быть успешной только в том случае, если используются предметы, аналогичные средневековому «хрустальному шару». Возможно, это практиковалось в менее известном оракуле Аполлона Кианского в Ликии, где, как пишет Павсаний (7. 21. 13), было возможно έσω ένιδόντα τινά ές τήν πηγήν ομοίως πάντα όπόσα θέλει θεάσασΟαι [«там есть возможность всякому, кто посмотрит в источник, видеть все то, что он пожелает» — Павсаний. Описание Эллады. В 2-х тт. М., 1994.].
(обратно)283
ένθεος никогда не означает то, что душа покидает тело и пребывает «в боге», как склонен иногда считать Родэ, но всегда то, что бог находится в теле, как и έμψυχος означает, что оно содержит в себе ψυχή (см. Pf ister в Pisciculi F. J. Doelger dargeboten [Münster, 1939], 183). Не могу я принять и тот взгляд, что Пифия становилась энтеос только в смысле «молитвенного состояния, в которое она входила при отправлении ритуала» и что ее «внушенный экстаз» — изобретение Платона, как утверждал П. Амандри в своем тщательном, серьезном исследовании, появившемся, к сожалению, слишком поздно для того, чтобы я успел использовать его при подготовке данной главы — Р. Amandry, La Mantique apollinienne ä Delphes [Paris, 1950], 234 f. Он правомерно отрицает «неистовую» Пифию Лукана и вульгарной народной традиции, но его аргументация подпорчена утверждением, слишком типичным для людей, никогда не видевших «медиума» в трансе, — что «одержимость» неизбежно связана с состоянием истерического возбуждения. По-видимому, он также неверно понимает смысл Phaedr. 244b, где, конечно, имеется в виду не то, что кроме своих прорицаний в состоянии транса Пифия также прорицает (на более низком уровне) и в нормальном состоянии, но лишь то, что она не обладает другими дарами, кроме медиумического.
(обратно)284
Ar. apud Sext. Emp. adv. dogm. III. 20 сл.™ fr. 10 Rose (cp. Jaeger, Aristotle, Eng. trans., 160 f.); РгоЫ. 30, 954а 34 сл.; R. Walzer, «Un frammento nuovo di Aristotele», Stud. ital. di Fil. Class. N. S. 14 [1937] 125 ff.; Cic. de divin. 1. 18, 64, 70, 113; Plut. def. orac. 39 сл., 431 сл. Ср. Rohde, Psyche, 312 f.
(обратно)285
Некоторые авторы (напр., Farneil, Greece and Babylon, 303) пользуются терминами «шаманизм» и «одержимость» так, как будто это синонимы. Однако для шаманизма характерно не вхождение постороннего духа в шамана, но высвобождение духа самого шамана, который оставляет его тело и отправляется в мантическое путешествие или в «психический поход». Сверхъестественные существа могут помогать ему, однако его личность остается главным элементом. Ср. Oesterreich, op. cit., 305 ff., и Meuli, Hermes, 70 (1935) 144. О греческих пророках шаманского типа см. ниже, гл. V.
(обратно)286
Ср. Minuc. Felix, Oct. 26 f., и материал, собранный Тамборнино — Tambornino, De antiquorum daemonismo (RGW VII, 3).
(обратно)287
«Deus inclusus corpore humano iam, non Cassandra, loquitur» [«Это уже говорит бог, вступивший в человеческое тело, а не Кассандра» — Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. Пер. Н. И. Рижского. С. 217], замечает Цицерон (de divin. 1. 67), упоминая некую старолатинскую трагедию, возможно, «Александра» Энния. У Эсхила Кассандра выглядит скорее ясновидящей, чем медиумом; но намеки на идею одержимости Кассандры содержатся уже в Agam. 1269 сл., где она внезапно видит свой же поступок (срывание символов пророчества) как поступок самого Аполлона. Об одержимости Сивиллы Аполлоном, Бакида — нимфами см. Rohde, Psyche, ix, η. 63. (Сомнительно, прав ли Родэ, предполагая, что «Бакид» — изначальный родовой описательный титул, подобный титулу «Сивилла» — ibid., п. 58. Когда Аристотель говорит о Σίβυλλαι και Βακίδες και oi ένθεοι πάντες [«сибиллы, ба-киды и все боговдохновленные»] (РгоЫ. 954а 36), и Плутарх о Σίβυλλαι αύται και Βακίδες [«об этих сибиллах и бакидах»] (Pyth. or. 10, 399а), они, возможно, имеют в виду «людей, подобных Сивилле и Бакиду». Термин Εύρυκλεΐς использовался похожим образом (Plut. def. orac. 9, 414е; Σ Plato, Soph. 252c), однако Эврикл, разумеется, был историческим лицом. И когда Филет, apud Σ Ar. Pax 1071, различает три разных Бакида, он просто использует обычную уловку александрийских ученых, совмещая противоречивые утверждения об одном и том же лице. Везде Бакид появляется как индивидуальный пророк.)
(обратно)288
Платон называет их θεομάντεις и χρησμωδοί (Apol. 22с, Мепо 99с) или χρησμαιδοί и μάντεις θείοι (Ion 534с). Они впадают в ένθουδιασμός [«божественное вдохновение»] и изрекают (в трансе?) истины, о которых сами ничего не знают, и, таким образом, несомненно отличаются как от тех μάντεις, которые «верят птицам» (Phil. 67b), так и тех χρησμολόγοι, которые просто цитируют или повторяют старые оракулы. Платон не говорит ничего о том, что они имеют официальный статус. См. Fascher, Προφήτης, 66 ff.
(обратно)289
Plut. def. orac. 9. 414e: τούς εγγαστρίμυθους, Εύρυκλέας πάλαι, νυνϊ Πύθωναςπροσαγορευομένους [«чревовещателей, некогда Эвриклами, ныне Пифонами называемых»]; Hesych., s. ν. εγγαστρίμυθος τοΰτόν τίνες έγγαστρίμαντιν, οι δέ στερνόμαντιν λέγουσι... τούτον ήμεΐς Πύθωνα νΰνκαλοΰμεν [«об этом чревовещателе некоторые говорят как о чревовещательнице, некоторые как о прорицательнице... Мы же называем его ныне Пифоном»]. Более высокий термин, στερνόμαντις, происходит из Αίχμαλωτίδες [«Пленных»] Софокла, fr. 59.
(обратно)290
Ar. Vesp. 1019 и схол.; Plato, Soph. 252с и схол.
(обратно)291
εντόςύποφΟεγγόμενον [«подающего голос изнутри»], Plato, loc. cit. Лидделл и Скотт берут последнее слово в значении «говорить вполголоса»; но другое значение, которое принимает Корнфорд, вписывается в контекст гораздо лучше.
(обратно)292
Как Старки указывает ad loc, в Ar. Vesp. 1019 не подразумевается чревовещание в нашем смысле слова, тогда как другие замечания определенно исключают его. Ср. Pearson на Soph. fr. 59.
(обратно)293
Plut. def. orac, loc. cit., где их состояние одержимости сравнивается с тем состоянием, которое обычно приписывается Пифии, хотя и не ясно, насколько далеко простирается сравнение. Schol. Plato, loc. cit.: δαίμονα... τόν έγκελευόμενον αύτώ περί των μελλόντων λέγειν [«побужденное, божество говорит ему о будущем»]. Утверждению Свиды о том, что они вызывали души мертвых, не нужно доверять: он принял это из I Цар. 28 (колдунья из Аэндора?), а не из Филохора, как считает Хэллидей.
(обратно)294
Hipp. Epid. 5. 63 (= 7. 28): άνέπνεεν ώς έκ τοϋ βεβαπτίσθαι άνηπνέουσι, και έκ του στήθεος ϋπεψόφεεν, ώσπερ αί εγγαστρίμυθοι λογόμεναι [«дыхание подобно дыханию вынырнувшего из воды, и в груди шумит, как у тех, кого называют чревовещателями»]. В критическом сообщении наблюдателя за миссис Пайпер, знаменитым медиумом, утверждается, что в полном трансе «дыхание наполовину медленнее, чем в нормальном состоянии, и очень затруднено», и далее делается осторожный вывод, что «это глубокое изменение дыхания, с малым насыщением крови кислородом... возможно, каким-то образом влияет на нормальное сознание, которое отступает на второй план» (Amy Tanner, Studies in Spiritualism, 14, 18).
(обратно)295
Plut. Pyth. orac. 22, 405c. Aelius Aristides, orat. 45. 11 Dind., говорит, что Пифии в нормальном состоянии не обладают особенными эпистеме [знаниями]; впрочем, они и в трансе никогда не используют их. Тацит утверждает, что боговдохновенный пророк из Клароса был ignarus plerumque litterarum et carminum [«обыкновенно не знавший ни грамоты, ни стихосложения»] (Tacitus, Annals 2. 54).
(обратно)296
Оба типа встречались в теургической одержимости (см. прил. II, с. 438-439). Оба были известны Иоанну Кассиану в IV в. н. э.: «Некоторые бесноватые, — замечает он, — столь возбуждаются, что перестают понимать, что они делают или говорят; но другие знают это и помнят впоследствии» (Collationes patrum, 7. 12). Оба появляются как в состоянии дикой одержимости, так и в духовном медиумизме.
(обратно)297
Свидетельство Элия Аристида о жрицах в Додоне ясно и недвусмысленно: ύστερον ουδέν ών εΐπον iouoiv [«позже они не знают ничего из того, что говорили»] (orat. 45. 11.). О Пифиях же он говорит не столь однозначно, считая, что они τίνα έπίστανται δή που τέχνην τότε (sc. έπειδάν έκστώσιν εαυτών), αϊ γε ούχ οίαί τέ είσι φυλάττειν ουδέ μεμνήσθαι [«они не в состоянии ни сохранить, ни вспомнить, каким искусством они владеют тогда, когда выходят из себя»] (45. 10). Строго говоря, это означает лишь, что они не могут вспомнить, почему они сказали то, что они сделали. Язык описания, используемый другими авторами относительно Пифий, также смутен, чтобы сделать какой-нибудь обоснованный вывод.
(обратно)298
Plut. def. orac. 51, 438с: ούτε γαρ πάντας ούτε τούς αυτούς άε'ι διατίθησιν ώσαύτο>ς ή του πνεύματος δύναμις (это общее утверждение, но в основном, как показывает контекст, имеется в виду Пифия) [«ведь сила духа не всегда приводит в нужное состояние всех и каждого»].
(обратно)299
Ibid., 438b: αλάλου κα'ι κακοβ πνεύματος ούσα πλήρης [«будучи исполнена бессловесного и дурного духа»]. «Бессловесные» духи — это те, которые отказываются сообщать свои имена (Lagrange на Мк. 9: 17; Campbell Bonner, «The Technique of Exorcism», Harv. Theol. Rev. 36 [1943] 43 f.). «Бессловесный выдох» (Flaceliere) вряд ли здесь подходит по контексту.
(обратно)300
άνείλοντο... έμφρονα. Таково чтение сохранившейся рукописи, и смысл вполне ясен; цитируя этот пассаж ранее (Greek Poetry and Life: Essays Presented to Gilbert Murray, 377), я достаточно небрежно принял прочтение έκφρονα, с подачи Виттенбаха.
(обратно)301
Я лично видел одного медиума-любителя, падавшего во время транса подобным образом, хотя и без таких фатальных результатов. О случаях одержимости, завершившихся смертью, см. Oesterreich, op. cit., 93, 118 f., 222 ff., 238. Нет необходимости предполагать, вслед за Фласельером, что смерть Пифии вызвана вдыханием каких-то ядовитых испарений (если они способны вообще убивать, то убили бы ее на месте и уж, во всяком случае, воздействовали бы на других присутствующих). Выразительное описание Луканом смерти одной Пифии (Lucan, Phars. 5. 161 сл.) может быть подтверждено отдельными записями Плутарха, которые можно датировать 57-62 гг. н. э. (J. Bayet, Melanges Gral, I. 53 ff.).
(обратно)302
όσιος — священный, благочестивый, набожный.
(обратно)303
Строго говоря, текст доказывает только то, что жрецы и вопрошатели находились в пределах слышимости от нее (К. Fla-celicre, «Le Fonctionnement de l'Oracle de Delphes au temps de Plutarque», Annales de l'Ecole des Hautes Etudes ä Gand [Etudes d'archaologie grecque], 2 [1938] 69 ff.). Но это не дает серьезной поддержки для мнения Фласельера о том, что Пифия была отделена от них дверью или занавесом. Фраза же δίκην νεώς έπειγομένης скорее предполагает визуальное впечатление: «она задрожала, словно корабль во время шторма». Относительно же дельфийского ритуала в более ранние периоды я не могу сослаться на какие-либо достоверные источники: сведения из литературы либо удручающе расплывчаты, либо их невозможно соотнести с археологическими находками. В Кларосе, согласно предположению Tacitus, Ann. 2. 54, — a Iambliehus (de must. 3, 11) подтверждает это вполне определенно — прорицатель в возвышенном состоянии становился невидимым. В Птойском оракуле Аполлона в Беотии вопрошатели сами слушают, как вещает промантис (прорицатель), и записывают его слова (Hdt. 8. 135).
(обратно)304
Plut. Q. Conv. 1. 5. 2, 623b: μάλιστα δέ ό ενθουσιασμός έξίστησι και παρατρέπει τό τε σώμα και τήν φωνήν τοΰ συνήθους κα'ι καθεστηκότος [«А сильное радостное возбуждение вызывает у людей более непосредственного душевного склада ритмические телодвижения» Цит. по: Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990. С. 18. Пер. Я. М. Боровского]. Понижение голоса у «одержимого» было одним из тех симптомов, исходя из которых катартаи делали вывод о наличии одержимости духом. См. Oesterreich, op. cit., 10, 19-21, 133, 137, 208, 247 f., 252, 254, 277. Также и знаменитая миссис Пайпер могла говорить «совершенно мужским голосом, только несколько более сипло» (Proc. Society for Psychical Research, 8, 127.).
(обратно)305
Ср. Parke, Hist, of the Delphic Oracle, 24 ff., и Amandry, op. cit., chaps, xi-xiii, где обсуждаются древние свидетельства по этому вопросу. Контакт с сакральным деревом бога как средством вызова его эпифании, возможно, восходит к минойским временам (В. AI, Mnemosyne, Ser. III, 12 [1944], 215). О техниках вызывания транса в поздней античности см. прил. II, с. 437 сл.
(обратно)306
Oesterreich, op. cit., 319, η. 3.
(обратно)307
О Кларосе см. Maximus Tyrius, 8 ic, Tac. Ann. 2. 54, Pliny, ff. Η. 2. 232. Замечание Плиния о том, что питие воды укорачивало жизнь пившей, является, пожалуй, простой рационализацией широко распространенной веры в то, что люди, вступающие в контакт со сверхъестественным, умирают в молодости. Обряд, практиковавшийся в Бранхидах, не совсем ясен, однако существование источника, наделяющего пророческими способностями, теперь подтверждается одной надписью (Wiegand, Abh. Beil. Akad. 1924, Heft. 1, p. 22). О других источниках, которые, по поверьям, вызывают безумие, ср. Halliday, Greek Divination, 124 f. Об архаичных корнях ритуала в Аргосе см. Paus. 2. 24 сл.; он имеет немало параллелей с первобытной культурой (Oesterreich, op. cit., 137, 143 f.; Frazer, Magic Art, I. 383).
(обратно)308
Wilamowitz, Hermes, 38 [1904] 579; Α. Ρ. Ορρό, «The Chasm at Delpi», JHS 24 [1904], 214 ff.
(обратно)309
Ορρό, loc. cit.; Courby, Fouilles de Delphes, II. 59 ff. Ho я подозреваю, что вера в существование неких расселин под хра-мом намного древнее, чем теория испарений, и, возможно, просто принималась рационалистами в поисках правильного объяснения. В Cho. 953 Хор обращается к Аполлону как μέγαν έχων μυχόν χθονός [«земле, имеющей большую глубину»], да и соответствующая фраза в 807 ωμέγα ναίων στόμιον [«а ты, живущий в тайнике крепко-зданном»] также должна, по-моему, относиться к Аполлону. Она звучит неестественно, если поэт подразумевает просто ущелье Плейстос; но храм расположен не в ущелье, а над ним — кажется более вероятным, что традиционная фразеология возвращается в эпоху оракула Земли: о подтексте этого ср. Hes. Theog. 119: Τάρταρα τ'ήερόεντα μυχφ χθονός [«сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких»]; Aesch. P. V. 433: "Αιδος... μυχός γάς [«недра земли... Аида»], Pind. Pyth. 4. 44: χθόνιον'Άιδαστόμα [«пасть подземельного Аида»]. Стомион, который позднее интерпретировался как канал для испарений (Strabo, 9. 3. 5, р. 419: ύπερκεΐσΟαι δέ τοϋ στομίου τρίποδα ύψηλόν. έφ' Ov τήν ΠυΟίαν άναβαίνουσαν δεχομένην τό πνεϋμα άποθεσπίζειν [«над отверстием стоит высокий треножник, восходя на который Пифия вдыхает испарения...»]), изначально, я думаю, понимался как канал для испарений.
(обратно)310
Напр., Leicester В. Holland, «The Man tic Mechanism of Delphi», AJA 1933, 201 ff., R. Flaceliere, loc. cit., 105 f. См., contra, Ε. Will, Bull. Corr. Hell. 66-67 [1943-1943], 161 ff., и Amandry, op. cit., chap. xix.
(обратно)311
после события (лат.).
(обратно)312
Hdt. 6. 66; cp. Paus. 3. 4. 3. Также именно Пифию в более позднем случае обвинил во взяточничестве Плейстонакс (Thuc. 6. 16. 2). Фукидид, вероятно, менее точен в фактах, чем Геродот, потому что последний приводит еще и имя Пифии. Это, однако, дает скептикам возможность сказать, что он воспроизводит «отредактированную» версию того, что произошло на самом деле (Амандри отрицает эти пассажи и склонен считать Пифию просто соучастницей — op. cit., 120 ff.).
(обратно)313
Parke, op. cit., 37. Фашер, противопоставляя греческие прорицания еврейским, сомневается в том, можно ли реальное пророчество ввести в институциональные рамки (Fascher, op. cit., 37); и в отношении ответов на вопросы, затрагивавшие общественные интересы, сомнение кажется мне оправданным. На ответы же частным вопрошателям — которые наверняка составляли во все времена большинство, хотя до нас дошло ничтожное количество подлинных сведений о них — скорее всего, мало влияла государственная политика.
(обратно)314
Стихотворная форма ответа, вышедшая из употребления в эпоху Плутарха, являлась, несомненно, более древней, чем прозаическая; некоторые даже утверждали, что гекзаметр был изобретен в Дельфах (Plut. def. orac 17, 402d; Pliny, Ν. Η. 7. 205 и т. д.). Страбон (9. 3. 5, р. 419) считает, что Пифия сама иногда говорила έμμετρα [стихами], и Тацит говорит то же самое о впавшем в транс пророке из Клароса (Ann. 2. 54). В утверждениях Страбона и Тацита можно сомневаться (как это делал Амандри — op. cit., 168), но эти сомнения необоснованны. Лоусон знал одного современного греческого прорицателя, «бесспорно, сумасшедшего», который обладал «экстраординарной способностью моментально переводить свои реплики в метрическую, чуть ли не высокопоэтическую, форму» (Lawson, op. cit., 300). Американский миссионер Невий слышал об «одержимой» женщине из Китая, часами умевшей слагать стихотворные импровизации: «Она говорила обо всем в стихотворной форме и читала нараспев монотонным голосом... Мы понимали, что такие спонтанные, совершено однообразные, бесконечные изречения в стихах невозможно было подделать или создать заранее» (J. L. Nevius, Demon Possession and Allied Themes, 37 f.). Среди древних семитических народов «рецитация стихов и рифмоплетство были признаками того, что человек беседует с духами» (A. Guillaume, Prophecy and Divination among the Hebrews and Other Semites, 245). Фактически повсеместно автоматическая или суггестивная речь имеет тенденцию принимать метрические формы (Е. Lombard, De la glossolalie, 207 ff.). Но обычно, разумеется, изречения Пифии должны быть удостоверены другими людьми; Страбон, loc. cit., говорит о поэтах, специально приглашавшихся для этой цели, а Plut. Pyth. orac. 25, 407b упоминает старое подозрение о том, что поэты способны подчас сочинить больше, чем от них требовалось. В Бранхидах существование во II в. до н. э. χρησμογράφιον (служба для записи ответов?) засвидетельствовано в надписи (Rev. de Phil. 44 [1920] 249, 251); и в Кларосе функции προφήτης (медиума?) и θεσπιφδων (свидетеля?) различались — по крайней мере, в римскую эпоху (Dittenberger, OGI II, по. 530). Интересный анализ Эдвином Бивеном (Bevan) этой проблемы можно найти в: Dublin Review, 1931.
(обратно)315
Греки в отдельных случаях с пониманием относились к возможности обмана: увы, орудия бога были слабы. Но это не поколебало их веру в существование инспирации свыше. Даже Гераклит принимал ее (fr. 93), хотя и пренебрежительно, как он часто делал в отношении к предрассудкам современной ему религии; что касается Сократа, то его представляют как глубоко верующего человека. О позиции Платона см. ниже, гл. VII, 316 сл., 324 сл. Аристотель и его школа, отрицая индуктивное гадание, поддерживали энтусиасмос, как и стоики; мнение о том, что он был эмфитос, т. е. вызван испарениями, не ослабляла его сакральный характер.
(обратно)316
Так было с самого начала: Дельфам обещали выдать их долю от штрафа, наложенного на коллаборационистов (Hdt. 7. 132. 2), и они также получили десятую часть от трофеев, взятых при Платеях (ibid., 9. 81. 1); домашние очаги, оскверненные присутствием захватчиков, были зажжены заново, по приказу оракула, от священного огня Аполлона (Plut. Aristides 20).
(обратно)317
Стоит отметить, что ближайшей предтечей церковной организации, которая превосходила границы отдельного города-государства, была система έξηγηταί πυθόχρηστοι [толкователей пифийского оракула], которые излагали священный закон Аполлона в Афинах и, без сомнения, в других местах (ср. Nilsson, Gesch. I. 603 ff.).
(обратно)318
Aesch. Earn. 616 сл.: ούπώποτ' εΐπον μαντικοΐσιν έν θρόνοις... ο μή κελεύσω Ζεύς "Ολυμπίων πατήρ [«Иных не говорил я с прорицалища... // Слов, кроме отчих, что внушал мне Зевс отец»].
(обратно)319
Cic. de divin. 2. 117: «Quando ista vis autem evanuit? an postquam homines minus creduli esse coerperunt?» [«Когда же эта сила истощилась? Не после того ли, как люди стали менее легковерными?»]. О социальной основе изменений в религиозной вере см. Kardiner, Psychological Frontiers of Society, 426 f. Примечательно, что рост социальной напряженности и увеличение внутреннего беспокойства в эпоху поздней империи сопровождались повышением интереса к оракулам: см. Eitrem, Orakel und Mysterien am Ausgang der Antike.
(обратно)320
Ivan M. Linforth, «The Corybantic Rites in Plato», Univ. of Calif. Publ. in Class. Philology, Vol. 13 [1946], No. 5; «Telestic Madness in Plato, Phaedrus 244de», ibid., No. 6.
(обратно)321
«Maenadism in the Bacchae», Harv. Theol. Rev. 33 [1940] 155 ff.
(обратно)322
Cp. Eur. Ba. 77, и Varro apud Serv. ad Virg. Georg. 1. 166: «Liberi patris sacra ad purgationem animae pertinebant» [«Дети отцов совершают таинства для очищения души»]. Возможно, с этим следует связать культ Дионисос ятрос [Диониса-врачевателя], который, говорят, был рекомендован афинянам Дельфами (Athen. 22е, ср. 36Ь).
(обратно)323
процессия вакхантов.
(обратно)324
очень радостный.
(обратно)325
радость людей.
(обратно)326
Hes. Erga 6. 14, Theog. 941; Horn. Il, 14. 325. Ср. также Pindar, fr. 9. 4 Bowra (29 S.): τάν Διωνύσου πολυγαθέα τιμάν [«или щедрую славу Диониса], и определение функций Диониса в Eur. Ва. 379 сл.: Οιασεύειντεχοροϊςμετάτ'ούλουγελάσαι άποπαΰσαί τεμέριμνας, κτλ [«В хороводы вакханок вплетать // Да под музыку флейты смеяться»].
(обратно)327
Ср. Eur. Ba. 421 сл., и мое прим. ad loc. Здесь видно, что дионисийский культ развился при Периандре и Писистратидах; отсюда, возможно, и очень слабый интерес, который к нему проявляет Гомер (хотя он и знал о менадах — Il. 22. 460), и презрение, которое выказывал к нему Гераклит (fr. 14 показывает его отношение вполне отчетливо, каким бы ни был смысл fr. 15).
(обратно)328
См. гл. II, с. 76-77, а о Люсиосе — прил. I, с. 395. Связь «дионисийской» массовой истерии с невыносимыми социальными условиями прекрасно показана в статье Норманна (Ε. Н. Normann), «Mass Hysteria in Japan», Far Eastern Survey, 14 [1945] 65 ff.
(обратно)329
Ср. Η. Hymn 7. 34 сл. Я полагаю, именно в своем качестве «Мастера иллюзий» Дионис стал покровителем нового искусства — театрального. Одевание маски — самый легкий способ перестать быть собой (ср. Levy-Bruhl, Primitive and the Supernatural, 123 ff.). Предшественницей театральной маски была, по-видимому, маска магическая: Дионис стал в VI в. богом театра потому, что долгое время был уже богом маскарада.
(обратно)330
Hdt. 4. 79. 3. О значении μαίνεσϋαι ср. Linforth, «Corybantic Rites», 127 f.
(обратно)331
Пфистер обоснованно показал, что έκστασις, έξίστασΟαι не повлияли (как считал Родэ) на идею отделения души от тела; они достаточно часто используются классическими авторами для описания резкого изменения сознания или характера (Pfister, «Ekstasis», Pisciculi F. J. Doelger dargeboten, 178 ff.), ό αυτός είμι και ούκ εξίσταμαι [«вы же изменяете себе»], говорит Перикл афинянам (Thuc. 2. 61. 2); τα μηδέ προσδοκώμεν' έκστασιν φέρει [«даже не ожидали испытать экстаз»], говорит Менандр (fr. 149); и во времена Плутарха человек мог назвать себя έκστατικώς έχων, просто имея в виду, что он чувствовал, как мы выражаемся, «выход из себя» или то, что он «на себя не похож» (Plut. gen. Socr. 588а). Ср. также Jeanne Croissant, Aristote et les mysteres, 41 ff.
(обратно)332
[Apollod.] Bibl. 2. 2. 2. [См.: Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972, с. 27.]. Ср. Rohde, Psyche, 287; Boyance, he Culte des Muses chez les philosophes grecs, 64 f. Начиная с Родэ, ученые привыкли считать, что в Phaedr. 244de Платон имел в виду историю Мелампода; но см., contra, Linforth, «Telestic Madness», 169.
(обратно)333
Boyance, op. cit., 66 ff., пытается найти пережитки изначальной катарсической функции бога (важность которой он справедливо подчеркивает) даже в его аттических празднествах. Но его доказательства слишком умозрительны.
(обратно)334
Это явствует из Plato, Laws 815cd, где он описывает и отвергает как «не гражданские» некоторые «вакхические» миметические танцы, имитирующие нимф, Пана, Силена и сатиров и исполнявшиеся περί καθαρμούς τε κα'ι τελετάς τίνας [«во время обрядов очищения и некоторых других таинств»]. Ср. также Aristides Quintiiianus, de musica 3. 25, p. 93 Jahn: τάς Βακχικός τελετάς κα'ι οσαι ταύταις παραπλήσιοι λόγου τινός έχεσϋαί φασιν όπως αν ή των αμαθέστερων πτοίησις διά [5iov ή τύχην υπό των έν ταύταις μελωδίων τε και όρχήσεων άμα παιδιαΐς έκκαθαίρηται [«вакхические таинства и речи, подобные этим, свидетельствуют, каким образом совершается очищение от суеверного страха за жизнь или судьбу путем тихих мелодий и плясок вместе с забавами»] (цит. по: J. Croissant, op. cit., 121). В других пассажах, которые иногда приводятся в этой связи, термин βακχεία может использоваться в качестве метафоры для описания любого возбужденного состояния: напр., Plato, Laws 790е (ср. Linforth, «Corybantic Rites», 132); Aesch. Cho. 698, который я принимаю как относящийся к κώμος Ερινύες (Agam. 1186сл, ср. Еит 500).
(обратно)335
Eur. Hipp. 141 сл.; Hipp. morb. sacr. 1, VI. 360. 13 ff L.
(обратно)336
По поверьям, Пан вызывал не только панику, но также обмороки и изнеможение (Eur. Med. 1172 и Σ). Вполне допустимо предположить, что первоначально для пастухов Аркадии феномен солнечного удара был доказательством гнева пастушеского бога, и именно этот бог воспринимался как основной источник паники — по причине внезапного страха, который охватывал стаю зверей (Tambornino, op. cit., 66 f.). Ср. определение Свиды о панике как происходящей ήνίκα αίφνίδιον οϊ τε ίπποι και οί ανθρα>ποι έκταραχΟώσι [«когда неожиданно лошадей и людей охватывает тревога»], и наблюдение Philodemus, π. θεών, col. 13 (Scott, Fragm. Here. no. 26), что животные подвержены худшим ταραχαί, чем люди. Связь Аполлона Номиоса с манией, возможно, имеет то же происхождение.
(обратно)337
Eur. Hipp. 143 сл., говорит о них как о разных; также и Dion. Hal. Demosth. 22. Но корибанты изначально были служителями Кибелы; последняя, как и они, обладала исцеляющей силой (Pind. Pyth. 3. 137 сл.; Diog. trag. 1. 5, p. 776 Ν.; Diodorus, 3. 58. 2) и эта функция включала в себя исцеление мании (самого Диониса «очищает» от безумия Рея-Кибела — Apoll. Bibl. 3. 5. 1). И я думаю, что во дни Пиндара ритуалы были похожими, если не идентичными, т. к. Пиндар писал ένθρονισμοί (Suidas, s. ν. Πίνδαρος), что естественно связывать, с одной стороны, с корибантскими ритуалом Ορόνωσις [сажание на престол] или θρονισμός, описываемом Платоном в Euthyd. 277d, и Dio Chrys. Or. 12. 33, 387 R., а с другой, с культом Матери, который был известен самому Пиндару (Σ Pind. Pyth. 3. 137; Paus. 9. 25. 3). Если это так, мы можем предположить, что ритуал корибантов — ответвление культа Кибелы, которое переняло целительную функцию богини и постепенно развилось в независимое образование (ср. Linforth, «Corybantic Rites», 157).
(обратно)338
Ежегодная телете [посвящение] Гекаты в Эгине, хотя и засвидетельствованная поздними авторами (см.: Farnell. Cults, II. 597, п.7), несомненно, имеет древнее происхождение: так, утвер-
ждается, что ее основал Орфей (Paus. 2. 80. 2). Функции ее были, видимо, катарсическими и отвращающими (Dio Chrys. Or. 4. 90). Но мнение о том, что эти ритуалы были специально направлены на исцеление мании, кажется, основывается только на интерпретации Лобеком Ar. Vesp. 122 διέπλευσεν εις Α'ίγιναν [«переплыл к Эгине»] как относящейся к этой телете (Lobeck, Aglauphamus, 242); едва ли это нечто большее, чем просто правдоподобная догадка.
(обратно)339
Ar. Vesp. 119; Plut. Amal. 16, 758f; Longinus, Suhl. 39. 2; Cp. Croissant, op. cit., 59 ff.; Linforth, loc. cit., 125 f.; и ниже, прил. I. Большое сходство двух ритуалов помогает объяснить, почему Платон использовал как синонимы συγκορυβαντιάν [«вместе бесноваться»] и συμβακχεύειν [«вместе праздновать праздник Вакха»], и мог говорить о αί τών έκφρόνων βακχειών ιάσεις [«вакхическом исступлении»] в отношении к тому, что он до этого описал как τά τών Κορυβάντων ίάματα [«врачевание корибантов»] (Laws 790de).
(обратно)340
Plato, Symp. 215e: πολύ μοι μάλλον ή τών κορυβαντιώντων ή τε καρδία πηδά και δάκρυα έκχεΐται [«когда я слушаю его, сердце у меня бьется сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих льются слезы»]. Я согласен с Линфортом в том, что это относится к эффектам, возникающим в ритуале, хотя подобные эффекты могут произойти и при спонтанной одержимости (ср. Menander, Τheophoroumene, 16-28 К.).
(обратно)341
Plato, Ion 533e: οί κορυβαντιώντες ούκ έμφρονες όντες όρχοΰνται [«как корибанты пляшут в исступлении...»], Pliny, Ν. Η. 11. 147: «Quin et patentibus dormiunt (oculis) lepores raultique hominum, quos κορυβαντιάν Graeci dicunt» [«сон с открытыми глазами, забавляющий многих людей, которых греки называют корибантствующими»]. Последняя выдержка едва ли относится к обычному сну, как считает Линфорт (loc. cit., 128 f.), ибо: а) это утверждение может быть ложным, о чем, наверное, догадывался Плиний; б) трудно поверить, будто привычка спать с открытыми глазами является доказательством одержимости. Я согласен с Роде (Psyche, ix, n. 18), что Плиний имеет в виду «условие вхождения в гипнотическое состояние»: экстатический ритуальный танец может ввести чувствительного человека в такое состояние. Lucian, Jup. Trag. 30 упоминает κίνημα κορυβαντώδες среди симптомов начала мантического транса. Об эффектах, сравнимых с дионисийским ритуалом, см. Plut. Mul. Virt. 13, 249е (прил. I, с. 392).
(обратно)342
Theophr., fr. 91 W.; Plato, Rep. 398c-401a. Cp. Croissant, op. cit., chap, iii; Boyance, op. cit., I, chap. vi. Эмоциональная значимость флейтовой музыки проиллюстрирована двумя любопытными патологическими случаями, которые дошли до нас. В одном из них, записанном Галеном (VII. 60 сл. К.), здоровый во всех прочих отношениях пациент круглые сутки видел и слышал каких-то призрачных флейтистов (ср. Aetius, Ιατρικά 6. 8, и Plato, Crito 54d). В другом человека, попадавшего на пирушки, охватывала паника, когда начинали играть на флейте (Hipp. Epid. 5. 81, V. 250 L.).
(обратно)343
Laws 790e: δείματα δι ' έξιν φαύλην της ψυχής τινα [«страхи из-за дурного состояния души»]. Ср. Н. Orph. 39. 1 сл., где даймон корибантов назван φόβων άποπαύστορα δεινών [«отвратителем ужасных страхов»].
(обратно)344
«Corybantic Rites», 148 ff.
(обратно)345
См. выше, прим. 87. Кроме того, Аристид заявляет, что энтусиасмои в целом склонны, в ущерб собственному лечению, произвести δεισιδαιμονίας τε και άλογους φόβους [«суеверный и бессмысленный страх»] (de musica, p. 42 Jahn). М-ль Круассан доказала, что эти утверждения происходят из какого-то аристотелианского источника — возможно, Феофраста (ibid., 117 ff.). Можно отметить, что тревога (φροντίς) выделяется как особый тип патологического состояния в гиппократовском трактате de morbis (2. 72, VII. 108 L.), и это религиозная встревоженность, особенно страх перед даймоном, появляется в клинических описаниях, напр., Hipp. virg. 1 (VIII. 466 L.), и Galen (XIX. 702). Фантазмы о чрезмерной личной ответственности тоже были известны: напр., Galen, VIII. 190 рассказывает о меланхоликах, которые отождествляли себя с Атласом, а Александр из Тралл описывает пациентку, боявшуюся, что мир обрушится, если она согнет свой средний палец (I. 605 Puschmann). Психолог или психотерапевт, желающий познать античный мир и понять социальную подоплеку объекта своего исследования, открыл бы здесь благодатное поле.
(обратно)346
Loc. cit. supra, прим. 88.
(обратно)347
Как указывает Линфорт (op.cit., 151), нигде явно не выражено, что болезни, которые исцеляли корибанты, были вызваны ими же. Но согласно общему для Греции и других регионов принципу магической медицины, только тот, кто вызвал болезнь, знает, как ее лечить; отсюда понятно, какую значимость придавали обнаружению «природы» одержимости. О катарсическом эффекте ср. интересную трактовку Аретеем ένΟεος μανία (morb. chron. 1. 6 fin), при которой страдающие наносили себе глубокие раны: θεοίς ιδίοις ώς άπαιτοΰσι χαριζόμενοι εύσεβεί φαντασίη [ «доставляя радость своим богам — словно требующим это — благочестивой фантазией»]. После своих переживаний они εύθυμοι, άκηδέες, ώς τελεσθέντες τφθεώ [«радостны, беззаботны, как будто их посвятили богу»].
(обратно)348
Ar. Vesp. 118 сл. См. выше, прим. 91.
(обратно)349
Plato, Ion 536с. Из двух версий, приведенных в тексте, ервая в целом соответствует мнению Линфорта (op. cit., 139 f.), хотя он может и не согласиться с термином «состояние тревоги»; вторая же восходит к Йану (NJbb Supp.-Band Χ [1844] 231). Как говорит Линфорт, «трудно принять понятие исступленности для простой религиозной церемонии». Тем не менее идея Йана подтверждается у Платона не только его обыкновением везде использовать κορυβαντιΰν, но также, я думаю, и Laws 791а, где в явном соотнесении с τά των Κορυβάντων ίάματα [«врачевание корибантов»] (790d) Платон говорит об исцеленных людях как όρχουμένους τε και αύλουμένους μετά θεών οίς αν καλλιεροΰντες έκαστοι Ούωσι [«тем, кто бодрствует, пляшет или играет на флейте, это дает возможность, с помощью богов, которым они приносят благоприятные жертвы»]. Линфорт полагает, что здесь наблюдается переход «от частного к общему, от ритуалов корибантов к появлению целого класса ритуалов, вызывающих безумие» (op. cit., 133). Но более приемлемая интерпретация обоих этих пассажей состоит скорее в том, что корибантовский ритуал включал в себя следующее: 1) диагноз с помощью музыки; 2) жертву, которую приносил каждый пациент богу, на чью музыку он реагировал, и ожидание знамений; 3) танец тех, чьи жертвы были приняты, танец, в котором, как верили, принимают участие умиротворенные божества (вероятно, обезличенные жрецами?). Подобная интерпретация придала бы более точное значение интересной фразе, используемой в Symp. 215с, где говорится, что мелодии, атрибутируемые Олимпу или Марсию, «одинаково увлекают слушателей, не сопровождаясь танцами» (ср. Linforth, op. cit., 142) и благодаря тому, что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах (τούς τών θεών τε και τελετών δεομένους, видимо, это те же люди, о которых как о τών Κορυβαντιώντων упоминается в 215е). Предположительно, это могут быть люди, которых называют ои корибантионтес в Ion 536с, и в обоих местах подразумевается тогда первая, или диагностическая, стадия корибантского обряда.
(обратно)350
В эллинистическую и христианскую эпохи правильный диагноз (на основе настойчивого выспрашивания у духа его истинной природы) был, по всей вероятности, предварительным этапом для успешного экзорцизма: см. Bonner, Harv. Theol. Reo. 36 [1943] 44 ff. О жертвах, приносимых с целью исцеления от безумия, ср. Plaut. Men. 288 сл., и Varro, R. R. 2. 4. 16.
(обратно)351
Plato, Euthyd. 277d: και γάρ έκεϊ χορεία τις έστι και παιδιά, ει άρα καιτετέλεσαι [«...бывают хороводные пляски и игры и тогда, когда ты уже посвящен»] (анализируется Линфортом в его статье, 124 f.). Мне кажется, что описание опыта тетелесменос едва ли естественно звучит в устах того, кто сам не является тетелесменос.
(обратно)352
См. гл. VII, с. 316-317.
(обратно)353
Plato, Laws 791а; Arist. Pol. 1342а 7 сл. Ср. Croissant, op. cit., 106 f.; Linforth, op. cit., 162.
(обратно)354
Aristoxenus, fr. 26 Wehrli; cp. Boyance, op. cit., 103 ff.
(обратно)355
Theophrastus, fr. 88 Wimmer (= Aristoxen. fr. 6), видимо, описывает процесс лечения музыкой, которую на флейте исполняет Аристоксен, хотя смысл затемнен искажениями в тексте. Ср. также Ar-xen. fr. 117, и Martianus Capelle, 9, p. 493 Dick: «ad affectiones animi tibias Theophrastus adhibebat... Xenocrates organicis modulis lymphaticos liberabat» [«для воздействия надушу Феофраст применял флейты... Ксенократ лечил одержимых музыкальными мелодиями»].
(обратно)356
Theophr. loc. cit. Он также заявляет — если его слова правильно передали, — что музыка исцеляет слабость, помрачение ума, невралгию седалищного нерва (!) и эпилепсию.
(обратно)357
Censorinus, de die natali 12 (ср. Celsus, Ш. 18); Caelius Aureliarius (т. e Соран), de morbis chronicis 1. 5. Древние медицинские представления о безумии и его лечении собраны в: Heiberg, Geisteskrankheiten im hlass. Altertum.
(обратно)358
Od. 8. 63 сл. Музы также ослепили и Фамира (Il. 2. 594 сл.). Опасность встреч с ними понятна, если ученые правы, соотнося μούσα с mons [горы] и рассматривая их как исконных горных нимф, т. к. всегда считалось опасным встретить нимфу.
(обратно)359
Theog. 94 сл.
(обратно)360
Il. 3. 65 сл.: ου τοι απόβλητ" εστί θεών έρικυδέα δώρα / οσσα κεν αύτο'ι δώσιν εκών δ' ούκ ϋν τις ελοιτο [«Нет, ни один не порочен из светлых даров нам бессмертных; // Их они сами дают; произвольно никто не получил»].
(обратно)361
Ср. W. Marg, Der Character in der Sprache der frühgriechischen Dichtung, 60 ff.
(обратно)362
Il. 11. 218, 16. 772, 14. 508. Последний из этих пассажей рассматривался как позднее добавление и александрийскими учеными, и современными критиками, и все они ссылаются на стереотипность формулировки. Но даже если само призывание стереотипно, выбор именно такой его формы дает ключ к исконному значению «вдохновения». Похожим образом и Фемий заявлял, что получил от богов не только поэтический дар, но и содержание историй, которые он рассказывал (Od. 22. 347 сл.; ср. гл. I, с. 25). Как правильно замечает Марг (ор. cit., 63), «die Gabe der Gottheit bleibt noch auf das Geleistete, das dinghafte έργον [дело, занятие] ausgerichtet» [«божественный дар нисходит на уже сделанное, на человеческий эргон»]. Это соответствует тому, что Бернард Беренсон назвал «планшетным элементом [дощечка, используемая в спиритических сеансах], который зачастую знает больше и лучше, чем человек, владеющий им».
(обратно)363
Il. 2. 484 сл. Музы были дочерьми Памяти, и их самих в некоторых источниках называют Mnesai (Plut. Q. Conv. 743d). Но я считаю, что поэт просит здесь не о совершенной памяти — ибо она в этом случае, хотя и являясь очень необходимой, была бы связана с поверхностным κλέος [молва], но фактического откровения прошлого, дополняющего клеос. Такие откровения, спонтанно вырываясь из неведомых глубин ума, должны были, безусловно, ощущаться как нечто непосредственно «дарованное» и, в силу своей непосредственности, — более правдоподобным, нежели устная традиция. Так, когда Одиссей наблюдает, что Демодок может петь о войне в Трое так, как если бы он был там или слышал о ней от очевидцев, то делает вывод, что наверняка Муза или Аполлон «обучили» его этому (Od. 8. 487 сл.). Данная тема также была предметом и клеоса (8. 74), но его, очевидно, было недостаточно, чтобы объяснить особую искусность Демодока в деталях. Ср. Latte, «Hesiods Dichterweihe», Antike и. Abendland, II [1946], 159; а о фактическом вдохновении поэтов в других культурах — N. К. Chadwick, Poetry and Prophecy, 41 ff.
(обратно)364
Особое знание — не меньше, чем техническая искусность — отличительный признак поэта у Гомера; он — человек, который является «вдохновленным свыше богами, песнь о великом поющим» (Od. 17. 518 сл.). Ср. описание поэта у Солона, fr.13. 51 сл. В.: ίμερτής σοφίης μέτρον επισταμένος [«знают приятной мудрости меру»].
(обратно)365
В некоторых индоевропейских языках существует общий термин для обозначения «поэта» и «провидца» (лат. vates; ирланд. fill; исланд. thulr). «Очевидно, что во всех древних языках Северной Европы идеи поэзии, красноречия и знания (особенно касающегося древних традиций), а также пророчество тесно взаимосвязаны» (Ν. М. и N. К. Chadwick, The Growth of the Literature, I. 637). Гесиод сохраняет следы этого изначального единства, когда он приписывает Музам (Theog. 38) и самому себе (ibid., 32) то же самое знание о событиях «нынешних, грядущих и минувших», которые Гомер атрибутирует Калхасу (Il. 1. 70). Эта формула не вызывает сомнений, с чем согласны и Чедвики, считающие, что она есть (ibid., 621) «статическое описание провидца».
(обратно)366
Hes. Theog. 22 сл. Ср. гл. IV, с. 178, и интересную статью Латте, о которой упоминалось выше в прим. 116.
(обратно)367
«Песни созидали меня, а не я их», — говорил Гете. «Это не я думаю, — считал Ламартин, — мои идеи думают за меня». «Творческий разум, — писал Шелли, — похож на тлеющий уголек, который, попадая под незаметное воздействие ветра, разгорается на какое-то время».
(обратно)368
Pindar, fr. 150 S. (137 В.): μαντεύεο. Μοΐσα, προφατεύσω δ' έγώ [«Муза, вещай: я — пророк твой»]. Ср. Раеап 6. 6 (fr. 40 В.), где он называет себя άοίδιμον Πιερίδωνπροφάταν [«певчим пророком Пиерид»], и Fascher, Προφήτης, 12. О пиндаровском отношении к истине см. Norwood, Pindar, 166. Похожая концепция Муз как открывающих откровенную истину содержится в мольбе Эмпедокла, чтобы они принесли ему ών θέμις εστίν έφημερίοισιν άκούειν [«то, что позволено слушать краткодневным существам»] (fr. 4; ср. Pind. Раеап 6. 51 сл.). Вергилий принадлежит к этой же традиции, когда просит Муз открыть ему тайны природы (Geo. 2. 475 сл.).
(обратно)369
То же самое отношение подразумевается в Pyth. 4. 279: αΰξεται και Μοΐσα δϊ' αγγελίας όρθΰς [«правою вестью и Муза возвеличена»]: поэт является «вестником» Муз (ср. Theogn. 769). Мы не должны смешивать с этим платоновскую концепцию поэтов как ένθουσιύζοντες ώσπερ oi Οεομάντεις και οι χρησμωδοί [«они творят... в исступлении, подобно гадателям и прорицателям»] (Apol. 22с). Для Платона Муза находится фактически внутри поэта: Orat. 428с: άλλη τις Μούσα πάλαι σε ένοϋσα έλελήθει [«...то ли в тебе давно уже таилась еще какая-то муза»].
(обратно)370
Laws 719с.
(обратно)371
Идея поэтического вдохновения, посылаемого свыше, связана с дионисийством традиционным взглядом, состоящим в том, что лучшие поэты искали и находили вдохновение в опьянении. Классическое утверждение об этом содержится в строках, приписываемых Кратину: οίνος τοι χαρίεντι πέλει ταχύς ϋππος άοιδω, ϋδωρ δέ πίνων ουδέν αν τέκοι σοφόν [«вино прелестным голубем проворного коня воспоет, вода же никого не опьянит, разве что детский ум»] (fr. 199 К.). Отсюда она перешла к Горацию (Horace, Epist. 1. 19. 1 сл.), после которого эта идея стала общим местом в литературной традиции.
(обратно)372
Democritus, frs.17, 18. По-видимому, в качестве примера он имел в виду Гомера (fr. 21).
(обратно)373
без поэтического восторга.
(обратно)374
См. детальное исследование Delatte, Les Conceptions de l'enthousiasme, p. 28 ff., в котором автор пытается соединить взгляд Демокрита на вдохновение с остальной частью его психологии, а также F. Werhli, «Der erhabene und der Schlichte Stil in der poetisch-rhetorischen Theorie der Antike», Phyllobolia für Peter υοη der Mühl, 9 ff.
(обратно)375
О поэтах, возомнивших о себе на основании этого представления, см. Horace, Ars poetica, 295 сл. Мнение о том, что личная эксцентричность — более важное качество, чем профессиональная компетентность, является, конечно, искажением теории Демокрита (ср. Wehrli, op. cit., 23), хотя и не очень существенным.
(обратно)376
«Если бы нашим телесным очам было дано заглянуть в чужое сознание, перед нами предстал бы в большей степени человек, который мечтает, нежели тот, который думает» (Виктор Гюго).
(обратно)377
явь и сон.
(обратно)378
Об отношении дикарей к сновидениям см. L. Levy-Bruhl, Primitive Mentality (Eng. trans), chap, iii, и L'Experience mystique, chap. iii.
(обратно)379
Theophrastus, Char. 16 (28 J.).
(обратно)380
Cm. Malinovski, Sex and Repression in Savage Society, 92 ff., и особенно J. S. Lincoln, The Dream in Primitive Cultures (London, 1935). Ср. также Georgia Kelchner, Dreams in Old Norse Literature and Their Affinities in Folklore (Cambridge, 1935), 75 f.
(обратно)381
К. Г. Юнг рассматривал бы такие сны как основанные на «архетипических образах», передающихся через память поколений. Однако, как отмечает Линкольн (op. cit., 24), исчезновение подобных образов на закате данной культуры указывает на то, что они передаются культурным путем. Юнг сам (Psychology and Religion, 20) подчеркивает примечательное признание одного целителя, который «сказал мне, что он больше не видит снов, ибо их место заступила теперь фигура окружного комиссара. "Как только в эту страну пришли англичане, нам больше не снятся сны, — сказал он. — Комиссар знает все о войне и болезнях и о том, где нам необходимо жить"».
(обратно)382
Jane Harrison, Epilegomena to the Study of Greek Religion, 32. Об отношениях между сновидениями и мифом см. также W. Н. R. Rivers, «Dreams and Primitive Culture», Bull, of John Rylands Library, 1918, 26; Levy-Bruhl, L'Exp. mystique, 105 ff.: Kluckhohn, «Myths and Rituals: A General Theory*, Harv. Theol. Rev. 35 [1942] 45 ff.
(обратно)383
H. J. Rose, Primitive Culture in Greece, 151.
(обратно)384
Pindar, fr.116 B. (131 S.). Ср. гл. V, с. 202-203.
(обратно)385
Самое основательное исследование сновидений в поэмах Гомера — Joachim Hundt, Der Traumglaube bei Homer (Greifswald, 1935), из которого я много почерпнул для себя. «Объективные сновидения» в его терминологии — «Aussenträume», по контрасту с «Innerträume», которые рассматриваются как чисто психологические переживания, даже если они могут быть вызваны посторонней причиной.
(обратно)386
Онейрос как «сновидение», по-видимому, встречается у Гомера только во фразе ένόνείρφ (Il. 22. 199, Od. 19. 541 = 21. 79).
(обратно)387
Призрак — Il. 23. 65 сл.; бог — Od. 6. 20 сл.; божественный посланник — Il. 2. 5 сл., где Зевс посылает онейрос точно так же, как он в других местах посылает Ириду; эйдолон, созданный ad hoc [по случаю] — Od. 4. 795. В Il. 2 и в двух сновидениях из «Илиады» призрачное существо маскируется под живое существо (ср. infra, р. 109); но я не вижу оснований считать вместе с Хундтом, что в реальности «Bildseele», или теневая душа данного человека, посещает «Bildseele» сновидящего (ср. критику Böhme в Gnomon, 11 [1935]).
(обратно)388
Вход и выход через замочную скважину — Od. 4. 802, 838; στη δ'ήρ'υπέρ κεφαλής [«стал над головой»] — Il. 2. 20, 23. 68, Od. 4. 803, 6. 21; ср. также Il.. 10. 496 (где наверняка идет речь о настоящем сновидении).
(обратно)389
Il. 23. 99.
(обратно)390
Il. 2. 23, 23. 69; Od. 4. 804. Ср. Pindar, Il.. 13. 67: εϋδεις. Αίολίδα βασιλεϋ [«ты спишь, царь Эолийский?»]; Aesch. Eum. 94: εϋδοιτ' αν [«увидеть сон»].
(обратно)391
Ср. Hundt, op. cit., 42 f., и G. Björck, «όναρ ίδεΐ,ν: De la perception de la reve chez les anciens», Eranos, 44 [1946] 309.
(обратно)392
Cp. Hdt. 6. 107. 1, и другие примеры, собранные у Björck, loc. cit., 311.
(обратно)393
φοιτΰν — Sappho, P. Oxy. 1787; Aesch. P. V. 657 (?); Eur. Ale. 355; Hdt. 7. 16b; Plato, Phaedo 60e; Parrhasios apud Athen. 543f. έπνσκοπεΐν — Aesch. Agam. 13; πωλεΐσθαι — Aesch. P. V. 645; προσελθεϊν — Plato, Crito 44a.
(обратно)394
Hdt. 1. 34. 1; 2. 139. 1, 141. 3; 5. 56; 7. 12: cp. Hundt, op. cit.
(обратно)395
ίάματα, nos. 4, 7 etc (см. прим. 55); Lindian Chronicle, ed. Blinkenberg, D 14, 68, 98; Isocr. 10. 65; Деян. 23: 11. Многие другие примеры этого рода собраны в: L. Deubner, de ineubatione, pp. 11 и 71.
(обратно)396
Pind. Ol. 13. 65 сл. Ср. также Paus. 10. 38. 13, где призрачная фигура Асклепия оставляет после своего ухода письмо. Инкубационные сновидения старых норвежцев доказывают свою объективность тем же путем; ср. например, Kelchner, op. cit., 138. Сновидения-действия в Эпидавре (прим. 72 ниже) — вариации на эту же тему. Об «аппортах» в теургии см. прил. II, прим. 126.
(обратно)397
Il. 22. 199 сл. Аристарх, по-видимому, отрицал подлинность этих строк; но основания этого отрицания, приведенные в схолиях — что они «плохи и по стилю, и по мысли» и «слишком раздувают впечатление быстроты Ахилла», — слишком слабы, да и возражения современных ученых ненамного обоснованнее. Лиф, который считает стих 200 «тавтологичным и неуклюжим», не смог заметить особую значимость повторяющихся слов для выражения чувства фрустрации. Ср. Н. Frankel, Die homerische Gleichnisse, 78 и Hundt, op. cit., 81 ff. Виламовиц нашел эту символику превосходной, однако «unerträglich» [здесь: «не вписывающейся»] в общий контекст (Die Ilias и. Homer, 100); его анализ кажется мне чересчур критическим.
(обратно)398
Od. 19. 541 сл. Ученые думали, что в этом сновидении есть ошибка, ибо Пенелопа горюет о своих гусях, тогда как в бодрствовании она не печалится о женихах, которых эти гуси символизируют. Но подобная «инверсия аффекта» типична в реальных сновидениях (Freud, The Interpretation of dreams, 2nd Eng. ed., 375).
(обратно)399
Il. 5. 148 сл. Онейропулос здесь может быть лишь истолкователем (έκρίνατ' όνείρους). Но в другом гомеровском пассаже, где встречается это слово (Il. 1. 63), оно может означать и особо одаренного сновидца (ср. Hundt, op. cit., 102 f.), что подтвердило бы существование в античной Греции феномена «искомых» сновидений.
(обратно)400
Ср. Сирах 31 (34): 1 сл.; «Сага о людях из Лаксдаля», 31. 15; и т. д. Как указывает Бьёрк (loc. cit. 307), без различения значимых и пустых сновидений искусство онейрокритики никогда бы не смогло развиться. Если и была когда-то эпоха, до открытия Фрейда, когда люди думали, что все сны чего-нибудь да значат, это было весьма давно. «Дикари не верят во все сны подряд. Некоторые сновидения стоят доверия, другие нет» (Levy-Bruhl, Primitive Mentality, 101).
(обратно)401
Od. 19. 560 сл.; ср. Hdt. 7. 16; Galen περί της έξ ενυπνίων διαγνώσεως [О толковании шести сновидений] (VI. 832 сл. К.); и т. д. Это различие подразумевается и в Aesch. Cho. 534, где, я думаю, нам следует уточнить, вместе с Verrall, ούτοι μάταιον ανδρός όψανον πέλει [«нет безумного призрака мужа»]: «это не просто ночной кошмар, но символическое видение человека». Артемидор и Макробий признают ένύπνιον άσήμαντον [неясное сновидение], а также еще один тип незначительных сновидений, называемый фантасма, который включает в себя, согласно Макробию, а) кошмар (эфиалтес), б) гипнопомпические [пестрые] видения, которые встречаются некоторым людям между сном и пробуждением и которые были впервые описаны Аристотелем (Insomn. 462а 11).
(обратно)402
Artemid. 1. 2, р. 5 Hercher; Macrobius, in Somn. Scip. 1. 3. 2; [Aug.] de spiritu et anima, 25 (P. L. XL. 798); Joann. Saresb. Polycrat. 2. 15 (P. L. CXCIX, 429a); Nicephoros Gregoras, in Synesium de insomn. (P. G. CXLIX. 608a). Выдержки из них были собраны и их взаимосвязь анализируется в: Deubner, de incubatione, 1 ff. Определения, цитируемые в тексте, взяты из Макробия.
(обратно)403
Это показал J. Н. Waszink, Mnemosyne, 9 [1941] 65 ff. Классификация Халкидия соединяет платоновские и иудейские представления; Waszink считает, что Халкидий, возможно, вывел эту классификацию из Нумения через Порфирия. Непосредственное общение с богом появляется и в класификации Посидония — Cic. div. 1. 64.
(обратно)404
совет, предупреждение, наставление.
(обратно)405
Chalcidius, in Tim. 256. цитируя Crito 44b и Phaedo 60e. Aetius, Placita 5. 2. 3: Ηρόφιλος των ονείρων τους μέν θεοπέμπτους κατ' ανάγκην γίνεσθαι τους δε φυσικούς άνειδωλοποιουμένης ψυχής τό συμφέρον αύτη και τό πάντως έσόμενον τους δέ συγκραματικούς έκ τοϋ αυτομάτου κατ' ειδώλων πρόσπτωσιν... όταν α βουλόμεθα βλέπωμεν, ώς έπϊ γών τάς ερωμένος όρώντων έν ϋπνω γίνεται [«Герофил считает, что посланные богами сны происходят по необходимости; физические сны происходят тогда, когда душа воспринимает нечто подобное себе и будущее, а смешанные сны происходят самопроизвольно при встрече с образами»]. Последняя часть этого утверждения доставила много хлопот (см. Diels ad loc, Dox Gr. 416). Я думаю, «смешанные» сны (σγκραματικούς) являются снами-фантазиями (φαντάσματα), которые, согласно теории Демокрита, возникают из случайного соединения эйдола, ubi equi atque hominis casu convenit imago [«когда случайно происходит соединение образов человека и лошади»] (Lucr. 5. 741). А вот сновидение о возлюбленном — не «смешанный» сон в этом или каком-то другом смысле. Гален описывает συγκριματικούς, которые Веллманн объяснял как «органические» (Wellmann, Arch. f. Gesch. d. Med. 16 [1925] 70 ff.). Но это не согласуется с κατ' ειδώλων πρόσπτωσιν. Я считаю, что όταν α βουλόμεΟα κτλ иллюстрирует четвертый тип — сновидение, возникающее из-за ψυχής επιθυμία [влечение души] (ср. Hipp. p. d., 4. 93).
(обратно)406
Hdt. 1. 34. 1, 5. 56; Plato, Crito 44a; Plutarch, Alex. 26 (на основании Гераклида). Однообразие литературной традиции было отмечено Дойбнером (de incubatione 13); он приводит и много других примеров. Этот вид сновидений распространен и в ранней христианской, и языческой литературе (Festugicre, L'Astrologie et les sciences occultes, 51).
(обратно)407
Напр., Paus. 3. 14. 4, где жена одного из первых спартанских царей строит храм Фетиды κατά όψιν όνείρατος («на основании какого-то сна»]. Сны о культовых статуях — ibid., 3. 16. 1, 7. 20. 4, 8. 42. 7; Parrhas. apud Athen. 543 сл. Софокл посвящает во-тивный дар в храм в знак того, что он увидел во сне — Vit. Soph. 12, Cic. diu. 1. 54.
(обратно)408
Dittenberger, Sylloge3, приводит следующие примеры: κατ' δναρ [во сне] (1147, 1148, 1149); κατάονειρον [во время сновидения] (1150); καθ'ύπνους [во сне] (1152); όψιν ίδοΰσα άρετήν της θεού [увидев совершенство богини] (Афины) — 1151. Возможно, καθ' οραμα [от призрака] (1128) и κατ' έπιταγήν [по приказу] (1153) тоже относятся к сновидениям; эпифания Артемиды (557) может быть видением наяву. Ср. также Edelstein, Asclepius, I, свид. 432, 439-442, и о культах, основывающихся на видениях наяву — infra, 117, и Chron. Lind. А 3: τό ίερό]ν τας Άθάνας τάς Λινδίας... πολλοίς κ[αΐ καλοΐς άναΟέμασι έξ άρχαιοτ]άτων χρόναιν κεκόσμηται διά τάν τάς θεού έπιφάνειαν [«Храм Афины Линдской... с древнейших времен многими красивыми пожертвованиями украшается из-за эпифании богини»].
(обратно)409
Syll.3 663; 985. Ср. также P. Cair. Zenon I. 59034, сны Зоила (который, видимо, был строительным подрядчиком и поэтому имел особые причины для того, чтобы во сне увидеть Сераписа, требующего постройки нового храма). Аристиду во многих его сновидениях предписывается совершить жертвоприношение или другие культовые действия.
(обратно)410
Plato, Laws 909е 910а, Epin. 985с. Надписи, кажется, подтверждают платоновское суждение о людях, которые делали посвящения вследствие сновидения; большинство из них — посвящения божествам-целителям (Асклепий, Гигиен, Серапис), сделанные в основном женщинами.
(обратно)411
Gadd, Ideas of Divine Rule, 241 ff.
(обратно)412
Il. 2. 80 сл., несомненно, имеет в виду, что сновидение главного вождя достовернее, чем сновидение заурядного человека (ср. Hundt, op. cit., 55 f.). В более позднее время греки придерживались мнения, что σπουδαίος [важный, серьезный] наделен привилегией получать только важные сновидения (Artemid. 4 praef., ср. Plut., gen. Socr. 20, 589b), что соответствует тому социальному статусу сновидящего, который дикари соотносили с целителем, и, может быть, базируется на пифагорейских идеях (ср. Cic. div. 2. 119).
(обратно)413
Gadd, op. cit., 73 ff.
(обратно)414
См., напр., Lincoln, op. cit., 198, ср. I Цар. 3: 4 сл.; высокий человек — напр., Lincoln, op. cit., 24, ср. Deubner, op. cit., 12. Некоторые пациенты Юнга тоже отмечали сны, в которых слышали прорицающий голос, либо развоплощенный, либо исходящий от некоего «властного существа»; Юнг называет это «базовым религиозным феноменом» (Psychology and Religion, 45 f.).
(обратно)415
Ср. Seligman, JRAI 54 [1924] 35 f.
(обратно)416
Lincoln, op. cit., 96 f.
(обратно)417
Il. 2. 20 сл. (Нестор, идеальный заместитель отца!); Od. 4. 796 сл. (едва ли это заместительницы матери, ибо они омеликес [ровесники] со спящим).
(обратно)418
Aristid, orat. 48. 9 (II. 396. 24 Keil); ср. Deubner, op. cit., 9, и христианские примеры — ibid., 73, 84. Некоторых дикарей это не так легко удовлетворяет; см., напр., Lincoln, op. cit., 255 f., 271 ff.
(обратно)419
Strabo, 14. 1. 44; Philostratus, vit. Apoll. 2. 37. Другие примеры в.: Deubner, op. cit., 14 f.
(обратно)420
Paus. 1. 34. 5. Другие примеры — у Дойбнера, 27 f. Ср. также Halliday, Greek Divination, 131 f., который приводит интересный шотландский ритуал тагайрм, в котором вопрошателя заворачивают в шкуру быка.
(обратно)421
См. гл. V, с. 213, 216.
(обратно)422
См. прим. 79.
(обратно)423
О лавровой ветви см. Fulgentius, Mythologiae, 1. 14 (на основании Антифонта и других). О чарах см. Artemidor, 4. 2, pp. 205 f. Η. О продаже снов см. Juv. 6. 546 f. Об όνειραιτητά в папирусах см. Deubner, 30 ff.
(обратно)424
Было мнение, что Σελλοί άνιπτόποδες χαμαιεΰναι [«селлы, сидящие на земле с немытыми ногами»] в Додоне (Il. 16. 233 сл.) практиковали инкубацию; но если у них была подобная практика, знал ли об этом Гомер?
(обратно)425
Ср. Gadd, op. cit., 26 (храмовая инкубация Аменхотепа II и Тутмоса IV с целью получить одобрение бога на их восшествие на престол). О минойцах у нас нет непосредственных свидетельств; но на Крите, в Петсофе, нашли кусочки терракоты (BSA 9. 356 ff.), представляющие собой изображения человеческих конечностей, продырявленные с целью подвешивания; несомненно, они очень походят на вотивные дары, посвященные исцеляющим святыням. О возможности инкубации в ранней Месопотамии см. Ztschr. f. Assyr. 29 [1915] 158 ff. и 30 [1916] 101 ff.
(обратно)426
Eur. I. Т. 1259 сл. (Ср. Нес. 70 сл.: ώ πότνια χθων. μελανοπτερύγων μήτερ ονείρων [«О царица-Земля... Да исчезнет // сновидений мать чернокрылых»]). Авторитет этой традиции сомнителен; но разве более обоснован любой другой устный метод? Ни ниспосланное пророчество, ни прорицание по жребию не присущи, насколько нам известно, оракулу Земли; но уже автор Od. 24. 12, видимо, готов рассматривать сновидения как хтонические (ср. Hundt, 74 ff.).
(обратно)427
Pind. Ol. 13. 75 сл. Ср. надпись на афинском Акрополе, Syll. 3 1151: Άθηνάα... όψιν ίδοΰοα άρετήν της θεοί) [«увидев во сне совершенство богини, походящей внешним видом на Афину»] (это не обязательно вещий сон, но он значителен присутствием в нем богини) и (возможно, фиктивная) эпифания Афины в одном из снов, см. Blinkenberg, Lindische Tempelchronik, 34 ff.
(обратно)428
Hdt. 5. 92 η. Мелисса была βιαιοθύνατος [убита], что, видимо, сделало ее эйдолон более приемлемым для совета. Ее жалобу на холод можно сравнить с одной норвежской историей, в которой мертвец пришел во сне к своим родичам и сказал, что ступни его замерзли, поскольку при погребении их забыли прикрыть (Kelchner, op. cit., 70).
(обратно)429
Сновидение Пелия (обычное), в котором душа Фрикса просит отпустить ее домой (Pind. Pyth. 4. 159 сл.), возможно, отражает тревожные настроения позднеархаического века о переносе останков, т. о. его можно считать «культурно смоделированным» сновидением. Другие сны с мертвыми преимущественно иллюстрируют приходы либо мстительного мертвеца (напр., сон с Эриниями, Aesch. Eum. 94 сл., или вещий сон Павсания — Plut. Cimon 6, Paus. 3. 17. 8 сл.), либо благодарного мертвеца (напр., сновидение Симонида — Cic. diu. 1. 56). Приходы недавно умерших во сне к своим живым родственникам изредка фиксируются в их эпитафиях, что доказывает их загробное существование (см. Rohde, Psyche, 576 f.; Cumont, After Life in Roman Paganism, 61 f.). Такие сны, разумеется, типичны для всех обществ; но (не считая сновидения Ахилла у Гомера) засвидетельствованные примеры этого типа, я думаю, являются главным образом постклассичесскими.
(обратно)430
Alexander Polyhistor apud Diog. Laert. 8. 32 (= Diels, Vorsocr., 58 В la); Posidonius apud Cic. div. 1. 64. Веллманн полагал (Hermes, 54 [1919] 225 ff.), что мнение Александра восходит к одному источнику IV в., который отражал старые пифагорейские взгляды; однако см. Festugiere, REG. 58 [1945] 1 ff., который считает более обоснованным датировать этот источник III в. и связывает его со взглядами ранней Академии и Диокла из Кариста.
(обратно)431
См. гл. VI, с. 283-284.
(обратно)432
ίάματα τοϋ Άπόλλοινος και του 'Ασκλαπιοΰ [ «Лекарства Аполлона и Асклепия»]; IG IV2, i. 121-124. Есть отдельное издание — F. Herzog, Die Wunderheilungen von Epidaurus (Philol. Suppl. III. 3); наименее искаженные части воспроизведены и переведены в: Edelstein, Asclepius, I, свид. 423.
(обратно)433
Для поддержки последнего мнения приводили сцену из аристофановского «Богатства». Но я сомневаюсь, хотел ли поэт сказать в строке 676, что священник отождествлялся с «богом», который появляется позже. Рассказ же Кариона, по-видимому, относится не к тому, что случилось в реальности (по Аристофану), но скорее к описанию того, что произошло во сне у нормального пациента.
(обратно)434
О. Weinreich, Antike Heilungswunder (RGW VIII. i.), 1909; R. Herzog, op. cit., 1931; E. J. и L. Edelstein, Asclepius: A Collection and Interpretation of the Testimonies (2 vols, 1945). Неспециалисту можно рекомендовать очень неплохое исследование М. Hamilton, Incubation [1906].
(обратно)435
Ε. В. Tylor, Primitive Culture, Π, 49. Ср. G. W. Morgan, «Navaho Dreams», American Anthropologist, 34 [1932] 400: «Мифы влияют на сны, а сны, в свою очередь, помогают поддерживать эффективность ритуалов».
(обратно)436
Diog. Laert. 6. 59.
(обратно)437
Plautus, Cure. 216 сл. (= свид. 430 Edelstein). Более поздняя религиозная мысль воспринимает подобную неудачу как знак божьего неодобрения, как в случаях Александра Севера (Dio Cass. 78. 15. 6 сл. — свид. 395) и подвыпившего юноши у Филострата (vit. Apoll. 1. 9. — свид. 395). Но существовали и храмовые легенды, ободрявшие разочарованных (ίάματα 25). Эделыптейн думает, что эти легенды составляли меньшинство (op. cit., II. 163), но феномен Лурда и других целительных мест показывает, что подобное утверждение не обязательно. «Если ничего чудесного не происходит, — говорит Лоусон, имея в виду инкубацию в современных греческих храмах, — они возвращаются домой, хотя и с меньшой надеждой, но с непоколебленной верой». (Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, 302).
(обратно)438
Ср., напр., Lincoln, op. cit., 271 ff.; о долгих ожиданиях нужного сна в Эпидавре — Herzog, op. cit., 67. В некоторых средневековых рассказах об инкубации пациент ждет, по меньшей мере, год (Deubner, op. cit., 84), а Лоусон говорит о современных крестьянах, ожидающих недели и месяцы.
(обратно)439
Aristides, огаг. 48. 31 сл. (= свид. 417). Максим Тирский заявляет, что он имел наяву видение Асклепия (9. 7: είδον τον Άσκληπιόν άλλ' ουχί όναρ [«увидев Асклепия, а не сон»]). И Ямвлих (myst. 3. 2, р. 104 Р.) рассматривает состояние между сном и пробуждением как особенно благоприятное для получения божественного видения.
(обратно)440
γνώμης όγκος άνεπαχθής. όγκος в обычном состоянии — признак гордости, и поэтому он раздражает богов.
(обратно)441
ίάματα 17; Ar. Plut. 733 сл.; ίάματα 20, 26. О целительной силе собачьей слюны см. Н. Scholz, Der Hund in der gr.-rom. Magie u.-Religion, p. 13. Рельеф IV в., ныне находящийся в афинском Национальном музее под № 3369, интерпретировался Герцогом (op. cit., 88 ff.) как параллель ίάματα 17. Посвященный благодарным инкубантом герою-целителю Амфиараю, он содержит два мотива — исцеление травмированного плеча лично Амфиараем (сновидение?) и змею, лижущую это плечо (объективный момент?).
(обратно)442
IG 2II, 4962 (= свид. 515); Plut. soll. anim. 13, 969е; Aelian, Ν. Α. 7. 13 (= свид. 731а, 731). О приношении «собакам и их хранителям» см. Farnell, Hero Cults, 261 ff.; Scholz, op. cit., 49; Edelstein, op. cit., II. 186, n. 9. Платон-комедиограф использует эту фразу как непристойную double entendre [двусмысленность] (fr. 174. 16 К.); возможно, подразумевается, что некоторые афиняне позабавились над этим подношением, как, наверное, сделали бы и мы. Являются ли «хранители» или «хозяева» собак духами, которые направляют собаку к необходимому пациенту? Как бы то ни было, это не «охотники» с собаками, человеческие или божественные: Xen. Cyneg. 1. 2. не свидетельствует о том, что Асклепий когда-либо имел охотничьи функции.
(обратно)443
Herodas, 4. 90 сл. (= свид. 482). Это наверняка живая змея, а не бронзовая. Бронзовые змеи не живут в норах, а τρώγλη не означает «рот» (как у Эделыптейна, loc. cit. и II. 188, повторившего ошибку Нокса) или «ящик для денег» (как у Герцога, Arch. f. Rel. 10 [1907] 205 ff.). Естественное толкование подтверждается Paus. 2. 11. 8 (= свид. 700а).
(обратно)444
The Interpretation of Dreams, 391.
(обратно)445
Ср. ίάματα 31, и многочисленные примеры у Дойбнера, 12.
(обратно)446
ίάματα 1 — очевидный пример, как указывал Герцог. Ср. также G. Vlastos, «Religion and Medicine in the Cult of Asclepius», Rev. of Rel., 1949, 278 ff.
(обратно)447
Aristid. orat. 23. 16 (»· свид. 402): οΰτε χοροϋ σύλλογος πράγμα τοσούτον ούτε πλου κοινωνία οϋτε διδασκάλων τών αυτών τυχεΐν, όσον χρήμα και κέρδος εις Ασκληπιού τε συμφοιτήσαι και τελεσΟήναι τά πρώτα τών ιερών [«ни собрание хора, ни команда в морском путешествии, ни собрание учителей не в состоянии достигнуть той пользы и выгоды, которые дают обращение к главным таинствам Асклепия и их совершения»].
(обратно)448
Ar. Plut. 742 сл.
(обратно)449
Aristid. orat. 50. 64 (= свид. 412). Хирургические операции над спящими пациентами встречаются также во фрагменте храмовой записи из асклепейона в Лебене на Крите (Inscr. Cret. I. xvii. 9 = свид. 426); они приписываются также свв. Козьме и Дамиану (Deubner, op. cit., 74). О старом норвежском способе операции во сне см. Kelchner, op. cit., 110.
(обратно)450
Мгновенные исцеления известны и в христианской инкубации (Deubner, op. cit., 72, 82); в целом они характерны для первобытной медицины (Levy-Bruhl, Primitive Mentality, 419 f.).
(обратно)451
Эдельштейн верно подчеркивает первый пункт (op. cit., II. 167: «люди в своих сновидениях заставили бога доверять тем вещам, которым они доверяли сами»); но пропустил второй. Более старый взгляд, который приписывал выздоровление медицинским навыкам жрецов и пытался рационализировать асклепейоны как санатории (ср. Farnell, op. cit., 273 f.; Herzog, op. cit., 154 ff.) справедливо отброшен Эдельштейном. Как он указывает, существует не очень много свидетельств того, что в Эпидавре или в другом священном месте врачи или священники, упражняясь в медицине, играли какую-либо значительную роль в храмовом целительстве (op. cit., II. 158). Асклепейон в Косе считался исключением; но медицинские инструменты, найденные здесь, могут быть и вотивными дарами, посвященными врачами (см., напр., Aristid. orat. 49. 21 сл., где Аристид видит сон о притирании, и неокорос [блюститель храма] достает ему это; и надпись в JHS 15 [1895] 121, в которой пациент благодарит своего доктора также пылко, как и бога).
(обратно)452
IG IV г. i. 126 (= свид. 432). Ср. Aristid. orat. 49. 30 (= свид. 410): τύ μέν (τών φαρμάκων) αυτός συνήθεις, τά δέ τών έν μέσω και κοινών έδίδου (ό θεός) [«одни лекарства он составил сам, а другие дал ему бог в готовом виде для общего употребления»], и исследование Цингерле о предписаниях, данных Гранин} Руфу: Zingerle, Comment. Vind. 3 [1937] 85 ff.
(обратно)453
О змеином яде см. GaJen, Subfig. Emp. 10, 78 Deichgräber (— свид. 436); о золе см. Inscr. Cret. I. xvii 17 (= свид. 439); о петухе — IG XIV. 966 (= свид. 438). Ср. Дойбнер, 44 ff.
(обратно)454
Ср. Edelstein, op. cit., Η. 171 f., и, contra, Vlastos, loc. cit. (прим. 69 выше), 282 ff. В своем восхищении рациональными принципами греческой медицины многие философы и историки были склонны пренебречь или затушевать иррациональный характер многих лечебных процедур, использовавшимися античными целителями (да и всеми врачами вплоть до сравнительно недавнего времени). О трудностях тестирования лекарств до развития химического анализа см. Temkin, The Falling Sickness, 23 f. Впрочем, надо согласиться с Властосом в том, что «медицина Гиппократа и медицина Асклепия противоположны принципиально».
(обратно)455
Aristotle, Insomn. 461b 6.
(обратно)456
Aristides, orat. 36. 124; 47. 46-50, 65; 48. 18 сл., 27. 74 сл. Навязчивое чувство вины у Аристида выдает себя также в двух любопытных пассажах (orat. 48. 44, 51. 25), где он истолковывает смерть друга как замену своей смерти; понятно, что подобные мысли показательны не для черствого эгоиста, а для скрытого невротика. О пожертвовании пальца во сне (orat. 48. 27 = свид. 504) ср. Artemidorus, 1. 42. Жертвоприношение пальца в самых разных целях практикуется дикарями (Фрэзер к Paus. 8. 34. 2). Это должно, по их мнению, вызвать важное сновидение или видение наяву: см. Lincoln, op. cit., 147, 256, где эта практика объясняется как умилостивление желанной фигуры Отца; несомненно, этот акт символизирует самокастрацию.
(обратно)457
Bonner, «Sorae Phases of Religious Feeling in Later Paganism., Harv. Theol. Rev. 30 [1937] 126.
(обратно)458
Cic. N. D. 3. 91 (= свид. 416). Ср. Cic. div. 2. 123 (= свид. 416). О вреде, который могла наносить привязанность к исцеляющим сновидениям, ср. утверждение Сорана о том, что кормилице не следует быть суеверной, «дабы вера в сновидения, предзнаменования или традиционные ритуалы не привела ее к пренебрежению собственным здоровьем». (Soranus, 1. 2. 4. 4, Corp. Med. Graec. ГУ. 5. 28).
(обратно)459
«Перепись галлюцинаций», проведенная Английским Обществом Психических Исследований (Proc. S. P. R. 10 [1894] 25 ff.), показала, что примерно десять раз в жизни человека бывают галлюцинации, не вызванные физическим или психическим заболеванием. Более позднее исследование, проводившееся тем же Обществом (Journ. S. P. R. 34 [1948] 187 ff.), подтвердило эту гипотезу.
(обратно)460
зрелище, представление.
(обратно)461
Chalcidius, in Tim. 256: spectaculum, ut cum vigilantibus offert se videndam caelestis potestas clare iubens aliquid aut prohibens forma et voce mirabili [«видение заключается в том, что божественная сила открывается для лицезрения бодрствующих, ясно повелевая что-нибудь или запрещая, будучи наделена удивительными обликом и голосом»]. Вопрос о том, существовали ли реально такие эпифании, был предметом оживленных споров в эпоху эллинизма (Dion. Hal. Ant. Rom. 2. 68). О подробном объяснении опыта, в котором одна и та же божественная личность одновременно воспринималась одним человеком во сне, а другим — в видении наяву, см. Р. Оху. XI. 1381. 91. ff.
(обратно)462
Ср. Wilamowitz, Glaube, I. 23; Pfister в P.-W., Supp. IV, s. v. «Epiphanie», 3. 41. Как говорит Пфистер, вряд ли стоит сомневаться, что масса античных рассказов об эпифаниях соответствует какому-то религиозному опыту, даже если мы редко, а то и никогда не можем быть вполне уверенными в том, что тот или иной рассказ имеет историческое основание.
(обратно)463
К. Latte, «Hesiods Dichterweihe», Antike u. Abendland, II [1946] 154 ff.
(обратно)464
Hes. Theog. 22 сл. (ср. гл. III, с. 126). Гесиод не утверждает, что он видел Муз, но только говорит, что слышал их голоса; ведь они κεκαλυμμένοι ηέρι πολλή [«туманом оделись густым»] (Theog. 9). Исходя из некоторых рукописных вариантов и упоминаний, следовало бы читать в строке 31 «δρέψασοι»; Музы срывают ветку лавра и дают ее поэту, что ставит это «видение» в разряд историй-«аппортов». Но мы бы предпочли менее очевидное прочтение δρέψοσΟοι, «они позволили мне сорвать для себя» ветвь священного дерева: этот символический акт выражает принятие им своего «призвания».
(обратно)465
Hdt. 6. 105. Здесь также опыт может быть чисто слуховым, хотя φανήνοι [факелы] используются в нем на с. 106.
(обратно)466
Aristodemus, apud Schol. Pind. Pyth. 3. 79 (137); ср. Paus. 9. 25. 3, и гл. III, прим. 90.
(обратно)467
Sir Ernest Shackleton, South, p. 209.
(обратно)468
Hippocrates, Int. 48 (VII. 286 L.): αΰτη ή νοΰσος προσπίπτει μάλιστα έν άλλοδημίη, κα'ι ήν κου ερήμην όδόν βαδίζ η και ό φόβος αυτόν λόβη έκ φάσματος λαμβάνει δέ και άλλως [«Эта болезнь наступает в особенности в путешествии и если кто проезжает пустынную дорогу и если это видение поражает его ужасом и другими способами». Гиппократ. Избранные книги. М., 1994.]. Влияние диких окрестностей на развитие греческих религиозных идей особенно подчеркивал Виламовиц (Glaube, I. 155, 177 f., и др.), но этот акцент, похоже, остался учеными незамеченным.
(обратно)469
Heraclitus, fr. 89 D.; ср. fr. 73 и Sext. Emp., adv. dogm. I. 129 сл. (= Heraclitus, А 16). Fr. 26 тоже, видимо, относится к сновидению, но он слишком испорчен, чтобы можно было сказать что-то определенное (ср. О. Gigon, Untersuchungen zu Heraclit, p. 95 ff.). Но я не могу слишком доверяться утверждению Халкидия относительно мнения «Гераклита и стоиков» о пророчествах (in Tim. 251= Heracl. А 20).
(обратно)470
Fr. 2 D.
(обратно)471
Cic. divin. 1. 5; Aetius, 5. 1. 1. (= Xenophanes, А 52).
(обратно)472
Hdt. 7. 16b: ενύπνια τά ές ανθρώπους πεπλανημένα [«сновидения, посещающие людей»]. Ср. Lucr. 5. 724, «rerum simulacra vagari» [«образы вещей посещают (людей)»] (из Демокрита?). О том, что сновидения отражают дневные мысли, ср. также Empedocles, fr. 108.
(обратно)473
Этот пункт отмечен Бьёрком, который видит в теории Демокрита пример систематизации народных представлений интеллектуалами (Björck, Eranos, 47 [1946] 313). Но это также и попытка натурализовать «сверхъестественное» сновидение при помощи механистического объяснения (Vlastos, loc. cit., 284).
(обратно)474
Fr. 166, и Plut. Q. Conv. 8. 10. 2, 734f (= Democritus, А 77). Ср. Delatte, Enthousiasme, 46 ff., и моя статья в Greek Poetry and Life: Essays Presented to Gilbert Murray, 369 f.
(обратно)475
В народном словоупотреблении из терминов, подобных θεόπεμπτος [посланный богом], религиозное содержание почти выветрилось: так, Артемидор говорит, что в его дни в народе называли теопемптон все непредвиденное, нежданное (1. 6).
(обратно)476
См. гл. V, с. 202 сл.
(обратно)477
Ar. Vesp. 52 сл.; Demetr. Phalern. apud Plut. Arislides 27. Ср. также Xen. Anab. 7. 8. 1, где прочтение τά ενύπνια εν Λυκείω γεγραφότος [«сны, записанные в Ликее»] — вероятно, правильное (Wilamowitz, Hermes, 54 [1919] 65 f.). Об онейромантеис упоминал ранний комический поэт Магнет (fr. 4 К.), и они сатирически изображаются в Telmessians Аристофана. S. Luria, «Studien zur Geschichte der antiken Traumdeutung», Bull. Acad. des Sciences de l'U. R. S. S. 1927, 1041 ff., вероятно, прав, различая две школы в истолковании снов в классическую эпоху, одну — консервативно-религиозную, другую — псевдонаучную, хотя я не могу последовать за ним во всех его детальных выводах. В это искусство верили не только народные массы: и Эсхил, и Софокл признают интерпретацию сновидений как важную разновидность гадательного искусства (P. V. 485 сл.; El. 497 сл.).
(обратно)478
Антифонт-предсказатель, по-видимому, является автором сонника, цитируемого Цицероном и Артемидором (ср. Hermogenes, de ideas, 2. 11. 7= Vorsocr. 87 A 2, ό και τερατοσκόπος κο'ι όνειροκρίτης λεγόμενος γενέσθαι [«о котором говорят, что он был прорицателем и снотолкователем»]), и был современником Сократа (Diog. Laert. 2. 46= Aristotle, fr.75 R.= Vorsocr. 87 A 5). Он часто отождествляется, на основании Hermogen. loc. cit., и Свиды, с софистом Антифонтом, однако с этим нелегко согласиться: а) трудно приписать глубокое почтение к снам и предзнаменованиям автору трактата «Об истине», который «не верил в провидение» (Vorsocr. 87 В 12; ср. Nestle, Vom Mythos zum Logos, 389); б) Артемидор и Свида называют автора сонника афинянином (Vorsocr. 80 В 78, А 1), тогда как сократовская фраза παρ' ήμίν [«у нас»] в Xen. Mem. 1. 6. 13, пожалуй, имеет в виду, что софист был чужестранцем (что также помешало бы отождествить софиста с оратором).
(обратно)479
Jaeger, Paideia, III. 33 ff. До него ученые полагали, что этот трактат был создан в конце V в.
(обратно)480
Утверждение о том, что сны могут быть важными показателями болезни, можно часто встретить в гиппократовском корпусе (Epidem. 1. 10, II. 670 L., Hum. 4, V. 480; Hebd. 45, IX. 460). В частности, сновидения-заботы являются признаком душевного беспокойства (Morb. 2. 72, VII. 110; Int. 48, VII. 286). Аристотель говорит, что большинство хороших врачей верят в возможность рационального истолкования снов (diu. p. somn. 463а 4). Но автор «О диете» доводит этот здравый, в сущности, принцип до крайности.
(обратно)481
περί διαίτης 4.87 (VI. 640 L.): όκόσα μέν ούν τών ενυπνίων θεία έστι καί προσημαίνει τινά συμβησόμενα... είσίν οί κρίνουσα περί τών τοιούτων ακριβή τέχνην έχοντες, и ibid., 93: όκόσα δε δοκέειό άνθρωπος θεωρέειν τών συνήθων, ψυχής έπιθυμίην σημαίνει [«некоторые сны являются божественными и предсказывают в отдельных случаях будущее... другие сны дают о них более четкое значение»; и ibid., 93: «по-видимому, некоторые сны отражают привычки и желания человека»].
(обратно)482
Ibid., 86: όκόταν δέ τό σώμα ήσυχάζη, ή ψυχή κινευμένη καί έπεξέρπουσα τά μέρη τοΰ σώματος διοικέει τόν έωυτής οίκον κτλ [«Когда тело находится в покое, душа, находясь в движении и погружаясь в части тела, устраивает там свое жилище, и т. д».]. Ср. гл.V, с. 202-203, и наблюдение Галена, что «во сне душа словно погружается в глубины тела, удаляясь от внешних объектов чувств и тем самым осознавая телесные пределы » ( περί τής έξ ενυπνίων διαγνώσεως [см. прим. 24 выше], VI. 834 К.). Влияние орфических идей на трактат «О диете» (4. 86) отмечал А. Palm, Studien zur Hippokratischen Schrift π. διαίτης, 62 ff.
(обратно)483
Ibid., 90, 92. О разветвленных соотношениях макрокосма с микрокосмом ср. Hebd. 6 (IX. 436 L.).
(обратно)484
Freud, op. cit., 299: «каждый сон человека связан с его личностью».
(обратно)485
О дереве как о фаллическом символе ср. Hdt. 1. 108, и Soph. El. 419 сл; похожая символика обнаруживается и в описаниях древнескандинавских сновидений (Kelchner, op. cit., 56). Сходства в истолковании между п. диайтес и древнеиндийскими сонниками наводили на мысль о восточном влиянии на греческого автора-врача или же на греческие сонники, который он использовал (Palm, op. cit., 83 ff., за которым следует Jaeger, Paideia, HI. 39). Другие, исходя из тех же оснований, считали, что существовал некий более ранний греческий сонник, который был общим источником и для Артемидора, и для п. диайтес (С. Fredrich, Hippokratische Untersuchungen, 213 f.). Но подобные выкладки слабо обоснованы. Искусство онейрокритики было (и остается) искусством находить аналогии (Arist. div. p. somn. 464b 5), и едва ли любая культура может не заметить аналогий, просто бросающихся в глаза. Профессор Роуз указал, что есть большое сходство между системой Артемидора и системой, которая ныне в ходу в Центральной Африке (Rose, Man, 26 [1926] 211 f.). Ср. также Latte, Gnomon, 5. 159.
(обратно)486
Ibid., 87; ср. Palm, op. cit., 75 ff. Суеверный у Феофраста спрашивает снотолкователей всякий раз, когда он видит сон, τίνι Οεφήθε(ιπροσεύχεσθαιδεί [«какому богу или богине ему молиться». — Феофраст. Характеры. Л., 1974. С. 23.] (Char. 16).
(обратно)487
Tim. 71а-е.
(обратно)488
Insomn. 458b 25 сл., 460b 3 сл.
(обратно)489
Div. p. somn. 463b 15 сл., 464a 20 сл.
(обратно)490
Ibid., 463b 14; ср. Freud, Interpretation of Dreams, 2. He могу согласиться с Бойянсе (Boyance, Culte des Muses, 192), что когда Аристотель называет сновидение даймония, он имеет в виду пифагорейское (постаристотелианское?) мнение о том, что они вызваны даймонес, обитающими в воздухе (см. прим. 53). И Бойянсе, несомненно, ошибается, когда заявляет, что Аристотель открыто верил в мантические сновидения.
(обратно)491
περί φιλοσοφίας, fr. 10. Ср. Jaeger, Aristotle, 162 f., 333 f. (Eng. ed).
(обратно)492
Div. p. somn. 464a 5.
(обратно)493
Ibid., 463a сл., 27 сл.
(обратно)494
Ibid., 464a 6 сл. Далее Аристотель замечает, что ум отвечает на такой мгновенный импульс лучше всего тогда, когда он пуст и пассивен, как в некоторых видах психического расстройства 464а 22 сл.); кроме того, здесь должен действовать избирательный фактор, поскольку сбывшиеся сновидения касаются друзей, а не посторонних (464а 27 сл.).
(обратно)495
Ср. Cic. div. 1. 70 сл. Цицерон атрибутирует религиозный взгляд даже ученику Аристотеля Дикеарху (ibid., 1. 113, 2. 100); но это не согласуется с другими известными нам идеями Дикеарха и является, вероятно, результатом непонимания (F. Wehrli, Di kaiarchos, 46).
(обратно)496
Ibid., 2. 150. Цивилизованный рационализм трактата «О прорицании» (кн. 2) в этом заключительном пассаже до сих пор едва ли был оценен в должной мере.
(обратно)497
Ср. замечательный перечень некогда известных специалистов по онейрокритике в: Bouche-Leclerq, Hist, de la Dwina tion, I. 277. Сонники по сей день пользуются в Греции большой популярностью (Lawson, op. cit., 300 f.). Перечисление Марком Аврелием того, чем он обязан Провидению, включает в себя то, τό δι' όνειρύτων βοηθήματα δοθήναι ύλλα τε και ώς μή πτύειν αίμα και μή ίλιγγιαν [«что в сновидениях дарована мне была помощь, не в последнюю очередь против кровохарканья и головокружений»] (1. 17. 9); ср. также Fronto, Epist. 3. 9. 1 f. О доверии Плутарха к советам, услышанным во сне, см. Q. Conv. 2. 3. 1, 635е; о Галене см. его комментарий на Hipp, περί χυμών 2. 2 (XVI. 219 сл. К.). Даймон, явившийся во сне Диону Кассию, велел ему писать историю (72. 23).
(обратно)498
Pindar, fr. 116 В. (131 S.). Родэ правильно акцентировал значение этого фрагмента (Psyche, 415), хотя и ошибался, возводя данные идеи к Гомеру (ibid., 7); ср. Jaeger, Theology of the Early Philosophers Greek, 75 f. Взгляд на то, что переживающим субъектом является некое неизменное «глубинное» я, может возникнуть из-за того, что во сне перед человеком возникают образы умерших людей или картины забытого прошлого. Как замечает один современный автор, «в сновидениях важно не только то, что мы освобождаемся от обычных пространственно-временных ограничений, возвращаемся в наше прошлое и, может быть, идем навстречу будущему, — но и то, что я, которое переживает эти странные приключения, является более значимым я, не имеющим конкретных признаков» (J. В. Priestley, Johnson over Jordan).
(обратно)499
Xen. Cyrop. 8. 7. 21.
(обратно)500
Цит. по: Ксенофонт. Киропедия. М., 1993. С. 213.
(обратно)501
Plato, Rep. 571d сл.: когда λογιστικόν [«разумное начало души»] во сне αυτό καθ' uuro μόνον καΟαρόν [«становится чистой само по себе»] (что бывает не всегда), она может воспринять то, о чем в обычном состоянии не знала, будь то прошлое, настоящее или будущее, и της αληθείας έν τω τοιούτω μάλιστα άπτεται [«достигает полнейшим образом истины в таком состоянии»]. Aristotle, fr. 10= Sext. Emp. adv. Phys. 1.21: όταν γαρ έν τω ύπνούν καθ' αυτήν γίγνεται ή ψυχή. τότε τήν ίδιον άπολαβοϋσα φύσιν προμαντεύεταί τε και προαγορεύει τά μέλλοντα, τοιαύτη δε έστι και έν τφ κατά τόν θάνατον χωρίζεσθαι τών σωμάτων [«Когда душа во сне становится сама собою, тогда, восприявши свою собственную природу, она пророчествует и прорицает будущее. Таковою же она становится и при отделении от тела по смерти»]. Ср. Jaeger, Aristotle, 162 f. См. также Hipp. περί διαίτης, 4. 86, цитированный выше, гл. IV, прим. 104; и Aesch. Eum. 104 сл., где поэт соединил старое «объективное» сновидение с идеей о том, что разум обладает предвидением во сне; эта идея, по-видимому, происходит из другого религиозного источника. О значении, которое пифагорейцы придавали снам, ср. Cic. div. 1. 62; Plut. gen. Socr. 585e; Diog. L. 8. 24.
(обратно)502
«На вопрос, воскресает ли душа после смерти, представители почти всех народов отвечали утвердительно. Найти среди них скептиков или агностиков практически совершенно невозможно» (Frazer, The Belief in Immortality, I. 33).
(обратно)503
Археологические свидетельства собраны и детально проанализированы в: J. Wiesner, Grab und Jenseits [1938], хотя есть сомнения в правильности некоторых выводов, к которым он приходит на их основе.
(обратно)504
Ср. Levy-Bruhl, The «Soul» of the Primitive, 202 f., 238 ff., и L'Exp. mystique, 151 ff. Мнение о том, что источником веры в воскресение был не столько процесс логического мышления (как предполагали Тайлор и Фрэзер), сколько наоборот, отсутствие такового, а именно бессознательное вздрагивание слепого глаза на неожиданный раздражитель, теперь разделяется многими антропологами: ср., напр., Elliot Smith, The Evolution of the Dragon, 145 f.; Malinowski, Magic, Science and Religion, 32 f.; К. Meuli, «Griech. Opferbräuche», в Phyllobolia für Peter von der Mühll [1946]; Nilsson в Harv. Theol. Rev. 42 [1949] 85 f.
(обратно)505
Il. 23. 103 сл.; Od. 2. 216-224. Значение этих эпизодов, подчеркивавших небывалость подобных идей, было верно подмечено Зелинским (Zielinski, «La Guerre ä l'outretombe», в Melanges Bidez, II. 1021 ff., 1934), хотя он заходит слишком далеко, видя в гомеровских поэтах религиозных реформаторов, сравнимых по своему значению с еврейскими пророками.
(обратно)506
Не только объекты приношений, но и настоящие трубочки для кормления находят даже в погребениях кремированных останков (Nock, Harv. Theol. Rev. 25 [1932]. В Олинфе — где было исследовано почти 600 погребений VI-IV вв. до н. э., объекты приношений практически те же, что и при кремации (D. М. Robinson, Excavations at Olynthus, XI. 176). Это должно означать одно из двух: либо то, что обряд кремации не предусматривал, как думал и Родэ, разлучение духа с трупом после ликвидации последнего, либо что прежние бессознательные привычки заботиться о мертвых оказались слишком прочными, чтобы их можно было разрушить подобными средствами. Meuli, loc. cit., указывает, что в эпоху Тертуллиана люди продолжали кормить кремированного мертвеца (earn, resurr. 1, [vulgus] defunetos atrocissime exurit, quos post modura gulosissime nutrit) [«толпа без всякой жалости сжигает умерших, которых потом весьма лакомо кормит»]; а также то, что, несмотря на изначально негативное отношение Церкви, использование трубочек для кормления просуществовало на Балканах почти до наших дней. Ср. также Lawson, Mod. Gr. Folklore, 528 ff., и о проблеме в целом см. Cumont, Lux Perpetua, 387 ff.
(обратно)507
Plut. Solon 21; Cic. de legg. 2. 64-66. Ср. также отрицательное отношение Платона к дорогостоящим погребениям (Laws, 959с), и закон Лабиды, который запрещает inter alia [среди прочего] одевание трупа в столь роскошные погребальные одеяния (Dittenberger, Syll. 2 II. 438. 134). Но фантазии на тему трупа-призрака, конечно, только одно из чувств, которые находят удовлетворение в пышных похоронах (ср. Nock, JRS 38 [1948] 155).
(обратно)508
Il. 3. 278 сл., 19. 259 сл. Исключительно неверно навязывать Гомеру (или кому бы то ни было) эсхатологическую логичность путем выправления, вырезания или искажения ясного значения слова. Эти клятвенные выражения из «Илиады» сохраняют веру, которая намного старше безликого гомеровского Аида и которая имеет гораздо большую жизненную силу.
(обратно)509
Н. Dem. 480 сл. О возможной датировке этого гимна (который исключает любую вероятность орфического влияния) см. Allen и Halliday, The Homeric Hymns2, 111 ff.
(обратно)510
Этой идеи придерживался Виламовиц в пору своей юности (Hom. Untersuchungen, 199 ff.); но позднее он отказался от нее (Glaube, II. 200).
(обратно)511
Aesch. Eum. 267 сл., 339 сл., Supp. 414 сл. Ср. Wehrli, Λύθε βιώσας, 90. То, что в классический век страх посмертного наказания не ограничивался лишь «орфическими» или «пифагорейскими» кругами, но мог наличествовать у любого человека, испытывавшего чувство вины, подразумевается, по-видимому, у Демокрита (frs. 199, 297) и Платона (Rep. 330d).
(обратно)512
Pindar, fr. 114 В. (130 S.). О лошадях ср. Il. 23. 172, и Wiesner, op. cit., 136 3, 152 й, 160 и др.; о πεσσοί [игральные кости, шашки] см. Wiesner, 146.
(обратно)513
бытие... над-бытие.
(обратно)514
Anacreon, fr. 4; Semonides Amorg., fr. 29. 14 D. (= Simonides Ceos, fr. 85 В.); IG XII. 9. 287 (Friedländer, Epigrammata, 79). Гиппонакс похожим образом понимает псюхе (fr. 42 D.).
(обратно)515
Ср. G. К. Hirzel, «Die Person», Münch. Sitzb. 1914, Abh. 10.
(обратно)516
Soph. О. Т. 64 сл., 643. Но хотя каждую фразу можно заменить личным местоимением, они все же не являются (как полагал Гирцель) взаимозаменяемыми: сома не может быть употреблена в ст. 64, равно как и псюхе в ст. 643.
(обратно)517
IG I.2 920 (=Friedländer, op. cit., 59): ψυχ[ή]όλετ'έ[ν out] [«душа гибнет в битве»] (ок. 500 г. до н. э.); ср. Eur. Hei. 52 сл.: ψυχαί δέ πολλαί δί' έμέ... έθανον [«...много душ // Из-за меня... погибло»], и 7Υο. 1214 сл.: ψυχήν σέθεν έκτεινε [«отняла душу твою»]. Pind. Ol. 9. 33 сл.: ούδ' Άΐδας άκινήταν έχε ράβδον. βρότεα σώμαθ' α κιιτάγει κοίλον πρός άγυιαν Ονασκόντων [«И не празден был посох Аида; // Которым гонимы смертные тела // К полым перепутьям // Умирающих»] (ср. Virg. Geo. 4. 475= Aen. 6. 306).
(обратно)518
The Hertz Lecture, 1916, Proc. Brit. Acad. VII. Лиделлу и Скотту, s. v. псюхе, не удалось воспользоваться исследованиями Барнета. Лексикографический материал, встречающийся в трагедии, собран Мартой Ассманн (Assmann), Mens et Animals, I (Amsterdam, 1917).
(обратно)519
Soph. Ant. 176. Cp. 707, где псюхе контрастирует с фронеин, а также Eur. Ale. 108.
(обратно)520
Напр., Antiphon, 5. 93; Soph. El. 902 сл.
(обратно)521
Я склонен согласиться с Барнетом, что таково должно быть значение Eur. Tro. 1171 сл.; вряд ли естественно связывать σή ψυχή [«твоей душой»] не с γνούς [познавший], а с чем-то другим.
(обратно)522
Eur. Нес. 87.
(обратно)523
Ср. фразы типа διά μυχών βλέπουσα ψυχή [«душа, взирающая из потаенных уголков»], Soph. Phil. 1013, и πρός άκρον μυελόν ψυχής [«в отношении глубины души»], Eur. Hipp. 255.
(обратно)524
Soph. Ant. 227.
(обратно)525
To, что понятие псюхе не имеет ассоциаций с пуританством, явствует из выражений, подобных ψυχή τώνάναθώνχαριζόμενος [«наслаждаясь в душе благами»] (Sem. Amorg. 29. 14), ψυχή δίδοντες ήδονήνκαθ' ήμέραν [«во все дни душу открывайте радости!»] (Aesch. Pers. 841), βοράς ψυχήνέπλήρουν [«наполним душу едой»] (Eur. Ion 1169). И насколько далеко в обыденном словоупотреблении это было от религиозных или метафизических импликаций, прекрасно видно из пассажа благочестивого Ксенофонта (если это был он): когда он намеревается снабдить неизобретательного человека списком подходящих имен для собак, первое же, какое приходит ему на ум, — псюхе (Cyneg. 7. 5).
(обратно)526
Подобно тюмосу в Н. Apoll. 361 сл., псюхе иногда мыслится как находящаяся в крови: Soph. El. 785 τούμόν έκπίνουσ'άεΐ ψυχής άκρατοναΐμα [«пила // Кровь чистую души моей»], и Ar. Nub. 712 τήν ψυχήν έκπίνουσιν (oi κόρεις) [«и сосут мою душу, и пьют мою кровь»]. Это популярное истолкование, а не философские спекуляции, как у Эмпедокла (fr. 105). Но и авторы-врачи тоже, что вполне естественно, подчеркивают тесную взаимозависимость тела и ума, а также важность аффективных элементов в жизни их обоих. См. W. Muri, «Bemerkungen zur hippokratischen Psychologie», Festschrift Tieche [Bern, 1947].
(обратно)527
E. Rohde, «Die Religion der Griechen», 27 (Kl. Schriften, II. 338).
(обратно)528
Мнение Группы о происхождении орфизма из Малой Азии был позже вновь подтверждено Циглером в P.-W., s. ν. «Orfische Dichtung», 1385. Но слабость этого взгляда в том, что те божества позднего орфизма, которые несомненно имеют азиатские истоки — Эрикапей, Миса, Гипта, полиморфный крылатый Хронос — не зафиксированы в ранней орфической литературе и могут легко быть поняты как продукты более позднего времени. Мысль Геродота о происхождении учения о перерождениях из Египта не имеет под собой оснований, хотя бы потому, что египтяне не знали о таком учении (см. Mercer, Religion of Ancient Egypt, 383, и авторитетное свидетельство, цитируемое Rathmann, Quaest. Pyth., 48). Мнение о происхождении его из Индии не доказано и внутренне противоречиво (Keith, Rel. and Phil, of Veda and Upanishads, 601 ff.). Вполне вероятно, однако, что греческая и индийская вера в это учение имеют общий источник; см. ниже, прим. 97.
(обратно)529
О характере шаманской культуры и ее распространении см. Meuli, «Scythica», Hermes, 70 [1935] 137 ff. — блестящая статья, которой я обязан идеей написания этой главы; G. Nioradze, Der Schamanismus bei den Sibirischen Völkern [Stuttgart, 1925]; и интересная, хотя и несколько умозрительная книга Mrs Chadwick, Poetry and Prophecy [Cambridge, 1942]. О подробных описаниях шаманов см. W. Radioff, Aus Sibirien [1885]; V. Μ. Mikhailovski, JRAI 24 [1895] 62 ff., 126 ff.; W. Sieroszewski, Rev. de Vhist. des Rel. 46 [1902] 204 ff., 299 ff.; M. A. Czaplicka, Aboriginal Siberia [1914], где приводится полная библиография; I. Μ. Ка-zanovicz, Smithsonian Inst. Annual Report, 1924; U. Holmberg, Finno-Ugric and Siberian Mythology [1927]. Связь между скифскими и урало-алтайскими религиозными идеями была прослежена венгерским ученым Наги; она разделяется Миннсом (Minns, Scythians and Greeks, 85).
(обратно)530
В некоторых современных формах шаманизма расщепление личности отсутствует; в других оно есть (ср. Nioradze, op. cit., 91 f.; Chadwick, op. cit., 18 ff.). Последний вид шаманизма, по-видимому, древнее; первый же его условно имитирует: А. Ohlmarks, Arch. f. Rel. 36 [1939] 171 ff., утверждает, что феномен изначального шаманского транса ограничивается в своем распространении арктическим регионом и обязан своим существованием арктической истерии; однако см. критику этого у М. ЕН-ade, Rev. de Vhist. des Rel. 131 [1946] 5 ff. Душа также может оставить тело в период болезни (Nioradze, 95; Mikhailovski, loc. cit., 128) и при обычном сне (Nioradze, 21 f.; Czaplicka, op. cit., 287; Holmberg, op. cit., 472 ff.).
(обратно)531
врачи-пророки.
(обратно)532
Об этих греческих шаманах см. также Rohde, Psyche, 299 ff., 327 ff., где собрано и анализируется большинство свидетельств о них; Н. Diels, Parmenides' Lehrgedicht, 14 ff.; и Nilsson, Gesch. I. 582 ff.; который принимает идею Мейи. Резонно было бы предположить, что корни шаманского поведения лежат в человеческой психологии и что какие-то элементы этого поведения появились у греков независимо от иноземного влияния. Но против этого можно сказать три вещи: 1) источники начинают фиксировать шаманский стиль уже после того, как Черное море открылось для греческой колонизации, и не раньше; 2) из наиболее ранних засвидетельствованных «шаманов» один — скиф (Абарид), другой — грек, посетивший Скифию (Аристей); 3) существует большое сходство в деталях между древним греко-скифским и современным сибирским шаманизмом, что делает гипотезу о простой «конвергенции» почти невозможной: примерами могут служить изменение у сибирского и скифского шамана признаков пола (Meuli, loc. cit., 127), религиозное значение стрелы (прим. 34 ниже), религиозное уединение (прим. 46), статус женщин (прим. 59), власть над зверями и птицами (75), подземное путешествие с целью излечения души (76), феномен двух душ (111) и сходство в катарсических методах (118, 119). Некоторые из перечисленных моментов очень хорошо стыкуются друг с другом. Взятые отдельно, ни один из них не выглядит окончательным; но в совокупности они представляются довольно убедительными.
(обратно)533
Эта традиция, хотя и засвидетельствованная только поздними авторами, выглядит более древней, чем рационалистическая версия Геродота (4. 36), согласно которой Абарид несет стрелу (причина этого странного действия не объясняется). Ср. Corssen, Rh. Mus. 67 [1912] 40, и Meuli, loc. cit. 159 f.
(обратно)534
По-видимому, она внутренне присуща бурятскому шаманизму, использующему стрелы для возвращения душ больного, а также на похоронах (Mikhailovski, loc. cit., 128, 135). Шаманы могут прорицать по полету стрелы (ibid., 69, 99); и говорится, что «внешняя душа» у татар иногда находится на стреле (N. К. Chadwick, JRAI 66 [1936] 311). Другие шаманы летают по воздуху на кнуте, подобно ведьмам, летающим на помеле (G. Sandschejew, Anthropos, 23 [1928] 980).
(обратно)535
Hdt. 4. 36.
(обратно)536
О «гиперборейском Аполлоне» ср. Alcaeus, fr.72 Lobel (2 В.); Pindar, Pyth.. 10. 28.; Bacchyl. 3. 58 сл.; Soph. fr. 870 Ν.; Α. Β. Cook, Zeus II. 459 ff. Л. H. Krappe, CPh 37 [1942] 353 ff., с высокой степенью вероятности показал, что происхождение этого бога следует искать в Северной Европе: он ассоциируется с продуктом Севера — янтарем, с северной птицей — лебедем-кликуном; а его «вечный сад» лежит по ту сторону северного ветра (поскольку этимология слова «гиперборейский», вероятнее всего, правильна). По всей видимости, греки, слыша о нем от миссионеров вроде Абарида, отождествили его со своим Аполлоном (возможно, из-за сходства имен, если Краппе прав, предполагая, что этот бог — властитель Абала, «яблочного острова», средневекового Авалона) и узаконили его подлинность, выделив ему место в легендарном храме Делоса (Hdt. 4. 32 сл.).
(обратно)537
Aristeas, frs. 4 и 7 Kinkel; Alföldi, Gnomon, 9 [1933] 517 f. Я могу добавить, что слепые «лебедеподобные девицы» Эсхила, никогда не видевшие солнца (P. V. 794 сл., вероятно, по мотивам Аристея), имеют параллели с «девицами-лебедями» центрально-азиатских поверий: они живут в темноте, и у них глаза из свинца (N. К. Chadwick, loc. cit., 313, 316). Что касается путешествия Аристея, то объяснение Геродота (4. 13) на этот счет весьма туманное, и оно может отражать попытку рационализировать историю (Meuli, 157 f.). У Максима Гирского (38. 3) именно душа Аристея на шаманский манер посещает гипербореев. Однако ряд подробностей, о которых сообщает Геродот (4. 16), предполагает реальное путешествие.
(обратно)538
Hdt. 4. 15. 2; Pliny, Ν. Η. 7. 174. Ср. души-птицы якутов и тунгусов (Holmberg, op. cit., 473, 481), а также птичьи наряды, которые одевают шаманы Сибири во время камланий (Chadwick, Poetry and Prophecy, 58 и pi. 2); и поверье о том, что первые шаманы были птицами (Nioradze, 2). Феномен душ-птиц широко распространен, однако вряд ли о нем знали ранние греки (Nilsson, Gesch. I. 182).
(обратно)539
Soph. El. 62 сл. Тон Софокла рационалистичен, что, возможно, говорит о влиянии его друга — Геродота; несомненно, он имеет в виду истории, похожие на рассказ Геродота о Залмоксисе (4. 95), где рационализируется фракийский шаманизм. Некогда Лаппс полагал, что их шаманы «бродили» после смерти (Mikhailovski, loc. cit., 150 f.), а в 1556 г. английский путешественник Ричард Джонсон видел, как один шаман-самоед «умер», а затем вновь воскрес (Hakluyt, I. 317 f.).
(обратно)540
Η. Diels, «Ueber Epimenides von Kreta», Berl. Sitzb. 1891, I. 387 f. Фрагменты содержатся в: Vorsocr. 3 В. Ср. также Η. Demoulin, Epimenide de Crete (Bibl. de la fac. de Phil, et Lettres Liege, fasc. 12). Скептицизм Виламовица (Hippolytos, 224, 243 f.), по-видимому, напрасен, хотя некоторые из пророчеств Эпименида были, несомненно, измышлены позднее.
(обратно)541
Престиж критских катартаи в архаический век засвидетельствован в легенде о том, что Аполлона после убийства им Пифона очищал Карманор Критский (Paus. 2. 30. 3); ср. также критянина Фалета, изгнавшего чуму из Спарты в VII в. (Pratinas, fr. 8 В.). О критском пещерном культе см. Nilsson, Minoan-Myc. Religion 'г, 458 ff. Эпименида называли νέος Κούρης (Plut. Solon, 12; Diog. L. 1. 115).
(обратно)542
Традиция психических путешествий была, возможно, передана Эпимениду от Аристея; Свида приписывает эту способность каждому из них почти в одинаковых выражениях. Точно так же и посмертное появление Эпименида (Proclus, in Remp. II. 113 Kr.) может быть имитацией подобного факта у Аристея. Но традиция волшебной пищи, пожалуй, более старая, хотя бы только из-за этого непонятного бычьего копыта. Она прослеживается вплоть до Геродора (fr. 1 J.) и датируется Якоби примерно 400 г. до н. э.; кажется, о ней упоминается и в «Законах» Платона (677е). Заманчиво связывать ее: а) с преданием о невероятно долгой жизни Эпименида и б) с фракийским «рецептом бессмертия» (прим. 60 ниже).
(обратно)543
τό δέρμα εύρήσθαι γράμμασι κατύστικτον [«была найдена его кожа, испещренная письменами»], Suidas, s. v. (=Epimenides A 2). Источником может быть спартанский историк Сосибий, ок. 300 г. до н. э. (ср. Diog. L. 1. 115). Свида добавляет, что τό Επιμενίδειον δέρμα [«Эпименидова кожа»] было вошедшим в пословицу обозначением чего-либо скрытого (έπ'ι τών αποθετών). Но я не могу принять любопытную теорию Дильса (op. cit., 399) и Демулена (op. cit., 69) о том, что эта фраза изначально относилась к кальке с рукописи работ Эпименида и была позднее ошибочно понята как относящаяся к его татуированной коже. Ср., напр., Σ Lucian, p. 124 Rabe: έλέγετο γύρ ό Πυθαγόρας έντετυπώσθαι τω δεξίω αύτοΰ μηρώ τόν Φοΐ|)ον [«Говорили ведь, что Пифагор оттиснул на части правой своей руки Феба»]. Является ли это рационализацией таинственного «золотого бедра»? Что было историческим ядром этой легенды — знак сакральной татуировки или естественное родимое пятно?
(обратно)544
раб божий.
(обратно)545
Hdt. 5. 6. 2: τό μέν έστίχθαι ευγενές κέκριται, τό δέ αστικτυν άγεννές [«Татуировка на теле считается у них признаком благородства»]. Фракийский шаман «Залмоксис» имел татуировку на лбу, которую греческие авторы, не понимая ее религиозного значения, объясняли тем, что он был когда-то пленен пиратами, которые и поставили ему клеймо для продажи на рабовладельческом рынке (Dionysophanes apud Porph. vit. Pyrh. 15; Delatte, Politique pyth., 228, совершенно неверно отождествляет воображаемых λησταί [разбойников] с местными антипифагорейскими повстанцами). По греческим вазовым росписям известно, что фракийцы практиковали сакральное татуирование: фракийские менады, которых татуирует фавн, изображены на нескольких вазах (JHS 9 [1888] pi. VI; Р. Wolters, Hermes, 38 [1903] 268; Furtwängler-Reichhold, III, Tafel 178, где некоторых также татуирует змея). О татуировке как о знаке посвящения богу ср. также Hdt. 2. 113 (египтяне), и примеры из разных источников, анализируемые в: Dölger, Sphragis, 41 ff. Татуировку использовали также сарматы и даки (Pliny, Ν. Η. 22. 2), иллирийцы (Strabo 7. 3. 4); Вергилий знает «picti» [изображения] у трансильванских «Agathyrsi» [агатирсов], которых он (Аеп. 4. 146) представляет как поклоняющихся (гиперборейскому Аполлону); татуировка известна и у других балканских и дунайских народов (Cook, Zeus, II. 123). Но сами греки считали, что это αίσχρόνκα'ι ατιμον [отвратительно и презренно] (Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 3. 202; ср. Diels, Vorsocr. 90 [83] 2. 13).
(обратно)546
Frazer, Pausanias, II, 121 ff.
(обратно)547
ерой одноименной новеллы американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга (1783-1859).
(обратно)548
Cp. Rohde, Psyche, chap, ix, n. 117; Halliday, Greek Divination, 91, n. 5; и о долгих снах шаманов — Czaplicka, op. cit., 179. Holmberg, op. cit., 496, приводит случай с шаманом, который оставался «без движения и без сознания» свыше 2-х месяцев в период своего «зова». Ср. и долгое подземное пребывание Залмоксиса (прим. 60 ниже). Дильс полагал (loc. cit., 402), что «долгий сон» изобрели для того, чтобы сгладить хронологические противоречия в различных легендах об Эпимениде. Но если бы это было единственной причиной, долгий сон считался бы обычным явлением в раннегреческой историографии.
(обратно)549
Я пропускаю здесь рискованные спекуляции Мейи о шаманских элементах в греческом эпосе (loc. cit., 164 ff.). О запоздалом греческом вхождении в Черное море и о причине этого см. Rhys Carpenter, AJA 52 [1948] 1 ff.
(обратно)550
Это признавал уже Родэ (Psyche, 301 ff.).
(обратно)551
Proclus, in Remp. II. 122. 22 сл. Kr. (=Clearchus, fr. 7 Wehrli). Этот эпизод, к сожалению, не может считаться достоверным.
(обратно)552
Ar. Met. 984b 19; ср. Diels на Anaxagoras, А 58. Целлер-Нестле (I. 1269, п. 1) был склонен счесть утверждение Аристотеля совершенно безосновательным. Но Iamb. Protrept. 48. 16 (= Ar. fr.61) придерживался мысли, что Анаксагор обращался к авторитету Гермотима.
(обратно)553
Diog. Laert. 1. 114 (Vorsocr. 3 ΑΙ): λέγεται δέ ώς κα'ι πρώτος (πρώτον у Казобона, αυτός у Дильса) αυτόν Αίακόν λέγοι... προποιηθήναί τεπολλάκις άναβεβιωκέναι [«Еще рассказывают, будто он сперва назывался Эаком... и будто притворялся, что воскресал и жил много раз». — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. 1986. Пер. М. Л. Гаспарс-BaJ. Слова αυτόν Αίακόν λέγοι показывают, что άναβεβιωκέναι не может относиться только к психическому опыту, как считал Родэ (Psyche, 331).
(обратно)554
Ar. Rhet. 1418а 24: εκείνος γάρ περί τών έσομένων ουκ έμαντεύετο, άλλά περί τών γεγονότων, άδηλων δέ [«он отгадывал не грядущее, но то, что свершилось, однако, осталось непонятным»]. О различном толковании этого утверждения см. Bouche-Leclercq, Hist, de ία divination, II. 100.
(обратно)555
Η. Diels, loc. cit., 395.
(обратно)556
Apud Diog. Laert. 8. 4. Cp. Rohde, Psyche, App. X, и Delatte, La Vie de Pythagore de Diogene Laefce, 154 ff. В разных версиях список жизней Пифагора варьируется (Dicaearchus, fr. 36 W.).
(обратно)557
Empedocles, fr. 129 D. (Ср. Bidez, La Biographie d'Empedocle, 122 f.; Wilamowitz, «Die Καθαρμοί des Empedocles», Berl. Sitzb. 1929, 651); Xenophanes, fr. 7 D. Я нахожу довольно неубедительной попытку Ратманна опровергнуть обе эти свидетельства (Rathmann, Quaestiones Pythagoreae, Orphicae, Empedocleae [Halle, 1933]). Ксенофан также высмеивал эти бесконечные истории об Эпимениде (fr. 20). Перевод Барнетом фрагмента из Эмпедокла, «хотя он жил десять, даже, наверное, двадцать поколений назад» (EGPh ', 236), исключающий любую отсылку к Пифагору — лингвистически совершенно несостоятелен.
(обратно)558
Mikhailovski, loc. cit. (прим. 30 выше), 85, 133; Sieroszewski, loc. cit., 314; Czaplicka, op. cit., 213, 280. Последняя считает веру в реинкарнацию общей для ряда сибирских народов (130, 136, 287, 290).
(обратно)559
Эак, по-видимому, является древней сакральной фигурой, возможно, минойского происхождения: при жизни он был магическим вызывателем дождя (Isocrat. Evag. 14 и т. д.), а после смерти стал привратником у врат Аида (ps.-Apollod. 3. 12. 6; ср. Eur. Peirithous fr. 591, Ar. Ran. 464 сл.) или даже Судьей мертвых (Plato, Apol. 41а, Gorg. 524а; ср. Isocr. Evag. 15).
(обратно)560
Diog. Laert. 8.4. Ферекид Сиросский говорил, что еще одному аватаре Пифагора, Эталиду, в качестве особой привилегии была дана способность перерождаться (Σ Apoll. Rhod. 1. 645 = Pherecydes fr. 8). Я согласен с Виламовицем (Plato, I. 251, п. 1), что подобные истории — не продукт философского теоретизирования; напротив, философская теория — обобщение этих историй (хотя бы отчасти). О реинкарнации как привилегии, дарованной шаманам, см. Р. Radin, Primitive Religion, 274 f.
(обратно)561
Положение женщин в пифагорейской общине является исключительным для греческого общества классической эпохи. Но уместно заметить, что у многих современных сибирских народов женщины не в меньшей степени, чем мужчины, способны получить статус шамана.
(обратно)562
Hdt. 4. 95. Ср. 4. 93: Γέτας τους άΟανατίζοντας [«геты себя считают бессмертными»]; 5. 4: Γέται οί αθανατίζοντες [«о вере гетов в бессмертие»], и Plato, Charm. 156d: τών Θρακών τών Ζαλμόξιδος ιατρών, οί λέγονται καί άπαϋανατίζειν [«...некоего фракийского врача из учеников Залмоксиса: считается, что врачи эти дают людям бессмертие»]. Эти фразы означают не только то, что геты «верят в бессмертие души», но и что они знают способ, как избежать смерти (Linforth, CPh 13 [1918] 23 ff.). Однако сущность этого способа, который «Залмоксис» обещал показать своим последователям, далеко не ясна. Похоже на то, что информаторы Геродота соединили в одном рассказе несколько разнородных мотивов, а именно: а) мотив земного рая «гиперборейского Аполлона», в который, подобно огейскому Элизиуму, некоторые люди переходили в физическом теле, еще при жизни (αίεί περιεόντες, ср. Bacchyl. 3. 58 сл., и Krappe, CPh 37 [1942] 353 ff.): отсюда и отождествление Залмоксиса с Кроном (Mnaseas, FHG III, fr. 23); ср. Czaplicka, op. cit., 176: «Существуют сказания о шаманах, которые были живыми взяты на небо»; б) мотив исчезнувшего шамана, долгое время скрывающегося в священной пещере: κατάγαιον οίκημα [земное жилище] Геродота и άντρώδές τι χωρίον άβατον τοις άλλοις [«...избрал себе какое-то пещеристое место, недоступное для остальных»] Страбона (7. 3. 5) выглядят рационалистическими версиями пещеры, где обитает вечный άνθρωποδαίμων [богочеловек] (Rhesus, 970 ff., ср. Rohde, Psyche, 279); в) возможно, также и мотив веры в трансмиграцию (Rohde, loc. cit.); ср. недвусмысленное замечание Мелы Помпония о том, что некоторые фракийцы «redituras putant animas obeuntium» [«думают, что души умерших возвратятся»] (2.18), а также Phot., Suid., EM, s. ν. Ζάμολξις; но здесь нет ничего от «душ» в понимании Геродота.
(обратно)563
Геродоту известно, что Залмоксис — даймон (4. 94. 1), но он оставляет открытым вопрос, был ли тот когда-то человеком (96. 2). Страбон (7. 3. 5) склоняется к тому, что Залмоксис был либо героизированным шаманом — все шаманы становятся Üör, героями, после смерти (Sieroszewski, loc. cit., 228) — или же божественным прототипом шаманов (ср. Nock, CR 40 [1926] 185 f., и Meuli, loc. cit., 163). С этим можно сравнить статус, которым, согласно Аристотелю (fr. 192 R.= Iamb. vit. Pyth. 31), пифагорейцы наделяли своего основателя: τοΰ λογικού ζώου τό μέν έστι θεός, τό δέ άνθρωπος, τό δέ οίον Πυθαγόρας [«есть три вида разумных существ — бог, человек и существо, подобное Пифагору»]. Тот факт, что Залмоксис дал свое имя особому типу пения и танца (Hesych. s. v.), пожалуй, подтверждает его связь с шаманскими камланиями. Сходство между легендой о Залмоксисе и легендами об Эпимениде и Аристее правомерно подчеркивал профессор Rhys Carpenter (Folktale, Fiction, and Saga in the Homeric Epics, Sather Classical Lectures, 1946, 132 f., 161 f.), хотя я не могу принять его остроумную идентификацию всех этих трех «шаманов» со спящими медведями (может, тогда и Пифагор был медведем?). Минар, который пытается извлечь историческое зерно из сказаний о Залмоксисе, игнорирует их религиозную подоплеку.
(обратно)564
Ср. Delatte, Etudes sur la litt, pyth., 77 ff.
(обратно)565
О Пифагоре и Абариде — Iamb. oit. Pyth. 90-93, 140, 147; он делает Абарида учеником Пифагора (Suidas, s. ν. Πυθαγόρας, переворачивает это отношение); об инициации — ibid., 146. О пророчествах, билокации и идентичности с гиперборейским Аполлоном — Aristotle, fr. 191 R. (=Vorsocr., Pyth. A 7). О целитель-стве — Aelian, V. Η. 4. 17, Diog. L. 8. 12 и т. д.; о посещении загробного царства — Hierohymys Rhod. apud Diog. 8. 21, ср. 41. Против мнения о том, что вся легенда о Пифагоре может рассматриваться как изобретение поздних сочинителей см. О. Weinreich, NJbb 1926, 638 и Gigon, Ursprung d. gr. Philosophie, 131; об иррациональном характере большинства раннепифагорейских идей — L. Robin, La Pensee hellinique, 31 ff. Я, конечно, не считаю, что пифагорейство можно всецело выводить из шаманизма; другие, не шаманские элементы, например мистика числа, спекуляции на тему космической гармонии, были в этом учении изначально не менее важны.
(обратно)566
Как замечает Рейнхардт, все самые ранние свидетельства о Пифагоре — у Ксенофана, Гераклита, Эмпедокла, Иона (к ним можно добавить и Геродота) «опираются на народную традицию, которая видела в нем своего рода Альберта Великого» (Parmenides, 236). Ср. I. Levy, Recherches sur les sources de la legende de Pythagore, 6 ff., 19.
(обратно)567
Магия ветра восходит к «Тимею» (fr. 94 М.= Diog. L. 8. 60); другие истории — к Гераклиду Понтийскому (fr. 72, 75, 76 Voss = Diog. L. 8. 60 сл., 67 сл.). Bidez в La Biographie d'Empedocle, 35 ff. убедительно показал, что легенда о телесном перемещении Эмпедокла древнее легенды о его смерти в кратере Этны, и что она не была изобретена Гераклидом. Подобным образом и сибирская традиция считает, что великие шаманы прошлого переходили в мир иной еще при жизни (Czaplicka, 176) и что они могли возвращать умерших к жизни (Nioradze, 102).
(обратно)568
Fr». 111. 3, 9; 112. 4.
(обратно)569
Fr. 112, 7 сл. Ср. Bidez, op. cit., 135 ff.
(обратно)570
Первого мнения придерживался Бидез (op. cit., 159 ff.) и Kranz в: Hermes, 70 [1935] 115 ff.; второго — Wilamowitz (Bert. Sitzb. 1898, i. 39 ff.) и другие. Против обоих взглядов см.: W. Nestle, Philol. 65 [1906] 545 ff., A. Dies, Le Cycle mystique, 87 ff., Weinreich, NJbb 1926, 641 и Cornford, CAB IV. 568 f. Попытки Барнета и других различать в более позднем поколении пифагорейцев «научных» и «религиозных» представителей иллюстрирует знакомую тенденцию к наложению современных дихотомий на мир, который еще не ощущал потребности различать «науку» и «религию».
(обратно)571
Это толкование Карстена было принято Барнетом и Виламовицем. Но см., contra, Bidez, op. cit., 166, и Nestle, loc. cit., 549, n. 14.
(обратно)572
Ввиду подобных пассажей определение Виламовицем поэмы «О природе» как «durchaus materialistische» [«совершенно материалистической»] (loc. cit., 651) решительно неверно, хотя, несомненно, Эмпедокл, как и другие люди его времени, мыслил психические силы как вполне материальные.
(обратно)573
Jaeger, Theology, 132.
(обратно)574
Ср. Rohde, Psyche, 378. О широком диапазоне шаманских функций см. Chadwick, Growth of Literature, I. 637 ff., и Poetry and Prophecy, chaps. I и III. Гомеровское общество здесь более продвинуто: мантис [прорицатель], иэтрос [врач], аойдос [поэт] — это представители отдельных профессий. Архаические греческие шаманы были пережитком более старого типа.
(обратно)575
Более позднее предание, подчеркивая сокровенный характер учения Пифагора, отрицало, что он имел письменные труды; ср., однако, Gigon, Unters, ζ. Heraklit, 126. По всей видимости, в V в. не было столь установившейся традиции, поскольку еще Ион Хиосский мог считать Пифагора автором орфических поэм.
(обратно)576
Ср. W. К. С. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, chap. iii.
(обратно)577
Chadwick, J RAI 66 [1936] 300. Современные шаманы лишены этой способности; однако при камлании они продолжают окружать себя деревянными фигурками птиц и зверей или их чучелами — для того, чтобы снискать покровительство духов-помощников (Meuli, loc. cit., 147); они также подражают крикам этих помощников (Mikhailovski, loc. cit., 74, 94). Похожее представление появляется и в легенде о Пифагоре, который, «как говорили, приручил орла с помощью криков, которые тот издает в полете, тем самым управляя его движением и при необходимости призывая его вниз» (Plut. Numa, 8); это можно сравнить с верой, распространенной в бассейне Енисея: «орлы — это помощники шамана» (Nioradze, op. cit., 70). Он приручает и другое животное, чрезвычайно важное в северном шаманизме, — медведя (Iamb. Vit. Pyth. 69).
(обратно)578
Chadwick, ibid., 305 (подземное путешествие Кан Мергеня в поисках сестры), и Poetry and Prophecy, 93; Mikhailovski, 63, 69; Czaplicka, 260, 269; Meuli, 149.
(обратно)579
Cp. Guthrie, op. cit., 35 ff.
(обратно)580
Напр., прорицающая голова Мимира в «Саге об Инглингах», гл. iv и vii. В Ирландии «говорящие головы были широко засвидетельствованным в литературе феноменом с более чем тысячелетней историей» (G. L. Kittredge, A Study of Gawain and the Green Knight, 177, где приводятся многочисленные примеры). Ср. также W. Deonna, REG 38 [1925] 44 ff.
(обратно)581
Wilamowitz, Glaube, II. 193 ff. [1932]; Festugiere, Revue Biblique 44 [1935] 372 ff.; REG 49 [1936] 306 ff.; H. W. Thomas, Έπέκεινα [1938]; Ivan M. Linforth, The Arts of Orpheus [1941]. Интеллектуальная контратака на этот «реакционный» скептицизм была предпринята в 1942 г. Циглером (представляющим старую гвардию пан-орфистов), в статье из сборника справочного характера (P.-W., s. v. «Orphische Dichtung»). Познакомившись с его выпадами, весьма прозрачно направленными в адрес ближайшего соперника — Томаса, — я не сумел почувствовать, что Циглер развеял мои сомнения в тех основаниях, на которых покоится традиционное понимание «орфизма», даже если оно, в уже изрядно модифицированной форме, представлено такими осторожными авторами, как Нильссон («Early Orphism», Harv. Theol. Rev. 28 [1935]) и Гатри.
(обратно)582
См., contra, Wilamowitz, II. 199. К его заключению, что ни один автор классической эпохи не говорит об орфиках, можно добавить, что выдержка из Геродота (2. 81) была бы здесь возможным исключением лишь в том случае, если принять «краткий текст» (чтение АБС) в обсуждаемом пассаже. Но случайность оплошности в тексте, предшествующем АБС, вызванная homoioteleuton [одинаковыми окончаниями] и ведущая к последующему изменению в числе глагола, кажется мне более вероятным объяснением, чем интерполяция в RSV; и мне трудно усомниться в том, что выбор слова οργίων в следующем предложении определялся словом Βακχικοΐσι в «расширенном тексте». Ср. Nock, Studies to F. LI. Griffith, 248, и Boyance, Culte des Muses, 94, n. 1.
(обратно)583
См., contra, Bidez, op. cit., 141 ff. Я считаю, что обоснованнее связывать Эмпедокла с пифагорейской традицией (Bidez, 122 f.; Wilamowitz, Berl. Sitzb. 1929, 655; Thomas, 115 ff.), чем с ранним орфизмом (Керн, Кранц и другие). Но возможно, вообще ошибочно рассматривать его как представителя какой-либо «школы»: он был независимым шаманом, имевшим собственный взгляд на вещи.
(обратно)584
В Hypsipile, fr. 31 Hunt (=Kern, О. F. 2) достаточно абстрактное прилагательное πρωτόγονος [первостепенный] не доказывает связи с более старой орфической литературой, тогда как термины "Ερως и Νύξ были, видимо, привнесены впоследствии. И трагедия Cretans (fr. 472) тоже не показывает связи с орфизмом (Festugiere, REG 49. 309.).
(обратно)585
См., contra, Thomas, 43 f.
(обратно)586
См., contra, Wilamowitz, II. 202 f.; Festugiere, Rev. Bibl. 44. 381 f.; Thomas, 134 ff.
(обратно)587
To, что эта гипотеза и поверхностна, и внутренне противоречива, постоянно утверждается в книге Томаса.
(обратно)588
См., contra, Linforth, 56 ff.; D. W. Lucas, «Hippolytus», CQ 40 [1946] 65 ff. К этому можно добавить, что пифагорейская традиция ставила и охотников, и мясников в разряд нечистых людей (Eudoxus, fr. 36 Gisinger= Porph. Vit. Pyth. 7). Орфический взгляд на них едва ли слишком отличался от пифагорейского.
(обратно)589
Это стародавнее заблуждение всплывает в последние годы снова и снова: см. R. Harder, Ueber Ciceros Somnium Scipionis, 121, η. 4; Wilamowitz, II. 199; Thomas, 51 f.; Linforth, 147 f. Поскольку, однако, ее повторяют ученые высшего ранга, стоит сказать еще раз, что: а) то, что приписывается Платоном (Crat. 400с), oi άμφ' Όρφέα [«кому-то из орфиков»], есть выведение σώμα (τοϋτο τό όνομα) из σώζειν ϊνα σώζηται (ή ψυχή) [«тело, т. е. место, где "хранится" душа»]: это, без сомнения, оправдывается словами και ουδέν δεΐν παράγειν ούδ' έν γράμμα [«и не надо изменять ни одну букву»]; б) что солга—сема атрибутируется в том же пассаже τινές, без дальнейших уточнений; в) что когда автор говорит: «Некоторые считают родственными слова сома и сема, но я думаю, что, верно, это орфические поэты создали новое слово, произведя его из σώζω», у нас нет оснований предполагать, что «орфические поэты» идентичны с этими «некоторыми» или включают их в себя. Я склонен думать, что так правильнее, даже если μάλιστα [наиболее] понимается как квалифицирующая ο>ςδίκην διδούσης κτλ [совершение суда].
(обратно)590
Как считает Д. У. Лукас, «современный читатель, сбитый с толку, обескураженный кажущейся незрелостью традиционной греческой религии, склонен повсюду выискивать признаки орфизма и не хочет верить, будто греки думали иначе». Ср. также Jaeger, Theology, 61. Подозреваю, что об «исторической орфической церкви» в том виде, в каком она появляется, напр., в «Постижении истории» Тойнби (V. 84 ff.), будут когда-нибудь говорить как об образце исторического миража, возникающем тогда, когда люди, не сознавая этого, проецируют свои заботы в отдаленное прошлое.
(обратно)591
Festugiere, REG 49. 307; Linforth, xii f.
(обратно)592
Параллели между Платоном или Эмпедоклом и их поздними компиляторами, на мой взгляд, не дают такой гарантии, если в каждом конкретном случае мы не можем исключить возможность того, что компилятор позаимствовал данную фразу или идею от этих признанных мастеров мистической мысли.
(обратно)593
По-видимому, среди скептиков можно назвать Геродота, Иона из Хиоса и Эпигена, а также Аристотеля: см. блестящее исследование о них у Линфорта (155 ff.).
(обратно)594
Rep. 364е. Этимология и использование слова омадос предполагает, что Платон подразумевал не столько хаотический шум неразборчивого бормотания, сколько беспорядочный гул множества книг, каждая из которых предлагает собственный взгляд на мир: нужен более чем один элемент, чтобы составился омадос. Фраза Еврипида πολλών γραμμάτων καπνούς [«призрачное многознание»] (Hipp. 954) тоже подчеркивает множественность орфических свидетельств, равно как и их несерьезность. Постулирование единого орфического «учения» в классическую эпоху является анахронизмом, как указывает Йегер (Theology, 62).
(обратно)595
Plato, Crat. 400с; Eur. Hipp. 952 сл. (ср. Ar. Ran. 1032, Plato, Laws 782c); Plato, Rep. 364f-365a).
(обратно)596
Кажется, в этом пункте прав Циглер (loc. cit., 1380), а не сверхскептический Томас. Слова Аристотеля в трактате de anima 410b 19 (— О. F. 27), далекие от того, чтобы исключить трансмиграцию из списка орфических положений, в каком-то смысле подтверждают этот вывод, показывая, что некоторые писатели-орфики верили по крайней мере в автономное предсуществование души.
(обратно)597
Пифагорейцы изображены в Средней комедии исповедующими строгое вегетарианство (Antiphanes, fr. 135 К., Aristophan, fr. 9 и другие), а то и живущими лишь на хлебе да воде (Alexis, fr. 221). Но этот пифагорейский обычай имел разнообразные формы; древнейшие из них, вероятно, запрещали употреблять в пищу лишь некоторых «священных» животных или отдельные части этих животных (Nilsson, Early Orphism, 206 f.; Delatte, Etudes sur la litt, pyth., 289 ff.). Идея σώμαφρουρά была приписана Клеархом (fr. 38 W.) реальному (или легендарному) пифагорейцу по имени Эвхит. (Платон в Phaedo 62b, по-моему, не поддерживает мнения, что этому учил Филолай; и я мало верю в «Philolaus», fr. 15.) О пифагорейском катарсисе см. прим. 119 ниже, и о близком сходстве между ран-непифагорейскими и раннеорфическими идеями — Е. Frank, Piaton и. d. sogenannten Pythagoreer, 67 ff., 356 ff., и Guthrie, op. cit., 216 ff. Самые важные расхождения касаются не учений, а культа (Аполлон — центральная фигура для пифагорейцев, Дионис же, видимо, — для орфиков), а также того факта, что орфическая мысль остановилась на мифологическом уровне, тогда как пифагорейство с первых шагов своей истории пыталось выразить этот строй мысли в более или менее рациональных терминах.
(обратно)598
Diog. L. 8. 8 (=Kern, Test. 248); Clem. Alex. Strom. 1. 21, 131 (=Test. 222). Мне трудно согласиться с Линфортом, который идентифицирует этого Эпигена с одним малоизвестным членом сократовского окружения (op. cit., 115 f.); факт определенных лингвистических интересов, приписываемых ему Климентом (ibid., 5. 8, 49 = О. F. 33) и Афинеем (486с), твердо отстаивает и александрийская школа. Но в любом случае Эпиген был человеком, специально изучавшим орфическую поэзию, и ввиду скудности нашей информации кажется неосторожным игнорировать его взгляды в столь радикальной манере, как это делает Делатт (op. cit., 4 f.). Мы не знаем, на чем основывались его конкретные утверждения; но для вывода о том, что ранние пифагорейцы приложили руку к формированию орфизма, он мог опираться на авторитетных писателей V в. — не только на Иона Хиосского, но также, я думаю, и на Геродота, если я правильно понимаю известное предложение из 2. 81, гласящее: «Эти египетские обычаи совпадают с обычаями, называемыми орфическими и дионисийскими, которые в реальности возникли в Египте и (часть которых) была принесена из этой страны Пифагором». Поскольку Геродот в другом месте (2. 49) писал, что бакхика принесена Мелампом, то обычаи, внедренные Пифагором, прежде всего относились к орфикам. Ср. 2. 123, где он говорит, что знает, но не назовет имена плагиаторов, которые позаимствовали учение о трансмиграции из Египта, но заявили, что сами изобрели его.
(обратно)599
Нечто похожее произошло и в Индии, где вера в перевоплощение тоже возникает относительно поздно и, по-видимому, не является ни изобретением, ни частью верований индоевропейских пришельцев. W. Ruben (Acta Orientalia 17 [1939] 164 ff.) находит ее истоки в контактах ариев с шаманской культурой Центральной Азии. Интересно, что в Индии, как и в Греции, теория реинкарнации и истолкование сновидения как психического путешествия впервые появляются именно вместе (Брихадараньяка-упанишада, 3. 3 и 4. 3; ср. Ruben, loc. cit., 200). Скорее всего, они были элементами одного и того же образа веры. Если это так, если шаманизм — источник последнего из этих двух элементов, то он, возможно, источник их обоих.
(обратно)600
Rohde, Orpheus, Kl. Schriften, II. 306.
(обратно)601
Eranos, 39 [1941] 12. См., contra, Gigon, Ursprung, 133 f.
(обратно)602
Heraclit. fr. 88 D.; cp. Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 3. 230 (цит. ниже, прим. 109); Plato, Phaedo 70c-72d («аргумент от ύνταπόδοσις» [воздаяния]).
(обратно)603
служанка веры.
(обратно)604
«Эта вера в переселение или перевоплощение душ встречается у многих диких племен» — Frazer, The Belief in Immortality, I. 29. «Вера в нечто похожее на перевоплощение широко распространена во всех первобытных культурах собирателей и охотников» — P. Radin, Primitive Religion, 270.
(обратно)605
Ср. Plato, Phaedo 69c, Rep. 363d и др., и о пифагорейской вере в Тартар — Arist. Anal. Post. 94b 33 (= Vorsocr. 58 С 1). Поэма «Путешествие в подземный мир» находится в числе тех поэм, которые Эпиген приписывает пифагорейцу Керкопсу. Образ зловонной преисподней обычно называется «орфическим» на основании не очень веского свидетельства Олимпиодора (in Phaed. 48. 20 Ν). Аристид (orat. 22. 10 К. [p. 421 Dind.]) считает этот образ элевсинским (ср. Diog. L. 4. 39). Платон (Rep. 363d; Phaedo 69с) высказывается на данную тему довольно неясно. Подозреваю, что перед нами — архаичное понятие, возникшее на основе народной веры в сущностное единство духа и мертвого тела, веры, впоследствии соединившей Аид с могилой: этапы развития этого понятия можно проследить по гомеровскому Άΐδεω δόμον εύρώεντα [«Аидова мглистая область»] (Od. 10. 512; ср. Soph. А]. 1166: τάφον εύρώεντα [сырую могилу]); λάμπα или λάπα [факел] Эсхила (Eum. 387; ср. Blass ad loc); и βόρβορον πολύν καί σκώρ άείνων [«непролазная грязища там и смрад»] Аристофана (Ran. 145). На некоторой ступени своего развития оно трактовалось как достойное наказание для непосвященного или «нечистого» (τών ακαθάρτων [порочные]); оно могло происходить из Элевсинских мистерий или от орфиков.
(обратно)606
На вопрос: τί άληθέστατον λέγεται старый пифагорейский катехизис отвечал: ότι πονηροί οί άνθρωποι [«Какое высказывание можно считать самым правдивым?» — «Что люди злы»]. (Iamb. Vit. Pyth. 82= Vorsocr. 45 С 4).
(обратно)607
Laws 872de. Ср. пифагорейский взгляд на справедливость — Arist. Ε. N. 1132b 21 сл.
(обратно)608
γνώσει δ' ανθρώπους αυθαίρετα πήματ' έχοντας [«ты узнаешь людей, добровольно принявших страдания»], цитируется как пифагорейское изречение Хрисиппом apud Aul. Gell. 7. 2. 12. Ср. Delatte, op. cit., 25.
(обратно)609
См. выше, гл. II.
(обратно)610
Против приписывания Барнетом платоновского анамнесиса пифагорейцам (Thales to Plato, 43) см. L. Robin, «Sur la doctrine de la reminiscence», REG 32 [1919] 451 ff. (= La Pensee hellenique, 337 ff.), и Thomas, 78 f. О пифагорейском способе развития памяти см. Diod. 10. 5 и Iamb. vit. Pyth. 164 сл. Эти авторы связывают его с попыткой восстановить память о прошлых жизнях, но резонно предположить, что изначально это было основной целью. Анамнесис в этом случае есть исключительный подвиг, достижимый только через особый дар или особые упражнения; в Индии это достижение до сих пор оценивается очень высоко. Возможно, веру в возможность познания прошлых существований сформировала любопытная психологическая иллюзия дежа ею, которой подвержены некоторые субъекты.
(обратно)611
Iamb. vit. Pyth. 85 (=Vorsocr. 58C 4). Ср. Crantor apud [Plut]. cons, ad Apoll. 27, 115b, который приписывает «многим мудрым мужам» мнение о том, что человеческая жизнь есть тимопия [наказание]; и Arist. fr. 60, где тот же взгляд приписан οι τάς τελετάς λέγοντες [«говорящим о таинствах»] (орфическим поэтам?).
(обратно)612
Heraclit. frs. 62, 88; ср. Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 3. 230: όδέ Ηράκλειτος φησιν οτι και τό ζην και τό άποθανεΐν και έν τω ζην ήμΰς 'εσμα καϊ έν τφ τεΟνάναι ότε μέν γάρ ήμεϊς ζώμεν, τάς ψυχάς ήμάν τεθνάναι καϊ έν ήμΐν τεΟάφθαι, ότε δέ ήμεΐς άποθνήσκομεν, τάς ψυχάς άναβιοΰν και ζην [«Гераклит же говорит, что и жизнь, и смерть существуют и тогда, когда мы умерли, ибо, когда мы живем, мертвы наши души, схоронены в нас; когда же мы умираем, оживают и живут души»], и Philo, Leg. alleg. 1. 108. Цитата из Секста, несомненно, не verbatim [неточна]; но, пожалуй, неосторожно совершенно не принимать ее в расчет, как делают иные, на основании ее «пифагорейского языка». О подобном взгляде, поддерживаемом Эмпедоклом, см. ниже, прим. 114; о дальнейшем развитии этого стиля мышления — Cumont, Rev. de Phil. 44 [1920] 230 ff.
(обратно)613
Ar. Ran. 420: έν τοις άνω νεκροΐσι [«А ныне в царстве вышнем у мертвых»], и пародия на Еврипида (ibid., 1477 сл.). (Ср. 1082: καίφασκούσαςούτόζήν [*и заявив, что не живет»], где эта доктрина представлена как кульминация перверсивности.)
(обратно)614
Pherecydes, А 5 Diels. О двух душах у Эмпедокла см. Gomperz, Greek Thinkers, I. 248 ff.; Rostagni, Il Verba di Pitagora, chap, vi; Wilamowitz, Berl. Sitzb. 1929, 658 ff.; Delatte. Enthousiasme, 27. Неспособность отличить псюхе от даймона привела разных ученых к обнаружению воображаемого противоречия между «Очищениями» и поэмой «О природе» в вопросе о бессмертии. Кажущиеся противоречия по тому же вопросу во фрагменте Алкмеона истолковываются в том же духе (Rostagni, loc. cit.). Другой взгляд на неизменное «сокровенное» «я», приписываемый Аристотелем «некоторым пифагорейцам» (de anima 404а 17), представлял «я» как крошечную материальную частицу (ξύσμα); подобная мысль имеет много параллелей со взглядами ранних обществ. Это весьма отличается от дыхания-души, принципа жизни на обычном эмпирическом уровне. Понятие множественности «душ», возможно, тоже происходит из шаманской традиции: большинство сибирских народов и сегодня верит в две или более душ (Czaplicka, op. cit., chap. xiii). Но, как сказал Нильссон, «плюралистическое представление о душе соответствует природе вещей, и лишь в силу привычки думать иначе мы можем удивляться, что человек может иметь несколько "душ"» (Harv. Theol. Rev. 42 [1949] 89).
(обратно)615
Empedocles, A 85 (Aetius, 5. 25. 4), cp. frs. 9-12. Возвращение псюхе или пневмы в огненный эфир: Eur. Supp. 533, fr. 971, и эпитафия в Потидее (Kaibel, Erigr. gr. 21). Эта мысль, вероятно, основывается на той простой идее, что псюхе есть дыхание или теплый воздух (Anaximenes, fr. 2), который, освобождаясь после смерти человека, в силу своей природы устремляется вверх, в атмосферу (Emped. fr. 2. 4: καπνοΐο δίκην άρΟέντες [«уверовав, (исчезают), подобно дыму» |).
(обратно)616
Похожий парадокс атрибутируется Климентом Гераклиту (Paedag. 3. 2. 1). Но что отсутствует во фрагментах Гераклита, так это Эмпедоклова озабоченность виной. Подобно Гомеру, он более интересуется тиме (fr. 24).
(обратно)617
Мнение Родэ о том, что «незнакомое место» (fr. 118) и «луг ате* (fr. 121) суть просто мир людей, поддерживается древними свидетельствами, и мне оно кажется наверняка правильным. Это оспаривалось Маассом и Виламовицем, но принималось Биньоном (Bignone, Empedocle, 492), Кранцем (Kranz, Hermes 70 [1935] 114, п. 1) и Йегером (Jaeger, Theology, 148 f., 238).
(обратно)618
Богатство образов в «Очищениях» было по праву оценено Йегером (Theology, chap, viii, особенно 147 f.). Эмпедокл был настоящим поэтом, а не философом, выражавшемся в стихах.
(обратно)619
Некоторые катарсические практики известны у сибирских шаманов (Radloff, op. cit., II. 52 ff); так что роль катарсиса могла бы быть вполне естественной для греческих подражателей Эмпедокла.
(обратно)620
О. F., 32 (с) и (d).
(обратно)621
Rep. 364е: διά Ουσιών και παιδιΰς ηδονών [«через жертвоприношения и детские забавы»]. Эмпедокл (fr. 143) предписывает умывание из бронзового сосуда водой, собранной из пяти источников, — что напоминает «пустое предписание», предложенное неким оратором у Менандра (fr. 530. 22 К.): άπό κρουνών τριών ΰδατι περιρράναι [«от трех источников водицей окроплен»], и катарсис, который практикуют бурятские шаманы при помощи воды, налитой из трех источников (Mikhailovski, loc. cit., 87).
(обратно)622
Aristoxenus, fr. 26, и примечание Верли; Iamb. vit. Pyth. 64 сл., 110-114, 163 сл. Музыка часто используется современными шаманами для вызывания или изгнания духов — это «язык духов» (Chadwick, JRAI 66 [1936] 297). Допустимо предположить, что пифагорейское употребление этого языка происходит, хотя бы отчасти, из шаманской традиции: ср. эподаи, с помощью которых фракийские последователи Залмоксиса, говорят, «исцеляют душу» (Plato, Charm. 156d-157a).
(обратно)623
Empedocles, fr. 117.
(обратно)624
Ar. Ran. 1032 (ср. Linforth, 70); Eudoxus apud Porph. vit. Pyth. 7. Вегетарианство связывается с критскими мистериальными культами Еврипидом (fr. 472) и Феофрастом (apud Porph. de abst. 2. 21), и вполне возможно, что критский вегетарианец Эпименид сыграл определенную роль в его распространении. Однако другая разновидность этой пифагорейской традиции, которая запрещала только потребление в пищу некоторых «священных» животных, таких как белый петух, видимо, происходит из шаманизма, поскольку и сегодня «животных, и особенно птиц, играющих какую-то роль в шаманских верованиях, нельзя убить или даже просто тронуть» (Holmberg, op. cit., 500), хотя полное запрещение поедания мяса зафиксировано только у некоторых бурятских родов (ibid., 499).
(обратно)625
«Молчит как пифагореец» — поговорка, идущая от Исократа (2. 29). Ямвлих говорит о пятилетнем полном молчании для неофитов (vit. Pyth. 68, 72), но это, вероятно, позднее преувеличение. О половом воздержании — Aristoxen. fr. 29 W.; Iamb. Vit. Pyth. 132, 209 сл.; о вреде сексуальных отношений — Diog. L. 8. 9; Diod. 10. 9. 3 сл.; Plut. О. Сопи. 3. 6. 3, 654b. В современном сибирском шаманизме целибат не обязателен. Но стоит отметить, что, согласно Посидонию, целибат практиковали некоторые святые мужи (шаманы?) у фракийских гетов (Strabo, 7. 3. 3 сл.).
(обратно)626
Ипполит (Ref. haer. 7. 30= Empedocl. В 110) обвиняет Маркиона в том, что тот соперничает с Эмпедоклом в стремлении отвергнуть брак: διαιρεί γάρ ό γάμος κατά Εμπεδοκλέα τό εν καί ποιεί πολλά [«ведь брак, по Эмпедоклу, разрушает, и единое делает многим»]. Это отвергание объясняется Ипполитом через приписывание Эмпедоклу утверждения (ibid., 7. 29 = Emp. В 115) о том, что половой контакт помогает разрушительной силе Раздора. Неясно, однако, насколько далеко заходил Эмпедокл в этой самоубийственной для людей проповеди.
(обратно)627
Hippodamas apud Iamb. vit. Pyth. 82.
(обратно)628
Paus. 8. 37. 5 (= Kern, Test. 194).
(обратно)629
Wilamowitz, Glaube, II. 193, 378 f.
(обратно)630
Особенно Festugiere, Rev. Bibl. 44 [1935] 372 ff., и REG 49 [1936] 308 f. С другой стороны, древность мифа поддерживается — хотя и не всегда на бесспорных основаниях — Guthrie (107 ff.), Nilsson («Early Orphism», 202), и Boyance («Remarques sur le salut selon l'Orphism», REA 43 [1941] 166). Самый полный и обстоятельный обзор источников — у Линфорта (op. cit., chap. ν). Он в целом склоняется к более ранней датировке, хотя его выводы в некоторых других отношениях отрицают ее.
(обратно)631
О возможном значении атрибуции этого мифа Ономакриту см. Wilamowitz, Glaube II. 379, η. 1; Boyance, Culte des Muses, 19 f.; Linforth, 350 ff. Я также колеблюсь в оценке находок из фиванского Кабириона (Guthrie, 123 ff.), которые как свидетельства впечатляли бы в большей степени, если бы ничто не связывало их напрямую с титанами или с обрядом спарагмос. Не помогает нам и остроумное обнаружение S. Reinach (Rev. Arch. 1919, i. 162 ff.) аллюзии на миф в одной из «дополнительных» Аристотелевых προβλήματα (Didot Aristotle, IV. 331. 15), пока дата этой проблемы остается неясной; свидетельства Athen. 656ab недостаточно для доказательства того, что проблема была известна Филохору.
(обратно)632
См. прил. I, с. 401 сл., и о связи между ритуалом и мифом — Nilsson, «Early Orphism», 203 f. Тем, кто, подобно Виламовицу, отрицает, что более ранние орфики могли иметь какую-либо связь с дионисийством, приходится исхищряться в толковании свидетельства Геродота (2. 81) или же элиминировать его, принимая менее возможное, с точки зрения транскрипции, чтение.
(обратно)633
Pindar, fr. 127 В. (133 S.) - Plato, Meno 81bc. Это истолкование предложено Tannery, Rev. de Phil. 23, 126 f. Факты в его пользу убедительно приведены Роузом в Greek Poetry and Life: Essays Presented to Gilbert Murray, 79 ff. (ср. также его примечания в Harv. Theol. Rev. 36 [1943] 247 ff.).
(обратно)634
Plato, Laws 701c. Мысль его, к несчастью, эллиптична, а синтаксис неразборчив; но все трактовки, которые утверждают, что τήν λεγομένην πάλαιαν Τιτανικήν φύσιν [«так называемая древняя титаническая природа»] относится только к войне титанов с богами, по-моему, нарушают смысл фразы έπί τά αυτά πάλιν εκείνα άφικομένους [«вновь возвращаются к прежнему состоянию»] (или άφικομένοις, Schanz), которая не относится непосредственно к титанам; не больше смысла (ввиду πάλιν) возникает, если отнести ее к людям как порожденным титанами. На возражение Линфорта (op. cit., 344), что Платон говорит только о выродках, тогда как миф сделал Титанике фюсис неотъемлемой частью всей человеческой природы, можно с уверенностью ответить, что в то время как все люди имеют в себе природу титанов, только выродки «одобряют их и стремятся превзойти» (έπιδεικνΰσι подразумевает, что они гордятся своей титаничностью, если μιμουμένοις означает, что они следуют примеру своих мифических предшественников).
(обратно)635
Ibid., 854b: человеку, который мучается святотатственными стремлениями, нужно сказать: ώ θαυμάσιε, ούκ άνθρώπινόν σε κακόν ουδέ θείον κινεί τό νϋν έπ'ι τήν ίεροσυλίαν προτρέπον ίέναι, οίστρος δέ σέ τις έμφυάμενος έκ παλαιών και ακαθάρτων τοις άνθρώποις αδικημάτων, περιφερόμενοςάλιτηριώόης [«...Странный ты человек, это не человеческое и не божественное зло побуждает тебя идти теперь на святотатство; нет, это какое-то жало, внедрившееся в людей из-за старых, не искупленных очищением проступков; оно-то губит и терзает тебя; его надо всеми силами остерегаться»]. Адикемата обычно мыслились как преступления, которые совершал кто-то из ближайших предшественников данного человека (так и в Англии, и в других местах) или сам человек в своем предыдущем воплощении (Wilamowitz, Platon, I. 697). Но: а) если подобный искус возникает каким-то образом из прошлых человеческих деяний, почему он называется ούκ ανθρώπινου κακόν? б) почему этот искус непременно является побуждением к святотатству? в) почему изначальные действия являются ακάθαρτα τοις άνθρώποις (эти слова обычно берутся вместе, да это и должно быть так, поскольку они, очевидно, подготавливают совет, который звучит в следующем предложении — искать искупления у богов)? Не могу не согласиться с выводом (который нахожу верным, хотя он и достигнут по другим основаниям, см. Rathmann, Quast. Pyth., 67) о том, что Платон думает, что титаны, опутывая своими непрестанными иррациональными побуждениями (οίστρος) несчастного человека, искушают его совершать кощунство. Ср. Plut. de esu earn. 1, 996c: τό γάρ έν ήμϊν άλογον και άτακτον και βίαιον ού θείον <όν> αλλά δαιμονικόν, oi παλαιοί Τιτάνας ώνόμασαν [«ведь неразумное, беспорядочное и вынуждаемое у нас не принадлежит божеству, но даймону, а древние отождествляли его с титанами»] (что, видимо, происходит от Ксенократа); и об ойстросе, вытекающем из неблагоприятной наследственности человека — Olymp, in Phaed. 87. 13 ff. Ν. (= О. F. 232).
(обратно)636
Olymp, in Phaed. 84. 22 сл.: ή φρουρά... ώς Βενοκράτης. Τιτανική έστιν και εις Διόνυσον άποκορυφοΰται [«по Ксенократу, это страна титанов против Дионисова возвышения»] (= Xenocrates, fr. 20). Ср. Heinze ad loc; Ε. Frank, Platon и. d. sog. Pythagoreer, 246; и более осторожные взгляды Линфорта (337 ff.).
(обратно)637
Нужно признать, вслед за Линфортом, что никто из более старых авторов эксплицитно не отождествляет божественное в человеке с Дионисом. Однако я думаю, можно доказать, что это отождествление не является (как уверяет Линфорт, 330) ни изобретением Олимпиодора (in Phaed. 3. 2 ff.), ни (как логично предположить) его источника, Порфирия (ср. Olymp, ibid., 85. 3). а) Оно появляется у Олимпиодора не просто как «упорное стремление объяснить неясное место у Платона» (Linforth, 359), но как мифологическое объяснение нравственного конфликта и искупления человека, in Phaed. 87. 1 сл.: τόνέν ήμϊν Διόνυσον διασπώμεν... ούτω δ' έχοντες Τιτάνες έσμεν' όταν δέ εις εκείνο συμβώμεν, Διόνυσοι γινόμεθα τετελειωμένοι. [«Дионис разорван в нас... имея (его) внутри себя, мы становимся титанами; когда мы знаем это, то становимся Дионисами простым посвящением»]. Когда Линфорт утверждает (360), что связь этих идей с мифом о титанах «не поддерживается Олимпиодором и является просто беспочвенным утверждением современных ученых», он, по-видимому, не обратил внимания на это место, б) Ямвлих говорит о прежних пифагорейцах (ιηί. Pyth. 240): παρήγγελλον γαρ θαμά άλλήλοις μή διασπάν τόν έν έαντοΐς θεόν [«ибо они часто призывали не разрушать в себе бога»]. Несомненно, Ямвлих имеет в виду ту же доктрину, что и Олимпиодор (использование глагола διασπάν делает доказательство достаточно веским). Мы не знаем, каким источником он пользовался; но даже Ямвлих едва ли мог считать старопифагорейским сюмболон то, что было изобретено Порфирием. Реальную датировку этого отождествления трудно определить в точности; но резонно предположить, что Порфирий обнаружил его у Ксенократа, равно как и миф о титанах. Если это так, Платон едва ли мог не знать о нем. Но у Платона имелись свои соображения не использовать этот элемент мифа: да, он мог отождествить иррациональные импульсы с титанами, но уравнять божественное в человеке с Дионисом — это претило его рационалистической философии.
(обратно)638
Keith, Rel. and Phil, of Veda and Upanishads, 579.
(обратно)639
Murray G. Greek Studies, 66 f.
(обратно)640
беспорядочное скопление.
(обратно)641
замещение.
(обратно)642
Гл. II, с. 65-68.
(обратно)643
Этот момент усиленно подчеркивал (может быть, слишком преувеличенно) Pfister в: Religion d. Griechen и. Römer, Bursian's Jahresbericht, 229 [1930] 219. Ср. гл. II, с. 73-74.
(обратно)644
См., в частности, книгу Вильгельма Нестле (Nestle), Vom Mythos zum Logos, целью которой является описание «постепенного замещения мифологического сознания греков рациональным».
(обратно)645
Hekateus, fr. 1 Jacoby; ср. Nestle, op. cit., 134 ff. Гекатей рационализировал мифологических монстров типа Цербера (fr. 27), а возможно, и всех остальных: τά r.v Αΐδου [«из тех, что в Аиде»]. То, что сам он был άδεισιδαίμων [небогобоязненным], явствует из его совета соотечественникам присвоить для мирских нужд сокровища оракула Аполлона в Бранхидах (Hdt. 5. 36. 3). Ср. Momigliano, Atene е Roma, 12 [1931] 139, и то, каким образом Диодор и Плутарх описывают подобное же действие Суллы (Diod. 38/9, fr. 7; Plut. Sulla 12).
(обратно)646
Xenophan. frs. 11 и 12 Diels.
(обратно)647
Cic. div. 1. 5; Aetius, 5. 1. 1 (=Xenophanes, А 52). Ср. его натуралистические объяснения радуги (fr. 32) и огней св. Эльма (А 39) — а ведь оба эти явления традиционно считаются предзнаменованиями.
(обратно)648
Xenophan. fr. 15 (ep. 14 и 16) [Фрагменты ранних греческих философов, стр. 171].
(обратно)649
Fr. 23. Ср. Jaeger, Theology, 42 ff. Как замечает Мюррей (ор. cit., 69), «это его "ни сознаньем" дает пищу для размышлений. Оно напоминает образ мыслей одного средневекового арабского мистика, который говорил, что называть Бога "справедливым" — такая же антропоморфная глупость, как и сказать, что он носит бороду». Ср. бога Гераклита, для которого человеческое различие «справедливого» и «несправедливого» бессмысленны, поскольку он все воспринимает как справедливое (fr. 101 D.).
(обратно)650
Fr. 34.
(обратно)651
Ср. Heraclit. fr. 28; Alcmaeon, fr. 1; Hipp. vet. med. 1, Festugiere ad loc; Gorgias, Hel. 13; Eur. fr. 795.
(обратно)652
См. гл. IV, с. 179.
(обратно)653
Heraclit. fr. 5 сл. Если верить фрагменту 69, он не отвергал вообще концепцию катарсиса, но, возможно, рассматривал ее, как и Платон, с моральной и интеллектуальной точек зрения.
(обратно)654
Fr. 14. Предшествующее этому упоминание βάκχοι и λήναι предполагает, что он имел в виду дионисийские (а не «орфические») мистерии; но в той форме, в. которой они переданы, его осуждение, по-видимому, не ограничивается только ими. Хотел ли он осудить мистерии как таковые или нет, или только их методы, по-моему, нельзя определить наверняка, хотя из высказываний Гераклита ясно, что он имел немного симпатий к мистам. Fr. 15 не проливает свет на данный вопрос, даже если быть уверенным в том, что φαλλικά были не μυστήριον. Что касается часто обсуждавшегося отождествления Диониса с Аидом в этом фрагменте, я думаю, что это парадокс Гераклита, а не «тайная орфическая доктрина», и склонен согласиться с теми, кто видит в нем осуждение фаллика, а не одобрение их. Чувственная жизнь есть смерть для души — ср. fr. 77, 177, и Diels, Herakleitos, 20.
(обратно)655
Fr. 96. Ср. PI. Phaedo 1150; и о затронутых чувствах — гл. V, с. 204 сл.
(обратно)656
Fr. 119; ср. гл. II, с. 74 76. Fr. 106 в таком же духе критикует суеверие о «счастливых» и «несчастливых» днях.
(обратно)657
Fr. 5. О современном культе святых икон (при запрете на статуи) см. В. Schmidt, Volksleben, 49 ff.
(обратно)658
Glaube, II. 209. Значение Гераклита как просветителя правильно подчеркивает Gigon, Untersuchungen zu Heraklit, 131 ff., доктрина, разумеется, имеет другие, не менее важные аспекты, но они не относятся к теме данной книги.
(обратно)659
Ср. Xenophan. fr. 8; Heraclit. frs. 1, 57, 104 и др.
(обратно)660
Сходство между Eur. fr. 282 и Xenoph. fr. 2 было отмечено Афинеем, и оно кажется слишком большим, чтобы счесть его простой случайностью; ср. также Eur. Her. 1341-1346 с Xenoph. А 32 и В 11 и 12. С другой стороны, сходство Aesch. Supp. 100-104 с Xenoph. В 25-26, хотя и интересное, едва ли достаточно для вывода о том, что Эсхил читал произведения ионийцев или слышал о них.
(обратно)661
Diog. L. 2. 22. Гераклитова критика иррациональности ритуала находит ощутимый отзвук у Еврипида (Nestle, Euripides, 50, 118); хотя это не обязательно прямое заимствование (Gigon, op. cit., 141). Еврипид был известен как ревностный собиратель книг (Athen. За; ср. Eur. fr. 369 о радостях чтения, и Ar. Ran. 943).
(обратно)662
Eur. fr. 783.
(обратно)663
Ср. P. Decharme, Euripide et iesprit de son theatre, 96 ff.; L. Radermacher, Rh. Mus. 53 [1898] 501 ff.
(обратно)664
F. Heinimann, Nomos und Physis [Basel, 1945]. Библиография более ранних работ содержится в: W. С. Greene, Moira, App. 31.
(обратно)665
Hdt. 1. 60. 3: απεκρίθη έκ παλαιτέρου τοΟ βαρβάρου έθνεος τό Έλληνικόν, έόν κα'ι δεξιώτερον κα'ι εύηΟίης ηλιθίου άπηλλαγμένον μάλλον [«С давних пор, еще после отделения от варваров, эллины отличались большим по сравнению с варварами благоразумием и свободой от глупых суеверий»].
(обратно)666
Plato, Prot. 327cd.
(обратно)667
Степень быстрого упадка доверия к прогрессу можно проследить по одному софисту, известному как «аноним Ямвлиха» (Vorsocr.,ь 89); одно время он разделял веру Протагора в номос и, возможно, был его учеником. В последние же годы Пелопоннесской войны он уже с горечью говорит о тех, кто видел, как весь социальный и нравственный порядок рушится вокруг них.
(обратно)668
О традиционном характере идентификации «блага» с пользой см. Snell, Die Entdeckung des Geistes, 131 ff. О сократовском прагматизме см. Xen. Mem. 3. 9. 4 и др.
(обратно)669
Ср. гл. I, с. 35. Пока арете позитивно воспринималась как достоинство, «достойное совершение дел», о ней естественным образом думали как зависящей от знания того, как эти дела делать. Но к V в. люди (если судить по Prof. 352b и Gorg. 491d) в большей степени понимали арете в «негативном смысле», как контроль над страстями; интеллектуальный фактор здесь менее очевиден.
(обратно)670
Plato, Prot. 352а-е.
(обратно)671
Ibid., 327f. Это сравнение типично для V в., и, возможно, его использовал исторический Протагор, т. к., по-видимому, в том же контексте оно встречается у Еврипида — Supp. 913 сл. В целом, я согласен считать — вслед за Тайлором, Виламовицем и Нестле, — что речь Протагора (320с — 328d) можно принимать как весьма достоверное воспроизведение взглядов исторического Протагора, хотя, конечно, не как отрывок или сжатое изложение какой-то одной его работы.
(обратно)672
Ср. R. Hackforth, Hedonism in Plato's Protagoras, CG 22 [1928] 39 ff.; его аргументы весьма нелегко оспорить.
(обратно)673
Prot. 319а-320с. Этот пассаж часто считают «просто ироническим», имея целью элиминировать разницу между скептиком Сократом в этом диалоге и Сократом «Горгия», который открыл, в чем состоит подлинное искусство управления государством. Но рассматривать это сомнение таким образом — означает не понять парадоксальную концовку диалога (361а). Платон, должно быть, чувствовал, что в учении его наставника в этом вопросе было некое противоречие или, по крайней мере, неясность, которая нуждалась в прояснении. В «Горгии» он прояснил ее, но, сделав так, вышел за пределы учения исторического Сократа.
(обратно)674
Сопричастность добродетелей друг другу — одно из немногих достоверных представлений, которые мы можем атрибутировать историческому Сократу (ср. Prot. 329d сл., Laches, Charmides; Xen. Mem. 3. 9. 4 сл., и т. д.).
(обратно)675
Ср. Festugiere, Contemplation et vie contemplative chez Platon, 68 f.; Jaeger, Paideia, II. 65 ff.
(обратно)676
Plato, Apol. 33c: έμο'ι δέ τοϋτο, ώς έγώ φημι. προστέτακται ύπό του θεοϋ πράττειν και έκ μαντεία>ν καϊ έξ ενυπνίων [«а делать это, говорю я, поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях»). О сновидениях ср. также Crito 44а, Phaedo 60е; об оракулах — Apol. 21b, Xen. Mem. 1. 4. 15 (где Сократ отстаивает также веру в τέρατα [чудеса]), Anab. 3. 1. 15. Но Сократ также предостерегал своих слушателей не относиться к мантике как к некой замене «счета, измерения и взвешивания» (Xen. Mem. 1. 1. 19); это было добавление и (как в случае с оракулом Херефона) стимул к рациональной мысли, а не к суррогату ее.
(обратно)677
Xen. Apol. 12: θεοΰ μοι φωνή φαίνεται [«мне является голос бога»]. Ср. Мет. 4. 8. 6; Plato (?), Ale. I, 124с.
(обратно)678
Plato, Prot. 352b-c.
(обратно)679
Ibid., 353a
(обратно)680
Ibid., 356c-357e.
(обратно)681
E. N. 1147a 11 сл.
(обратно)682
Гл. I, с. 16 сл.; гл. II, с. 64-66.
(обратно)683
Corabarieu, La Musique et la magie (Etudes de philologie musicale, III [Paris, 1909] 66 f., цит. по: Boyance, Culte des Muses, 108). Платон говорит о животных, объятых сексуальным желанием, как о νοσοΰντα (Symp. 207а), а о голоде, жажде и сексуальности как о τρία νοσήματα (Laws 782е-783а).
(обратно)684
Eur. Med. 1333; Hipp. 141 сл., 240. Г-н Андре Ривьер, в своей интересной и оригинальной работе Essai sur le tragique d'Euripide [Lausanne, 1944] считает, что мы должны серьезно воспринимать эти взгляды: Медея буквально одержима дьяволом (р. 59), и сверхъестественная рука вливает яд в душу Федры. Но мне трудно с этим согласиться, как бы ни понимать Медею. Она, проникающая в вещи глубже, чем стереотипно мыслящий Ясон, не использует никакие слова из этого религиозного языка (по контрасту с Эсхиловой Клитемнестрой — Agam. 1433, 1475 сл., 1497 сл.). Да и Федра, когда однажды она осознала собственное положение, ищет его источник в природе человека (о значении Афродиты см.: «Euripides the Irrationalist», CR 43 [1929] 102). Решающими для позиции поэта являются «Троянки», где Елена перекладывает ответственность за свою супружескую неверность на бога (940 сл., 948 сл.), после чего следует резкое возражение Гекубы: μή αμαθείς ποίει θεούς τό σόν κακόν κοσμούσα, μή ού πείσρς σοφούς [«не делай богов невежественными, приукрашивая зло, не убеждай немудрых»].
(обратно)685
Med. 1056 сл. Ср. Heraclit. fr. 85: θυμώ μάχεσθαι χαλεπόν ό γαρ ανθέλη. ψυχής ώνεΐται [«с сердцем бороться тяжело, ибо чего оно хочет, то покупает ценой души»] (981 сл.).
(обратно)686
Ibid., 1078-1080. Виламовиц вычеркивал ст. 1080, который с точки зрения современного режиссера-постановщика подрывает эффективность «занавеса». Но для Еврипида как раз характерно то, что его Медея делает выводы из своего самоанализа; это же относится и к Федре. Мой случай, рассуждает она, не уникален: в сердце каждого человека идут подобные битвы. И фактически эти строки стали стандартным примером внутренних конфликтов (см. ниже. гл. VIII, прим. 16).
(обратно)687
Wilamowitz, Einleitung i. d. gr. Tragoedie, 25, n. 44; Decharme, Euripide et l'esprit de son theatre, 46 f.; и особенно Snell, Philologus 97 [1948] 125 ff. Я сомневаюсь в правильности предположения Виламовица (loc. cit.) и других в том, что Prot. 352b сл. — «ответ» Платона (Сократа) на «Федру». Зачем Платону испытывать необходимость отвечать на случайные реплики какого-то персонажа в драме, написанной тридцатью годами раньше? И если бы он сделал это (либо он знал, что Сократ сделал так), почему он не упомянул по имени Еврипида, как он поступает в других местах? (Федра может и не называть Сократа по имени, но Сократ-то может упомянуть?) Нахожу затруднительным полагать, что «многие» в Prot. 352b — действительно многие: простой человек никогда не игнорировал силу страсти, ни в Греции, ни где бы то ни было, и в этом эпизоде его не стоит наделять особой хитростью.
(обратно)688
Hipp. 375 сл.
(обратно)689
О попытке соотнести это место с драматическим действием в целом и с психологией Федры см. CR 39 [1925] 102 ff. Но ср. Snell, Philologus, loc. cit., 127 ff., с которым я склонен согласиться.
(обратно)690
Ср. fr. 572, 840, 841. и речь Пасифаи в свою защиту (Berl. Kl. Texte, II. 73 = Page, Gk. Lit. Papyri, I. 74). В двух последних случаях используется традиционный религиозный язык.
(обратно)691
Ср. W. Schadewaldt, Monolog и. Selbstgespräch, 250 ff.: «трагедия терпения» вытесняет «трагедию патоса*. Впрочем, я предполагаю, что «Хрисипп», являясь хотя и поздней пьесой (поставленной вместе с «Финикиянками»), была «трагедией патоса»: эта пьеса, подобно «Медее», стала устойчивым примером конфликта между разумом и страстью (см. Nauck, на fr. 841), и это отчетливо подчеркивается еще раз в вопросе о человеческой иррациональности.
(обратно)692
Rivier, op. cit., 96 f. Ср. мое издание пьесы, pp. xi ff.
(обратно)693
CR 43 [1929] 97 ff.
(обратно)694
Ar. Nub. 1078.
(обратно)695
Цит. по: Menander, Epitrep. 765 сл. Koerte, из Auge (часть которой ранее была известна по fr. 920 Nauck).
(обратно)696
Chrysippus, fr. 840.
(обратно)697
Aeolus, fr. 19: τί δ' αίσχρόν ην μή τοΐσι χρωμένοις δοκή [«что постыдного, если это не кажется постыдным»]. Софист Гиппий считал, что запрет на инцест — условность, а не «божественная заповедь», и не врожденное чувство, поскольку оно не наблюдается повсеместно (Xen. Mem. 4. 4. 20). Но строка Еврипида, видимо, произвела скандал: она показывала, куда мог завести этический релятивизм. Ср. пародию Аристофана (Ran. 1475); куртизанка использует это высказывание против самого автора (Machon apud Athen. 582cd); и более поздние истории, в которых Антисфен (или Платон) отвечает на него (Plut. aud. poet. 12, 33с, Serenus apud Stob. 3. 5. 36h.).
(обратно)698
Her. 778, Or. 823, Ва. 890 сл., I. Α. 1089 сл. Ср. Murray, Euripides and His Age, 194, и Stier, «Nomos Basileus», Philol. 83 [1928] 251.
(обратно)699
Так считают Мюррей (Murray, Aristophanes, 94 ff.) и, совсем недавно — W. Schmid, Philol. 97 [1948] 224 ff. Я, впрочем, не уверен в этом.
(обратно)700
Lysias, fr. 73 Th. (53 Scheibe) apud Athen. 551e.
(обратно)701
Более известный как излюбленная мишень для острот Аристофана (Αυ. 1372-1409, и др.). Он был обвинен в осквернении святыни Гекаты (Σ Ar. Ran. 366), что совпадает с общим духом этого клуба, ибо веру в Гекату они считали главным народным суеверием (ср. Nilsson, Gesch. I. 685 f.). Платон упоминает его как типичный образец поэта, который просто пускает пыль в глаза, не пытаясь улучшить тех, кто внимает ему (Gorg. 501е).
(обратно)702
В этом году был издан указ Диопета — см. Diod. 12. 38 и Plut. Per. 32. Эдкок (Adcock, CAfi V. 478) считает более правильной датой 430 г. и связывает ее с «переживаниями, вызванными нашествием чумы, очевидного признака божьего гнева»; это вполне похоже на истину.
(обратно)703
τάθεΐ(( μή νομίζειν [«не почитать божественные законы»] (Plut. Per. 32). О значении этого выражения см. К. Hackforth, Composition of Plato's Apology, 60 ff., и J. Tate, CR 50 [1936] 3 ff.; 51 [1937] 3 ff. Асебейя в смысле святотатства, безусловно, всегда считалась преступлением; новым здесь было запрещение пренебрежения культом, а также антирелигиозных учений. Нильссон, который придерживается расхожей идеи о том, что «в Афинах свобода мысли и речи была абсолютной» (Greek Piety, 79), пытается ограничить размах гонений преступлениями против культа. Однако традиция единодушно считает, что гонения на Анаксагора и Протагора основаны на теоретических взглядах последних, а не на их действиях. Общество, которое запрещало одному из них описывать солнце как материальный объект, а другому — выражать сомнение в существовании богов, разумеется, не допускало «абсолютной свободы мысли».
(обратно)704
λόγους περί των μεταρσίων διδάσκειν [«учить о небесных явлениях»] (Plut. ibid.). Несомненно, это было в основном направлено против Анаксагора, но неприязнь к метеорологии была широко распространена. О ней думали не только как о глупой и самонадеянной науке (Gorg. Hel. 13, Hipp. vet. med. 1, Plato, Rep. 488e и др.), но и как опасной для религии (Eur. fr. 913, Plato, Apol. 19b, Plut. Nicias 23).
(обратно)705
Датировка Тайлором процесса над Анаксагором 450 годом (CQ 11 [1917] 81 ff.) отодвинула бы начало Просвещения и реакцию на него в гораздо более ранние времена, чем предполагают остальные источники. Его аргументацию опровергали Е. Derenne, Les Proccs d'impiete, 30 ff., и J. S. Morrison, CR 35 [1941] 5, η. 2.
(обратно)706
Варнет (Burnet, Thaies to Plato) и другие вслед за ним отвергают широко засвидетельствованное предание о суде над Протагором как неисторическое на основании Plato, Мепо 91е. Но Платон говорит здесь о повсеместной репутации Протагора как учителя, которая на могла бы уменьшиться и после того, как против него развернулись гонения: он был обвинен не в развращении молодежи, но в атеизме. Поэтому процесс над ним вряд ли уместно датировать столь поздно, как в 411 г., тем более и традиция не говорит, что это было именно так (ср. Derenne, op. cit., 51 ff.).
(обратно)707
Satyros, vit. Eur. fr. 39, col. χ (Arnim, Suppl. Eur. 6). Ср. Bury, САН V. 383 f.
(обратно)708
Было бы неосторожным полагать, что нам известны не сами факты гонений, но только слухи о них. Ученые вряд ли обратили внимание на то, что у Платона Протагор говорит (Prot. 316c-317b) о риске для тех, кто занят ремеслом софиста, ибо оно подвергает их «немалой зависти, неприязни и всяким наветам», так что «мужи, владевшие им, всячески скрывали его». Сам он имел личных покровителей (дружба с Периклом?), которые довольно долго оберегали его от врагов.
(обратно)709
Diog. L. 9. 5. 2, Cic. nat. dear. 1. 63, и т. д. Об опасностях привычки к чтению ср. Aristophanes, fr. 490: τούτον τόν άνδρ ή βυβλίον διέφΟορεν ή Πρόδικος ή τών άδολεσχών εις γέ τις [«Кто-то из этих болтунов или Продик испортил этого мужа или книгу»].
(обратно)710
Возможно, наша информация страдает пробелами. Если же нет, то кажется противоречивым утверждение, которое Платон вкладывает в уста Сократа (Gorg. 461е), — о том, что в Афинах всегда можно говорить более свободно, чем в любом другом месте Греции (это утверждение датируется временем после декрета Диопита). Стоит отметить, однако, что город Лампсак, несмотря на изгнание Анаксагора из Афин, почтил его после смерти публичными похоронами (Alcidamas apud Ar. Rhet. 1398b 15).
(обратно)711
Nilsson, Greek Popular Religion, 133 ff.
(обратно)712
Plut. Pericles 6.
(обратно)713
Plato, Apol. 40a: ή είωΟυΐά μου μαντική ή τοΰ δαιμονίου [«обычная способность моего даймона прорицать»].
(обратно)714
Xen. Apol. 14: οί δικασταί έΟορύβουν. οί μεν άπιστοΰντες τοις λεγομένοις, οί δέ καί φΟονοΰντες, ει και παρά θεών μειζόνων ή αυτοί τυγχάνοι [«будучи в замешательстве, одни судьи не верили его рассказу, а другие завидовали, что он удостоен от богов большей милости, чем они»]. Несмотря на остроумные аргументы Тайлора в пользу противоположного (Varia Socratica, 10 ff.), я думаю, что невозможно отделить обвинение за введение Kuiva δαιμόνια [новых божеств] от δαιμόνιον, с которым и Платон, и Ксенофонт связывают его. Ср. A. S. Ferguson, CQ 7 [1913] 157 ff.; Η. Gomperz, NJbb 1924, 141 ff.; K. Hackforth, Composition of Plato's Apolo gy, 68 ff.
(обратно)715
Cp. Thuc. 5. 103. 2, когда факты плохо воспринимаются обычными людьми έπί τάς αφανείς (ελπίδας) καθίστανται, μαντικήν τε καί χρησμούς [«после того как они в беде лишатся явных надежд, они обращаются к надеждам скрытым, к мантике, предсказаниям»]. По контрасту с этим — Plato, Euthyphro Зс: όταν τι λέγω έν τή έκκλησύ/ περί τών θείων, προλέγων αύτοΐς τά μέλλοντα, καταγελώσιν ως μαινόμενοι, [«надо мною потешаются, как над безумцем, когда я предсказываю в народном собрании что-либо относительно божественных предначертаний»].
(обратно)716
К. Crawshay-Williams, The Comforts of Unreason, 28.
(обратно)717
Hesiod, Erga 240; ep. Plato, Laws 910b и гл. II, прим. 413. Примечательна позиция Лисия. «Наши предки, — говорит он, — исполняя предписанные жертвоприношения, оставили нам город, самый великий и процветающий во всей Греции; поэтому нам следует также приносить жертвы, как и они, хотя бы только ради удачи, которую приносят подобные действия» (30. 18). Этот прагматичный взгляд на религию наверняка был очень распространен.
(обратно)718
Thuc. 6. 27 f., 60. Фукидид резонно подчеркивает политические аспекты этого события, и в самом деле, невозможно читать кн. 6. 60, не вспоминая о политических «чистках» и «охоту на ведьм» нашего времени. Но главной причиной всенародного возбуждения была дейсидаймония, богобоязненность: подобный акт являлся οιωνός του έκπλου [«знамение отплытия»] (6. 27. 3).
(обратно)719
Thuc. 3. 82. 4.
(обратно)720
Nigel Balchin, Lord, I was afraid, 295.
(обратно)721
G. Murray, Greek Studies, 67. Ср. суждение Фрэзера о том, что «общество было построено и сцементировано главным образом на основе религии, и невозможно разбить цемент и подорвать основание без ущерба для самой постройки» (The Belief in Immortality, I. 4). Реальная причинная связь между крушением религиозной традиции и несдерживаемым ростом политической власти, похоже, подтверждается и на опыте других древних культур, например, китайской, где секуляристский позитивизм школы Фа цзя [легизм] имел свою практическую копию в военном беспределе империи Цинь.
(обратно)722
Гл. IV, с. 169 сл.
(обратно)723
Так у Kern, Rel. der Griechen, П. 312, и W. S. Ferguson, The Attic Orgeones, Harv. Theol. Rev. 37 [1944] 89, η. 26. По схожей причине культ Асклепия был принесен в 293 г. до н. э. в Рим. Говоря словами Нока, это была, по существу, «религия на крайний случай» (CPA 45 [1950] 48). Первое из дошедших до нас упоминаний об инкубации в храме Асклепии встречается в «Осах», написанных спустя несколько лет после окончания эпидемии.
(обратно)724
Thuc. 2. 53. 4: κρίνοντες έν όμοίω και σέβειν και μη, έκ τοΰ πάντιις όράν έν ίσω άπολλυμένους [«так как они видели, что все погибают одинаково и поэтому безразлично, почитать ли богов или нет»].
(обратно)725
IG II. 2, 4960. О подробностях см. Ferguson, loc. cit.. 88 ff.
(обратно)726
Glaube. II. 233. Согласно наиболее приемлемой интерпретации события, Лсклепий появлялся во сне или в видении (Plut. поп posse suaviter 22. 1103b) и говорил: «Вызови меня из Эпидавра», после чего они вызывали его δράκοντι είκασμένον [с помощью змеи], подобно тому как сделали сикионцы в случае, описываемом Павсанием (2. 10. 3; ср. 3. 23. 7).
(обратно)727
Напр., de vetere medecina, который Фестюжьер датирует ок. 440-420 гг.; de aeribus, aquis. locis (по мнению Виламовица и других, он создан до 430 г.); de morbo sacro (вероятно, несколько позднее, ср. Heinimann, Nomos и. Physis, 170 ff.). Похожим образом и появление первого известного «сонника» (см. гл. IV, с. 181) совпадает по времени с первыми попытками объяснить сновидения натуралистичным способом: здесь тоже явственно сказывается поляризация.
(обратно)728
Вторая Пуническая война должна была произвести похожие эффекты в Риме (ср. Livy, 25. 1, и J. J. Tierney, Proc. R. I. Α. 51 [1947] 94).
(обратно)729
Harv. Theol. Rev. 33 [1940] 171 ff. См. также Nilsson, Gesch. I. 782 ff., и немаловажную статью Фергюсона (см. выше, прим. 83), которая проливает свет на натурализацию фракийского и фригийского культов в Афинах и их диффузию среди афинских граждан. Установление общественного культа Бендиды можно датировать, как показал Фергюсон (Hesperia, Suppl. 8 [1947] 131 ff.), годами чумы (430-429).
(обратно)730
проклятие
(обратно)731
Свыше 300 экземпляров собрано и изучено A. Audollent, Defixionum tabellae [1904], а с тех пор находили и другие. Один дополнительный список, из Центральной и Северной Европы, приводит Preisendanz, Arch. f. Rel. 11 [1933].
(обратно)732
Lawson, Mod. Greek Folklore, 16 ff.
(обратно)733
Cm. Globus, 79 [1901] 109 ff. Audollent (op. cit., cxxv f.) тоже приводит ряд примеров, включая случай с неким «состоятельным, образованным аристократом» из Нормандии, который, получив отказ на свое предложение пожениться, проткнул иглой лоб фотографии своей несостоявшейся невесты и добавил надпись: «Да будешь ты проклята Господом!» Этот анекдот указывает на простые психологические корни данного вида магии. Гатри привел интересный пример из истории Уэльса XIX в. (The Greeks and Their Gods, 273).
(обратно)734
Аттические свидетельства, известные до 1887 г. (их свыше 200), изданы отдельно Вюншем в IG III. 3, Appendix. Дополнительные аттические defixiones опубликованы Зибартом (Ziebatrh, Gott. Nachr. 1899, 105 ff., и Berl. Sitzb. 1934, 1022 ff.) а также другие, обнаруженные в Керамике (W. Peek, Kerameikos, III. 89 ff.) и Агоре. Из них только два предмета — Kerameikos 3 и 6 — могут убедительно датироваться V столетием или раньше; подавляющее же большинство, по всей вероятности, принадлежит к IV в.; самый стиль их выполнения предполагает этот период (К. Wilhelm, Ost. Jahreshefte, 7 [19041 105 ff.)
(обратно)735
Wünsch, no. 24; Ziebarth, Gött. Nachr. 1899, no. 2, Berl. Sitzb. 1934, no. 1 В.
(обратно)736
Plato, Laws 933a-e. Он упоминает катадесмои в Rep. 364с как практики, исполнявшиеся в адрес их жертв άγύρται καϊ μάντεις [«шарлатанами и пророками»], а в Laws 909b как некромантию, практикуемую людьми такого же рода. Колдунья Феорида даясе приобрела своеобразный религиозный статус: Харпократион (s. v.) называет ее мантис; Плутарх (Dem. 14) — иерейя. Не существовало четкой линии, отделявшей суеверие от «религии». И по существу, боги, которых заклинали в старом аттическом катадесисе, являются хтоническими божествами традиционной греческой религии, прежде всего это относится к Гермесу и Персефоне. Примечательно, однако, что бессмысленные формулы типа Έφέσια γράμματα [«эфесские книги»], характерные для поздней магии, были уже тогда, что явствует из Anaxilias, fr. 18 Knock, и с еще большей очевидностью из Menander, fr. 371.
(обратно)737
Laws 933b: κηρινά μιμήματα πεπλασμένα, εϊτ' επί θύραις εϊτ' έπί τριόδοις εϊτ' έπ'ι μνήμασι γονέων [« если они увидят где-нибудь у дверей, на перекрестках или у могильных памятников своих родителей вылепленные из воска изображения»]. Насколько я знаю, самое раннее из дошедших до нас свидетельств об этой технике — надпись из Кирены (IV в.), где говорится, что во время основания Кирены для санкционирования публично приносимых клятв использовались κηρινά [восковые изображения] (Nock, Arch, f. Rel. 24 [1926] 172). Восковые изображения, естественно, до наших дней не дошли, но статуэтки из более прочного материала. с руками, завязанными за спиной (буквально — катадесис), или с другими признаками магического нападения встречались довольно часто, по крайней мере два из них обнаружили в Аттике: см. Ch. Dugas, Bull. Corr. Hell. 39 [1915] 413.
(обратно)738
Laws 933a: ταΰτ' ούν και περί τοιαύτα ούμπαντα ούτε ράδιον ρπως ποτέ πέφυκεν γιγνώσκειν οϋτ' εϊ τις γνοίη. πείθειν εύπετές έτερους [«трудно узнать, что происходит в подобных случаях; впрочем, даже если кто-то и узнает, трудно убедить в этом других»]. Вторая часть этого предложения, вероятно, подразумевает более высокую степень скептицизма, чем он намерен выразить, т. к. тон Rep. 364с (так же как и Laws 909b) определенно скептический.
(обратно)739
[Dem.] 25. 79 сл., эпизод с фармакис [чародейкой] из Лемноса по имени Феорида, которую осудили на смерть в Афинах «со всем ее семейством» по доносу ее служанки. То, что эта фармакис не была простой отравительницей, явствует из упоминания в том же самом предложении о ее φάρμακα και έπωδας [лекарства и заклятия] (Ср. Аг. Nub. 749 сл.). Согласно Филохору (apud Harpocration, s. ν. θεωρίς), формальным обвинением являлась ее асебейя, и это, по-видимому, верно: жестокое уничтожение всего семейства явно было вызвано тем, что оно осквернило общину. Плутарх (который приводит различные трактовки этого происшествия) считает (Dem. 14), что обвинителем был Демосфен — который и сам, как мы видели, не раз становился жертвой магического нападения.
(обратно)740
За исключением мифологии, существует удивительно мало непосредственных упоминаний в классической литературе V в. иных, кроме любовного приворота, видов агрессивной магии (Eur. Hipp. 509 сл., Antiphon, 1. 9, и т. д.), и έπφδή Όρφέως [«чарующих песен Орфея»] (Eur. Cycl. 646). Автор morb. sacr. говорит о людях, которые πεφαρμακευμένους, «находятся под чарами» (VI. 363 L.), и то же самое может означать Ar. Thesm. 534. По-иному ближайший подход может быть виден в слове аналитес, «губитель» чар, которое, как говорили, использовал ранний комический поэт Магнет (fr. 4). Несомненно, распространена была и защитная, или «белая», магия: напр., люди носили в качестве амулетов магические кольца (Eupolis, fr. 87; Ar. Plut. 883 сл. и Σ). Но если желали достичь реального могущества мага, то за ним приходилось отправляться в Фессалию (Ar. Nub. 749 сл.).
(обратно)741
С этим можно сравнить существовавший в XIX столетии разрыв между скудеющей христианской верой в среде интеллектуалов и подъемом спиритизма и тому подобных движений в полуобразованных классах (из которых впоследствии вырос, в свою очередь, образованный слой). Но в случае Афин нельзя исключить возможность того, что расцвет агрессивной магии совпадает с катастрофой последних лет Пелопоннесской войны. О других вероятных причинах, которые могли бы вызвать ее популярность в IV в., см. Nilsson, Gesch. I. 759 f. Я не могу согласиться с бытовавшим ранее взглядом, что увеличение «defixiones» в это время просто отражает увеличение грамотности населения; ибо они могли быть написаны — и, наверное, писались довольно часто (Audollent, op. cit., xlv) — профессиональными магами, использовавших их для своих целей (Платон пишет, что будто бы так и обстояло дело — Rep. 364с).
(обратно)742
«Plato and the Irrational», JHS 65 [1945] 16 ff. Эта статья была написана еще до того, как планировалась данная книга; но она не затрагивает многих проблем, которые затрагиваются здесь, а с другой стороны, имеет дело с некоторыми элементами платоновского рационализма и иррационализма, которые выпадают из рассмотрения настоящего произведения.
(обратно)743
Платон родился в год смерти Перикла (либо год спустя) и умер в 347 г., за год до мира Филократа и за 9 лет до сражения при Херонее.
(обратно)744
Ср. гл.VI, прим. 31-33.
(обратно)745
Xen. Mem. 4. 3. 14; Plato, Apol. З0ab; Laches 185е.
(обратно)746
Gorgias 493а-с. Мнение Франка о том, что именно подразумевается в данном эпизоде (Plato и. die sog. Pythagoreer, 291 ff.) в целом кажется мне правильным, хотя я и оспорил бы некоторые детали. Платон различает, как показывает 493Ь 7, а) τις μυθολογών κομψός άνήρ, ϊσως Σικελός τις ή Ιταλικός [«некий изящный слагатель иритч, вероятно, сицилиец или италик»], который, на мой взгляд, является анонимным автором одной старинной поэмы о путешествии в подземный мир (не обязательно «орфического»), поэмы, которая была в ходу в Западной Греции, и, может быть, сохранилась в отрывках, выгравированных на золотых сосудах; б) информатора Сократа, τις των σοφών [«кого-то из мудрецов»], который вычитывает в старой поэме аллегорическое значение (так, Феаген из Региума аллегорически трактовал Гомера). Я полагаю, что этот софос — пифагореец, поскольку подобные слова часто использовал Платон, когда вкладывал пифагорейские идеи в уста Сократа: 507е, φασι δ' oi σοφοί [«мудрецы говорят»], о том, что существует нравственный миропорядок (ср. Thompson ad loc); Meno 81a, ακήκοα ανδρών τε και γυναικών σοφών [«я слышал мужчин и женщин, умудренных в божественных делах»], о трансмиграции; Rep. 583b, δοκώ μοι τών σοφών τίνος ακηκοέναι [«я слышал от кого-то из знатоков»], о том, что физические удовольствия иллюзорны (ср. Adam ad loc). Кроме того, идея о том, что мифы о преисподней — аллегория земной жизни, появляется у Эмпедокла (ср. гл. V, прим. 114), а также в позднем пифагореизме (Macrob, in Somn. Scip. I. 10. 7-17.). He могу согласиться с Линфортом («Soul and Sieve in Plato's Gorgias», Univ. Calif. Publ. Class. Philol. 12 [1944] 17 ff.) в том, что «все, проповедуемое Сократом, он слышал от кого-то еще... это было оригинальным вкладом самого Платона»: если бы это было так, он едва ли устами Сократа описывал бы это как επιεικώς ύπό τι άτοπα [«все это звучит несколько необычно»] (493с) или называл продуктом какой-нибудь школы (γυμνασίου 493d).
(обратно)747
Phaedo 67c, ср. 80е, 83а-с. О логосе как «религиозном учении» ср. 63с, 70с, Epist. VII. 335а, и т. д. В своей переинтерпретации старой традиции, придававшей валсное значение расщепленным состояниям, Платон, несомненно, находился под влиянием сократовской практики длительной отрешенности ума, описанной, например, в Symp. 174d-175c и 220cd, которая, видимо, спародирована в «Облаках»: ср. Festugiere, Contemplation et vie contemplative chez Platon, 69 ff.
(обратно)748
См. гл. V, прим. 107.
(обратно)749
Proclus, in Remp. II. 113. 22, упоминает в качестве предшественников Аристея, Гермотима (у Родэ — Гермодора) и Эпименида.
(обратно)750
Подобно тому как сибирский шаман становится Üor после смерти (Sieroszewski, Rev. de l'hist. des rel. 46 [1902] 228 f.), так и люди платоновского «золотого племени» будут после смерти получать почести не просто как герои — которые в этом случае находились бы в русле традиционного обычая, — но (получив дельфийское одобрение) как даймоны (Rep. 468e-469b). Действительно, такие люди могут быть названы даймонами уже при жизни (Crat. 398с). В обоих эпизодах Платон апеллирует к предшественникам гесиодовского «золотого народа» (Erga 122 сл.). Но на него воздействовали также и не столь отдаленные мифологические мотивы, а именно пифагорейская традиция, которая предоставляла особый статус θείος или δαιμόνιος άνήρ (см. выше, гл. V, прим. 61). Пифагорейцы, как и нынешние сибирские шаманы, имели специальный похоронный обряд, который обеспечивал им μακαριστόν και οίκεΐον τέλος [«счастливую и подобающую кончину»] (Plut. gen. Socr. 16, 585е, ср. Boyance, Culte des Muses, 133 ff.; Nioradze, Schamanismus, 103 f.) и вполне мог послужить моделью для разработки необычных инструкций по погребению εϋθυνοι [судей] (Laws 947be, ср. О. Reverdin, La Religion de la cite platonicienne, 125 ff.). О спорном вопросе, получил ли сам Платон почести после смерти как бог или даймон, см. Wilamowitz, Aristoteles и. Athen, II. 413 ff.; Boyance, op. cit., 250 ff.; и contra, Jaeger, Aristotle, 108 f.; Festugiere, Le Dieu cosmique, 219 f.
(обратно)751
Rep. 428е-429а, ср. Phaedo 69с.
(обратно)752
Phaedo 82ab, Rep. 500d, и эпизоды, цит. ниже из Philebus и Laws.
(обратно)753
Politicus 297de, 301de; ср. Laws 739de.
(обратно)754
Rep. 486a.
(обратно)755
Laws 663b; cp. 733a.
(обратно)756
Ibid., 663d.
(обратно)757
Ibid., 653b: ορθώς είθίσθαι ύπό τών προσηκόντων έθών [«будучи хорошо обучены правильным обычаям»].
(обратно)758
Ibid., 664а.
(обратно)759
Apol. 38а. Профессор Хакфорт (Hackforth, CR 59 [1945] 1 ff.) старается убедить нас, будто Платон лояльно относился к этой максиме в течение всей своей жизни. Но хотя он сохраняет верность ей вплоть до «Софиста» (230с-е), я не могу не сделать вывод, что воспитательная полиция «Государства» и в еще большей степени «Законов» в реальности исходит из иных предпосылок. Платон никогда не признался бы себе, что он отказался от всех сократовских принципов; тем не менее это было именно так. Сократова θεραπεία ψυχής [«забота о душе»] наверняка имеет в виду отношение к человеческому сознанию как таковому; техники же суггестии и других видов контроля, рекомендованные «Законах», по-моему, подразумевают совершенно иное.
(обратно)760
В «Законах» эподе и их родственники постоянно упоминаются в этом метафорическом смысле (659е, 664b, 665с, 670е, 773d, 812с, 903b, 944b). Ср. презрительное использование этого слова Калликлом — Gorg. 484а. Применение же его в «Хармиде» (157а с) значительно отличается: здесь «заклинание» оборачивается сократовским перекрестным экзаменом. Но в «Федоне», где миф объявлен эподе (114d, ср. 77е-78а), мы уже можем предположить ту важную роль, которую эподаи играют в «Законах». Ср. интересный анализ у Boyance, Culte des Muses, 155 ff.
(обратно)761
Tim. 86de, Laws 731c, 860d.
(обратно)762
См. выше, гл. VI, с. 270.
(обратно)763
Phaedo 67a: καθαροί άπαλλαττόμενοι της τοΰ σώματος αφροσύνης [«когда как можно больше ограничим свою связь с телом»]. Ср. 66с: τό σώμα καί αί τούτου έπιθυμίαι [«тело и его влечения»], 94е: αγεσθαι ύπό τών τοΰ σώματος παθημάτων [«быть влекомым телесными страстями»]. Graf. 414а: καθαρά πάντων τών περί τό σώμα κακών και επιθυμιών [«чистая от всех телесных зол и желаний»]. В «Федоне», как недавно заметил Фестюжьер, «le corps, c'est le mal, et c'est tout le mal» [«тело есть зло, оно есть главное зло»] (Rev. de Phil. 22 [1948] 101). Здесь учение Платона является основным историческим звеном между греческой «шаманской» традицией и гностицизмом.
(обратно)764
О более полном объяснении односоставной и трехсоставной души у Платона см. G. М. А. Grube, Plato's Thought, 129-149, где правильно подчеркивается значение понятия стаеис, «одной из самых поразительно актуальных вещей в платоновской философии». Помимо ответа, данного в тексте, расширение понятия псюхе вплоть до охватывания всей человеческой деятельности, несомненно, связано с более поздним мнением Платона о том, что псюхе есть источник всякого движения, как плохого, так и хорошего (ср. Tim. 89е: τρία τριχή ψυχής έν ήμϊν είδη κατώκισται. τυγχάνει δέ έκαστον κινήσεις έχον [«...в нас обитают три различные между собой вида души, каждый из которых имеет собственные движения»]. Laws 896d: τών τε αγαθών αιτίαν είναι ψυχήν και τών κακών [«душа — причина блага и зла»]). О том, что, согласно «Законам» (896е), иррациональная, потенциально злая, вторичная душа подотчетна космосу, см. Wilamowitz, Piaton, II. 315 ff; самый полный, тщательный анализ этого отрывка у Simone Petrement, Le Dualisme ehez Piaton, les Gnostiques et les Manicheens [1947], 64 ff. Я вкратце излагал собственный взгляд на этот предмет в JHS 65 [1945] 21.
(обратно)765
Phaedo 94de; Rep. 441bc.
(обратно)766
Rep. 485d: ώφίερ ρεϋμα έκεΐσε άπωχετευμένον [«словно поток, отведенный в сторону»]. Grube, loc. cit., обращал внимание на то, что этот и другие пассажи в «Государстве» подразумевают, что «целью является не подавление, а сублимация». Но предпосылки Платона, разумеется, весьма отличаются от фрейдовских, как указал в своем исследовании о платоновском Эроте Корнфорд (The Unwritten Philosophy, 78 f.).
(обратно)767
Rep. 439e. Ср. 351e-352a, 554d, 486e, 603d.
(обратно)768
Soph. 227d-228e.
(обратно)769
έκ τίνος διαφθοράς διαφοράν [« из-за какого-то повреждения (возникает) разлад»] (так у Барнета, опирающегося на косвенную традицию Галена).
(обратно)770
Первые намеки на подобный подход видны уже в «Горгии» (482bс, 493а). Но я не могу поверить, что Сократ (или Платон) позаимствовал его в готовом виде из пифагореизма, как предполагали Барнет и Тайлор. Единая душа, описываемая в «Федоне», происходит (видоизменяя свое значение) из пифагорейской традиции; свидетельства же о ее трехчастности более поздние и слабые. Ср. Jaeger, Nemesios von Emesa, 63 ff.; Field, Plato and His Contemporaries, 183 ff.; Grube, op. cit., 133. Признание Платоном иррационального элемента в душе воспринималось перипатетиками как важный шаг, выводящий за пределы сократовского интеллектуализма (Magna Moralia 1. 1, 1182а 15 сл.); а его взгляды на воспитание иррациональной души, которая будет отвечать только на иррациональный εθισμός, были позже использованы Посидонием в его полемике против интеллектуализма Хрисиппа (Galen, de placitis Hippocratis et Piatonis, pp. 466 f. Kühn, ср. 424 f.). См. ниже, гл.VIII, с. 347.
(обратно)771
Tim. 90а. Ср. Crat. 398с. Платон не проясняет подоплеку этого термина; о его возможном значении см. L. Robin, La Theorie platonicienne de l'amour, 145 ff., и V. Goldschmidt, La Religion de Piaton, 107 ff. Иррациональная душа, будучи смертной, не является даймоном; но «Законы», по-видимому, намекают на то, что «небесный» даймон имеет своего злого двойника в лице «природы титанов», которая и есть наследственная основа злобы в человеке (701с, 854b; ср. гл. V, прим. 132, 133).
(обратно)772
Tim. 69с. В Polit. 309с Платон уже упоминает два элемента в человеке как τόάειγενέςϋντής ψυχής μέρoςиτόζωυγεvές[«вeчнocyщaя часть душ... животная часть»]; это подразумевает, что человек смертен. Но здесь они все еще «части» одной и той же души. У них разное происхождение; низшие «виды» изолированы от божественного вида, чтобы не запятнать его, «за исключением неизбежного минимума» (69d). Если понимать этот язык буквально, то единство личности, по сути, испаряется. Ср., однако, Laws 863b, где вопрос о том, является ли тюмос патосом или меросом, остается открытым, и Tim. 91е, где используется термин мере.
(обратно)773
Xen. Cyrop. 6. 1. 41. Этот перс Ксенофонта — без сомнения, маздеистский дуалист. Но нет необходимости полагать, что психология «Тимея» (где иррациональная душа воспринимается как воспитуемая и поэтому не неискоренимо развращенная) заимствуется из маздеистских источников. Она имеет в Греции предшественников в архаической доктрине автономного даймона (гл. II, с. 42) и в Эмпедокловом различении даймона и псюхе (гл. V, с. 153); принятие же этой идеи Платоном может быть объяснено исходя из развития его собственной мысли. Об общем вопросе восточного влияния на позднюю мысль Платона я уже высказывался в JHS 65 [1945]. Позже проблема эта была обстоятельно проанализирована Jula Kerschensteinen, Plato и. d. Orient [Diss. München, 1945]; S. Petriment, Le Dualisme chez Platon; и Фестюжьером в интересной статье «Platon et l'Orient», Rev. de Phil. 21 [1947] 5 ff. Относительно возможности маздеистского происхождения платоновского дуализма выводы всех трех этих авторов негативные.
(обратно)774
Laws 644de. Зародыш этой идеи можно усмотреть уже в «Ионе», где говорится, что бог, воздействуя на страсти через «вдохновенных» поэтов, έλκει τήνψυχήνοποι άνβούληται τών ανθρώπων [«влечет душу человека куда захочет, сообщая одному силу через другого»] (536а), хотя здесь используется образ магнита. Ср. также Laws 903d, где бог есть игрок (πεττευτής), а люди — его пешки.
(обратно)775
Laws 803b-804b.
(обратно)776
Ibid., 713cd.
(обратно)777
Ibid., 716c.
(обратно)778
Ibid., 902b, 906a; cp. Critias, 109b.
(обратно)779
Ibid., 716a. О подобных тапейнои ср., напр., 774с: δουλεία ταπεινή και ανελεύθερος [«рабство низменно и недостойно свободного человека»]. Смирение перед богами Плутарх считает признаком суеверия (поп posse suaviter, ll0le); этой же мысли придерживался Максим Тирский (14. 7. Hob.), и, возможно, большинство греков.
(обратно)780
Ibid., 486а; ср. Theaet. 173с-е; Ar. Ε. N. 1123b 32.
(обратно)781
Meno 100a; Phaedo 62b.
(обратно)782
Phaedo 81e-82b.
(обратно)783
Plot. Enn. 6. 7. 6: μεταλαβούσης δέ θηείον σώμα θαυμάζεται πώς, λόγος ουσα άνθρωπου [«душа, переселившаяся в божественное тело, достойна восхищения»]. Ср. ibid., 1. 1. 11; Alex. Aphrod. de anima p. 27 Br. (Suppl. Arist. II. i); Porphyry apud Aug. Civ. Dei, 10. 30; Iamblichus apud Nemes. nat. hom. 2 (PG 40, 584a); Proclus, in Tim. III. 294, 22 сл. Понятие переселения души в животных фактически оказалось связанным не с внутренним «я» пифагорейцев, но с рациональной псюхе, которая для этого не подходила: ср. Rostagni, II Verbo di Pitagora, 118.
(обратно)784
Laws 942ab: «Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне, и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям... Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно».
(обратно)785
О более позднем развитии темы неважности τά ανθρώπινα см. Festugiere в Eranos 44 [1946] 376 ff. О человеке как марионетке ср. М. Ant. 7. 3 и Plot. Enn. 3. 2. 15 (I. 244, 26 Volk.).
(обратно)786
Apol. 22c: поэты и вдохновенные провидцы λέγουσι μέν πολλά καί καλά, ϊσασινδ' οι·δένώνλέγουσι [«говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят»]. То же самое говорится о политиках и видящих в Meno 99cd; о поэтах — в Ion 533е- 534d, Laws 719с; о видящих — в Tim.. 72а.
(обратно)787
Laches 198е; Charm. 173с.
(обратно)788
Критика поэзии в «Государстве» обычно считается вкладом Платона, а не Сократа: однако взгляд на поэзию как иррационалистическую, на который и опирается критика, встречается уже в «Апологии».
(обратно)789
Гл. VI, с. 270.
(обратно)790
Phaedr. 244cd; Tim. 72b.
(обратно)791
буквально (фр.).
(обратно)792
Ср. R. G. Collingwood, «Plato's Philosophy of Art», Mind N. S. 34 [1925] 154 ff.; E. Fascher, Προφήτης, 66 ff.; A. Delatte, Les Conceptions de l'enthousiasme, 57 ff.; P. Boyance, Le Culte des Muses, 177 ff. W. J. Verdenius, «L`Ion de Platon», Mnem. 1943, 233 ff., и «Platon et la poesie», ibid., 1944, 118 ff.; Linforth, «The Corybantic Rites in Plato», Univ. Calif. Publ. Class. Philol. 13 [1946] 160 ff. Некоторые из этих критиков склонны были исключать из религиозного языка Платона любой проблеск религиозного чувства: «это не больше чем прелестное одеяние, в которое он обряжает свою мысль» (Croissant); «назвать искусство божественной силой или вдохновением — значит просто назвать его je пе suis quoi [неизвестно чем]» (Collingwood). Мне кажется, здесь упускаются некоторые важные для Платона вещи. С другой стороны, те, кто принимают его язык слишком буквально, подобно Бойянсе, по-видимому, не замечают иронические полутона, которые очевидны, например, в Meno 99cd и могут быть прослежены в других местах.
(обратно)793
Phaedr. 244а: μανίας θεία δόσει διδομένης [«когда неистовство уделяется нам как божий дар»].
(обратно)794
извне (лат.).
(обратно)795
Ср. гл. III, с. 126.
(обратно)796
Laws 719с: οξύς οίον κρήνη τις τό έπιόν ρεΐν έτοίμως щ [«дает изливаться своему наитию, словно источнику»].
(обратно)797
Symp. 202е: διά τούτου (sc. τοΰ δαιμονίου) και ή μαντική πάσα χωρεί και ή τών ιερέων τέχνη τών τε περί τάς θυσίας και τελετάς και τάς επωδός και τήνμαντείανπάσανκαί γοητείαν [«благодаря им (т. е. гениям) возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, прорицаниям, пророчеству и чародейству»].
(обратно)798
Согласно «классификации образов жизни» (Phaedr. 248d), мантис (или телестес) и поэт размещены на пятой и шестой ступенях соответственно, т. е. даже ниже, чем торговец и атлет. Об отношении Платона к мантеис ср. также Politicus 290cd, Laws 908d. Тем не менее и мантеис, и поэты наделены функцией (пусть и не очень заметной) участия в высшей цели — реформировании общества (Laws 660а, 828Ь); и мы знаем об одном мантисе, который обучался под его руководством в Академии (Plut. Dion. 22).
(обратно)799
Гл. II, с. 69; гл.VI, с. 271 сл. Ср. Taylor, Plato, 65: «В греческой классической литературе Эрот — бог, которого боятся за то, что он разрушительно воздействует на человеческую жизнь, и не ждут от него благодеяний; это тигр, а не котенок, с которым можно поиграть».
(обратно)800
Phaedr. 249е: эротическая исступленность πασών τών ενθουσιάσεων άριστη [«из всех видов исступленности — наилучшая»].
(обратно)801
Этот религиозный слог не исключает для Платона трактовки эротического притяжения в терминах механики — предложенные, вероятно, Эмпедоклом или Демокритом; он постулирует возможность физических «эманации» из глаз возлюбленного, которые затем отражаются обратно в эти же глаза (Phaedr. 251b, 255cd). Ср. механистическое объяснение катарсиса в ритуалах корибантов в Laws 791а (объяснение, которое Делатт и Круассан считают демокритовским, Бойянсе — пифагорейским, но оно может быть и собственно платоновским).
(обратно)802
Основная функция Эрота как даймона — связывание человеческого с божественным: ώστε τό παν αυτό αύτώσυνδεδέσθαι (Symp. 202e) [«пребывая посередине, они [гении] заполняют промежуток между теми и другими»]. В соответствии с этим Платон понимает сексуальную и несексуальную манифестации Эрота как выражение одного и того же базового импульса к τόκος έν καλφ [«рождение кстати»]; эта фраза является для него выражением чрезвычайно важного органического закона. Ср. I. Bruns, «Attische Liebestheorien», NJbb 1900, 17 ff., и Grube, op. cit., 115.
(обратно)803
Symp. 207ab.
(обратно)804
Примечательно, что мотив бессмертия в своем обычном платоновском смысле совершенно отсутствует в «Пире»; а в «Федре», где прослеживается попытка интеграции, бессмертие может быть достигнуто только на уровне мифа, и только если иррациональную душу понимают как существующую после смерти, теряющую свои телесные желания в новом, бестелесном состоянии.
(обратно)805
В дальнейшем описании я буду в основном опираться на великолепную монографию О. Ревердена (О. Reverdin, La Religion de la cite platonicienne, Travaux de l'Ecole Francaise d'Athenes, fasc. VI, 1945), которую не считаю менее ценной из-за того, что отношение автора к религии весьма отличается от моего.
(обратно)806
Laws 717ab. Ср. 738d: каждое село должно обладать своим местным божеством, даймоном или героем, как, видимо, и было в Аттике на самом деле (Ferguson, Harv. Theol. Rev. 37 [1944] 128 ff.).
(обратно)807
Ibid., 904а: οι κατά νόμον όντες θεοί [«как боги, существующие согласно закону»] (ср. 885Ь и, если текст не испорчен, 891е).
(обратно)808
Crat. 400d, Phdr. 246с. Ср. также Critias 107ab; Epin. 984d (где это звучит довольно презрительно). Те, кто, подобно Ревердену (ор. cit., 53), наделяют Платона искренней личной верой в традиционных богов, на том основании, что он предписывает их культ и нигде в отчетливой форме не отрицает их существование, по-моему, не принимают во внимание компромисс, необходимый для любой практической схемы религиозной реформы. Ксли бы возникла необходимость полностью оторвать массы от их наследственных верований, мнение Платона было бы куда более жестким; кроме того, никакой реформатор не может открыто отрицать для себя то, что он предписывает другим. См. еще мои замечания в JHS 65 [1945] 22 f.
(обратно)809
Tim. 28с. Относительно много обсуждавшейся проблемы бога у Платона см. особенно Dies, Autour de Piaton, 523 ff.; Festugiere, L'Ideal religieux des Grecs et VEoangile, 172 ff.; Hackforth, «Plato's Theism», CQ 30 [1936] 4 ff.; F. Solmsen, Plato's Theology [Cornell, 1942]. Я уже высказывался на данную тему в JHS, loc. cit., 23.
(обратно)810
Небесные тела во всех культурах являются представителями или символами того, что Кристофер Доусон называет «трансцендентным элементом внешней реальности» (Dawson, Religion and Culture, 29). Co. Apol. 26d, где говорится, что «все люди», включая самого Сократа, верят, что солнце и луна — это боги; и Crat. 397cd, где небесные тела представлены как первоначальные боги Греции. Но в IV в., как мы знаем из Epinomis, 982d, эта вера начала исчезать на фоне роста популярности механистических трактовок (ср. Laws 967а; Epin. 983е). Ее воскрешение в эпоху эллинизма немало обязано именно идеям Платона.
(обратно)811
Об идее анимации небесных тел, выдвигавшейся против идеи внешнего контроля, см. Laws 898е-899а, Epin. 983с. Анимация, несомненно, была популярной теорией, и ей суждено было доминировать в наступающую эпоху; но Платон отказывается сделать решающий шаг (у него звезды суть либо θεοί, либо θεών εικόνες ώς αγάλματα, θεών αυτών έργασαμένων [«образы богов, своего рода изваяния, созданные самими богами»], Epin. 983е; о последнем взгляде ср. Tim. 37с).
(обратно)812
Laws 821b-d. Молитва к солнцу была знакома греческой традиции: так, Сократ обращается к нему на восходе (Symp. 220d), а оратор из утраченной пьесы Софокла произносит: ήέλιος, οίκτείρειέ με, / öv οί σοφοί λέγουσι γεννητήν θεών / καί πατέρα πάντων [ «Солнце, сжалься, сущий — как мудрые говорят — родитель богов и отец всего»] (fr. 752 Р.). В другом месте Laws (887d) Платон говорит οπροκυλίσεις αμα καί προσκονήσεις Ελλήνων τε καί βαρβάρων [«эллины и все варвары... преклоняют колени и повергаются ниц»] на восходе и закате солнца и луны. Фестюжьер упрекал его здесь в искажении фактов: «ni l'objet de culte ni le geste d'adoration ne sont grecs: ils sont barbares. II s'aglt de l'astrologie chaldeenne et de la προσκύνησις en usage a Babylone et chez les Perses» [«ни один объект подобного культа, ни один молитвенный жест не являются исконно греческими. Они имеют варварское происхождение. Речь идет о халдейской астрологии и типах поклонения, традиционно присущих вавилонянам и персам»]. (Reo. de Phil. 21 [1947] 23). Но если мы и допустим, что προκυλίσεις, и, возможно, культ луны скорее варварские, чем греческие, все равно платоновское утверждение хорошо увязывается с гесиодовским молитвенным правилом и подношениями на восходе и закате (Erga 338 сл.) и с Ar. Plut. 771: καί προσκυνώ γε πρώτα μέν τόν ήλιον, κτλ [«и прежде всех — тебе привет, о Гелиос!» и т. д.]. Тем не менее «Законы», похоже, придают небесным телам религиозное значение, которого им недоставало в обычном греческом культе, хотя частичные прецеденты этого можно усмотреть в пифагорейской традиции (ср. гл. VIII, прим. 68). И в «Послезаконии», которое я теперь склонен рассматривать либо как произведение самого Платона, либо как принадлежащее его «Nachlass» [«наследию»], мы встречаемся с тем, что, несомненно, имеет восточное происхождение, да и открыто заявлено как таковое, а именно с предложением официального поклонения планетам.
(обратно)813
Laws 946bc, 947а. Это поклонение — не простая формальность: эвтюнои [судьи] должны реально присутствовать в теме-носе [священном месте] объединенного храма (946cd). К этому следует добавить, что предложение создать должность первосвященника (архиерея) является инновацией; во всяком случае, титул этот не засвидетельствован нигде до эллинистических времен (Reverdin, op. cit., 61 f.). Прежде всего, он отражает платоновское мнение о необходимости более жесткой организации религиозной жизни греческого общества. Первосвященник, однако, подобно другим жрецам, останется мирянином и будет исполнять свои обязанности только в течение года; Платон не принимал идеи профессионального жречества и считал, что она ведет к нарушению единства «Церкви» и государства, религиозной и политической жизни.
(обратно)814
См. Festugiere, Le Dieu cosmique (=La Revelation d'Hermes, II, Paris, 1949); и глава VIII, с. 349 настоящей книги.
(обратно)815
Божий фтонос отвергается недвусмысленно в Phdr. 247а, Tim. 29е (и Arist. Met. 983а).
(обратно)816
См. гл. II, прим. 32.
(обратно)817
Laws 903b: επωδών μύθων [«в зачаровывающих сказаниях»]; ср. 872е, где учение о воздаянии в будущих жизнях на земле называется μύθος ή λόγος ή ö τι χρή προσαγορεύειν αυτό [«слово или сказание — как бы это не называть»], и L. Edelstein, The Function of the Myth in Plato's Philosophy, Journal of the History of Ideas, 10 [1949] 463 ff.
(обратно)818
Ibid., 904c-905d; ср. также 728bc, и развитие этой идеи Плотином — Епп. 4. 3. 24.
(обратно)819
904d: Αϊδην τε καί τά τούτων έχόμενα τών ονομάτων έπονομάζοντες σφόδρα φοβούνται καί όνειροπολοϋσιν ζώτες διαλυθέντες τε τών σωμάτων [«...которые называются Аидом и тому подобными именами. Люди их сильно боятся, они им мерещатся и при жизни, и после отрешения души от тела»]. Судя по всему, Платон здесь предполагает, что народные поверья о преисподней имеют едва ли большую ценность, чем символическую. Но последние слова этого предложения вводят в недоумение: они едва ли означают «находясь во сне или в трансе», поскольку являются антитезой ζώντες; по-видимому, они подразумевают, что страх перед Аидом продолжается и после смерти. Желает ли Платон намекнуть, что испытывать подобный страх — плод виновного сознания — значит уже нахо диться в Аиде? Тогда это было бы в согласии с тем учением, которое он проповедовал начиная с «Горгия», — что преступление является наказанием перед самим собой.
(обратно)820
903cd, 905b. О значении этой точки зрения см. Festugiere, La Saintete. 60 ff., и V. Goldschmidt, La Religion de Piaton, 101 f. Она стала общим местом в стоицизме, напр., Chrysippus apud Plut. Sto. rep. 44, 1054 сл., Μ. Ant. 6. 45, и появляется также у Плотина в Епп. 3. 2. 14. Люди живут в космосе подобно мышам в большом доме — наслаждаются великолепием, предназначенным не для них (Cic. nat. deor. 2. 17.).
(обратно)821
отвечать тем же (лат.).
(обратно)822
Euthr. 14e. Ср. Laws 716e-717a.
(обратно)823
Rep. 364b-365a; Laws 909b (cp. 908d). Уже языкового сход ства в обоих отрывках, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы показать, что Платон имеет в виду один и тот же класс людей (Thomas, Έπέκεινα, 30; Reverdin, 226).
(обратно)824
Rep. 364e: πείθοντες ού μόνον ίδιώτας αλλά και πόλεις [«уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы»] (ср. 366ab: αί μέγισται πόλεις [«величайшие города»]), Laws 909b: ίδιώτας τε και ολας οικίας και πόλεις χρημάτων χάριν έπιχειρώσιν κατ' άκρας έξαιρείν [«отдельных людей, как и целые дома и государства, они, соблазненные деньгами, изводят в корне»]. Возможно, Платон подразумевает знаменитые исторические примеры типа очищения Афин Эпименидом (упомянутого в Laws 642d, причем о критском ораторе здесь говорится уважительно) или Спарты Талетом: ср. Festugiere, REG 51 [1938] 197. Boyance в REG 55 [1942] 232 возражал, что Эпименид не интересовался будущим. Но это верно только при допущении Дильса, что произведения, приписываемые ему, были «орфическими» выдумками — допущении, которое, независимо от того, правильно оно или нет, Платон вряд ли делал.
(обратно)825
Мне трудно поверить — как делают многие, на основании «Мусея и его сына» (Rep. 363с), — что Платон осуждал официальные элевсинские мистерии: ср. Nilsson, Harv. Theol. Rev. 28 [1935] 208 f., и Festugiere, loc. cit. Конечно, он не считал, что элевсинское жречество следует привлекать к суду за те преступления, которые, по его мнению, еще хуже, чем атеизм (Laws 907b). С другой стороны, в эпизоде из «Государства» Платон не ограничивается неприятием одних лишь «орфических» книг и практик. В соответствующем эпизоде из «Законов» Орфей совсем не упоминается.
(обратно)826
См. выше, прим. 6.
(обратно)827
Rep. 427bc; Laws 759с, 738bc.
(обратно)828
Я не думаю, что для Платона аполлоновская религия — просто благочестивая жизнь, некая фикция, которую поддерживают за ее социальную полезность. Скорее она отражает или символизирует религиозную истину на уровне εικασία [изображение], который может быть понят простым народом. Платоновский универсум был ступенчатым: как он верил в степени истины и реальности, также верил он и в степени религиозного проникновения в истину. Ср. Reverdin, 243 ff.
(обратно)829
Laws 873е. Скверна бывает во всех случаях человекоубийства, пусть даже невольного (865cd), а также при самоубийстве (873d), и требуется катарсис, который санкционируют дельфийские έξηγηταί. Заразительный характер миасмы в известных пределах признается допустимым (881de; ср. 916с и гл. II, прим. 43).
(обратно)830
Laws 907d-909d. Те, чье религиозное учение чрезмерно по своему антисоциальному размаху, должны пожизненно пребывать в одиночном заключении (909Ьс), в отвратительных условиях (908а) — их судьбу Платон справедливо рассматривает как то, что хуже смерти (908е). Тяжкие ритуальные преступления, такие как жертвоприношение богу в состоянии нечистоты, наказываются смертью (910е), как это и было в Афинах: опорой наказаний являлось старое поверье, что подобные проступки навлекают гнев богов на весь город (910b).
(обратно)831
Ibid., 967bc: «некоторые личности», которые некогда приносили себе неприятности ложным утверждением, что небесные тела — это «груда камней и земли», могут винить в них только самих себя. Но мнение о том, что астрономия — опасная наука, теперь, благодаря современным открытиям, устарело (967а); некоторые общие знания о ней — неизбежная часть религиозного воспитания (967d-968a).
(обратно)832
Корнфорд провел интересные параллели между позицией Платона и позицией Великого инквизитора из легенды, рассказанной в «Братьях Карамазовых» (The Unwritten Philosophy, 66 f.).
(обратно)833
Ср. Laws 885d; ούκ έπί τό μή δρΰν τά άδικα τρεπόμεθα οί πλείστοι, δράσαντες δ'έξακείσθαι πειρώμεΟα [«...прежде чем грозить нам суровыми карами, вы бы попробовали сперва убедить и наставить нас в том, что боги существуют»], и 888b: μέγιστον δέ... τό περί τούς θεούς ορθώς διανοηθέντα ζην καλώς ή μή [«самое же главное... это чтобы человек имел правильное представление о богах, от этого зависит, счастлив или несчастлив он в жизни»]. О широком распространении материализма см. 891b.
(обратно)834
Полностью «открытым», если я правильно понимаю этот термин, было бы общество, способы жизнедеятельности которого полностью определяются рациональным выбором между возможными альтернативами и проявления которого были бы сознательными и преднамеренными (по контрасту с полностью «закрытым» обществом, в котором любое проявление — бессознательно и в котором никто не мог бы совершить рациональный выбор). Такое общество никогда не существовало и не будет существовать; но допустимо говорить об относительно закрытых и относительно открытых обществах и можно в широком смысле понимать историю цивилизации как историю ее движения от первого типа ко второму. Ср. К. К. Popper, The Open Society and Its Enemies [London, 1945], и статью Одена, цитируемую ниже. О новизне ситуации в III в. см. Bevan, Stoics and Sceptics, 23 ff.
(обратно)835
W. Η. Auden, «Criticism in Mass Society», The Mint, 2 [1948] 44. Ср. также Walter Lippmann, A Preface to Morals, 106 ff., о «бремени оригинальности».
(обратно)836
См. с. 351 сл.
(обратно)837
Arist. Ε. N. 1177b 24-1178a 2. Ср. fr. 61: «человек — это бог, который может умереть».
(обратно)838
Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. Arnim (далее приводится как SVF), I. 146: Ζήνων ό Κιτιεύς ό Στωικός έφη... δείν... έχειν τό θείον έν μόνωτώνώ, μάλλονδέθεόν ήγεΐσθαι τόν νουν [«Зенон из Китиона, стоик... помещал бога только в ум, считая, что ум превыше бога»]. Бог (или божественное) есть «истинный разум, который проницает все вещи» (Diog. Laert. 7. 88, ср. SVF I. 160-162). Для подобного взгляда были прецеденты и в более ранней мысли (ср., напр., Diog. Apoll, fr. 5); но именно теперь он стал основанием систематической теории человеческой жизни.
(обратно)839
Epicurus, Epist. 3. 135: ζήσεις δέ ιός θεός έν ανθρώποις [«будешь жить, как бог среди людей»]. Ср. также Sent. Vat. 33; Aelian, V. Η. (- fr. 602 Usener); и Lucr. 3. 322.
(обратно)840
Arist. Met. 1072b 14: διαγωγή δ' εστίν οία ή αρίστη μικρόν χρόνον ήμϊν [*и жизнь его — самая лучшая, какая у нас бывает очень короткое время»].
(обратно)841
Гл. III, с. 123 сл.; с. 182-183.
(обратно)842
Ср. также Jaeger, Aristotle, 159 ff., 240 f., 396 f.; Boyance, Calle des Muses, 185 ff.
(обратно)843
Cic. Acad. post. 1. 38 = SVF. I. 199.
(обратно)844
О целостности псюхе — SVF II. 823 и др. Зенон определял патос как иррациональное и неестественное «нарушение ума» (SVF I. 205). Хрисипп пошел еще дальше, фактически отождествив пате с ошибочными суждениями — SVF III. 456, 461: Χρύσιππος μέν... άποδεικνύναι πειράται, κρίσεις τινός είναι τοΰ λογιστικοΰ τά πάθη, Ζήνων δ' ού τάς κρίσεις αύτάς, άλλά τάς έπιγιγνομένας αύταίς συστολάς και χύσεις, επάρσεις τε και πτώσεις της ψυχής ένόμιζεν είναι τό πάθη [«Хрисипп же объяснял страсти как суждения; Зенон не объяснял их таким образом, но "новейшие" признавали краткие и длительные, сильные и слабые страсти претерпеваниями души»].
(обратно)845
SVF III. 444: Stoici affectus omnes, quorum impulsu animus commovetur, ex nomine tollunt, cupiditatem, laetitiam, metum, maestitiam... Haec quattuor morbos vocant, non tarn natura insitos quam prava opinione susceptos: et idcirco eos censent exstirpati posse radicitus, si bonorum malorumque opinio falsa tollatur. [«Стоики изгоняют аффекты, которые пробуждают в человеческой душе импульсивное состояние — страсть, гнев, радость, страх, уныние... Четыре эти названные болезни не столь возникают по природе, сколь поддерживаются неправильным мнением, и потому лишь тогда возможно вырвать их с корнем, когда доброе мнение истребит дурное»]. Это характеристика святого из Тарна (Hellenistic Civilisation, 273).
(обратно)846
Ср. интересный анализ у Bevan, op. cit., 66 ff.
(обратно)847
В своей работе περί παθών [«О патосе»], на которую Гален опирался в трактате deplacitis Hippocratis et Piatonis. Ср. Pohlenz, NJbb Supp. 24 [1898] 537 ff., и Die Stoa, I. 89 ff.; Reinhardt, Poseidonios, 263 ff.; Edelstein, AJP 47 [1936] 305 ff. По-видимому, ложное единство зеноновской философии уже было разрушено Панэтием (Cic. Off. 1. 101), но Посидоний провел пересмотр еще дальше.
(обратно)848
Недавно обнаруженный трактат Галена, в котором большая часть материала, по-видимому, взята из Посидония, развивает этот аргумент в полную силу, приводя различия в характере, наблюдаемые в детях и животных: см. CQ 43 [1949] 82 ff.
(обратно)849
Galen: ότι ταΐς τοΰ σώματος κράσεσιν κτλ, ρ. 78. 8. ff. Müller: οό τοίνυν ουδέ Ποσειδωνίω δοκεΐ τήν κακίαν έξωθεν έπεισιέναι τοις άνθρώποις ούδεμίαν έχουσαν ρίζαν έν ταΐς ψυχαΐς ημών, όθεν όρμαψένη βλαστάνει τε καί αυξάνεται, άλλ' αυτό τουναντίον, καί γάρ ουν καί της κακίας έν ήμΐν αύτοΐς σπέρμιι. καί δεόμεθα πάντες ούχ οϋτω τοΰ φεύγειν τούς πονηρούς ώς τοΰ διώκειν τούς καθαρίσοντάς τε καί κωλύσοντας ημών τήν αΰξησιν τής κακίας [« из-за смешений, происходящих в теле» и т. п., «и Посидоний считает, что зло не извне проникает в жизнь людей, якобы не имея оснований в наших душах и, будучи привлеченным, возникает и увеличивается (в нас), но происходит изнутри. Ведь семя зла имеется в нас самих, и мы все не столь желаем избегать порочных людей, как преследовать тех, кто намеревается очистить (нас) и помешать увеличению в нас зла»]. Ср. plac. Hipp, et Plat., pp. 436. 7 ff. M.: в своем понимании лечения страстей Посидоний следовал Платону, а не Хрисиппу. Интересно, что конфликт в душе Медеи, которым Еврипид, поэт V в., указывал на незрелость тогдашней рационалистической психологии (см. гл. VI, с. 273), тоже сыграл роль в этом противостоянии, став объектом упоминаний, достаточно произвольных, со стороны обеих школ (Galen, plac. Hipp., p. 342 Μ.; ibid., p. 382 - SVF III. 473 ad fin.).
(обратно)850
Ср. Epic. Epist. 1. 81 сл.; Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 1. 29.
(обратно)851
Seneca, Epist. 89. 8: пес philosophia sine virtute est nee sine philosophia virtus [«нет ни философии без добродетели, ни добродетели без философии»]. Ср. Epic. Pap. Hare. 1251, col. xiii. 6: φιλοσοφίαςδι' ήςμόνηςέστινόρθοπραγεΐν [«только благодаря философии можно правильно поступать»].
(обратно)852
буквально «междумирие» (лат.).
(обратно)853
Ср. Philodemus, de dis III, fr. 84 Diels - Usener, Epicurea fr. 386; мудрый человек πειράται συνεγγίζειν αύτη (т. е. «тянется к божественному») καίκαθαπερείγλίχεταιθιγεΐνκαίσυνεΐναι [«стремится приблизиться к нему... прикоснуться и быть вместе с ним»].
(обратно)854
Festugiere, Le Dieu cosmique, xii f.; Epicure et ses dieux, 95 ff. Против того взгляда, что ранний стоицизм представляет собой вторжение «восточного мистицизма» в греческую мысль, см. Le Dieu cosmique, 266, п. 1, и Bevan, op. cit., 20 ff. Общее отношение философии к религии в это время хорошо показано у Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur, 106 ff.
(обратно)855
Согласно Диогену, Пиррон занимал пост первосвященника (Diog. Laert. 9. 64).
(обратно)856
SVF I. 146, 264-267.
(обратно)857
SVF II. 1076.
(обратно)858
Chrys. ibid. Подобная аллегоризация приписывается платонику Ксенократу (Aetius, 1. 7. 30 = Xen. fr. 15 Heinze).
(обратно)859
Ср. W. Schubart, «Die religiöse Haltung des frühen Hellenismus», Der Alte Orient, 35 [1937] 22 ff.; M. Pohlenz, «Kleanthes' Zeushymnus», Hermes, 75 [1940], особенно 122 ff. Фестюжьер сделал хороший комментарий к «Гимну» Клеанфа (Le Diea cos-mique, 310 ff.).
(обратно)860
Philodem, depietate, pp. 126-128 Gomperz = Usener, Epicurea, frs. 12, 13, 169, 387. Cp. Festugiere, Epicure et ses dieux, 86 ff.
(обратно)861
άνυ πέρβλητον αίσέβει] αν [«несмываемое бесчестие»], Philod., ibid., p. 112. О Платоне ср. гл. VII, с. 323. Эпикур принимал первое и третье из основоположений кн. 10 «Законов», но отвергал второе, вера в которое казалась ему главным источником человеческого несчастья.
(обратно)862
Epicurus apud Sen. Epist. 29. 10, добавляя: idem hoc omnes tibi conclamabunt, Peripatetici, Academici, Stoici, Cynici [«тебе то же самое будут заявлять все перипатетики, академики, стоики, киники»].
(обратно)863
До конца V в. в греческих эпитафиях редко упоминается судьба умершего; если же это происходит, они почти всегда имеют в виду гомеровский Аид (самое яркое исключение — эпитафия в Потидее, см. гл. V, прим. 112). Надежды на личное бессмертие начинают появляться в IV столетии — причем иногда они выражены языком, испытавшем элевсинское влияние — и становятся весьма нередкими в эпоху эллинизма, но не показывают больших следов каких-то конкретных религиозных учений. Реинкарнация в них никогда не упоминается (Cumont, Lux Perpetua, 206). Откровенно скептические эпитафии, по-видимому, начинаются с александрийских интеллектуалов. Но человек, подобный Каллимаху, мог поочередно использовать традиционный взгляд (Epigr. 4 Mein.), оптимистический (Epigr. 10) или скептический (Epigr. 13). В целом в этих источниках нет ничего противоречащего утверждению Аристотеля о том, что для большинства людей вопрос о смертности или бессмертии души остается открытым (Soph. Elench. 176ь 16). О проблеме в целом см. Festugiere, L'Ldeal rel. des grecs, Pt. II, chap. V, и К. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphe, Illinois Studies, 28 [1942].
(обратно)864
См. осторожный вердикт Шубарта (loc. cit., 11): «wo in solchen Äusserungen wirklicher Glaube spricht und wo nur eine schone Wendung klingt, das entzieht sich jedem sicheren Urteil» [«нельзя сказать наверняка, в каких случаях мы встречаемся с отражением действительно существовавшей веры, а в каких это просто красивый оборот речи»].
(обратно)865
Athenaeus, 253d = Powell, Collectanea Alexandrina, p. 173. Датировка не совсем ясна, возможно, это 290 г. до н. э.
(обратно)866
άλλοι μέν ή μακράν γαρ άπέχουσιν θεοί, ή ούκ έχουσιν ώτα,
ή ούκ εϊσιν, ή ού προσέχουσιν ήμΐν ουδέ εν, σέ δέ παρόνθ' όρώμεν. ού ξύλινον ουδέ λίθινον, άλλ' άληθινόν [«Другие же от богов далеки или не могут услышать
или увидеть их, или не устремляют себя к ним;
тебя же побудил подлинный бог;
не деревянный и не каменный, но истинный»]. Не понимаю, почему Ростовцев способен сказать в своей Ingersoll Lecture («The Mentality of the Hellenistic World and the Afterlife», Harvard Divinity School Bulletin, 1938—39), что здесь «нет богохульства и нет асебейи», если он использует эти термины в традиционном греческом смысле. А откуда он знает, что гимн этот является «взрывом искреннего религиозного чувства»? Современный тем событиям историк Демохар думал совсем иначе (apud Athen. 253а), и я лично не нахожу в этих словах ничего, что поддерживало бы подобный взгляд. Скорее всего, этот стих был написан по заказу (о мнении Деметрия см. Tarn, Antigonos Gonatas, 90 f.), и, возможно, он был составлен в духе Демосфена, который в свое время советовал собранию «признать Александра сыном Зевса — или Посейдона, если ему вздумается». Деметрий — сын Посейдона и Афродиты? Конечно, почему бы и нет — при условии, что он докажет это, принеся мир в борьбе с этолийцами.
(обратно)867
Athen. 253 сл. (взято от Дуриса или Демохара?): ταύτ' ηδον oi Μαραθωνομάχαι ού δημοσία μόνον, άλλα και κατ' οίκίαν [«радовались Марафонской (победе) не только всенародно, но и в домашнем кругу»].
(обратно)868
В последнем мы не уникальны. Пятое столетие, с одобрения Дельф, «героизировало» своих великих атлетов, а изредка своих великих мужей — видимо, в ответ на потребность в народе: это прославление происходило еще при их жизни. Тенденция к подобного рода явлениям, похоже, существовала во все времена и в каждом народе, но обычно удерживается в разумных пределах. Почести, которые оказывали Брасиду, бледнеют перед почестями, оказывавшимися почти каждому эллинистическому царю; и Гитлер был ближе к состоянию бога, чем любой правитель христианского периода.
(обратно)869
По-видимому, как только обычай был установлен, божественные почести часто приносились по поводу и без повода, даже самими греками; и в некоторых случаях это происходило к настоящему раздражению получателей почестей, например, Антигона Гоната, который, услышав, что его восхваляли как бога, сухо возразил: «Человек, который выносит мой ночной горшок, не замечает, что я бог» (Plut. Is. et Os. 24, 260cd).
(обратно)870
Поклонялись не только царям, но и отдельным благодетелям, иногда даже в течение всей их жизни (Tarn, Hellenistic Age, 48 f.). И отношение эпикурейцев к основателю их учения как богу (Lucr. 5. 8: deus ille fuit [«богом он был»]; Cic. Tusc. 1. 48: eumque venerantur ut deuni) [«с благодарным ликованием чтят как бога»] было укоренено в том же самом умонастроении — разве не был Эпикур более великий ευεργέτης [«благодетель»], чем любой царь? Да и Платон, если он и не получал божественные почести непосредственно после смерти (см. гл. VII, прим. 9), уже в то время, когда жил его племянник, считался сыном Аполлона (Diog. Laert. 3. 2). Эти факты, мне кажется, говорят против мнения Фергюсона — W. S. Ferguson, Amer. Hist. Rev. 18 [1912-1913] 29 ff., — что эллинистическое поклонение правителям было, в сущности, политической уловкой, и ничем больше, и что религиозный элемент здесь совершенно формален. В случае правителей почитание их как эуэргетес или сотер было, без сомнения, усилено — сознательно или бессознательно — архаичным мотивом «царской маны» (ср. Weinreich, NJbb 1926, 648 f.), который, в свою очередь, может пониматься как выросший из бессознательной идентификации царя с отцом.
(обратно)871
Nilsson, Greek Piety, 86. О глубоком впечатлении, оказываемом на человеческие умы конца IV в. происходившими событиями — непредсказуемыми, поистине революционными, — см. слова Dem. Phal. apud Polyb. 29. 21, и замечание Эпикура, что «многие» верят в то, что тюхе — это богиня (Epist. 3. 134). Ранний пример действительного поклонения — принесение Тимолеоном дара на алтарь Автоматии (Plut. Timol. 36; qua quis rat. 11, 542e). Эта безличная, нравственно нейтральная Сила — которая столь часто упоминалась в Новой комедии, — ср. Stob. Eel. 1.6 — есть нечто отличающееся от «удачи» индивида или города, которая имеет более старые корни (ср. гл. II, прим. 79, 80). Наилучшее исследование всей проблемы можно найти у Виламовица — Glaube, II. 298-309.
(обратно)872
Α. Kardiner, The Psychological Frontiers of Society, 443. Cp. Wilamowitz, Glaube, II. 271: «Das Wort des Euripides, νόμωκα'ι θεούς ηγούμεθα [«в законы и богов верим»], ist volle Wahrheit geworden» [«в словах Еврипида... содержится полная истина»].
(обратно)873
О ранних стадиях этого процесса см. Nilsson, Gesch. I. 760 ff.; о его важном значении в эллинистической эпохе — Festugiere, Epicure et ses dieux, 19.
(обратно)874
A. N. Whitehead, Religion in the Making, 6.
(обратно)875
Признанный труд по эллинистическим обществам — F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens. На английском языке см. Μ. Ν. Tod, Sidelights on Greek History, lecture iii. Психологическая функция подобных объединений в обществе, где традиционные связи распадались, хорошо показана у Grazia, The Political Community, 144 ff.
(обратно)876
В этом кратком очерке я не расматривал ситуацию на эллинизированном Востоке, где прибывшие греки обнаружили прочные культы негреческих богов, которым они оказывали должным образом почтение, иногда под греческими именами. На землях старой греческой культуры восточное влияние было все еще относительно слабым; на Востоке же греческие и местные формы культа жили бок о бок, не враждуя друг с другом, но, по-видимому, долгое время без попыток синкретизма (ср. Schubart, loc. cit., 5 f.).
(обратно)877
Dittenberger, Syll.3 894 (262/3 г. н. э.).
(обратно)878
IG VII. 53 (IV в. п. э.).
(обратно)879
Ср. Festugiere et Fabr, Monde greco-romain, II. 86.
(обратно)880
жизнь в бездействии (лат.).
(обратно)881
M. Arnold to Grant Duff, Aug. 22, 1879: «Но я все больше и больше постигаю великую неспешность вещей; и хотя мы склонны думать, что все изменится в нашей жизни, этого обычно не происходит».
(обратно)882
Это не отрицает существование организованной и стойкой оппозиции христианизации Империи. Но ее инициировал только крохотный класс эллинизированных интеллектуалов при поддержке активной группы консервативно настроенных сенаторов, а отнюдь не массы. О проблеме в целом см. J. Geffcken, Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums [Heidelberg, 1920].
(обратно)883
О превалировании скептицизма среди римского населении ср., например, Cic. Tusc. 1. 48: quae est anus tarn delira quae timeat ista? [«o каком страхе идет речь, о каком ужасе?»]; Juv. 2. 149 сл.: esse aliquid Manes, et subterranea regna... nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lavantur [«Что преисподняя есть, существуют какие-то маны... // В это поверят лишь дети, еще не платившие в банях»]; Sen. Epist. 24. 18: nemo tarn puer est ut Cerberum timeat [«нет столь ребячливых, чтобы они боялись Цербера»], и др. Эти риторические утверждения, однако, не следует принимать слишком буквально (ср. W. Kroll, «Die Religionsitat in der Zeit Ciceros». NJbb 1928, 514 ff.). С другой стороны, мы располагаем вырази тельным свидетельством Лукиана (Lucian, de luctu).
(обратно)884
В нижеследующих параграфах я буду опираться в основном на работу Фестюжьера L'Astrologie et les sciences occultes (= La Revelation d'Hermes Trismegiste, I [Paris, 1944]), которая является самым лучшим введением в античный оккультизм. Об астрологии см. также Cumont, Astrologie and Religion among the Greeks and Romans, и превосходный небольшой очерк Η. Gressmann, Die Hellenistische Gestirnreligion.
(обратно)885
Murray, Five Stages of Greek Religion, chap. IV.
(обратно)886
Hdt. 2. 82. 1. Впрочем, не совсем очевидно, что упоминается именно астрология.
(обратно)887
Cic. Div. 2.87: Eudoxus,... sic opinatur, id quod scriptum reli quit, Chaldaeis in praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse credendum [«Евдокс ... был того мнения, что халде ям, которые любому человеку по дню его рождения предсказывают все, что с ним произойдет в жизни, и пишут его гороскоп, менее всего следует верить»]. Платон тоже отрицает ее, по крайней мере, в подтексте, в Tim. 40cd; в поздней античности считалось, что этот пассаж относится именно к астрологии (см. комм. Тайлора на 40d), но вполне возможно и то, что Платон подразумевал только традиционный греческий взгляд на затмения как на предзнаменования. Из других авторов IV в., возможно, кое-что знал об астрологии Ктесий, и есть слабый намек на то, что и Демокриту она была известна (W. Capelle, Hermes 60 [1925] 373 ff.).
(обратно)888
Души нерожденных имеют характеры тех богов, которым они «следуют» (252cd), и эти 12 теои архонтес, по-видимому, располагаются в 12 знаках Зодиака (247а), с которыми их связывал Евдокс, хотя Платон не распространяется много на эту тему. Но Платон, в отличие от астрологов, склонен больше допускать свободу воли. Ср. Bidez, Eos, 60 ff., и Festugiere, Reo. de Phil. 21 [1947] 24 ff. Я согласен с последним в том, что «астрология» этого отрывка — не более чем фантазия. Примечательно, что Феофраст {apud Proclus, in Tim. III. 151. 1 сл.) все еще говорил об астрологии так, как если бы она была чисто чужеродным явлением (сомнительно, чувствовал ли он к ней то восхищение, которое приписывает ему Прокл).
(обратно)889
Festugiere, L'Astrologie, 76 ff. Некоторые из фрагментов книги «Нехепсо», которую называли «Библией астрологов», были собраны в: Riess, Philologus, Supp.-Band 6 [1892] 327 ff.
(обратно)890
Катон считает «халдеев» отбросами общества, с которыми землевладельцу не рекомендовалось консультироваться (Cato, de agri cultura 5. 4). Немного позже, в 139 г. до н. э., их в первый (но не в последний) раз изгнали из Рима (Val. Max. 1. 3. 3). В следующем столетии астрологи вернулись обратно, и в числе их клиентов вскоре оказались как сенаторы, так и землевладельцы.
(обратно)891
Epicur. Epist. 1. 76 сл., 2. 85 сл. (Ср. Festugiere, Epicure, 102 ff.). Одно предложение в 1. 79 звучит как специальное предупреждение против астрологов (Bailey ad loc).
(обратно)892
Диоген из Селевкии, называемый «вавилонянином», умер ок. 152 г. до н. э. Согласно Цицерону (Dio. 2. 90), он принимал, хотя и не полностью, астрологические идеи. Ранние стоики, вероятно, не считали нужным выражать какое-либо мнение на эту тему, поскольку Цицерон определенно говорит, что Панэтий (непосредственный наследник Диогена) — единственный из стоиков, который отвергал астрологию (ibid., 2. 88); в то время как Диоген — единственный, кто благоволил ей. См., однако, SVF II. 954, из которого явствует, что Хрисипп верил в гороскопы.
(обратно)893
предательство священников (фр.).
(обратно)894
Клеанф считал, что Аристарха следовало бы привлечь к суду (как Анаксагора раньше и Галилея позже него) за асебейю (Plut, de facie, 6, 923а = SVF I. 500). В III столетии это было уже невозможно; но кажется вероятным, что этот теологический предрассудок сыграл определенную роль в крушении гелиоцентризма. Ср. ужас от него, выраженный платоником Дерсилидом, apud Theon Smyrn., p. 200. 7 Hiller.
(обратно)895
Cic. Diu. 2. 87-99; Plot. Enn. 2. 3 и 2. 9. 13. Астрологи злорадствовали по поводу мучительной кончины Плотина, которую они объясняли как заслуженное наказание за его кощунственное отношение к звездам.
(обратно)896
См. М. Wellmann, «Die Θυσικά des Bolos», Abh. Berl. Akad., phil.-hist. Kl., 1928; W. Kroll, «Bolos und Demokritos», Hermes 69 [1934] 228 ff., и Festugiere, UAstrologie, 196 ff., 222 ff.
(обратно)897
Отсюда и мысль Эпикура, что лучше следовать народной религии, чем быть рабом звездной эймармене, т. к. последняя άπαραίτητον έχει τήν ανάγκην [«заключает в себе неумолимую необходимость»] (Epist. 3. 134). Неэффективность молитвы подчеркивалась ортодоксальными астрологами: ср. Vettius Valens, 5. 9; 6 prooem.; 6. 1. Kroll.
(обратно)898
Ср. приложение II, с. 430 сл.; также PGM I. 214, xiii. 612, и A. D. Nock, Conversion, 102, 288 f.
(обратно)899
SVF. II. 473 init: Хрисипп утверждает, что посредством всепроникающей пневмы συμπαθές έατιν αύτφ τό πάν [«пневму, находящуюся в симпатии по отношению ко всему»]. Ср. также II. 912. Подобная идея, конечно, отличается от доктрины особых оккультных «симпатий»; но, возможно, ее было легче принять образованным людям.
(обратно)900
Festugiere, op. cit., 199. Отсюда замечание Нильссона, что «античность не различала естественные и оккультные способности» (Greek Piety, 105). Но цели и методы Аристотеля и его учеников так отличаются от целей и методов оккультистов, как наука — от суеверия (ср. Festugiere, 189 ff).
(обратно)901
букв. «ломка мира» (нем.).
(обратно)902
В начале нашего века возникла мода, с легкой руки Шмекеля (Schmekel, Philosophie der mittleren Stoa), приписывать Посидонию чуть ли не всякую «мистическую», «потустороннюю» или «восточную» тенденцию, которая появлялась в поздней греко-римской мысли. Эти преувеличения подверглись критике со стороны Р. М. Джонса в ряде статей, опубликованных в CP [1918, 1923, 1926, 1932]. О более осторожной оценке системы Посидония см. L. Edelstein, AJP 57 [1936] 286 ff. Эдельштейн не находит в засвидетельствованных фрагментах доказательств того, что Посидоний либо увлекался Востоком, либо обладал глубокими религиозными чувствами. Но остается истиной, что его дуализм отвечал религиозным настроениям новой эпохи.
(обратно)903
О значении этой трансформации в Академии см. О. Gigon, «Zur Geschichte der sog. Neuen Akademie», Museum Helveticum, 1 [1944] 47 ff.
(обратно)904
«Неопифагорейцы создали скорее церковь, чем школу, религиозную общину, а не академию наук» — Cumont, After Life in Roman Paganism, 23. Неплохое описание общей картины неопифагореизма содержится в статье Фестюжьера в REG 50 [1937] 470 ff. (ср. также его L'Ideal religieux des Grecs, Pt. I, ch. V). Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains Кюмона приписывают неопифагорейству широкое влияние на популярные эсхатологические идеи; но ср. сомнение, выраженное Ноком в AJA 50 [1946] 140 ff., особенно 152 ff.
(обратно)905
Ср. Diog. Laert. 8. 27, и первый же вопрос в пифагорейском катехизисе: τί έστιν α'ι μακάρίον νήσοι; ήλιος και σελήνη; (Jamb. vit. Pyth. 82= Diels, Vorsocr. 58 С 4), с комментарием Delatte, Etudes sur la litt, pyth., 274 ff.; также Boyance, REG 54 [1941] 146 ff., и Gigon, Ursprung, 146, 149 f. Я не уверен, что эти старые пифагорейские поверья обязательно испытали на себе иранское влияние. Подобные фантазии могут возникать независимо друг от друга во многих частях мира.
(обратно)906
Это особенно подчеркивал Wellmann (op. cit., выше, прим. 60). Веллманн рассматривал самого Бола как неопифагорейца (вслед за Свидой), что, скорей всего, неверно (ср. Kroll, loc. cit., 231); но люди, подобные Нигидию Фигулу, очевидно, испытали его влияние.
(обратно)907
Нигидий Фигул, главная фигура в неопифагорействе, не только писал о сновидениях (fr. 82) и ссылался на мудрость магов (fr. 67), но и сам слыл практикующим оккультистом, который мог открыть спрятанные сокровища, используя мальчиков-медиумов (Apul. Apol. 42). Цицерон говорит, что Ватиний, который «называл себя пифагорейцем», и Аппий Клавдий Пульхр, возможно, принадлежавший к той же самой группе, занимались некромантией (in Vat. 14; Tusc. 1. 37; Div. 1. 132). И Варрон, похоже, самого Пифагора считал некромантом и гидромантом, скорее всего, на основании неопифагорейских апокрифов (Aug. Civ. Dei. 7. 35). Профессор Нок склонен приписывать неопифагорейцам существенную долю в систематизации магической теории и практики (J. Eg. Arch. 15 [1929] 227 f.)
(обратно)908
Романтическая реакция на естественную теологию была хорошо описана Доусоном в его книге Religion and Culture, 10 ff. Типичные черты этой реакции таковы: а) подчеркивание трансценденции Бога, что идет вразрез с той теологии, которая, по Блейку, «называет князя мира сего мировым "Богом"»; б) утверждение реальности зла и «трагического чувства жизни», в пику бесстрастному оптимизму XVIII в.; в) акцент на том, что религия коренится в чувстве и воображении, а не в разуме, что открывает путь к более глубокому пониманию и суеверному возвеличению «мудрости Востока». Новое направление религиозной мысли, которое началось в I в. до н. э., может быть описано точно в таких же терминах.
(обратно)909
В первые столетия Империи монизм и дуализм, «космический оптимизм» и «космический пессимизм» существовали бок о бок: оба встречаются, например, в Hermetica — и только постепенно последний завоевал первенствующее положение. Плотин, резко критикуя как крайний монизм стоиков, так и крайний дуализм Нумения и гностиков, пытается построить систему, которая удовлетворила бы обе эти тенденции. Звездное небо для императора Юлиана — все еще объект глубокого восхищения: ср. orat. 5, 130cd, где он говорит, как переживание в детстве прогулки в звездном свете заставило его впасть в трансоподобное состояние.
(обратно)910
Ср. Festugiere, L'Astrologie, chap. ix.
(обратно)911
Ср. Nock, «Α Vision of Mandulis Aion», Harv. Theol. Reu. 27 [1934] 53 ff.; и Festugiere, op. cit., 45 ff., где переведены и обсуждены несколько интересных текстов.
(обратно)912
Теургия была прежде всего техникой по достижению спасения посредством магии; см. прил. II, с. 427 сл. То же самое можно сказать и о некоторых ритуалах, описания которых сохранились на магических папирусах, например, описание знаменитого «рецепта бессмертия» (PGM iv. 475 ff.). Ср. Nock, «Greek Magical Papyri», J. Eg. Arch. 15 [1929] 230 ff.; Festugiere, L'Ideal religieux, 281 ff.; Nilsson, «Die Religion in den gr. Zauberpapyri», Bull. Soc. Roy. des Lettres de Lund, 1947-1948, ii. 59 ff.
(обратно)913
Nilsson, Greek Piety, 150. Я бы добавил, что оккультизм необходимо отличать от примитивной магии, которую описывают антропологи и которая является донаучной, дофилософской и, вероятно, дорелигиозной стадией, тогда как оккультизм — это псевдонаука или система псевдонаук, часто поддерживаемая иррационалиcтической философией и всегда использующая идеи прежних религий. Конечно, оккультизм следует также отличать и от современной дисциплины психических исследований, которая старается элиминировать оккультизм через изучение потенциальных «оккультных» феноменов и рациональную их проверку, и тем самым либо установить их субъективность, либо интегрировать их в общий корпус научного знания.
(обратно)914
Эпикур открыто высказывал презрение к культуре (fr. 163 Us., παιδείαν πάσαν φεύγε [«образования всякого беги..».], ср. Cic. fin. 1. 71. сл. = fr. 227), а также к науке, в той мере, в какой они не приближают идеал атараксии (Epist. 1. 79, 2. 85; Κύριαι Λόξαι, 11). Профессор Фэррингтон, по-моему, совершенно ошибочно делает его выразителем научного духа, по контрасту с «реакционерами-стоиками. Стоицизм тоже в целом был индифферентен к научным исследованиям, за исключением тех, которые могли бы подтвердить стоические догмы, и был готов подавлять их, когда они вступали с ним в противоречие.
(обратно)915
Плотин — выдающееся исключение. Он создал свою систему, проводя своеобразные семинары со свободным обсуждением Porph. vit. Plot. 13); он признавал ценность музыки и математики как подготовки к философии (Enn. 1. 3. 1; 1. 3. 3.), и, говорили, что он сам был искушен в этих предметэх, тэк же как в механике и оптике, хотя и не читал лекции по последним предметам (vit. Plot. 14); кроме того, как указывал Геффкен (Geffcken, Ausgang, 42), «он не успокаивается, достигнув вершины в своем учении и проповедничестве, но занят дальнейшим исследованием».
(обратно)916
Epictetus, Diss. 3. 23. 30: ίατρεΐόν έστιν, άνδρες, τό του φιλοσόφου [«мужи, место преподавания философа — лечебница»]; Sen. Epist. 48. 4: ad miseros advocatus es... perditae vitae perituraeque auxüium aliquod implorant [«для несчастий имеется утешитель... отчаянная жизнь умоляет об искусной помощи»]. Эпикурейцы утверждали, что интересовались περί την ημών ίατρείαν [«нашим врачеванием»]. (Sent. Vat. 64, ep. Epicurus, Epist. 3. 122: προς τό κατά ψυχήνύγιαΐνον [«для здоровья души»]). Филон из Лариссы έοικέναι φησϊ τόνφιλόσοφονίατρω [«походил, говорят, на врага философов»]. (Stob. Ecl. 2. 7. 2, pp. 39 f. W.), и самого Платона описывают в анонимном жизнеописании (vita, 9. 36 сл.) как целителя душ. Основной источник всего этого, несомненно, сократовская терапейя фюсес, но частое использование подобной медицинской метафоры тем не менее примечательно. О социальной функции философии в эллинистический период и позже см. особенно Nock, Conversion, chap. xi.
(обратно)917
Μ. Ant. 3. 4. 3: ιερεύς τις έστι και υπουργός [«жрец и служитель бога»].
(обратно)918
Justin Martyr, Dial. 2. 6. Ср. Porphyry, ad Marcellam 16: ψυχή δέ σοφοΰ αρμόζεται πρός Οεόν, άε'ι Οεόν όρά («Душа мудреца прилаживается к богу, всегда к богу, она с ним существует вместе»].
(обратно)919
Demetrius Cynicus (ок. I в. н. э.) apud Seneca, de beneficiis 7. 1. 5 сл.
(обратно)920
Как указывает Вендланд (Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur, 226 ff.), позиция язычников вроде Деметрия совпадает с позицией христианских авторов, таких как Арнобий, который считал, что любое мирское учение не является необходимым. И нет большой разницы между мнением краткого катехизиса о том, что «главная обязанность человека состоит в том, чтобы славить Бога и всегда радовать его», и взглядом язычника-герметиста, считавшего, что «философия состоит исключительно в поисках того, как познать Бога с помощью непрерывного созерцания и святого благочестия» (Asclepius 12).
(обратно)921
Пока что см. его Greek Piety (Eng. trans., 1948) и статьи: «The New Conception of the Universe in late Greek Paganism» (Eranos, 44 [1926] 20 ff.) и «The Psychological Background of late Greek Paganism» (Review of Religion, 1947, 115 ff.).
(обратно)922
Vol. I, L'Astrologie et les sciences occultes [Paris, 1944] содержит блестящее введение в эту серию; Vol. II, Le Dieu cosmique [Paris, 1949]. Ожидаются еще два тома, Les Doctrines de l'ame и Le Dieux inconnu et la Gnose. Посмертная книга Кюмона, Lux Perpetua, которая для освещения греко-римской эпохи делает столько же, сколько «Псюхе» Родэ сделала для освещения эллинизма, появилась слишком поздно, чтобы я успел воспользоваться ею.
(обратно)923
Бари полагал, что нет более вопиюще неверного использования «этого смутного и поверхностного слова — "декадент", чем в отношении греков III и II столетий» (Bury, The Hellenistic Age, 2); да и Тарн «позволяет себе сильно сомневаться в том, действительно ли у греков наблюдался упадок» (Tarn, Hellenistic Civilisation, 5). Что касается восточного влияния на позднюю греческую мысль, то текущая на данный момент тенденция состоит в уменьшении приписывания ему большого значения для эллинизма и обнаружении сильного влияния Востока на более ранних греческих мыслителей, особенно на Платона (ср. Nilsson, Greek Piety, 136 ff.; Festugiere, Le Deux cosmique, xii ff.). Такие личности, как Зенон из Китиона, Посидоний, Плотин и даже авторы философских разделов Hermetica, больше никоим образом не рассматриваются как «благоговеющие перед Востоком». Теперь также наблюдается реакция и против преувеличенных оценок влияния восточных мистериальных культов: ср. Nock, CAfi XII. 436, 448 f.; Nilsson, op. cit., 161.
(обратно)924
Ср. замечания Ν. Η. Baynes в JRS 33 [1943] 33. Стоит вспомнить, что творцы греческой цивилизации сами, по всей видимости, происходили из перекрестных браков между индоевропейцами и автохтонными народами.
(обратно)925
W. К. Halliday, The Pagan Background of Early Christianity, 205. Другие, с более вескими основаниями, указывали на незначительное количество представителей интеллектуальной прослойки и на полную неудачу высокообразованных умов оказать влияние на массы (напр., Eitrem, Orakel und Mysterien am Ausgang der Attike, 14 f.).
(обратно)926
Cp. Festugiere, LAstrologie, 5 ff.
(обратно)927
См. гл. II, прим. 92.
(обратно)928
В одной книге, напечатанной в 1946 г., говорится, что в США насчитывается около 25 тыс. практикующих астрологов и что около 100 американских газет снабжают своих читателей ежедневными гороскопами (В. Evans, The Natural History of Nonsense, 257). Я сожалею, что не располагаю соответствующими цифрами для Англии и Германии.
(обратно)929
Greek Piety, 140.
(обратно)930
L'Astrologie, 9.
(обратно)931
«Происходило очень много дискуссий, произносилось очень много слов — но все это было лишь упражнением в технических средствах» (фр.).
(обратно)932
Есть важные исключения из этого правила; это особенно относится к опытам Стратона по физике (ср. В. Farrington, Greek Science, II. 27 ff.), а также к областям анатомии и физиологии. В оптике Птолемей сделал ряд экспериментов, как показал A. Lejune в своей книге Euclide et Ptolemee.
(обратно)933
Ср. Farrington, op. cit., II. 163 ff., и Walbank, Decline of the Roman Empire.
(обратно)934
истинная причина (лат.).
(обратно)935
Cp. Erich Fromm, Escape from Freedom.
(обратно)936
Nock, Conversion, 241. Ср. идею Фромма о зависимости человека от «магического помощника» и вытекающей отсюда блокировки его спонтанности, op. cit., 174 ff.
(обратно)937
То, что мы обладаем лишь немногими свидетельствами из эллинистической эпохи, может вполне быть вызвано почти полным отсутствием прозаической литературы этого периода. Но и из них видны очень яркие примеры массового роста иррационалистической религии, например, дионисийского движения в Италии, которое было подавлено в 186 г. до н. э. или несколькими годами позже. Утверждали, что оно имеет большое число последователей, «чуть ли не целый народ». Ср. Nock, op. cit., 71 ff., Ε. Fraenkel, Hermes, 67 [1932] 369 ff.; и совсем недавно — J. J. Tierney, Proc. R. I. Α., 51 [1947] 89 ff.
(обратно)938
Theopr. CAar. 16 (28 J.); Plut. de superstitione 7, 168d. Cp. «The Portrait of a Greek Gentleman», Greece and Rome, 2 [1933] 101 f.
(обратно)939
Если верить Лукиану, Перегрин тоже обмазывал свое лицо грязью (Peregr. 17), хотя, возможно, делал это из других соображений. Лукиан объяснял все события в странной карьере Перегрина его стремлением к известности. В этом диагнозе вполне может содержаться элемент правды: эксгибиционизм Перегрина α la Диоген (ibid.), если это не просто особенность, традиционно приписываемая радикальным киникам, по-видимому, подтверждает подобное стремление лучше, чем мог знать сам Лукиан. Все же трудно читать сердитое повествование Лукиана без ощущения того, что Перегрин мало походил на вульгарного шарлатана. Степень его невроза приближалась временами к настоящему сумасшествию; тем не менее многие — и христиане, и язычники — видели в нем тейос анер [«божественного мужа»] и даже второго Сократа (ibid., 4 сл., 11 сл.); после смерти он был вознагражден культовыми почестями (Athenagoras, Leg. pro Christ. 26). Психолог, возможно, нашел бы лейтмотив его жизни во внутренней потребности бросить вызов любому авторитету (ср. К. v. Fritz в P.-W., s. v.). Кроме того, он мог бы еще предположить, что эта потребность уходила корнями в семейное положение, вспоминая зловещие сплетни о том, что Перегрин совершил отцеубийство, и вспомнив также те неожиданные слова, с которыми тот бросился в костер: δαίμονες μητρώοι και πατρώοι, δέξασΟέ με ευμενείς [ «Духи матери и отца, примите меня милостиво!»] (Peregr. 36).
(обратно)940
Ср. Wilamowitz, «Der Rhetor Aristides», Berl. Sitzb. 1925, 333 ff.; Campbell Bonner, «Some Phases of Religious Feeling in Later Paganiism», Harv. Theol. Rev. 30 [1937] 124 ff.; и выше, гл. IV, с. 172.
(обратно)941
Ср. Cumont, After Life, лекция 7. Плутархов дейсидаймон рассказывает об «открытых вратах Ада», огненных реках, стонах осужденных и т. д. (de superst. 4, 167а) — вполне в духе «Апокалипсиса Петра», который, возможно, был написан в эпоху Плутарха.
(обратно)942
Об амулетах см. важную статью К. Боннера в Harv. Theol. Rev. 39 [1946] 25 ff. Он указывает, что начиная с I в. н. э. в качестве магических предметов стали больше употреблять выгравированные геммы (которым в первую очередь и посвящена его статья). Одна компиляция, «Койраниды», старейшие части которой могут быть прослежены вплоть до этого столетия, изобилуют рецептами для получения амулетов против демонов, привидений, ночных кошмаров и т. п. Как далеко простирался страх перед демонами в поздней античности даже в среде образованных классов, можно видеть из мнения Порфирия о том, что каждый дом и каждое тело животного были наполнены ими (de philosophia ex oraculis haurienda, pp. 147 f. Wolff), или из утверждения Тертуллиана: nullum раепе neminem carere daemonio [«чуть ли не каждый человек обладает демоном»] (de anima 57). Правда, в конце III и IV столетиях н. э. были рациональные люди, которые протестовали против этих суеверий (ср. Plot. Enn. 2. 9. 14; Philostorgius, Hist. Eccl. 8. 10; и другие примеры, которые приводит Эдельштейн в «Greek Medicine in Its Relation to Religion and Magic», Bull. Hist. Med. 5 [1937] 216 ff.). Но они были в меньшинстве. У христиан же представление о том, что языческие боги являются настоящими злыми духами, увеличило этот страх еще больше. Нок заходит несколько далеко, заявляя, что «для апологетов, в том числе для Тертуллиана, действие искупительной жертвы Христа относится скорее к достижению независимости от демонов, чем к обретению неуязвимости от греха» (Conversion, 222).
(обратно)943
PGM VIII. 33 ff. (Ср. P. Christ. 3); άντίθεος πλανοδαίμων [«богоподобный, блуждающий даймон»] (vü. 635); κύων ακέφαλος [«безголовая собака»] (P. Christ. 15b).
(обратно)944
PGM VII 311 ff.; X.26.; ρ Christ. 10. Страх перед ночными кошмарами также присутствует у описанного Плутархом дейсидаимона (de superst. 3, 165е сл.).
(обратно)945
Полагаю, что в современной ситуации существуют элементы, которые делают ее совершенно непохожей на любую другую ситуацию в человеческом обществе прежних эпох, и тем самым ослабляют гипотезы циклического развития типа шпенглеровской. Эта точка зрения хорошо обоснована у Липпманна в: A Preface to Morals, 232 ff.
(обратно)946
Α. Malraux, Psychologie de l'art [Paris, 1949]. Ср. замечание Одена о том, что «неудача человеческого рода приобрести привычки, которые требует для своего функционирования открытое общество, приводит большое число людей к выводу, что открытое общество невозможно, и что поэтому единственный способ убежать от экономических и духовных бедствий — как можно быстрее вернуться к закрытому типу общества» (loc. cit. выше, прим. 2). А ведь едва ли минуло тридцать лет с тех пор, как Эдвин Бивен писал, что «идея некоей движущей общественной причины настолько въелась в современных людей, что мы едва ли можем вообразить мир, в котором надежда на улучшение и продвижение вперед совершенно отсутствует» (The Hellenistic Age, 101).
(обратно)947
Недавно Р. Дж. Коллингвуд говорил, что «иррациональные элементы — слепые силы и действия в нас; они не только являются частью человеческой жизни, но и входят составной частью в исторический процесс». Это согласуется с мнениями почти всех историков прошлого и настоящего. Мое собственное убеждение, отраженное и в этих главах, таково, что наш выбор понимания исторического процесса во многом зависит от того, какие понятия мы (достаточно произвольно) переносим на него. Похожую точку зрения постоянно подчеркивает Корнфорд относительно истории мысли: см. особенно его The Unwritten Philosophy, 32 ff. Что касается общей позиции, я соглашаюсь с выводами Л. Найта (L. Knight), изложенными в его Explorations: «мы нуждаемся не в игнорировании рационального, но просто в признании того, что разум за последние три столетия действовал в пределах того пространства, которое не может быть целостным опытом, и что он ошибочно принимал часть за целое и накладывал на это целое произвольные ограничения» (р. 111).
(обратно)948
Опубликовано: «Harvard Theological Review» как «Maenadism». Vol. 33 (1940).
(обратно)949
Традиционное понимание термина βακχεύειν имеет не слишком удачные ассоциации. Это слово означает не «проводить хорошо время», но «участвовать в определенном религиозном ритуале» и (или) «иметь определенный религиозный опыт» — опыт соединения с богом, превращающий человеческое существо в бакхос или бакхе.
(обратно)950
Fouilles de Delphes, III. i. 195; IG IX. 282, XII. iii. 1089; Fraenkel, In. Perg. 248 (cp. Suidas, s. ν. τριετηρίς); Hiller v. Gartringen, In. Prlene 113. 1. 79; IG XII. i 155, 730; Paus. 8. 23. 1; Ael. Var. Hist. 13. 2; Firm. Mat. Err. prof. rel. 6. 5. Триетеридес встречаются почти у половины эллинизированных будинов во Фракии — Hdt. 4. 108.
(обратно)951
Wiegand, Milet, IV. 547: εις όρος ήγε [«дошел до предела»]; ср. Bacch. 116, 165, 977, где предполагается, что εις όρος могло быть ритуальным криком.
(обратно)952
Waddington, Explic. des Insci: d'Asie Mineur, p. 27, no. 57. Является ли это название дионисийским, не совсем ясно. Но есть точные свидетельства о дионисийских орибасиях на Тиноле, восточной части той же горной гряды: Nonnus 40. 273: εις σκοπιάς Τμώλοιο βεόσσυτος ήιε βάκχη [«вакханки, ко Тмола родимым отрогам»]; Η. Orph. 49. 6: Τμώλος... καλόν Λυδοΐσι θόασμα [«Тмол ... привольный для плясок лидийских»] (отсюда и ιερόν Τμώλον [«Тмол священный»], Eur. Bacch. 65).
(обратно)953
Paus. 10. 32 сл. Обычно сомневаются в достоверности его утверждения.
(обратно)954
de primo frigido, 18, 953D.
(обратно)955
mal. virt. 13, 249E.
(обратно)956
Huxley, Ends and Means, 232, 235.
(обратно)957
Танец как форма поклонения долго существовал в некоторых американских сектах. Р. Стрэтчи (R. Stratchey, Group Movements of the Past, 93) приводит откровение одного старого «трясуна», сделанное столетием раньше: «Выходите вперед, старики, юноши и девы, и прославьте бога в танце, как умеете». В Кентукки, по-видимому, сакральный танец все еще практикуется членами Церкви Святости (Picture Post, December 31, 1938), а также еврейскими хасидами в Европе (L. Н. Feldman, Harv. Theol. Rev. 42 [1949] 65 ff.).
(обратно)958
Bearley, ARV 724. 1; Pfuhl, Malerei и. Zeichnung, fig. 560; Lawler, Memoires of the American Academy at Rome, 6 [1927], pi. 21, no. 1.
(обратно)959
Chronicle of Limburg [1374], цит. no: Α. Martin, «Gesch. der Tanzkrankheit in Deutschland», Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde, 24 [1914]. Похожим образом и Пляска Духов, по которой североамериканские индейцы испытывали страсти в 1890-е гг., продолжалась до тех пор, пока «танцоры, один за другим, не падали замертво на землю» (Benedict, Patterns of Culture, 92.).
(обратно)960
Цит. no: Martin, loc. cit., из различных документов той эпохи. Его сообщение дополняет и в некоторых местах корректирует классическую работу J. F. Hecker, Die Tanzwuth [1832: я цитирую английский перевод Бабингтона, Cassel's Library, 1888).
(обратно)961
Hecker, op. cit., 132 f. Так, Брюнель говорит, что в некоторых арабских танцах «контагиозное сумасшествие охватывает каждого» (Brunei, Essai sur la confrerie religieuse des Aissaoi'ia au Maroc, 119). Плясовое безумие в Тюрингии в 1921 тоже было очень заразительным (см. мое издание Bacchae, р. xiii, п. 1).
(обратно)962
Hecker, 156.
(обратно)963
Martin, 120 f.
(обратно)964
Hecker, 128 ff.; Martin, 125 ff.
(обратно)965
Hecker, 143 f., 150. Мартин (129 ff.) обнаруживает внешние и внутренние следы рейнских принудительных лечебных танцев в ежегодной танцевальной процессии Эстернаха, которая, как верят до сих пор, способна исцелять эпилепсии и другие схожие с ней психопатические болезни.
(обратно)966
Выраженная в Лаконии, вероятно, термином Δύσμαινοιι (таково название одной из трагедий Пратина — см. Nauck, TGF,2 р. 726). Неумение исследователей отличить «черных» менад, описываемых вестниками, от «белых» менад, о которых говорит хор, явилось причиной большого непонимания «Вакханок».
(обратно)967
Ср. Rohde, Psyche, ix, п. 21; Farnell, Cults, V. 120. Другие трактуют термины «Люсиос» и «Люайос» как «освободитель от условностей» (Wilamowitz) или «освободитель заключенных» (Weinreich, Tübinger Beiträge, V [1930] 285 f., ср. Bacch. 498).
(обратно)968
В вазовых изображениях менад Лоулер (Lawler, loc. cit., 107 f.) насчитала 38 случаев флейты и 26 тимпанов, а также 38 кротал [трещоток] или кастаньет (ср. Eur. Cycl. 204 f.). Она отмечает, что в «спокойных сценах никогда нет изображений тимпанов».
(обратно)969
О флейте ср. Ar. Pol. 1341а 21: ούκ έστιν ό αυλός ηθικόν άλλα μάλλον όργιαστικόν [«флейта — инструмент, способствующий оргиастическому возбуждению»]; Eur. Her. 871, 879 и гл. III, прим. 95 выше. О тимпанах в оргиастических культах в Афинах см. Aristoph. Lys. 1-3, 388.
(обратно)970
См. гл. III, с. 123-126.
(обратно)971
Martin, 121 f. В Италии также использовались турецкий барабан и пастушеская свирель (Hecker, 151).
(обратно)972
Cat. Attis 23; Ovid. Metam. 3. 726; Tac. Ann. 11. 31.
(обратно)973
С другими примерами можно познакомиться в: Furtvängler, Die Antike Gemmen, pi. 10, no. 49; pi. 36, nos. 35-37; pi. 41, no. 29; pi. 66, no. 7. Лоулер (op. cit., 101) насчитывает 28 случаев «сильно запрокинутой головы» у менад на вазах.
(обратно)974
Цит. по: Frazer, Golden Bough, V. i. 19. Также и в танцах вуду «их головы резко отбрасывались назад, как будто у них ломались шеи» (W. В. Seebrook, The Magic Island, 47).
(обратно)975
Frazer, ibid., V. i. 21.
(обратно)976
P. Richer, Etudes cliniques sur la grande hysterie, 441. Cp. S. Bardechi, «Das Psychopatische Substrat der Bacchae», Arch. Gesch. Med. 25 [1932] 288.
(обратно)977
О других античных свидетельствах по этому вопросу см. Rohde, Psyche, viii, η. 43.
(обратно)978
Benedict, Patterns of Culture, 176.
(обратно)979
O. Dapper, Beschreibung von Africa, цит. по: Т. K. Oesterreich, Possession, 264 (Eng. trans.). To же самое наблюдал Лейн у мусульманских дервишей (Manners and Customs of the Modern Egyp tians, 467 f.; Everyman's Library edition). См. также Brunei, op. cit., 109, 158.
(обратно)980
J. Warneck, Religion derBatak, цит. no: Oesterreich, ibid., 270.
(обратно)981
Α. Bastian, Völker des Oestlichen Asiens, Ш. 282 f.: «Когда Чао (демон-правитель) принужден благодаря заклинаниям спуститься в тело Кхон Сонга (который одет в одежду демона-правителя), последний остается неуязвимым вплоть до конца своих дней, и отныне его нельзя поранить никаким оружием» (цит. ibid., 353).
(обратно)982
Czaplicka, Aboriginal Siberia, 176.
(обратно)983
Binswanger, Die Mysterie, 756.
(обратно)984
A. von Gennep, Les Rites de passage, 161 f.
(обратно)985
Dawkins, JHS 26 [1906] 197; cp. Wace, BSA 16 [1909-1910] 237.
(обратно)986
Nonnus, 45. 294 сл. Ср. изображение менады на маленьком ящичке для драгоценностей (Британский музей) работы Мидия-живописца (Beazley, ARV 833. 14; Curtius, Pentheus, fig. 15), которая является современницей «Вакханкам». Ребенок, которого она несет, едва ли ее собственный, т. к. она довольно небрежно держит его за ногу, перекинув через плечо.
(обратно)987
Ср. Bearley, APV 247. 14; Horace, Odes 2, 19. 19.
(обратно)988
Demos, de cor. 259.
(обратно)989
Plut. Alex. 2; Lucian, Alex. 7.
(обратно)990
Cp. Rapp, ДА. Mus. 27 [1872] 13. Впрочем, даже Сабазий, если верить Арнобию, в сущности, щадил нервы своих почитателей, позволяя им использовать змею из металла (см. прим. 44). Змеи в дионисийской процессии Птолемея Филадельфа в Александрии (Athen. 5. 28) были, без сомнения, искусственными (равно как и имитации плюща и винограда), поскольку знатные дамы были έστεφανωμέναιόφεσιν [«увенчаны венками из змей»]: гирлянда из живых змей, даже ручных, могла бы распасться и испортить весь эффект.
(обратно)991
Picture Post, December 31, 1938. Я благодарен профессору Р. П. Уиннингтон-Ингрэму, обратившему мое внимание на эту статью. Ритуал заканчивался смертью от змеиного укуса, и по этой причине сейчас он запрещен законом. Держание змеи практикуется также в Чочулло в Абруццах как главный эпизод религиозного фестиваля; см. Marian С. Harrison, Folklore, 18 [1907] 187 ff., и Т. Ashby, Some Italian Scenes and Festivals, 115 ff.
(обратно)992
Protrept. 2. 16: δράκων δέ έστιν ούτος (sc. Σαβάζιος) διελκόμενος τοΰ κόλπου τών τελουμένων [«золотого ужа (т. е. Сабазия) запускают за пазуху и вынимают обратно»]; Arnob. 5. 21: aureus coluber in sinum demittitur consecratis et eximitur rursus ab inferioribus partibus atque imis [«золотого ужа опускают в углубление, освящают и вынимают из самых нижних частей обратно»]. Ср. также Firm. Mat. Err. prof. rel. 10.
(обратно)993
Dieterich, Mithrasliturgie, 124. Впрочем, бессознательные мотивы могут в обоих случаях быть сексуальными.
(обратно)994
Собрано в: Farnell, Cults, V. 302 f., nn. 80-84.
(обратно)995
Def. orac. 14. 417c: ημέρας αποφράδας και σκυθρωπάς, έν αίς ώμοφαγίαι καϊ διασπασμοί [«в неблагоприятные, суровые дни совершались омофагии и расчленения»].
(обратно)996
Milet, VI. 22.
(обратно)997
Об этом мне любезно сообщила мисс Н. К. Жолиффе. Этот арабский ритуал описывается также и Брюнелем (op. cit.; прим. 13 выше), 110 ff., 177 ff. Он добавляет существенную деталь: животного бросают с какой-то крыши или платформы, где его держат до последнего момента, чтобы толпа не разорвала его на куски раньше времени; и что фрагменты жертв (быка, теленка, овцы, козла, курицы) потом могут использоваться для изготовления амулетов.
(обратно)998
См. прим. 47.
(обратно)999
Ср. Benedict, Patterns of Culture, 179: «То отвращение, которое квакиутль (индейцы с острова Ванкувер) испытывали к акту поедания человеческой плоти, стало для них своеобразным выражением дионисийской природы, которая сочетает в себе ужасное и запретное».
(обратно)1000
Schol. Clem. Alex. 92 P. (Vol. I, p. 318, Stahlin); Photius, s. v. νεβρίζειν; Firm. Mat. Err. prof. rel. 6. 5.
(обратно)1001
Frazer, Golden Bough, V. ii, chap. 12.
(обратно)1002
Plut. Q. Rom. 112, 291a.
(обратно)1003
Ba. 743 сл. Ср. Schol. Aristoph. Ranae 360.
(обратно)1004
Ba. 138, cp. Arnob. ado. Nat. 5. 19.
(обратно)1005
Photius, s. v. νεβρίζειν. Ср. художественный тип менады неброфонос, недавно проанализированный Н. Philippart, Iconographie des «Bacchantes», 41 ff.
(обратно)1006
Galen, de antidot. 1. 6. 14 (в весеннем празднестве, возможно, в честь Сабазия).
(обратно)1007
Gruppe, Griech. Myth. и. Rel. 732.
(обратно)1008
См. мое введение к «Вакханкам», xvi f., xxiii ff.
(обратно)1009
Как оспоренное — Rapp, Rh. Mus. 27. 1 ff., 562 ff.; как принятое — напр., Marbach, P.-W., s. v., и Voigt, Roscher, s. ν. «Dionysos».
(обратно)1010
Опубликовано: «Journal of Roman Stadies» как «Theurgy». Vol. 37 (1947).
(обратно)1011
W. Kroll, de Oraculis Chaldaicus (Breslauer Philologische Abhandlungen, VII. i. 1894).
(обратно)1012
Catalogue des manuscrits alchimiques grecs (сокращ. CMAG), Vol. VI; Melanges Cumont, 95 ff. Ср. его «Notes sur les mysteres neoplatoniciens» в: Reu. Beige de Phil, et d'Hist. 7 [1928] 1477 ff., и его же Vie de t'Emp. Julien, 73 ff. О Прокопии из Газы как вероятном источнике для Пселла см. L. G. Westerink, Mnemosyne 10 [1942] 275 ff.
(обратно)1013
Hopfner, Griechisch-Aegyptische Offenbarungszuber (цит. далее как OZ); и во введении и комментарии на его перевод de mysteriis. Ср. также его статьи «Mageia» и «Theurgie» в P.-W. и ниже, прим. 115.
(обратно)1014
Eitrem; особенно «Die σύστασις und der Lichtzauber in der Magie», Symb. Oslo. 8 [1929] 49 ff.; и «La Theurgie chez les Neo-Platoniciens et dans les papyrus magiques», ibid., 22 [1942] 49 ff. Добротное исследование W. Theiler, Die Chaldaischen Orakel und die Hymnen des Synesios [Halle, 1942] касается доктринального влияния «Оракулов» на поздний неоплатонизм — темы, которую я не пытался обсуждать здесь.
(обратно)1015
Papyri Graecae Magicae, ed. Preisendanz (сокр. PGM).
(обратно)1016
Ср. Bidez-Cumont, Les Mages helltnists, I. 163.
(обратно)1017
образ действия (лат.).
(обратно)1018
τοΰ κληθέντος θεουργοΰ Ιουλιανού [«называемого теургом Юлиана»], Suidas, s. v.
(обратно)1019
Suidas, s. v.; cp. Proclus in Crat. 72. 10 Pasq., In Remp. II. 123. 12, и т. д. Пселл в одном месте (путая Юлиана с его отцом?) помещает его во времена Траяна (Scripta Minora I, p. 241. 29 Kurtz-Drexl).
(обратно)1020
Vie de Julien, 369, п. 8.
(обратно)1021
См. Eitrem, Symb. Oslo. 22. 49. Пселл, кажется, понимал это слово в последнем смысле, PG 122, 721d: θεούς τούς ανθρώπους εργάζεται [«делает людей богами»]. Ср. также герметическое «deorum fictor est homo» [«человек — изобретатель богов»], см. выше, с. 432.
(обратно)1022
Выражение Прокла υί έπί Μάρκου θεουργοί [ «теурги при Марке»] (in Crat. 72. 10, in Remp. II. 123. 12), видимо, относится одновременно и к отцу, и к сыну.
(обратно)1023
ad Philops. 12 (ГУ. 224 Jacobitz). Об этих схолиях см. Westerink, op. cit., 276.
(обратно)1024
Script. Min. I. 241. 25 ff., ср. CMAG VI. 163. 19 ff. Как указывает Вестеринк, источником этих утверждений, по-видимому, является Прокопий.
(обратно)1025
Marinus, vit. Prod. 26; ср. Procl. in Crat. с. 122. Относительно подобных заявлений о божественном происхождении, которые часто встречаются в эллинистической оккультной литературе, см. Festugiere, L'Astrologie, 309 ff.
(обратно)1026
ниспосланы богом (гр.).
(обратно)1027
Bousset, Arch. f. Rel. 18 [1915] 144, склонялся к более ранней дате, на основании совпадения доктрины Юлиана с идеями Корнелия Лабеона. Но и дата жизни самого Лабеона далеко не ясна, а совпадения могут просто означать, что юлиановские идеи распространялись в неопифагорейских кругах, где, как мы знаем, интересовались магией.
(обратно)1028
Script. Min. I. 241. 29; ср. CMAG VI. 163. 20. О доктринальных прорицаниях, полученных в видениях, см. Festugiere, op. cit., 59 f.
(обратно)1029
См. гл. III, прим. 70.
(обратно)1030
Kroll, op. cit., 53 ff. Пассажи о божественном огне напоминают описание рецепта бессмертия в PGM iv. 475 ff., которые во многих отношениях являются ближайшим аналогом «Халдейских оракулов». Юлиан (Or. V, 172d) приписывает халдеям (т. е. Юлиану) культ τόνέπτάκτιναθεόν [«семикратного бога»]. Этот солярный титул был передан в искаженном виде в двух эпизодах у Пселла: Script. Min. I. 262. 19: Έρωτύχην ή Κασόθαν ή Έπτακις (чтение Έπτάκτις), ήεΐ τις άλλος δαίμων απατηλός [«Эротюхе или Касатан или Гептакида (читай: Гептактида), или какое-либо другое и обманчивое божество»]; ibid., I. 446. 26: τόν "Επακτον (Έπτάκτιν — Bidez) ό Απουλήιος ορκοις καταναγκάσας μή προσομιλήσαι τφ θεουργω [«Апулей, принудивший клятвами Гепакта (Гептактиду) не общаться с теургом»] (sc. Юлиан). Ср. также Procl. in Tim. I. 34. 20: Ήλίφ, παρ' ψ... ό Έπτάκτις κατά τούς θεολόγους [«Гелиосу... Гептактида у теургов»].
(обратно)1031
Περί της χρυσής άλύσεακ; [«О золотой цепи»], Ann. Assoc. Et. Gr. 1875, 216. 24 ff.
(обратно)1032
Procl. in Tim. III. 120. 22: οί θεουργοί... άγωγήν αύτοΟ παρέδοσαν ήμΐν δι' ης εις αύτοφάνειαν κινεΐν αύτον δυνατόν [«теурги... передали нам руководство его, посредством которого он сам смог выразить себя»]: ср. Simpl. in Phys. 795. 4, и Damasc. Princ. II. 235. 22. И сюстасис, и агоге — обозначения «магического искусства», знакомые нам по магическим папирусам.
(обратно)1033
Procl. in Remp. II. 123. 9 ff.
(обратно)1034
Suidas, s. ν. Ιουλιανός. Приписывание подобной силы Юлиану подразумевается также Клавдианом (Claudian) в: de VI cons. Honorii, 348 f.; он говорит о «халдейской» магии. Другие версии этой легенды и детальный обзор современных дискуссий на эту тему содержатся в: А. В. Cook, Zeus, III. 324 ff. Этот Юлиан вполне мог быть спутан с Юлианом, который был командиром у Домициана в походе против даков (Dio Cass. 67. 10).
(обратно)1035
Script. Min. I. 446. 28.
(обратно)1036
S. Anastasius. Sin. Quaestiones (PG 89, col. 525a). О предполагаемом соперничестве Юлиана с Апулеем см. также Пселл, цит. выше, прим. 19.
(обратно)1037
Ср. Olympiodorus in Phaed. 123. 3 Norvin: οί μέν τήν φιλοσοφίαν προτιμώσιν, ώς Πορφύριος και Πλωτίνος και άλλοι πολλοί φιλόσοφοι οί δέ τήν ίερατικήν (т. е. теургия), ώς 'ήάμβλιχος καί Συριανός καί Πρόκλος καϊ ιερατικοί πάντες [«с одной стороны, предпочитающие философию, как Порфирий и Плотин и многие другие философы; с другой стороны, предпочитающие жреческое искусство, как Ямвлих, Сириан, Прокл и другие жрецы»].
(обратно)1038
Прозаическое предписание μή έξάξηςϊνα μή έξίη έχουσα τι [«не изгоняй, чтобы имеющая нечто не выпустила»], которое он приводит в Enn. I. 9 init., называется Пселлом (Expos, or. Chald. 1125с сл.), а также в поздних схолиях ad loc. «халдейским», но оно не может происходить из какой-нибудь поэмы в гекзаметрах. Эта доктрина — пифагорейская.
(обратно)1039
Porph. vit. Plot. 16. Ср. Kroll, Ph. Mus. 71 [1916] 350; Puech, Melanges Cumont, 935 ff. В похожем списке лжепророков — Arnob. adv. gentes 1. 52 — Юлиан и Зороастр фигурируют рядом друг с другом.
(обратно)1040
Ср. особ. с. 9, I. 197. 8 сл. Volk.: τοις δ' άλλοις (δει) νομίζειν είναι χώραν παρά τω θεώ καί μή αυτόν μόνον μετ' εκείνον τάξαντα ώσπερ όνείρασι πέτεσΟαι... τό δέ υπέρ νουν ήδη εστίν έξω νοϋ πεσείν [«другим не положено считать, что существует место бога и сам он не является как во сне... то, что сверх ума, находится вне ума»].
(обратно)1041
Enn. 4. 4. 37, 40. Замечено, что в течение всего своего анализа он пользуется презрительным словечком гоэтейя и не вводит никакие теургические термины. О стоической и неоплатонической концепции симпатии см. К. Reinhardt, Kosmos und Sympathie, и мои замечания в Greek Poetry and Life, 373 f. Теургистам подобные плотиновские трактовки казались совершенно неверными (de myst. 164. 5 сл. Parthey).
(обратно)1042
Symb. Oslo. 22. 50. Как замечает сам Айтрем, Лобек и Виламовиц думали иначе; и он мог бы добавить к ним Вильгельма Кролла (Rh. Mus. 71 [1916] 313 ) и Жозефа Бидеза (Vie de Julien, 67; САН XII. 635 ff.).
(обратно)1043
«Плотин, без сомнения, является родоначальником теургии» (фр.).
(обратно)1044
См. об этом CQ 22 [1928] 129. п. 2.
(обратно)1045
J. Cochez, Rev. Νέο-Scolastique, 18 [1911] 328 ff., и Melanges Ch. Moeller, 1. 85 ff.; Cumont, Mon. Plot, 25. 77 ff.
(обратно)1046
de abst. 4. 6; cp. de myst. 256. 16, 277. 4. См. далее убедительный ответ Кюмону со стороны Е. Peterson, Theol. Literatureitung, 50 [1925] 485 ff. Я бы добавил, что упоминание в Enn. 5. 5. 11 людей, которые не участвуют в мистериях из-за своей гастримаргии [прожорливости], возможно, относится к Элевсину, а не к Египту: παραγγέλλεται γάρ καί Έλευσϊνι άπέχεσθαι κατοικίδιων ορνίθων κα'ι ιχθύων κα'ι κυάμων ροιάς τε καί μήλων [« ведь в Элевсине требуется воздерживаться от домашних птиц, рыб и плодов гранатового дерева»], Porph. de abst. 4. 16.
(обратно)1047
Ср. CQ 22 [1928] 141 f., и Ε. Peterson, Philol. 88 [1933] 30 ff. Напротив, как правильно указал Айтрем (Symb. Oslo. 8. 50), магический и теургический термин сюстасис ничего общего не имеет с unio mystica.
(обратно)1048
См. интересное, тонкое и обстоятельное исследование Бидеза — La Vie du Neoplatonicien Porphyre. Похожее заражение мистицизма магией встречалось и в других культурах. «В религии часто бывает так, что не народные ее формы одухотворяются высоким созерцательным идеалом, но высшая религия оказывается захваченной и поглощенной иррациональными силами языческой преисподней, как случилось в тантрическом буддизме и некоторых видах индуизма» (Christopher Dawson, Religion and Culture, 192 f.).
(обратно)1049
νεός δέων ίσως ταϋτα έγραφεν, ώς έοικεν [«будучи молодым, написал такое, какое подобает необыкновенным»], Eun. vit. soph. 457 Boissonade; Bidez, op. cit., chap. iii.
(обратно)1050
Эти фрагменты были изданы W. Wolff, Porphyrii de Philosophia ex Oraculis Haurienda [1856]. Об общем характере этого сборника см. A. D. Nock, Oracles Theologiques, REA 30 [1928] 280 ff.
(обратно)1051
Фрагменты этого письма реконструированы (не очень тщательно) Гэйлом и перепечатаны в издании de mysteriis Parthey. О датировке см. Bidez, op. cit., 86.
(обратно)1052
apud Eus. Praep. Ευ. 5. 10, 199a (— fr. 4 Gale): μύτιποι αί θεών κλήσεις έσονται... καϊ έτι μάλλον αί λεγόμεναι άνάγκαι θεών άκήλητον γάρ καί άβίαστον καί άκατανάγκαστον τό απαθές [«пустыми будут заключения богов... и еще более так называемые веления богов, ведь бесстрастное необворожимо, непринуждаемо и не насильно навязываемо»].
(обратно)1053
Возможно, что в письме к Анебону не упоминались ни Юлиан, ни «Халдейские оракулы», т. к. в ответе Ямвлиха умалчивается о них. Является ли «теургия» de mysteriis действительно независимой от традиции Юлиана, еще предстоит исследовать. Автор, конечно, заявляет, что он знает «халдейские» (р. 4. 11) или «ассирийские» (р. 5. 8) доктрины столь же хорошо, как и египетские, и говорит, что представит и те и другие.
(обратно)1054
Marinus, uit. Pr. 26; Lydus, mens. 4. 53; Suidas, s. v. Πορφύριος.
(обратно)1055
Aug. Ciu. Dei 10. 32 - de regressu fr. 1 Bidez (Vie de Porphyre, App. II).
(обратно)1056
Ibid., 10. 9 = fr. 2 Bidez. О функции пневматике псюхе в теургии см. мое издание Прокловых «Начал теологии» (Elements of Theology, p. 319).
(обратно)1057
Ср. мнение Олимпиодора, выше, прим. 25.
(обратно)1058
Julian, Epist. 12 Bidez; Marin, uit. Pr. 26; Damasc. I. 86. 3 ff.
(обратно)1059
Трактат «О мистериях», хотя и вышедший под именем «Абаммона», был атрибутирован Ямвлиху Проклом и Дамаскином, и после диссертации Раше в 1911 г. большинство ученых уже не сомневалось в этом. Ср. Bidez, Melanges Desrousseaux, 11 ff.
(обратно)1060
Цит. по: Ямвлих. О египетских мистериях. М., 1995. С. 99.
(обратно)1061
безбожность (гр.).
(обратно)1062
очарование бездны (фр.).
(обратно)1063
Epist. 12 Bidez = 71 Hertlein = 2 Wright. Издатель Леб очевидно неправ, считая — вразрез с мнением Бидеза — что τόν όμώνυμον в этом пассаже означает Ямвлиха-младшего: τά Ίαμβλίχου εις τόν όμώνυμον [«сочинение Ямвлиха на одноименное»] не может означать «сочинения тезки Ямвлиха»; не был это и молодой Ямвлих-теософ.
(обратно)1064
тайный советник, «серый кардинал» (фр.).
(обратно)1065
Ср. то, что Евнапий говорит об одном из Антонинов, который умер незадолго до 391 г.: έπεδείκνυτοουδένθεουργόνκαί παράλογον ές τήν φαινομένην αϊσθησιν, τάς βασιλικάς ίσως ορμάς ύφορώμενος έτέρωσε φέρουσας [«он не показывал с виду не только ничего теургического, но и привлекающего внимание, поскольку опасался преследований со стороны царя»] (р. 471).
(обратно)1066
Так, Прокл изучал у Асклепигении теургике агоге «великого Нестора», единственной наследницей которого, через своего отца Плутарха, она была (Marinus, uit. Prodi 28). Об этой семейной передаче магических секретов см. Dieterich, Abraxas, 160 ff.; Festugiere, L'Astrologie, 332 ff. Диодор называет это халдейской практикой, 2. 29. 4.
(обратно)1067
Marinus, uit. Procli 26, 28. Трактат Пери агогес упоминается Свидой, s. ν. Πρόκλος.
(обратно)1068
Script. Min. I. 237 f.
(обратно)1069
Migne, PG 149, 538b ff., 599b; cp. Bidez, CMAG VI. 104 f., Westerink, op. cit., 280.
(обратно)1070
Наук исправляет на φησίν[θΗ говорит], что менее вероятно.
(обратно)1071
Среди поздних авторов этот случай упоминают Прокл (in Alc. P. 73. 4 Creuzer) и Аммиан Марцеллин (21. 14. 5). Но Прокл, который говорит: ό Αιγύπτιος τόν Πλωτινον έθαύμασεν tlx; θείον έχοντα τόν δαίμονα [«египтянин удивился Плотину как божественному человеку, имеющему даймона»], несомненно, основывается на сообщении Порфирия; по-видимому, это же относится и к Аммиану, заимствовавшему его прямо либо через доксографический источник.
(обратно)1072
«Иметь ценность аутентичного свидетельства» (фр.).
(обратно)1073
См. гл. II, с. 71 сл. Аммиан, loc. cit., говорит, что, в то время как каждый человек имеет собственного «гения», такие существа — admodum paucissimus visa [«видны очень немногочисленным людям»].
(обратно)1074
Поскольку сохранившаяся часть заговора — взывание к солнцу, Прайзенданц и Хопфнер думают, что вместо ηλίου [солнца] ошибочно принято ιδίου [своего]. Но утрата остальной части заговора (Айтрем), по-видимому, равным образом предполагает и другое возможное толкование. О подобных утратах см. Nock, J. Eg. Arch. 15 [1929] 221. Понятие идиос даймон, видимо, сыграло роль также и в алхимии: ср. Zosimus, Comm. in w 2 (Scott, Hermetica, IV. 104).
(обратно)1075
Напр., PGM iv. 1927. Похожим образом и в iv. 28 говорится, что необходимо место, обнажившееся сразу после разлива Нила и все еще неисхоженное, и ii. 147 τόπος αγνός άπό παντός φυσαροΰ [«место, свободное от любого нечестия»]. Так Thessalus, CCAG 8 (3), 136. 26 (οίκοςκαθαρός) [«чистый дом»].
(обратно)1076
apud Porph. de übst. 4. 6 (236. 21 Nauck). Он все еще говорит о άγνευτήρια τοις μή καθαρεύουσιν άδυτα καί πρός ιερουργίας αγια [« о частях храма, недоступных для неочистившихся и о священных местах для совершения таинств»] (237. 13). О магических практиках в египетских храмах см. Cumont, L'Egypte desAstrologues, 163 ff.
(обратно)1077
Напр., PGM iv. 814 ff. Ο φυλακή ср. Proclus в CMAG VI, 151. 6: άπόχρη γάρ πρός... φυλακήν δάφνη, ράμνος, σκύλλα, κτλ [«необходимы для... остерегания лавр, поплиар скилла и т. д.»]; а о защите от злобных духов на сеансах — Pythagoras Rhod. в Eus. Praep. Ευ. 5. 8, 193b; Psellus, Op. Daem. 22, 869B.
(обратно)1078
Обрызгивание кровью утки встречается в άπόλυσις, PGM ii. 178.
(обратно)1079
«невероятный» (фр.).
(обратно)1080
Fr. 29 = de myst. 241. 4 = Eus. Praep. Ευ. 5. 10, 198a.
(обратно)1081
CRAI1942, 284 ff. Можно усомниться в позднем характере датировки Кюмоном введения домашней птицы в Греции; но это не влияет на данный аргумент.
(обратно)1082
«Петух был создан для того, чтобы сражаться с демонами и колдунами вместе с собакой» — Darmesteter (цит. по: Cumont, loc. cit.). Вера в апотрапаические качества птиц во многих странах дожила до нынешнего дня. Об этой вере у греков см. Orth в P.-W., s. v. «Huhn», 2532 f.
(обратно)1083
Is. et Os. 46, 369 сл.
(обратно)1084
Греческое слово αποτρόπαιος означает «отвращающий несчастье» и является эпитетом богов, напр., Аполлона. Более позднее значение «ужасный», «отвратительный».
(обратно)1085
CMAG VI. 150. 1 ff., 15 ff. (частично основано на традиционной антипатии льва и петуха — Pliny, Ν. Η. 8. 52, и др.). Ср. Bolus, Φυσικά fr. 9 Wellmann (Abh. Berl. Akad., phil.-hist. KL, 1928, Nr. 7, p. 20).
(обратно)1086
Очень похожие идеи появляются в «рецепте достижения бессмертия», PGM iv. 475 ff., напр., 511: Ίνα θαυμάσω τό ιερόν πϋρ [«чтобы я восхитился священному огню»], и 648: έκ τοσούτων μυριάδων απαθανατισθείς έν ταύτη τή ά>ρα [«от этих мириад став бессмертным в это время»]. Кульминацией здесь тоже являются светящиеся видения (634 f., 694 ff.). Но теургический апа-танатисмос может быть связан с ритуалом погребения и перерождения; Procl. Theol. Plat. 4. 9, p. 193: τών θεουργών Οάπτειν τό σώμα κελευόντων πλήν τής κεφαλής έν τή μυστικωτάτη τών τελετών [«если повелят, хоронить, кроме головы, и тело теургов, во время самого мистического из таинств»] (ср. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, 163).
(обратно)1087
Пселл, хотя он тоже связывает телестике со статуями, объясняет термин иначе: τελεστική δέ επιστήμη έστ'ιν ή οίον τελούσα (так в манускрипте) τήν ψυχήν διά τής τών ένταΰθ' υλών δυνάμεως [«есть наука, посвящающая душу посредством силы определенных веществ»] (Expos, or. Chald. 1129d, in PG, Vol. 122). Гиерокл, который представляет иную традицию, считает телестике искусством очищения пневмы (in aur. carm. 482а Mullach).
(обратно)1088
Пселл говорит, что «халдеи» διαφόροις ϋλαις ανδρείκελα πλά-τγοντες αποτρόπαια νοσημάτων εργάζονται [«делают человекоподобные изображения при помощи различных веществ для защиты от болезней»] (Script. Min. I. 447. 8). О сюмбола ср. строку, которую приводит Прокл, in Crat. 21. 1: σύμβολα γάρ πατρικός νόος έσπιειρεν κατά κόσμον [«ведь отцовский ум расположил знаки по порядку»].
(обратно)1089
Epist. 187 Sathas (Bibliotheca Graeca Medii Acui, V. 474).
(обратно)1090
CMAG VI. 151. 6; ср. также in Tim. I. 111. 9 сл.
(обратно)1091
в связи, в отношении (фр.).
(обратно)1092
Ср. Proclus в CMAG VI. 148 сл., с введением Бидеза, и Hopfner, OZ I. 382 ff.
(обратно)1093
Аналогичную практику можно обнаружить в современном Тибете, где в священные статуи, точнее, в их полые части, вкладываются письменные листки с заклинаниями, а также другие магически ориентированные предметы (Hastings, Encycl. of Religion and Ethics, VII. 144, 160).
(обратно)1094
Cp. R. Wünsch, Sethianische Verfluchtungstafeln, 98 f.; A. Audollent, Defixionum Tabellae, p. lxxiii; Dornseiff, Das Alphabet In Mystik, и Magie, 35 ff.
(обратно)1095
Procl. in Tim. II. 247. 25; cp. in Crat. 31. 27. Порфирий тоже включал в свой список теургической materia magica как «figurationes», так и «soni certi quidam ас voces» [«определенные звуки и голоса»] (Aug. Ciu. Dei. 10. 11).
(обратно)1096
Marin, oit. Pr. 28; Suidas, s. ν. Χαλδαϊκοΐς έπιτηδεύμασι. Ср. Psellus, Epist. 187, где мы узнаем, что не все формулы действенны: εί μή τις ταύτα έρεΐ ύποψέλλω τή γλώσση ή έτέρο>ς ώς ή τέχνη διατάττεται [«если кто-либо не говорит косноязычным голосом или как-то необычно, то искусство расстраивается»].
(обратно)1097
Psellus, в CMAG VI. 62. 4, говорит, что Прокл советовал призывать Артемиду (= Гекату) как ξιφηφόρος, σπειροδρακοντόζωνος, λεοντοΰχος. τρίμορφος τούτοις γάρ αυτήν φησι τοις όνόμασιν έλκεσθαι καί οιον έξαπατάσθαι καί γοητεύεσθαι [«меченосную... львиноподобную, три-ликую. Говорят, что ее призывают этими именами, и она привораживает и обманывает»].
(обратно)1098
Procl. in Crat. 72. 8. Ср. божье имя, которое «пророк Бит» обнаружил вырезанным в иероглифах в храме Саиса и открыл «царю Аммону», de myst. 267. 14.
(обратно)1099
Psellus, expos, or. chald. 1132C; Nicephoras Gregoras, in Synes. de insomn. 541a. Cp. Corp. Herm. xvi. 2.
(обратно)1100
Ср. греческие переводы таких магических имен — Clem. Alex. Strom. 5. 242, и Hesych. s. ν. Έφέσια γράμματα.
(обратно)1101
См. Wellmann, Abh. Berl. Akad., phil.-hist. Kl., 1928, Nr. 7; Pfister, Byz. Ztschr. 37 [1937] 381 ff.; K. W. Wirbelauer, Antike Lapidarien [Diss. Berl., 1937]; Bidez — Cumont, Les Mages Hellenists I. 194; Festugiere, UAstrologie, 137 ff., 195 ff.
(обратно)1102
PGM viii. 13; vii. 781. Cp. vii. 560: ήκέ μοι πνεύμα τό άεροπετές, καλούμενονσυμβόλοις και όνόμασινάφθέγκτοις [«приди ко мне, дух, парящий в воздухе, которого призывают тайными знаками и именами»], и iv. 2300 ff.; Hopfner, P.-W., s. v. «Mageia».
(обратно)1103
Ср. J. Kroll, Lehren des Hermes Trismegistos, 91 ff., 409; C. Clerc, Les Theories relatives au culte des images chez les auteurs grecs du II' siede apres J.C.; Geffcken, Arch. f. Rel. 19 [1919] 286 ff.; Hopfner, P.-W., s. v. «Mageia», 347 ff., и OZ I. 808-812; E. Bevan, Holy Images.
(обратно)1104
Cp. Plot. Enn. 4. 3. 11 (Η. 23. 21 Volk.): προσπαθές δέ τό όπωσοΰν μιμηΟέν, ώσπερ κάτοπτρον άρπάσαι είδος τι δυνάμενον [«подражание, подобно зеркалу, может притянуть некое изображение»], где όπωσοΰν, по-видимому, подразумевает отрицание особой ценности магических ритуалов освящения.
(обратно)1105
порча, чары (фр.).
(обратно)1106
Erman, Die ägyptische Religion, 55; A. Moret, Ann. Musee Guimet, 14 [1902] 93 f.; Gadd, Divine Rule, 23. Евсевий, видимо, знает об этом: он называет ξόανων ιδρύσεις [изваяние статуй] в числе религиозных и магических практик, заимствованных греками в Египте (Praep. Εν. 10. 4. 4). Простой ритуал посвящения путем принесения χύτραι [горшков] был в ходу в классической Греции (тексты в: G. Hock, Griech. Weihegebräuche, 59 ff.).
(обратно)1107
Asclep. III. 24a, 37a—38a {Corp. Herm. I. 338, 358 Scott). Ср. также Preisigke, Sammelbush, no. 4127, ξοάνω (так Нок для αοανω) τε σφ και ναω έμπνοιαν παρέχων καί δύναμιν μεγάλην [«твоему материальному образу и храму сообщающий оживление и великую силу»], и Numenius apud Orig. с. Cels. 5. 38.
(обратно)1108
Это также время, когда в больших количествах начинают появляться геммы с выгравированными магическими фигурами или формулами (С. Bonner, «Magical Amulets», Harv. Theol. Rev. 39 [1946] 30 ff.). Подобное совпадение не случайно: магия входит в моду.
(обратно)1109
Легенды о чудесах, совершаемых общественными культовыми статуями, были, конечно, не меньше распространены в эллинистическом мире, чем в эпоху Средневековья: Павсаний и Дион Кассий часто описывают их; Плутарх (Camillus 6), есть locus classicus [классический случай]. Но подобные чудеса обычно рассматривались как спонтанный акт божественной милости, а не как результат магического идрюсиса [сооружения] или ката-клесиса [запирания]. О позиции классических греков см. Nilsson, Gesch. der Griech. rel. I. 71 ff.; вплоть до времени Александра рационализм, по-видимому, был в целом достаточно силен, чтобы удержать под контролем (по крайней мере, в образованном классе) тенденцию к приписыванию божественных сил статуям — общественным или частным. В более позднюю эпоху вера в их оживление могла иногда поддерживаться с помощью мошеннических изобретений; см. F. Poulsen, «Talking, Weeping and Bleeding Sculptures», Acta Archaelogica, 16 [1945] 178 ff.
(обратно)1110
Apul. Apol. 63. Cp. P. Vallette, L'Apologie d'ApuUe, 310 ff.; Abt, Die Apologie des А. и. die antike Zauberei, 302. Подобные статуэтки, находившиеся в постоянном владении, конечно, несколько отличаются от образа, сконструированного ad hoc для использования в конкретном праксисе.
(обратно)1111
Philops. 42: έκ πηλού Έρώτιόν τι άναπλάσας, "Απιθι. έφη, καί άγε Χρυσίδα [«из глины слепив какую-то статуэтку Эрота, сказал: отпусти и приведи Хрисиду»]. Ср. ibid. 47, и PGM iv. 296 ff., 1840 ff.
(обратно)1112
vit. Apoll. 5. 20.
(обратно)1113
Одушевленные статуи, возможно, играли какую-то роль в классической греческой магии Гекаты; см. любопытные примечания Свиды, s. w. Θεαγένης и Έκάτειον, и ср. Diodorus 4. 51, у которого Медея вкладывает в полую статую Артемиды (Гекаты) фармака, вполне в египетской манере.
(обратно)1114
Eus. Praep. Ευ. 5. 12 = de phil. ex orac, pp. 129 f. Wolff. Так, создатель идола из PGM iv. 1841 просит его послать ему сновидения. Это помогает объяснять упоминание «somnia» в пассаже из «Асклепия».
(обратно)1115
См. фрагменты у Бидеза в Vie de Porphyre, App. I.
(обратно)1116
Photius, Bibl. 215. Его сведения из вторых рук, но могут быть приняты как иллюстрация того, на что направлен аргумент Ямвлиха. Ср. Julian, epist. 89b Bidez, 293ab.
(обратно)1117
Eunap. uit. soph. 475. Ср. PGM xii. 12. Πΰρ αύτόματον [«самовозникающий огонь»] — старая часть иранской магии (Paus. 5. 27 сл.), традицию которой, вероятно, сохранил Юлиан. Но она была известна и обычным заклинателям (Athen. 19е; Hipp. Ref. Haer. 4. 33; Julius Africanus, Κεστοί, p. 62 Vieillefond). Она вновь всплывает в средневековой агиографии, напр., у Кесария из Гай-стербаха, «Диалог о чудесах», 7. 46.
(обратно)1118
Suidas, s. v. Его «психическая» одаренность, кроме того, видна и в том факте, что простое физическое соседство нечистой женщины всегда вызывало у него головную боль.
(обратно)1119
Th. de Causons, La Magie et la sorcellerie en France, II. 338 (ср. также 331, 408).
(обратно)1120
Ср. приложение III в издании Вольфом de phil. ex orac. Порфирия; Η. Diels, Elementum, 55 f.; Burckhardt, Civilisation of the Renaissance in Italy, 282 f. (Eng. ed.); Weinreich, Antike Heilungswunder, 162 ff.; C. Blum, Eranos, 44 [1946] 315 ff. Малала даже объяснял достоинства троянской обороны силой телесма топойос (Dobschütz, Christusbilder, 80 f.).
(обратно)1121
Olymp. Theb. в Müller's FHG IV. 60. 15 (= Photius, Bibl. 58. 22 Bekker). Огонь и вода, несомненно, символизировали характерес. То, что именно эти два элемента используются в теургических очищениях (Procl. in Crat. 100. 21), может быть совпадением.
(обратно)1122
Р. Kraus, Jäbir et la science grecque (=Мёт. de l'Inst. d'Egypte, 45, 1942). Я обязан д-ру Вальцеру моим знанием этой интересной книги.
(обратно)1123
Порфирий фигурирует как алхимик у Бертло (Berthelot) в его Alchlm. grecs, 25, а также в арабской традиции (Kraus, op. cit., 122, прим. 3). Но неизвестно ни одной подлинной его работы по алхимии. Впрочем, Олимпиодор, да и другие поздние неоплатоники увлекались алхимией.
(обратно)1124
Упоминания ad Aneb. в арабской литературе приводятся Краусом, op. cit., 128, п. 5.
(обратно)1125
Не знаю, по какой причине Хопфнер (OZ II. 70 ff.) исключает оба эти типа действий из своего определения «собственно теургического прорицания». Когда мы определяем термин, подобный «теургии», следует руководствоваться, как кажется, античными свидетельствами, а не априорной теорией.
(обратно)1126
См. гл. III, с. 104. О простых людях, заявлявших, что они — языческие боги и понятых в качестве таковых христианским экзорцистом, ср. Min. Felix, Oct. 27. 6 f., Sulpicius Severus, Dial. 2. 6 (PL 20, 215c) и т. д.
(обратно)1127
in Remp. II. 123. 8 сл. Судя по контексту, цель этой телете была, возможно, той же, что и воображаемый эксперимент с ψυ-χουλκός ράβδος [«одушевленной палкой»], о котором Прокл говорит в 122. 22 сл на основании Клеарха и который вызывает скорее «психическое путешествие», чем одержимость; в любом случае он должен привести к некоей разновидности транса.
(обратно)1128
F. Myers, «Greeks Oracles», в: Abbott, Hellenica, 478 ff.
(обратно)1129
Строки 216 сл. Wolff (= Eus. Praep. Ευ. 5. 9). Г. Хок (G. Hock, Griech. Weihegebräuche, 68) принимает эти указания как относящиеся к уходу божества из статуи. Но такие фразы как βροτόςΟεόν ούκέτι χωρεί, βροτόν αίκίζεσΟε. ανάπαυε δέ φώτα, λύσόν τε δοχήα, άρατε φιώτα γέηθεν άναστήσαντες εταίρο [«смертный ничуть не уступает богу, вы же, товарищи, мучьте смертного, успокаивайте мужа, освобождайте сосуд, встаньте, прославьте мужа»], могут относиться только к человеческому медиуму («духи-руководители» на современных сеансах постоянно говорят с медиумом похожим образом, в 3-м лице).
(обратно)1130
Это утверждается в нескольких оракулах Порфирия, напр., 1. 190: Οειοόάμοις Έκάτην με θεήν έκάλεσσας άνάγκαις [«ты назвал меня божественной Гекатой в своих заклинаниях»], и Пифагором из Родоса, которого Порфирий цитирует в этой связи (Praep. Ευ. 5. 8). Принуждение отвергается в de myst. (3. 18, 145. 4 сл.), где также утверждается, что «халдеи» не используют угрожающие слова в адрес богов, тогда как египтяне используют (6. 5-7). О предмете в целом ср. В. Olsson в DRAGMA Nilsson, 374 ff.
(обратно)1131
В CMAG VI. 151. 10 сл. он упоминает очищение серой и морской водой; оба вида очищений известны из классической греческой трагедии: о сере ср. Horn. Od. 22. 481, Theoer. 24. 96, и Eitrem, Opferritus, 247 ff.; о морской воде — Dittenberger, Syll.3 1218. 15, Eur. IT. 1193, Theophr. Char. 16. 12. Новой является цель — подготовить «anima spiritalis» к восприятию более высокого бытия (Porph. de regressu fr. 2). Ср. Hopfner, P.-W., s. ν. «Mageia», 359 ff.
(обратно)1132
Ср.: λύσατε μοι στεφάνους [«сними с меня венки»] в оракуле Порфирия (Praep. Ευ. 5. 9), и мальчик Эдесий, который, «едва лишь надел венок и взглянул на солнце, впал в состояние истинного вдохновения и сумел сделать правильные прорицания» (Eun. vit. soph. 504).
(обратно)1133
Porph. loc. cit.
(обратно)1134
Proclus в CMAG VI. 151. 6: άποχρή γάρ πρός μέν αύτοφάνειαν τό κνέωρον [«ведь достаточно для самоосуществления»].
(обратно)1135
in Remp. II. 117. 3; ср. 186. 12. Пселл правильно называет это египетской практикой (Ер. 187, р. 474 Sathas): ср. PGM V, и демотический магический папирус Лондона и Лейдена, verso col. 22. 2.
(обратно)1136
de myst. 157. 14. Olympiodorus, in Ale. p. 8 Cr., говорит, что дети и сельские люди более пригодны к энтусиасмосу благодаря тому, что у них слабо развито воображение (!).
(обратно)1137
Ср. интересную статью Hopfner, «Die Kindermedien in den Gr.-Aeg. Zauberpapyri», Festschrift N. P. Kondakov, 65 ff. Обычно считалось, что причиной предпочтения детей в качестве медиумов была их девственность, однако в реальности эффективность процесса объяснялась их повышенной внушаемостью (Ε. М. Butler, Ritual Magic, 126). Пифия времен Плутарха была простой деревенской девушкой (Plut. Pyth. Orac. 22, 405с).
(обратно)1138
Ср. лорд Бальфур (Balfour) в Proc. Soc. for Psychical Research, 43 [1935] 60: «Миссис Пайпер и миссис Леонард, находясь в трансе, похоже, теряют всякое ощущение личной идентичности, тогда как, насколько может судить наблюдатель, это никогда не происходит с миссис Уиллетт. Ее трансовые погружения сопровождаются замечаниями, которыми она описывает свои переживания, и изредка она даже делает комментарии... тех сообщений, которые ее просят передать». См. также гл. III, прим. 54, 55.
(обратно)1139
ού φέρουσιν. Это объясняет строку ού φέρει με τού δοχήος ή τάλαινα καρδία [«страждущее сердце сосуда не выдерживает меня»], цитируемую Procl. in Remp. I. III. 28.
(обратно)1140
Proc. Soc. Psych. Research, 28 [1915]: изменения в голосе, конвульсии, скрежетание зубов — pp. 206 ff.; частичная анестезия — pp. 16 f. Нечувствительность к огню приписывалась медиуму Д. Д. Хоуму и всегда связывалась с паранормальными психологическими состояниями во многих частях мира (Oesterreich, Possession, 264, 270, Eng. trans.; R. Benedict, Patterns of Culture, 176; Brunei, Aissäoua, 109, 158).
(обратно)1141
Ср. PGM vii. 634: πέμψοντόνάληθινόν Άσκληπιόνδίχατινόςάντιθέου πλανοδαίμονος [«пошли истинного Асклепия, а не какое-нибудь богоподобное блуждающее божество»]; Arnob. adv. nat. 4. 12: magi suis in accitionibus memorant antitheos saepius obrepere pro accitis [«маги рассказывают, что при совершении ими действий очень часто появляются другие богоподобные существа вместо призываемых»]; Heliod. 4. 7: άντίθεός τις έοικεν έμποδίζειν τήνπραξιν [«похоже, какой-то богоподобный мешает действию»]; Porph. de abst. 2. 41 сл.; Psellus, Op. Daem. 22, 869b. Источником этой веры считается Иран (Cumont, Rel. Orient., 278 ff.; Bousset, Arch. f. Rel. 18 [1915] 135 ff.).
(обратно)1142
porph. loc. cit., приводит требование «бога» прекратить сеанс λύε βίην κάρτος τε λόγων ψευδήγορα λέξω [«положи конец силе и мощи слов, чтобы я не сказал ложное»]. Точно так же современный «контактер» закроет сеанс со словами: «Сейчас я должен остановиться, а не то скажу какую-нибудь глупость» (Proc. Soc. Psych. Research, 38 [1928] 76).
(обратно)1143
Согласно Proclus in Tim. I. 139. 23 и in Remp. I. 40. 18, он подразумевает, в качестве подходящей еюнтемы [условия, знака], благоприятное расположение небесных тел (ср. de myst. 173. 8), благоприятное время и место (как часто повторяется в папирусах), и хорошие климатические условия. Ср. Hopfner, P.-W., s. v. «Mageia», 353 ff.
(обратно)1144
Прокл (in Crat. 36. 20 сл.) предлагает теоретическое объяснение феномена, который спиритуалисты назвали бы «непосредственным голосом»; он следует линии Посидония (ср. Greek Poetry and Life, 372 f.). Ипполит знает случаи, когда этот феномен подделывается (Ref. Наег. 4. 28).
(обратно)1145
έπαιρόμενον όραται ή διογκούμενον [«он видит возбужденного или надутого»]. Ср. якобы удлинение тела итальянской монахини XVI в. Вероники Лаиарелли (Jour. Soc. Psych. Res. 19. 51 ff.) или современных медиумов — Хоума и Петерса (ibid., 10. 104 ff., 238 ff.).
(обратно)1146
Это традиционная особенность магов или праведных мужей. Она приписывается Симону Магу (ps.-Clem. Hom. 2. 32), индийским мистикам (Philost. Vit. Apoll. 3. 15), некоторым христианским святым и еврейским рабби, наконец, медиуму Хоуму. Один чародей из романа называет это качество среди других, входящих в его репертуар (PGM xxxiv. 8), а Лукиан сатирически отзывается о подобных заявлениях (Philops. 13, Asin. 4). Рабы Ямвлиха хвастались, что хозяин, откликаясь на их просьбы, демонстрировал левитацию (Eunap. vit. soph. 458).
(обратно)1147
См. пассажи из Пселла и Никиты из Серры, собранные в: Bidez, Melanges Cumont, 95 ff. Ср. также Eitrem, Symb. Oslo. 8 [1929] 49 ff.
(обратно)1148
de myst. 166. 15, где τούς καλουμένους [призываемый], по-видимому, является пассивным (sc. θεούς), а не (как думали Парти и Хопфнер) посредником (= τούςκλήτορας [глашатаи]): именно «боги», а не операторы, улучшают характер медиумов (166. 18, ср. 176. 3). Если это так, «камни и травы» будут сюмбола, принесенными «богами» и оставленными ими, подобно «аппортам» спиритуалистов. Ср. гл. IV, прим. 9.
(обратно)1149
Procl. in Remp. I. III. 1; ср. in Crat. 34. 28, и Psellus, PG 122, 1136b.
(обратно)1150
Gregory Nazian. oraf. 4. 55 (PG 35, 577c).
(обратно)1151
«Kindermedien», 73 f.
(обратно)1152
Cp. de myst. 3. 14, о различных типах фотос агоге.
(обратно)1153
Simpl. in phys. 613. 5, цитируя Прокла, который говорил о свете: τά αύτοπτικά θεάματα έν έαι>τω τοις άξίοις έκφαΐνον έν τούτω γάρ τά ατύπωτα τυποΰσθαί φησι κατά τό λόγιον [«засвидетельствованные видения проявлялись для достойных в нем самом (огне). В нем ведь, он говорит, неоформленное оформляется согласно оракулу»]. Симпликий, однако, отрицает, что в «Оракулах» привидения описывается как возникающее έν τω φωτί [«в свете»] (616. 18).
(обратно)1154
Greek Magical Papyri in the. British Museum, 14. Рейценштейн (Keitzenstein, Hell. Myst.-Rel., 31) перевел это как «damit sie sich forme nach» [«они дают себе форму»].
(обратно)1155
de myst. 133. 12: τοτέ μεν σκότος σύνεργον λαμβάνουσιν οι φωταγωγούντες [«тогда светоносители берут в помощники тьму»], ср. Eus.' Praep. Ευ. 4. 1. Чародеям выгодно притворяться, что им нужно темнота — Hipp. Ref. Haer. 4. 28.
(обратно)1156
de myst. 133. 13: τοτέ δέ ήλίοι> φως ή σελήνης ή όλως τήν ύπαίθριον αύγήν συλλαμβανόμενα έχουσι πρός τήν έλλαμψιν [«тогда они используют для освещения свет солнца, луны или вообще естественный свет»]. Ср. Aedesius, supra прим. 110, Psellus, Expos, or. Chald. 1133b, и Eitrem, Symb. Oslo. 22. 56 ff.
(обратно)1157
Опубликовано в: «Вопросы философии». 1973. № 9. Печатается с любезного согласия автора.
(обратно)1158
Ате (Ата) — дочь Зевса, в олимпийской религии олицетворяет внезапное безумие и помешательство, заставляющее людей совершать безумные поступки.
(обратно)1159
Эти суждения Доддса перекликаются с одной из главных идей Великого инквизитора из романа Φ. М. Достоевского «Братья Карамазовы». По словам Великого инквизитора, люди (за крайне редким исключением) чувствуют себя вполне свободными и счастливыми тогда, когда их лишают свободы, свободы, которой более всего «боятся они и страшатся», хотя также «нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести...». В конечном же счете «... нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается»; для человека нет «бремени» страшнее, чем бремя «свободы выбора» добра и зла (см.: Достоевский Φ. М. Полн. собр. соч. М. Т. 14. С. 230-232).
(обратно)
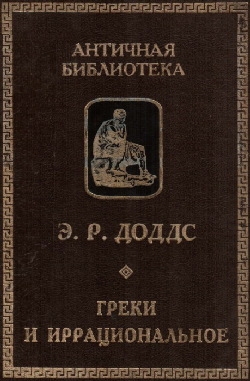


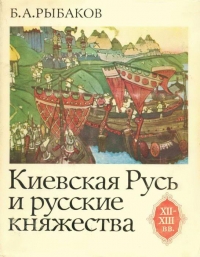


Комментарии к книге «Греки и иррациональное», Эрик Робертсон Доддс
Всего 0 комментариев