О. Ю. Абакумов ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА СТРАЖЕ НРАВСТВЕННОСТИ И БЛАГОЧИНИЯ Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.
© Абакумов О. Ю., 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
Предисловие
При учреждении в 1826 г. Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии полномочия этого ведомства были определены достаточно широко. К компетенции новой структуры относились «все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции»[1]. В указе от 3 июля 1826 г. перечислялись «предметы занятий» отделения, в частности сбор сведений о сектах и раскольниках, фальшивомонетчиках, лицах, находящихся под надзором полиции, статистические данные о «всех без исключениях происшествиях», а также обеспечение «высылки и размещения лиц подозрительных и вредных» и все постановления и распоряжения об иностранцах[2].
Указанными предметами деятельность политической полиции не ограничивалась. За десятилетия сфера интересов «высшей» полиции («тайной», «политической» полиции, как еще называли Третье отделение) вполне определилась. Если посмотреть годовой отчет отделения за 1857 г., то в нем можно найти информацию не только о «политических преступлениях», но и о «злоупотреблениях и неприличных действиях служащих лиц», о «противозаконных действиях частных лиц», о наблюдении за иностранцами, прибывшими в Россию, и сведения о раскольниках, фальшивомонетчиках, контрабандистах. Например, раздел отчета «о чрезвычайных происшествиях» включает подразделы «о крестьянском вопросе», «о жестоком обращении», «о буйстве», «о грабежах и разбое», «о похищении казенных сумм», «о похищении и насилии девиц», «об убийствах», «о дуэлях», «о самоубийствах», «о пожарах», «о ярмарках»[3].
Каждый годовой отчет заканчивался, как правило, аналитическим обобщением общественных настроений в стране («Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления», «Нравственно-политический отчет», «Политическое обозрение», «Нравственно-политическое обозрение» и т. д.). Естественно, в годовых отчетах сведения о политической борьбе, событиях общественной жизни, криминальных происшествиях докладывались императору в обобщенном виде, часто даже языком статистики. Лишь самые яркие, показательные эпизоды прорисовывались четким контуром.
В значительной степени Третье отделение осуществляло функции наблюдательной полиции, «всевидящего ока», замечающего и транслирующего во власть информацию о нарушениях, злоупотреблениях помещиков и должностных лиц, притеснениях, произволе, взяточничестве чиновников, казнокрадстве и проч.
С момента учреждения Третьему отделению отводилась роль «центрального штаба по наблюдению за мнением общим и духом народным»[4], поэтому события повседневной жизни россиян не оставались без внимания его чиновников. В сводках, поступавших шефу жандармов, обобщались рапорты губернских жандармских штаб-офицеров и сведения, полученные от собственных агентов и шпионов столичной полиции. Чиновники Третьего отделения включали в итоговый обзор информацию о значительных событиях и о реакции на них, отмечали наиболее важные или просто забавные новости и слухи, докладывали поступившие жалобы, уточняли, корректировали сообщенные ранее сведения, давали аналитические оценки (иногда весьма эмоциональные) произошедшему. Часто в завуалированном виде, чтобы не раскрывать источники информации, например, как «полученные частным образом», сведения передавались министрам, губернаторам, местным предводителям дворянства, прочим должностным лицам для немедленного принятия мер. Именно из этих материалов, сохранившихся в фондах Секретного архива Третьего отделения[5], почерпнуты сведения о происшествиях, проступках, радостных и печальных событиях повседневной жизни россиян 1826–1866 гг. — периода трогательной опеки политической полиции общественной и частной жизни.
Большую информационно-надзорную работу осуществлял небольшой чиновный аппарат. Согласно «Адрес-календарю» на 1832 г., в этом ведомстве служило 20 чел., включая чиновников, занятых главным образом перепиской бумаг. В 1866 г. в штате Третьего отделения состояло 34 чиновника[6].
Во главе отделения находился главноуправляющий, одновременно являвшийся и шефом жандармов. Первым руководителем тайной полиции был граф А. Х. Бенкендорф (1826–1844), его сменил граф А. Ф. Орлов (1844–1856), а после его назначения председателем Государственного совета возглавил политическую полицию князь В. А. Долгоруков (1856–1866). Все они были представителями высшей военной элиты, крупными землевладельцами, личными друзьями императоров, оказывавших им особое доверие и расположение. Вторым лицом в отделении, организатором и координатором охранительных действий полиции, был управляющий Третьим отделением, а с 1839 г. он же совмещал должность начальника штаба корпуса жандармов[7].
Уже при графе А. X. Бенкендорфе стала создаваться система территориальных органов политической полиции. С принятием «Положения о корпусе жандармов» (1836) страна была поделена на 7 жандармских округов, во главе с жандармскими генералами, в губерниях находились жандармские штаб-офицеры и небольшие жандармские команды. Три жандармских дивизиона были дислоцированы в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Численность корпуса жандармов также значительно не менялась (в 1836 г. — 5164, а в 1863 г. — 4978 чел.)[8].
Существовала легенда о том, что при учреждении Третьего отделения Николай I вручил А. Х. Бенкендорфу платок и сказал: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!»[9]
Достоверность события косвенно подтверждается жандармской инструкцией, обязывавшей чиновников ведомства заботиться о бедных и сирых, защищать гонимых, предотвращать семейные неурядицы и быть блюстителями общественной нравственности; от имени государства и для блага государства обеспечивать тишину, порядок, подчинение старшим и благочиние.
Современники и потомки много ехидничали по поводу чистоты помыслов императора и аутентичности понимания поставленных им задач шефом жандармов. Однако до сих пор неполитическая деятельность Третьего отделения не только не изучена, но даже и не особо интересовала исследователей.
Одним из первых обратился к документам Третьего отделения и показал действие механизма административных репрессий не за политическое вольномыслие, а за бытовое поведение ярославский краевед Л. Трефолев[10]. Закрытость жандармских архивов и политические потрясения в стране не способствовали научной разработке темы.
Первые советские исследования политического сыска были направлены на обличение полицейского произвола и вскрытие тайн царской политической полиции. И. Троцкий показал структуру, основные направления деятельности жандармского ведомства, дал яркие портретные харак теристики руководителям и корифеям политического сыска[11]. В его работе «Жизнь Шервуда-Верного»[12] и в книге С. Я. Штрайха[13], посвященной Роману Медоксу, раскрыты приемы действий доносчиков и провокаторов, вносивших «политику» в размеренную жизнь провинциального общества, показаны последствия такой «оперативной» работы, ломавшие судьбы людей и жизненные планы.
В постсоветский период значительное количество популярных работ было посвящено анализу агентурной работы[14], обличению чрезмерной закрытости органов безопасности в авторитарной государственной системе дореволюционной России[15]. Порицалась система тотального полицейского надзора, цензурного контроля, административных репрессий[16]. Сюжеты не связанные с политической деятельностью Третьего отделения в этих книгах не рассматривались.
В последние десятилетия проявился большой интерес к изучению бытовой истории, истории повседневности. Вопросы сексуальной культуры освещены в трудах И. Кона[17], история борьбы и попытки государственной регламентации проституции активно изучались дореволюционной историографией, а сейчас представлены в работе Н. Б. Лебиной и М. В. Шкаровского[18], проблемы ограничения потребления вина, традиции пьянства и разгула изучены И. В. Курукиным и Е. А. Никулиной[19], трансформация семейных устоев модернизирующейся России проанализирована Н. Л. Пушкаревой, И. Юркиной, С. А. Экштутом[20], праздничной культуре россиян посвящены исследования А. Ф. Некрыловой, Ю. М. Лотмана и др.[21], повседневная жизнь столичных и провинциальных социумов показана Л. В. Кошман, В. Боковой, А. Б. Каменским, А. И. Куприяновым[22].
Источники, привлеченные для данного исследования, достаточно разнообразны. Наряду с упоминавшимися архивными материалами использовались опубликованные официальные документы[23] (инструкции, жандармские отчеты, записки), а также источники личного происхождения: записки, воспоминания, дневники, письма современников, необходимые для понимания особенностей эпохи и менталитета россиян, выяснения специфики восприятия полицейской опеки, оценки эффективности охранительных мер поддержания порядка.
В этом исследовании отражена не сыскная и репрессивная деятельность Третьего отделения, а показана «воспитательная» роль политической полиции, проанализировано участие «высшей» полиции в нравственном контроле частной и общественной жизни россиян, во внесудебном разрешении семейных и бытовых конфликтов, в формировании и сохранении норм общественной нравственности и порядка.
Глава 1. Третье отделение и надзор за обществом
В своих «Записках» А. Х. Бенкендорф, говоря о целях создания высшей полиции, писал: «Император всеми способами пытался вырвать корни тех злоупотреблений, которые проникли в аппарат управления и которые стали явными после раскрытия заговора, обагрившего кровью его вступление на престол»[24]. В первой жандармской инструкции (1826) указывалось, что жандармы должны были «споспешествовать благотворительной цели Государя Императора и отеческому Его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие». Целью их службы должно было стать «предупреждение и отстранение всякого зла», поэтому следовало «обратить внимание на беспорядки и закону противные поступки во всех частях управления», «наблюдать, чтоб спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личною властию, или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных», а также «внимать гласу страждущего человечества и защищать беззащитного и безгласного гражданина»[25].
Службу свою жандармы должны были нести «не щадя трудов и заботливости, свойственных верноподданному», действовать так, чтобы можно было «добрыми вашими внушениями… поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки пред правительством». Избранные на службу офицеры должны были обладать высокими моральными качествами: «Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобресть уважение всех сословий, и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу Государству». С этой задачей не все, видимо, получалось, поэтому в Дополнении к инструкции разъяснялось, как именно надлежит завоевывать уважение: «Приличной покорностью и чинопочитанием к особам Вас старшим; благородным и приветливым обращением с равными Вам, ласковым и снисходительным обхождением со всеми прочими сословиями, — Вы, конечно, достигнете общего уважения и доверенности к себе и тем поставитесь в возможность выполнять возлагаемую на Вас обязанность с успехом»[26]. На этом не следовало останавливаться, жандармы должны были «по собственному влечению […] сердца» отыскивать чиновников, служащих «бескорыстно верой и правдой, не могущих сами снискать пропитание одним жалованьем». О них необходимо было докладывать шефу жандармов «для оказания им возможного пособия» и тем самым выполнять волю императора — «отыскивать и отличать скромных вернослужащих»[27].
Кадровая политика при формировании корпуса жандармов осуществлялась под непосредственным контролем А. Х. Бенкендорфа, который, как отмечалось в «Обзоре деятельности Третьего отделения С. Е. И. В. к. и корпуса жандармов за 25 лет. 1826–1850», «как бы передал подчиненным свою честность, свой дух нетерпимости всякого преступления и свое неусыпное стремление к покровительству несчастных»[28]. Эта же мысль звучала в отчете политической полиции за 1842 г.: шеф жандармов «прилагает всевозможное старание о приглашении во вверенный ему корпус людей добрых и честных, — и, в случае неудачного выбора, сей час удаляет от себя недостойных»[29].
Формирование корпуса шло на декларированных принципах. Молодой офицер Л. В. Дубельт убеждал свою супругу: «Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорою бедных, защитою несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, — тогда чем назовешь ты меня? Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли мое место самым отличным, самым благородным? Так, мой друг, вот цель, с которой я вступаю в корпус жандармов»[30]. Другой офицер, сменивший флотский мундир на жандармский, Э. И. Стогов, отмечал именно моральный аспект нового служения: «Я — Жандарм, то есть нравственный полицмейстер»[31].
О непростом процессе поиска кандидатов на жандармскую службу свидетельствует переписка А. Х. Бенкендорфа с великим князем Константином Павловичем. Последний, уклоняясь от настойчивой просьбы шефа жандармов порекомендовать каких-либо офицеров для службы в губерниях Царства Польского, писал: «Не имею в виду, кого бы вам представить для занятия этих должностей, с коими связано столько высших интересов и которые, естественно, требуют большой ответственности […] надобно быть убеждену как в умении, так и в честности лица, прежде чем взять на себя ответственность за него, в случае если бы он имел несчастие повредить благу службы […] Эти места столь доверенные, что на них надо назначать офицеров, за которых можно отвечать, так сказать, как за самого себя»[32]. При этом предложенную кандидатуру этнического поляка великий князь отверг, ссылаясь именно на невозможность полагаться только на нравственные качества: «Трудно, и даже почти невозможно, ручаться, что он не поколеблется предъявлять прямую и чистую истину, предвидя, что она повредит или его родственнику, или приятелю […] в таких случаях, его привязанности или слабости всегда возьмут верх над требованиями службы»[33].
Многие жандармы деятельно включились в исполнение своих обязанностей. А. Булгаков писал брату о начальнике московского жандармского округа А. А. Волкове: «Волков разворачивает обширную деятельность и беспрестанно занят комиссиями, кои все стремятся к искоренению злоупотреблений и воровства»[34]. Ф. В. Булгарин сообщал в Третье отделение 6 июня 1828 г.: «Рассказывают чудеса о жандармском полковнике в Вильне Рутковском. Он привел в ужас всех злоупотребителей»[35].
Орловский жандармский штаб-офицер полковник М. Н. Жемчужников, выявив факты подкупа и подлога, найдя пропавшие документы, встречая противодействие местных гражданских чиновников и лиц духовного ведомства, добился восстановления законных прав детей-сирот майора Подымова[36].
Жандармское начальство в юбилейном «Обзоре» отмечало усердную службу офицеров в чрезвычайных обстоятельствах. Во время эпидемии холеры: «Жандармы были посылаемы во все места пораженные холерою, удостоверялись о влиянии бедствия на дух жителей, на торговлю и промышленность, отвращали злоупотребления в карантинных и других предохранительных местах, являли примеры самоотвержения и пожертвования своею собственностью, многие […] благоразумными распоряжениями удержали спокойствие, которое готово было нарушиться в разных местах империи»[37]. В черновике документа приводился пример подвижнической деятельности подполковника Волкова, который в городе Козлове Тамбовской губернии во время холеры «учредил больницу и сам лечил страждущих»[38].
Подобные случаи были не единичны. Жандармский штаб-офицер в Саратовской губернии А. И. Шомпулев в период эпидемии «проводил дни и ночи на коне, объезжая верхом город, кладбища и по нескольку раз посещая больницу». Его решительные действия предотвратили волнения горожан, «и затем голубой мундир был всюду приветствован населением при его появлении»[39]. Правда, сам штаб-офицер эпидемию не пережил.
Примеры героического, самоотверженного поведения жандармов были не редки. По повелению императора окладом годового жалованья (720 руб.) был награжден начальник нижегородской жандармской команды штабс-капитан Нациевский, спасший на пожаре престарелую женщину[40]. В приказе по корпусу жандармов сообщалось «о похвальном и человеколюбивом подвиге» поручика Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Тельнова, отличившегося «при спасении погибавших в объятом пламенем доме помещицы Веселкиной, матери ее госпожи Струниной, юродивой девки и пятимесячного младенца». Кроме пожалования 200 рублей серебром жандарм был награжден золотой медалью с надписью «За спасение погибавших» на Владимирской ленте[41].
Основной вид жандармской службы — надзор — зачастую приводил к открытию серьезных преступных действий. В 1832–1833 гг. полковник Маслов «обнаружил тайную торговлю золотом, которое похищалось с Екатеринбургских горных заводов; нашел не только похитителей, но и делателей фальшивой монеты и самую машину для чекана; в продолжении двух лет с чрезвычайной осторожностью производил исследование по этому предмету»[42].
Жандармские офицеры направлялись в отдаленные регионы России для содействия местным властям в обнаружении и искоренении недостатков. В 1837 г., «по случаю усилившихся злоупотреблений в Восточной Сибири», в длительную командировку (более чем на год) были направлены два жандармских офицера: подполковник Ливенцов — в Кяхту и Забайкальский край, а штабс-капитан Вершеневский — в Якутскую область и Охотск. «Открыв многие беспорядки, они представили главному местному начальству свои соображения к улучшению разных частей управления»[43], — сообщалось в официальном отчете.
Многоплановость обязанностей и разнообразие служебных поручений предполагали наличие у офицеров широкого кругозора, знания законодательства и коммуникативных качеств, позволявших легко устанавливать межличностные контакты и преодолевать конфликтные ситуации: «Служба жандармов требует способностей ей одной свойственных; кроме ума, ревности и знания гражданского делопроизводства, должно проникать в сердца людей, владеть искусством жить со всеми в согласии, уметь в тех или других случаях уклоняться от разных столкновений. Жандармы должны за всем смотреть и не быть явными полицейскими чиновниками; обо всем доносить и не заслужить названия шпионов и доносчиков; преследовать всякое преступление и не входить ни с кем ни в малейшую вражду; не укрывать злоупотреблений даже начальствующих лиц и в то же время оставаться в полном подчинении им: все это беспрерывно поставляет их в затруднительное положение, в борьбу с разными лицами и с своим долгом»[44]. «Более можно найти способных людей для войны или для кабинетных занятий, нежели для службы жандармской»[45], — сетовал шеф жандармов.
В обществе известие о создании полиции приняли настороженно. М. А. Дмитриев писал: «Жандармы, вместо уважения, были во всеобщем презрении»[46].
Ф. Ф. Вигель писал о корпусе жандармов: «Весь этот обсервационный корпус был сформирован к концу года, как ни трудно было сначала склонить несколько порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех других военных своим цветом отличный как бы одеждою доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались его надевать»[47]. Э. И. Стогов хотя и писал, что его товарищи-офицеры ему завидовали, но приводил слова своего тестя, который прямо ему сказал: «Вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит»[48].
В отчетах Третьего отделения, хотя и отмечалось настороженное отношение к жандармам, в то же время подчеркивалось позитивное их восприятие в массе неслужащего населения. В 1827 г.: «Большинство стоит за Государя Императора, оно одобряет учреждение жандармерии, коей недоброжелатели страшатся, как пугала»[49]. В 1828 г.: «В провинции, где нет жандармов, все классы желают их присутствия как защитников от чинимых властями неприятностей и раздоров между ними. До сих пор все интриги и глухие инсинуации разбивались о порог надзора, который внушает страх честолюбцам, интриганам, лихоимцам и взяточникам»[50]. 1829 г.: «Институт этот при его учреждении внес вообще смятение в настроение общества, но в настоящий момент, благодаря спокойной и осторожной деятельности жандармерии и довольно удачному выбору людей, общественное мнение по отношению к ней почти единодушно настроено благоприятно»[51].
К этим мыслям шеф жандармов возвращался неоднократно, подчеркивая, что против жандармов высшие чиновники, которые тяготятся надзором, а безусловно за — простые люди. Что ставилось в заслугу? Прежде всего скорое разрешение конфликтных ситуаций: «В обществе не обращают внимание на то, что в губерниях нет ни одного штаб-офицера, к которому не обращались бы обиженные и не искали бы его защиты; не говорят, что нет дня в Петербурге, чтобы начальник округа, начальник штаба, дежурный штаб-офицер не устраняли вражды семейные, не доставляли правосудия обиженному, не искореняли беззакония и беспорядков»[52].
Благотворное влияние присутствия жандармов ощущали простые люди, часто становившиеся жертвами злоупотреблений должностных лиц. В отчете за 1834 г. отмечалось, что присутствие при приеме рекрутов жандармских штаб-офицеров «принесло ощутительную пользу, ибо очевидно уменьшились те зла, какие прежде по корыстолюбию и проискам существовали при рекрутских наборах». А. Х. Бенкендорф писал: «Нередко взятые неправильно в рекруты были возвращаемы в свои семейства, а на место их поставлялись лиходавцы, старавшиеся избегнуть своих очередей посредством подарков. Теснимые бедные крестьяне обращались к жандармским офицерам с жалобами, которые тогда же разбирались, и правый проситель имел в них защиту. О допущенных злоупотреблениях, которые не могли быть истреблены на месте, они доносили мне, что и было сообщаемо министрам: военному, финансов и в особенности внутренних дел»[53].
К. Н. Лебедев высказывал компромиссное суждение, отмечая: «Нельзя не признаться, что учреждение корпуса жандармов, следствие обстоятельств в начале царствования, могло быть и действительно иногда полезно. Значение его в первые годы было очень высоко: нельзя также не заметить, что главные начальники, граф Бенкендорф, А. Н. Мордвинов и все чины корпуса в секретной полиции — люди честные, благонамеренные и деятельные»[54]. Как видим, субъективный, личностный критерий был определяющим для оценки функционирования столь важной административной структуры.
Если П. Г. Дивов считал, что А. Х. Бенкендорф управляет высшей полицией «с большим умом и не отравляет спокойствия императора совершенно не нужными доносами»[55], то сенатор К. И. Фишер считал его человеком беспечным, а управляющего Третьим отделением А. Н. Мордвинова — фигурой совершавшей «злодейства инквизиции»[56]. Можно привести еще множество свидетельств современников о персоналиях, стоявших во главе жандармского ведомства, содержащих диаметрально противоположные оценки их личностей.
Отголоски критических суждений, особенно в среде высшего чиновничества, доходили до сведения жандармов. О таких деликатных беседах А. Х. Бенкендорф сообщал в отчете: «В разговорах об этом предмете с шефом жандармов употребляют всегда некоторую вежливость, что это учреждение при его управлении заключает в себе много полезного и что в иных руках оно должно и может иметь весьма пагубные последствия, и эти рассуждения заставляют шефа жандармов давать всегда один и тот же ответ: что Государь будет уметь сделать выбор хороший и что весьма ошибаются, ежели полагают, что можно обманывать прозорливость и опытность Царя во вред частных лиц»[57]. Негативные суждения о своих подчиненных глава политической полиции в докладе императору парировал следующим тезисом: «Обвинители находят легче обвинять второстепенных чиновников, которые не столь сильны, нежели их начальника, который, может быть, имеет более пороков, нежели все его подчиненные»[58].
Не только высшие офицеры были в поле зрения руководства корпуса жандармов. В приказах по корпусу постоянно отмечалось усердие и даже «чрезвычайное усердие» нижних чинов корпуса в выполнении своих обязанностей. О характере этой службы можно судить по «Положению о корпусе жандармов» 1836 г., в котором было определено использование нижних чинов корпуса жандармов для приведения в исполнение законов и приговоров суда, «поимки воров, беглых, корчемников, преследования разбойников и рассеивания законом запрещенных скопищ», «усмирения буйств и восстановления нарушенного повиновения, преследования контрабандистов, сопровождения арестантов, обеспечения порядка на ярмарках, торжищах, церковных и народных праздниках»[59].
В 1828 г. 37 жандармов были отмечены в приказе по корпусу жандармов за следующие заслуги: поимку беглых, солдат, рекрутов, кантонистов, за раскрытие обмана одного крестьянина при продаже лошадей на ростовской ярмарке, за спасение утопающего 10-летнего мальчика, за возвращение хозяевам потерянных вещей. Так, унтер-офицер Ф. Астафьев получил 50 руб. за то, что «подвергая себя очевидной опасности, остановил в степи близ г. Николаева скачущую лошадь и тем спас жизнь крестьянскому мальчику Гусеву, который, быв запутан в вожжи, был в совершенной опасности»; рядовой И. Соловьев во время дежурства в Зимнем дворце нашел золотую табакерку и возвратил ее графине Строгановой, за что получил 25 руб. от шефа жандармов[60].
В 1830 г. в приказе по корпусу в числе отличившихся названы два жандарма, которые во время пожара в Орле «первые бросились в пламя, выбрасывали товары, ломали строение, стараясь всемерно прекратить пожар, чем подали пример бывшим тут жителям»; вновь отмечен столичный жандарм, нашедший и вернувший маленькую дамскую золотую табакерку; опять же упоминается спасение жандармами тонувшего мальчика и людей, провалившихся под лед. Особо отмечены нижние чины корпуса, которые при поимке беглых и мошенников не брали сулимых им денег за освобождение из-под стражи[61].
В декабре 1830 г. случилось происшествие, вызвавшее особую эмоциональную реакцию шефа жандармов. Рядовой Михаил Васильев, находясь «при Тверской заставе для наблюдения за порядком, осмелился взять 10 коп. серебром с вольноотпущенного человека за пропуск его в Москву». Провинившийся по распоряжению московского военного генерал-губернатора был публично наказан 160 ударами розг перед дивизионом. Однако А. Х. Бенкендорф не посчитал дело закрытым: «С моей стороны, находя, что степень подобного преступления превышает меру наказания, которое было наложено на виновного, тем более что сим действием корыстолюбия Васильев наносит бесчестие всем сослуживцам, я предписываю предать его военному суду, по окончании коего будет сделано особое распоряжение к соразмерному его вине наказанию и о выключке его из жандармов, как недостойного служить в корпусе, в котором честность и добрая нравственность должны быть для каждого первою и отличительнейшею чертою его поступков»[62].
Далее А. Х. Бенкендорф напомнил всем служащим в корпусе, что высокие нравственные требования являются обязательным атрибутом жандармской должности: «С крайним соболезнованием усмотрев из сего, что между нижними чинами вверенного мне корпуса нашелся жандарм, не постигший прямой и благородной своей обязанности и который, будучи движим позорным чувством корыстолюбия, предпочел корысть доброму имени, я уверен, что единственный пример сей преисполнит справедливым негодованием всех нижних чинов корпуса жандармов, и что они, разделяя со мной чувство презрения к подобным поступкам, потщатся усердною, честною и беспорочною службою явить себя достойным служить в том корпусе, в котором все без исключения должны руководствоваться справедливостью, верностью, чистой совестью и непорочною нравственностью»[63].
В приказах по корпусу жандармов упоминаются случаи исключения из службы нижних чинов за появление при исполнении своих обязанностей или в части в нетрезвом виде, разжалования в рядовые за «дурные поступки», взыскания за оставление дивизиона без разрешения, продажу найденных вещей и др. После случая в Санкт-Петербургском жандармском дивизионе, когда рядовой С. Чижов «снял с седла товарища своего жандарма Д. Яншина казенную попону и […] продал в питейном доме за 80 копеек», последовало распоряжение «впредь жандармов изобличенных в воровстве придавать суду»[64].
Обращения шефа жандармов к нижним чинам через зачитываемые перед строем приказы поддерживали видимость прямой связи командира и рядового, демонстрировали хорошую осведомленность о деталях службы и быта, о проступках и успехах, заботу о нуждах и нравственном облике. Моральные сентенции должны были оказывать сильное эмоциональное воздействие, дополнявшее физические методы приведения в повиновение, практикуемые начальниками команд и командирами частей.
А. Х. Бенкендорф сетовал: «До сего времени я радовался хорошему поведению и честным поступкам всех нижних чинов корпуса жандармов […] Нижние чины […] сами знают, как я всегда старался доставлять им все возможные выгоды; старания сии были последствием их хорошего поведения, и теперь вдруг несколько случаев помрачили их честную службу, тем что мне самому стыдно за них». Способом исправления предполагалась своеобразная круговая порука, взаимная ответственность и контроль поведения: «Оставаясь в уверенности, что все они [нижние чины. — О. А.] будут стараться загладить поступки своих недостойных товарищей, что впредь сами будут смотреть друг за другом и служить так, чтобы до меня ничего не доходило, кроме хорошего»[65].
Видимо, подобная практика имела эффект. Во всяком случае, в отчете за 1843 г. отмечалось: «Что же касается до нижних чинов, то они, очевидно, гордятся своим званием, и нравственность их превзошла даже ожидания шефа. Доказательством тому служит то, что выключено из корпуса в течение 1843 года только 25 человек, и те за самые маловажные проступки, тогда как они по роду службы своей имеют беспрерывные случаи вести себя нетрезво и недобропорядочно»[66].
Руководствуясь высокими нравственными критериями при формировании персонального состава и определении порядка службы, шеф жандармов тем не менее допускал, что в корпусе могут быть кадровые проблемы: «Корпус жандармов не может не иметь недостатков, ибо в состав оного входят люди, подверженные большим или меньшим неизбежным слабостям, так точно, как и во всех других государственных учреждениях»[67]. Упоминая о том пристрастном отношении к корпусу жандармов, которое существовало в высшем обществе и чиновных сферах, шеф жандармов логично замечал, что в этой ситуации жандармы оказывались под особо пристальным и пристрастным надзором. В этих условиях недовольные «скорее обнаружили бы […] действительное злоупотребление или лихоимство кого-либо из членов корпуса жандармов […] если бы эти пороки между ними существовали»[68].
В отчете за 1841 г. А. Х. Бенкендорф прокомментировал высказанные ему в откровенном разговоре замечания генерал-адъютанта А. А. Кавелина, касавшиеся злоупотреблений, приписываемых корпусу жандармов. Судя по объяснениям, приведенные аргументы на поверку оказывались всего лишь неточными сведениями или действиями, необоснованно приписываемыми жандармским офицерам. На сей счет шеф жандармов писал: «Если бы чиновников сместили с занимаемого им места или вообще лицо частное было наказано, основываясь на одних сведениях, от жандармов полученных, и что в этих случаях делу дается окончательное течение только тогда, когда получены бывают подробные исследования от губернаторов, предводителей дворянства и самих министров, которым все и всегда предварительно сообщается»[69]. Не зная всю цепочку сбора, проверки сведений и следственных действий, обыватели административные репрессии приписывали жандармским наблюдателям, толкуя их действия расширительно. Именно на это обращал внимание императора шеф жандармов, отмечая, что недовольные «приписывают ему [корпусу жандармов. — О. А.] далеко обширнейший круг действия, нежели Вашему Императорскому Величеству благоугодно было ему начертать»[70].
Шеф жандармов признавал, что «хотя старается он принимать под начальство свое с строгой разборчивостью», тем не менее на службу могли попасть «люди не совершенно способные». Кто же они? «Это люди, которые обладают хорошими качествами, но не имеют необходимой ловкости ладить со всеми в тех или других случаях, в которых положение их почти всегда затруднительно, ибо лица начальствующие всегда взирают на них как на людей им неприязненных»[71]. Межличностные конфликты, тенденциозность, односторонний взгляд на расследуемые происшествия, «неуместные действия», напряженные отношения с губернаторами чаще всего были причинами удаления губернских офицеров со службы. В отчете за 1841 г. отмечено, «с какой поспешностию были удаляемы из корпуса жандармов чиновники, которые по тем или иным причинам не заслуживали оставаться в оном: генерал-майор Фрейганг — единственно за то, что неясно видел Виленское дело, уволен от службы; подполковник Лобри за то, что только увлекся неблагонамеренными происками коллежского асессора Анисимова, удален из корпуса; по тому же делу майор Гарижский отставлен, коллежский асессор Стратанович переведен в другое ведомство. Далее подполковник Гейкинг, Душенкевич, Быков 1-й, Быков 2-й, Огарев, майор Шишмарев и сверх того некоторые обер-офицеры по разным случаям, но никогда за лихоимство, были удалены из корпуса»[72].
В немного измененном виде фрагмент этого отчета вошел в юбилейный «Обзор» Третьего отделения: «Но, выставляя иногда неуместные действия жандармов, гражданские власти никогда не обвиняли их в поступках нечистых или корыстолюбивых. Некоторые […] были удалены из корпуса жандармов или потому, что не умели сохранить согласия с губернскими начальствами, или увлеклись неправильными действиями других следователей, или сами неверно поняли дело, но в продолжении 25-летия не было ни единого примера, чтобы жандармский офицер обвинялся в лихоимстве. Даже из нижних чинов [единственный кто] покусился принять в подарок 10 коп. и тот за то был исключен из жандармов»[73].
При этом суждения шефа жандармов о бескорыстии своих сослуживцев не выглядели аксиомой. В отчетах императору он постоянно прибегал к доказыванию этого тезиса, апеллируя к их имущественному положению: «Генерал-адъютант Кавелин лично доводил до сведения шефа жандармов о бедности штаб-офицеров сего Корпуса и о необходимости удвоить и даже утроить их содержание, говорил о бедности, которая не доказывает ли ясно их бескорыстие»[74]. Эта же мысль подчеркнута в юбилейном «Обзоре»: «Все жандармские офицеры, равно как и чиновники III отделения, которые не имеют своего состояния, живут далеко не в изобилии, издерживая никак не более того, сколько получают казенного содержания. Непредвиденные случаи, заставляющие выходить из ежедневных расходов, поставляют их в такое положение, что без пособия, которое шеф жандармов назначает им, они находились бы в бедственной крайности»[75].
Повторялась и мысль о том, что «выбор людей в корпус жандармов часто бывает удачен», так как «нет почти ни одного министра, ни одного генерал-губернатора, который не просил бы шефа жандармов уступить ему чиновника»[76]. Еще один аргумент касался существовавшего надзора за надзором: «Флигель-адъютанты Вашего Императорского Величества, ежегодно бывающие во всех губерниях, люди в этом деле совершенно беспристрастные, по просьбам шефа жандармов всегда собирали местные известия о жандармских штаб-офицерах и передавали о них самые лучшие отзывы, в чем от них самих легко удостовериться можно»[77]. Таким образом, система государственного управления допускала параллельный эпизодический контроль за высокопоставленными агентами правительственного надзора, следившими за губернскими чиновниками и обывателями.
Крестьянский вопрос, или вопрос существования крепостного права, был важнейшим в общественно-политической жизни России первой половины XIX века. Несмотря на запрет публичного обсуждения, эта проблема буквально каждодневно вторгалась в повседневную жизнь россиян. Известны слова А. Х. Бенкендорфа, приведенные в отчете императору за 1839 г.: «Весь дух народа направлен к одной цели, к освобождению […] Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством, и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же». «Теперь крепостные люди не почитаются даже членами государства и даже не присягают на верность Государю. Они состоят вне закона, ибо помещик может без суда сослать их в Сибирь», — сетовал шеф жандармов, полагая, что «лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа»[78].
Однако «начать» не получалось, и в 1850 г. уже другой шеф жандармов, А. Ф. Орлов, убеждал императора: «Крепостное состояние в России есть не рабство, как представляют себе иностранцы, но отеческая власть, под которой простой народ более счастлив, нежели бедствует»[79].
Но были и детали, о которых А. Ф. Орлов хорошо знал, участвуя в работе секретного комитета 1 марта 1846 г., в котором обсуждалась записка министра внутренних дел по крестьянскому вопросу. Его суждения не вызывали особых споров: «Власть помещика, как поземельного владельца, есть орудие и опора самодержавной власти. Он есть ближайший блюститель над народонаселением в 24 миллиона душ обоего пола, и на нем лежит ответственность пред Самодержавной властию за спокойствие и довольствие сей огромной части ея подданных. Власть помещика не должна, однако ж, быть не ограничена, и крестьянин должен быть огражден законами от злоупотребления оной […] Права личные и по имуществу суть первые условия гражданства»[80]. Высшие чиновники признавали, что первыми действиями правительства должны быть «точное определение власти помещика над личностью крестьян в степени необходимой для охранения спокойствия и порядка» и «дарование крестьянам права жалобы на злоупотребления помещичьей власти»[81].
В другом документе, в «всеподданнейшей» записке Второго отделения С. Е. И. В. к. «О собственности крепостных людей» (30 ноября 1847 г.) Д. Н. Блудов сравнивал положение римских рабов («человек […] принадлежал, можно сказать, душой и телом своему господину», то есть был по сути вещью) и крепостных. Главноуправляющий Вторым отделением писал: «У нас крепостной человек, напротив, всегда признаваем лицом, состоящим под покровительством закона. В случае жестокого с ним обращения он находит защиту в Правительстве, передача его из владения одного лица во владение другого ограничена многими условиями, ограждающими целостность его семейного быта; он столько же и еще более принадлежит государству нежели господину; наравне с людьми прочих состояний, платит государственные подати и отбывает другие более или менее общие повинности, участвуя и в важнейшей из всех, в защите отечества отправлением воинской службы»[82]. В то же время он признавал, что в «в ограничении власти помещиков над личностью крепостных людей, в отстранении злоупотребления оной и в изыскании средств к постепенному освобождению их от излишней зависимости, правительство наше действовало иногда медленно […] постоянно и неуклонно, стараясь прекратить сначала те из злоупотребления власти, кои всего более оскорбляют и унижают достоинство человека»[83].
Материалы ежегодных отчетов Третьего отделения дают обширный материал о злоупотреблениях помещичьей властью. Приведу примеры преступных действий дворян-землевладельцев, связанных с нарушением еще и морально-нравственных норм.
В случаях, когда о фактах жестокого обращения помещиков с крестьянами становилось известно императору, для расследования на место направлялся губернский штаб-офицер, к следствию привлекался и местный предводитель дворянства, в обязанности которого входило предупреждать злоупотреблений помещичьей властью. Министерство внутренних дел, в свою очередь, требовало от начальников губерний для пресечения таких криминальных действий обращать внимание на помещиков, которые «известны в соседстве жестокостью и развратною жизнью»[84].
В 1836 г. жандармскому штаб-офицеру поручено было провести в Костромской губернии следствие по жалобе крестьян на помещика Заболоцкого. Майор Алексеев «обнаружил и распутное поведение сего помещика, и жестокость его с крестьянами, коих он довел до столь бедственного положения, что они питались мирским подаянием»[85]. По докладу шефа жандармов императору было определено: дело помещика передать на судебное рассмотрение, имение взять в опеку, дворянскому предводителю сделать строгий выговор за невнимание к своей обязанности, а самого помещика с семьей выслать на жительство в Кострому.
В отчетах за 1843 и 1844 гг. были даже целые разделы, касавшиеся «насилия и похищения девиц». Помещика Тверской губернии Лошакова, «насильно растлившего несовершеннолетнюю дочь своего дворового человека Никанорова»[86], велено было судить военным судом, а имение передать наследникам. Однако дело на этом не закончилось. Проводивший следствие штаб-офицер корпуса жандармов Дурново обратил внимание на «пристрастные действия» военно-судной комиссии и ее конфликтные отношения с гражданским начальством. После уведомления о сложившейся ситуации шефом жандармов военного министра дело было передано в вышестояшую инстанцию, свободную от местных влияний.
В августе 1844 г. императору было доложено об изнасиловании сыном помещика Гулевича 14-летней крестьянской девочки Козачуковой. Николай I написал на докладе: «Отдан ли он под суд?» Генерал-губернатор Бибиков доложил, что «Гулевич не сознался в своем поступке, но обвиняется показаниями Козачуковой, которая действительно лишена девства, и засвидетельствованием лиц, видевших расстройство и слезы ее, немедленно по совершении преступления, при повальном обыске поведение его не одобрено, и потому сделано распоряжение об удалении его из имения в город Сквиру, под надзор полиции, впредь до решения дела судебным порядком»[87].
Другой случай касался помещика Таврической губернии Нестерова (в архивном деле фамилия помещика Нестроев), который «насильственно растлил двух несовершеннолетних крестьянок своих и одну из них наказывал за несогласие продолжать с ним незаконную связь»[88].
Таврическому гражданскому губернатору было поручено информировать о ходе следствия. В результате выяснилось, что еще в 1839 г. он «лишил девства» пятнадцатилетнюю дочь крестьянина Нестеренкова Авдотью и имел с нею связь в течение трех лет, а в августе 1843 г. растлил 15-летнюю дочь крестьянина Мазниченка Пелагею, с матерью которой имел связь вскоре после ее замужества, и что «10 декабря, пьянствуя с тремя работниками, заставлял Пелагею и также 15-летнюю Агафью Мамаенкову пить вместе с ними, потом изнасиловал обеих и, наконец, двенадцатилетней Елене Нестеренковой за объявление о том жене его отрезал столовым ножом косу и изранил голову»[89]. Кроме того, опрошенные крестьяне дали показания о том, что он привлекал к работам «с женами и детьми ежедневно, часто наказывает без вины и не дает ни продовольствия, ни одежды»[90]. Наемные работники не подтвердили показания крестьян. Другие свидетели отмечали, что «Нестроев ведет себя неприлично только изредка, в нетрезвом виде, но в прочем обходится с крестьянами кротко и содержит их хорошо». После непосредственного осмотра поместья было установлено: «Крестьяне найдены действительно в весьма хорошем положении и, по-видимому, угнетаются только развратными поступками владельца»[91].
За поведением помещика был учрежден надзор, а имение его взято в опекунское управление.
Власть в отдельных случаях демонстрировала настойчивость в доведении дел, связанных с насилием, до конца. В отчетах за 1848 и 1849 гг. указывалось на обвинение волынского помещика Загурского в изнасиловании несовершеннолетней крестьянки Мудраковой, которая впоследствии умерла. Генерал-губернатор Д. Г. Бибиков докладывал государю, что Загурский «хотя не уличен в этом преступлении, но известен с неблаговидной стороны по многим следствиями судебным о нем делам»[92]. Высочайшее повеление «непременно дойти до истины» шеф жандармов довел до сведения министра внутренних дел.
Помещики использовали связи, влияние, угрозы, деньги, чтобы затянуть следствие и избежать ответственности.
«Потворство» членов военно-судной комиссии нижегородскому помещику Моисееву, обвиняемому в развратной жизни, буйстве и жестоком обращении с крестьянами, вновь стало основанием для информирования военного министра о необходимости передачи дела в другой суд[93].
В 1846 г. следствие в отношении помещика Тамбовской губернии Кошкарова началось с анонимного доноса о его развратном поведении. Проверку сведений начал жандармский штаб-офицер, а после того, как изложенная информация подтвердилась, было начато формальное следствие. Стараясь избежать ответственности, Телегин решил пойти на подкуп и вручил жандарму 1128 руб. сереб ром, которые штаб-офицер передал тамбовскому губернатору[94].
В отчете Третьего отделения за 1846 г. императору сообщалась любопытная статистика: «Посягательств крестьян на жизнь своих владельцев обнаружено в 1846 г. 26, в том числе 10 было безуспешных; управителей убито 6. Из всех убийств 7 совершено женщинами за дурное обращение и принуждение к разврату. Целию прочих убийств и покушений было приобретение свободы, мщение за притеснения и корыстные виды»[95].
Пример такой бытовой мести: в 1847 г. дворовые люди помещика Тульской губернии Шкурки покушались на его жизнь. Поводом послужило жестокое наказание их владельцем, «из ревности к 4 крестьянским девкам, с которыми он имел связи и прижил одиннадцать детей»[96]. Примечательно, что дело Шкурки было передано на рассмотрение тульского дворянского собрания, а имение взято в опеку.
Министерство внутренних дел вело свое производство по делам, связанным с злоупотреблениями помещичьей властью. Аналитические размышления чиновников этого ведомства не менее интересны. В отчете министра за 1844 г. приводились данные, согласно которым за год было убито 7 помещиков, покушались на жизнь — 6, «избили жестоко» — 1. По результатам следственных действий, проведенных жандармскими штаб-офицерами совместно с губернскими предводителями дворянства, «жестокого обращения помещиков с крестьянами не обнаружено». Как утверждал министр: «Преступления сии свершались более от безнравственности и невежества преступников, из коих многие при следствиях показали, что были довольны своими помещиками и совершали над ними злодеяния, или по запальчивости в нетрезвом виде, или из мщения за удержание их от пороков. Другие же, тяготясь бдительным только надзором владельцев за работами, желали в чем-либо избавиться от того, а иные из ревности к своим женам, хотя по следствиям подозрения их также не подтвердились»[97].
Тенденция, видимо, была отмечена верно. В отчетах Третьего отделения есть и такие примеры. «В Полтаве четыре дворовые девки, принадлежащие жене майора Белевцова, желая освободиться от урочных работ, покушались задушить свою госпожу, но не допущены к тому. По исследованию местным предводителем дворянства оказалось, что Белевцова обращалась с людьми своими не жестоко и что покушение на жизнь ее произошло от дурной нравственности виновных»[98], — сообщалось в отчете за 1850 г. В том же году, во время осмотра полевых работ был убит и затоптан в грязь тамбовский помещик Артемьев. В ходе следствия подполковник корпуса жандармов Горский выяснил, что «крестьянин Артемьева Морозов, боясь отдачи его в рекруты за дурное поведение, склонил на убийство другого крестьянина, который имел связь с сестрою Морозова и озлоблен был на помещика за отказ отдать ее за него замуж»[99].
21 марта 1848 г. император, принимая депутатов петербургского дворянского собрания, не преминул затронуть вопрос о помещичьем произволе: «[…] я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона»[100]. Выше уже отмечалась, что к следствию по случаям злоупотребления помещичьей властью наряду с жандармскими штаб-офицерами привлекались местные предводители дворянства, недостаточный контроль за поведением дворян мог стать основанием для привлечения их к ответственности. Но это не меняло ситуацию и не устраняло помещичий деспотизм…
По мнению В. И. Сафоновича, хорошо знавшего провинциальное дворянство, у предводителей «главным принципом их действий была защита дворян во всех случаях, когда возникали жалобы на притеснения крестьян или другие неблагонамеренные поступки, которые подвергали их опеке»[101]. Кроме того, по признанию сенатора К. Н. Лебедева, «почти все дела о злоупотреблениях помещичьей власти и об убийствах от побоев сопровождались чрезвычайной медленностью»[102]. В качестве примера он отмечал, что только в 1855 г. в Сенате были решены дела о помещиках Госсе и Белецком, судимых за жестокое обращение с крестьянами — первого с 1836, а второго — с 1831 г.
От буйства дворян-землевладельцев страдали не только крестьяне, но и жены, дети помещиков. В 1850 г. супруга помещика Симбирской губернии Каловского жаловалась на «дурное обращение мужа ее с нею и крестьянами». Следствие показало, что глава семьи, «удалив жену от себя, имел связь с двумя крестьянками, наказывал безвинно людей своих и ссорился беспрерывно с своими сыновьями»[103]. Иные действия дворян-извергов вызывают вопрос об их психической адекватности: «Помещик Псковской губернии Львов, не успев склонить крестьянку брата своего на блудную связь, приказал раздеть ее и случить с собакой, потом наказал ее розгами и, окутав в изорванное покрывало, издевался над нею. Муж этой женщины несколько раз намерен был ворваться в комнаты с ножом, но прислуга его к тому не допустила»[104] (1859).
Насилие помещиков по отношению к своим крепостным носило не разовый характер, видимо, системность подобной практики и позволяла говорить о деревенских гаремах. Вот лишь несколько примеров бесчинств, о которых докладывали императору. Помещик Смоленской губернии капитан Курлевич «при нетрезвой жизни, довел крестьян своих до крайней бедности и насиловал жен их и дочерей»[105] (1851). Казанский помещик Бутлеров «насиловал крестьянских дочерей и за несогласие на то жестоко наказывал родителей их»[106] (1851). Пензенский помещик Габбе организовал целую банду, которая бесчинствовала в округе при небескорыстном попустительстве исправника и станового пристава: «Габбе завел у себя толпу охотников и в сообществе с ними разбивал питейные дома, насиловал крестьянских девок и подвергал матерей их за сопротивление разным истязаниям»[107]. Жена попыталась взять его на поруки («с отобранием от него подписки, что он исправится в своем поведении»), однако он продолжал буйствовать и был отправлен на жительство в Пензу под надзор жандармов.
Помещик Рязанской губернии отставной унтер-офицер Веселкин «вел жизнь нетрезвую и буйную, собирал к себе крестьян, напаивал их водкою до бесчувствия и насиловал жен их; когда же последние уклонялись от подобных сборищ или не приводили по его требованию своих дочерей, то он жестоко их наказывал»[108] (1859). В Тамбовской губернии в декабре 1859 г. был убит помещик Карачинский. Четыре крестьянина, сознавшиеся в преступлении, в качестве одной из причин убийства назвали «вынужденную связь помещика с женами их и всегдашнее насилование их дочерей. Одна из последних объявила, что она, ее мать и даже бабка были лишены девства Карачинским»[109].
Выявленные случаи позволяли рассчитывать на законное возмездие, но сколько случаев насилия осталось в тайне деревенской глуши, скрыто за массивными дверями дворянских усадеб? А. И. Кошелев рассказывал в «Записках» историю молодого помещика С., «страстного охотника до женского пола и особенно до свеженьких девушек»: «Он иначе не позволял свадьбы, как по личном фактическом испытании достоинств невесты. Родители одной девушки не согласились на это условие. Он приказал привести к себе и девушку, и ее родителей; приковал последних к стене и при них изнасильничал их дочь»[110].
По свидетельству мемуариста, об этом деле говорил весь уезд, но помещику все сошло с рук. В письме петрашевца А. П. Плещеева к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 г., вероятно, говорится об этом же случае (один из московских дворян «завел у себя в деревне гарем и снасильничал одну девушку в глазах ее отца и матери»). Он назвал фамилию помещика — Смирнов. В его версии — помещик понес наказание: московский генерал-губернатор «хорошо поступил, хоть и нарушил права, то есть наказал без суда, непосредственно, отпустив тотчас же на волю весь гарем и отдав барина под строжайший надзор полиции»[111].
А. Н. Вульф оставил воспоминание об одном из своих родственников, который, расстроив свое состояние жизнью в Санкт-Петербурге, перебрался в деревню, «оставил жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил дюжину детей, оставив попечение о законных — своей жене»[112].
О распространенности подобной практики косвенно свидетельствовал и А. В. Дружинин, считавший себя хорошим помещиком: «В деревне мужики могут поставить мне монумент: не трогал я и не трогаю их жен и дочерей, отчасти из принципа, отчасти по отсутствию искушения»[113].
Безнаказанную сексуальную практику помещиков копировали и управляющие имениями. В 1854 г. крестьяне тверской помещицы Бабинской жаловались на жестокие и безнравственные поступки управляющего имением дворового человека Васильева[114]. Губернский секретарь Витвицкий, управляющий имением князя Кочубея в Саратовской губернии, был обвинен в жестоком обращении с крестьянами и в насилии над их дочерьми. Однако следствие показало, что «ни одна из них не подвергалась насилию Витвицкого, но что принуждал их к связи с ним усиленными работами и притеснениями их семейств и таким образом успел развратить 22 девушки»[115].
Задача ограничения власти помещика над личностью крестьянина, недопущения произвольного насилия, унижающего и оскорбляющего человеческое достоинство, разрешилась с отменой крепостного права. В последние годы крепостничества Третье отделение пыталось выявлять и доводить до законного решения случаи жестокости, жандармские офицеры проверяли анонимные доносы, циркулировавшие слухи о фактах насилия и угнетения крестьян, пытались контролировать разыскные действия и следить за судебными процессами, но победить системное зло было невозможно, его можно было сдерживать.
Первый управляющий Третьим отделением М. Я. фон Фок, передавая шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, находившемуся с императором в Москве, сводку о столичных настроениях, относительно молодого поколения писал (11 августа 1826 г.): «Молодежь ужасно дурно воспитана и заражена идеями новаторов нынешнего века; семейные узы утратили свою силу и вследствие этих идей, и вследствие общего эгоизма; так что понадобится немало забот и времени, чтобы исправить дух молодых людей, которые не хотят и слышать об улучшении нравов, без чего, однако ж, правительство не в состоянии будет начать действовать»[116]. Из следующего письма (18 августа 1826 г.) видна еще одна нравственная проблема: «Воспитание юношества направлено ложно: молодежь рассуждает, тогда как могла бы гораздо полезнее употреблять свое время»[117]. Мыслительная деятельность воспринималась как угроза традиционности, стабильности, привычным нормам и правилам поведения.
В «Кратком обзоре общественного мнения» за 1827 г., подготовленном Третьим отделением для императора, оценки роли молодежи в российском обществе еще более категоричны и негативны: «Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев»[118]. Как видно, заветы отцов тиражировали не консервативные, а радикальные модели поведения сыновей, что и внушало тревогу.
Корень зла — дурное воспитание. Не зная России и народа, молодежь считает негодным существующий строй, не имея опыта службы — жаждет чинов и должностей, а свободу понимает как безначалие. «Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения»[119], — писал А. Х. Бенкендорф. По мнению шефа жандармов, в этой среде живы были идеи декабристов, хотя страх перед репрессиями удерживал от создания тайных обществ: «Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления — в Петербурге»[120].
Не забыл А. Х. Бенкендорф отметить в «Обзоре» мысль о том, что «тайные политические общества не образуются без иностранного влияния»[121]. Ситуация рисовалась катастрофичной и трудноисправимой: «Конечно, в массе есть и прекрасные молодые люди, но по крайней мере три четверти из них — либералы. Впрочем, надо надеяться, что возраст, время и обстоятельства излечат понемногу это зло»[122].
Естественно, что все идеологические посылы и установки шли от императора. 21 марта 1848 года Николай I на встрече с представителями петербургского дворянства, говоря о главных текущих проблемах, в частности, отметил: «В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству, направляйте их мысли к добру и, если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для большинства и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними»[123].
Через год, в апреле 1849 г., начались аресты участников «пятниц» М. В. Буташевича-Петрашевского. Его Третье отделение считало главным виновником заговора и совратителем молодежи. Всего в заключении оказалось около 50 чел., а допросам подверглись 122 чел.[124]. В «Обзоре деятельности Третьего отделения за 25 лет» прямо указывалось: «Сильнейшее же влияние западные лжеучители произвели на чиновника Министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, который и прежде замечен был в склонности к безнравственным поступкам. Чтение новых иностранных книг совершенно лишило его здравого смысла, и он, вовлекая в свое знакомство молодых людей, передавал им испорченность своих мыслей»[125].
Под впечатлением открытого в столице заговора управляющий Третьим отделением, Л. В. Дубельт, сетовал по поводу «буйной» молодежи, у которой «привычка судить криво все более и более усиливается оттого, что у них и души, и толк вверх дном»[126]. И он видел корень проблемы в воспитании, в нравственном воздействии на молодые умы: «Воспитание порождает смуты и беспорядки нашего времени. Воспитание, худое направление мыслей, привычка считать себя умнее других — вот настоящие причины неустройства»[127]. Другой компонент формирования верноподданного — это образование. «Истинное просвещение должно быть основано на религии; тогда оно и плоды принесет сторицею. А когда просвещение религии знать не хочет и только опирается на диком, бездушном эгоизме, так и плоды будут адские, как начало его адское!»[128] — поучал Л. В. Дубельт.
Этому здравому началу противостоит свобода книгопечатания, которая несет вред обществу и государству: «Хороший человек не станет читать худых книг, порочного и безнравственного листка и в руки не возьмет; а дурному человеку никакая цензура не помешает доставать худые книги»[129]. Вот почему «в нашей России должны ученые поступать как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами, — и отпускать ученость только по рецепту правительства»[130]. Таким образом, именно власть должна формировать государственную идеологию и мировоззрение подданных.
Дело участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского актуализировала охранительные меры. Военный министр А. И. Чернышев, передавая шефу жандармов А. Ф. Орлову (7 января 1850 г.) слова высочайшего повеления, напоминал о недавнем следствии, которое показало, что «преступные замыслы на ниспровержение и превращение существующего в России государственного устройства возникли большею частию между людьми молодыми, недавно кончившими или еще заканчивающими курс наук в высших учебных заведениях», из этого можно заключить, что «настоящие меры наблюдения относительно духа и направления преподавания вообще не довольно еще бдительны»[131]. Прежде всего «некоторые из преподавателей сами содействуют к превратному направлению понятий между учащимися, как это доказывается и найденными у преступников лекциями, и программами преподавателей, в которых допущены вредные для существующего порядка суждения»[132]. Кроме того, «огромное количество вторгающихся к нам иностранных сочинений самого опасного содержания […] способствуют превратному образу мыслей в умах юных и неопытных, доказывая с тем вместе, что или цензура наша не довольно осмотрительна, или что принимаемые против ввоза запрещенных книг меры недовольно еще бдительны и строги»[133]. Помимо этого сами молодые люди, в поисках заработка, обращались к литературному труду. При недостатке цензурного контроля появлялись статьи «коих направление явственно вредно, и посредством сего легкого способа, зараженные уже вольнодумством сочинители, разливают яд свой в умы чуждые еще пагубных мечтаний»[134].
Военный министр сообщал высочайшее повеление, предписывавшее «усилить строгость наблюдения со стороны непосредственных начальников учебных заведений за общественным обучением, как относительно духа и направления преподавания вообще, так и относительно строгого выбора учителей и поверки их преподавания»; «со стороны цензуры иметь бдительный надзор за журнальными и газетными статьями»; «принять строжайшие меры против ввоза иностранных сочинений, опасного содержания, способствующих распространению превратного образа мыслей»[135]. Кроме того, император Николай I «усматривая, что у некоторых из злоумышленников бывали в домах собрания, на которых происходили преступные разговоры и совещания и произносились речи противу правительства, Высочайше указать соизволил, чтобы со стороны всех полицейских начальств имелось возможно бдительное наблюдение за частными сходбищами и собраниями, дабы при настоящем разврате умов на Западе и прилипчивости вредных идей не могли образоваться у нас вновь собрания подобно открытым по сему делу»[136].
Пока высшие чиновники пыталась регламентировать содержание учебных дисциплин, правила внутреннего распорядка в образовательных заведениях, содержание учебной литературы и толстых журналов, репертуар театральных представлений и ассортимент книжных магазинов, сквозь толщу запретов пробивались неформальные поведенческие практики, разрушавшие умозрительную конструкцию нравственного и добродетельного человека.
Даже любимое детище Николая I, военные корпуса, не могли обеспечить достойное нравственное развитие. Сам Л. В. Дубельт порицал существовавшие в них порядки: «Мне кажется, что казенное воспитание много портит молодежь нашу, не только в отношении нравственности в поведении, но также и насчет мнений против Государя. […] В корпусах же свирепствует такой дух непокорности, такое отчуждение от всего прекрасного, такой страшный эгоизм, что и самый лучший юноша заражается этими недугами; потом вносит их в общество и распространяет их там; а как общество наполнено воспитанниками корпусов, так и мудрено ли, что эта зараза каждый день делается сильнее!»[137]
Демократизация общественного быта с началом правления Александра II сказалась и на поведении учащейся молодежи. Было бы неверно утверждать, что аномальное поведение носило массовый характер, но то, что случавшиеся казусы не удавалось скрывать и решать проблему келейно, свидетельствует о набиравшей силу тенденции роста девиантного поведения юношества, зачастую принимавшего черты протеста против архаики повседневности. Информация о таких случаях становилась достоянием общественности, через систему неформальной коммуникации транслировалась повсеместно, а затем и через аппарат надзора и фиксации настроений общества доходила до императора.
В материалах архива Третьего отделения отложились разрозненные донесения агентов, касавшиеся учащейся молодежи. О драке в семинарии Невского монастыря докладывалось (13 июня 1857 г.) как об обыденном явлении, так как семинаристы, монахи и монахини «постоянно таскаются по городу — следовательно, и немудрено, что вкрадываются между ними и пьянство и разврат»[138]. Осенью того же года зафиксирован был слух о происшествии, которое еще недавно казалось невероятным: кадеты Павловского корпуса вышли из повиновения и пошли жаловаться своему начальству за нанесенную обиду, состоявшую в том, что их обыскали и отняли папиросы и сигары[139].
17 декабря 1861 г. сообщалось, что воспитанники первой гимназии были ведены в баню, но по дороге часть отстала; они зашли в погреб и «перепились». Как результат последовавшего разбора поступка 5 человек представлены к исключению[140].
Совсем юное поколение также «успешно» осваивало «бескультурное» пространство. 24 февраля 1861 г. агент доносил, что на балу в Екатерингофе замечено несколько воспитанников коммерческого училища, не более 14–16 лет. Удалось установить личность одного, «балагурившего с женщинами дурной нравственности»[141]. Далее сообщалось, что «на вопрос агента, каким образом они […] могли в будний день очутиться на вечере в Екатерингофе, ему ответили, что они отлучаются по секрету и возвращаются туда под утро, к 7 час., когда все встают»[142]. Таким образом, политическая полиция выявила явное упущение администрации училища, о чем и было сообщено соответствующему начальству.
26 марта 1864 г. руководству Третьего отделения докладывалось: «В гостинице Пассата с недавнего времени после обеда стали появляться человек по 10 гимназистов, еще почти совершенные дети, с развратными женщинами. Из разговоров их можно заключить, что они ушли из дома от родителей, под предлогом посещения церкви, один гимназист выражался: „Я говею здесь каждый день“»[143].
Массовость получаемых сведений предопределила подготовку аналитической записки (19 июня 1864 г.), в которой признавалось, что «распущенность воспитанников учебных заведений доходит до крайних пределов. Известного сорта трактирные заведения, некоторые из публичных мест и гуляний только и имеют посетителей, что гимназистов и кадет; там скрытно от родителей они предаются разврату и полному разгулу на свободе». Дело доходило до того, что юноши, поддавшись порочным страстям, убегали из дома (известно, что в одной из гимназий скрылось 5 воспитанников). Единственно, что внушало оптимизм, — так это сведения о том, что «почти все скрывающиеся мальчики присылают или прямо к родителям, или к товарищам свои письма, в которых сознаются в своих глупостях, просят успокоить их родителей и вымолить им прощение у них»[144].
Тенденция, свидетельствовавшая о слабом контроле администрации за обучающимися молодыми людьми, была очевидной. Об этом 24 октября 1864 г. было сообщено шефу жандармов В. А. Долгорукову: «Столичные увеселительные заведения (танцклассы), постоянно посещаемые преимущественно разгульною молодежью, с некоторого времени, как замечено, привлекают и воспитанников разных учебных заведений, коим по принятым правилам не дозволяется бывать в таких местах. Особенно часто замечаются в настоящее время в танцклассах второго разряда, где редкий вечер проходит без скандалов, воспитанники императорского лицея. Так, между прочим, 21 октября в гостинице „Москва“ 7 человек лицеистов, из коих один был Ознобишин, всю ночь пили шампанское и канканировали с публичными женщинами, а третьего дня несколько лицеистов бесновались в заведении „Германия“, где распущенность приняла широкие размеры»[145]. Нескрываемое безобразное поведение заставило шефа жандармов вновь дать специальное поручение: «Необходимо предупредить надлежащее начальство»[146].
Подобные нравы были характерны не только для столицы. Шеф жандармов В. А. Долгоруков распорядился сообщить министру народного просвещения для принятия мер сведения, полученные из перлюстрированного письма без подписи из Владимира в Москву к студенту университета А. И. Федорову (20 февраля 1866 г.). Автор откровенно сообщал: «Мои товарищи не то, что бывшие семиклассники; они заранее приготовляются к разгульной жизни студентов, которым делать нечего. Из пансиона они потрудились сделать клуб, распивочную лавку, наконец, дом сестер милосердия. Вот Саша, приходило ли тебе когда в голову, что Владимирский дворянский пансион будет так прославлен […] от последних чисел августа у нас не выводятся карты, сопровождаемые сильнейшими попойками, справляются именины старших; не проходит недели, в которую бы старшие не отправлялись в трактиры и дом сестер милосердия, прославляя себя при этом всякими подвигами; в заключение же стали приводить красавиц прямо в пансион, чем особенно отличается Макаров, считающий себя примером для всех»[147]. У юных владимирских дворян даже сложился свой сленг, на котором публичный дом именовался «домом сестер милосердия».
Эпатажное поведение не маскировалось, наоборот, для его демонстрации избирался многолюдный центр столицы. 10 апреля 1869 г. шефу жандармов П. А. Шувалову докладывалось: «Получено известие, что вчера около 8 часов вечера, то есть когда еще было совершенно светло, по тротуару Невского проспекта, между Пассажем и Михайловской улицей, проходил воспитанник первой гимназии, лет 15, ведя под обеими руками двух публичных девок, как агент пишет: набеленных, с волочащимися хвостами и огромными шиньонами. Группа эта производила на проходящих чрезвычайно тягостное впечатление. Гимназист и его дамы вели очень оживленный разговор; они, по-видимому, познакомились между собою не теперь, потому что расспрашивали друг друга об общих знакомых. Агент сообщает довольно подробные приметы героя этой сцены»[148].
Под особым общественным и полицейским контролем были женские воспитательные заведения. По словам современника, главная задача таких учреждений была в том, «чтобы из института выходили девушки, окруженные ореолом непорочности, скромные и стыдливые». Для этого барышню надо было воспитать «в правилах прописной морали и соблюсти голубиную чистоту ее помыслов. В этих видах в классах делались даже пропуски в читаемых произведениях». Неблагопристойные поэтические строки «Поднявши хвост и разметавши гриву» заменялись на вполне невинные — «поднявши нос»[149]. С подобными задачами никак не согласовывалась информация об исключении в январе 1858 г. из Мариинского института «двух взрослых девиц, за упорное их упрямство в курении папирос (в последний раз застали курящих в сортире)»[150].
Зимой 1860 г. сообщалось, что начальница Александринского сиротского дома пытается загасить разразившийся скандал, доказывая, что «найденный спрятанным в постели воспитанницы молодой человек приходил будто не к ней, а к служанке»[151]. Благодаря городской молве политическая полиция узнала о происшествии в другом воспитательном доме и о стремлении начальства скрыть всю информацию о нем. Агент выяснил (26 августа 1864 г.) пикантные подробности скандала: «Воспитанник института глухонемых Крылов, сговорившись (пантомимами) через окно с воспитанницей Родовспомогательного заведения Ялушевскою, забрался к ней ночью через окно. Это было замечено случайно бывшим на дворе швейцаром, и Крылов пойман в будуаре воспитанницы. Крылова наказали розгами; Ялушевскую под видом неспособности исключили из заведения, а содействовавших ей в шалости двух воспитанниц […] подвергли домашнему взысканию. Случай этот, как уверяют, до сведения высшего начальства не доведен из опасения ответственности ближайших начальников и начальниц»[152].
Говоря о студенческой молодежи, сразу оговорюсь, что оставляю за пределами исследования политическое вольномыслие и протестное движение, имеющее хорошую историографическую традицию. Обратим внимание на внешние проявления студенческого быта, нарушающие существовавшие в обществе нормы и зафиксированные агентами политической полиции. Довольно часто в сведениях полиции упоминался неопрятный внешний вид молодых людей. Шокирующий облик для студентов был своеобразным маркером свободомыслия, неприятия ценностей традиционного общества.
В одном из агентурных донесений (1858) со ссылкой на инспектора университета сообщалось, что тот уже махнул рукой на все, пребывая в отчаянии от поведения студентов, которые «не только […] продолжают носить, что хотят: цветные галстуки и шарфы и белые выпускные воротники, но многие стали даже отращивать усы». «Все это приписывают вкоренившейся в них […] трактирной жизни, отчуждающей их более и более от семейных домов»[153], — заключал информатор.
В апреле 1861 г. внимание полиции привлек гулявший на Адмиралтейском бульваре студент: «Один молодой человек в студенческой шинели, под которой у него было надето: ситцевая полосатая рабочая блуза, большие сапоги, в которых засунуты были брюки, и конфедератка. Костюм этот обратил на него всеобщее внимание. Многие прохожие, указывая на него пальцем, замечали: напрасно правительство допускает показываться на публичных гуляниях лицам, одетым в таком революционном костюме»[154]. В отказе от строгой форменной одежды полиции виделся крах устоев.
Петербургский агент докладывал помощнику старшего чиновника Третьего отделения Ф. И. Проскурякову (25 августа 1861 г.) о встреченных им студентах «в каких-то странных, фантастических одеждах». Символом их корпоративной принадлежности была только фуражка с голубым околышем. Он писал: «Маскарадный их костюм состоит из какого-то длинного полувоенного или полустатского плаща или пальто, темного цвета, и не говоря уже о безобразно отпущенных некоторыми из них усах и бородах, в особенности обращают на себя внимание необыкновенно длинно отпущенные ими сзади волосы, висящие по плечам и почти до половины спины»[155].
Это были предшественники так называемых нигилистов, вызывающий внешний облик которых дополнял протестную мировоззренческую позицию.
Осенью 1861 г. полицейские сводки полны сообщений о волнениях студентов Санкт-Петербургского университета.
Но не вся молодежь была увлечена борьбой за студенческие вольности. «Сегодня, по случаю маскарада в немецком клубе, туда ожидают многих студентов и опасаются шкандала»[156], — сообщал полицейский агент 7 октября 1861 г. Другой — приводил слова извозчика, который считал, что хуже студентов только черкесы: «Те тотчас драться лезут»[157]. Вообще, появление компаний студентов на увеселительных мероприятиях было признаком надвигающегося скандала. Так, обратили на себя внимание и воспитанники Технологического института, в состав которых влились исключенные после студенческих волнений 1861 г. студенты университета: «Они избрали местом своих попоек и сходок трактир Баранова „Старый Царицын“ против самого института. Даже тамошний местный надзиратель жалуется, что с ними ничего не может поделать. Говорят, коноводы попоек [курсив мой. — О. А.] технологических воспитанников суть два брата Лебедевы, из коих один был ранен прикладом ружья во время бывших в 1861 году студенческих беспорядков»[158].
Естественно, особое внимание полиции вызывали политические мотивы, звучавшие на пирушках. В этом контексте обращалось внимание на «недавно открытый кофейный дом [Изюмова], которому очень многие присвоили название Русской таверны»[159]. Публика там собиралась разнородная — «студенты, оборванные чиновники, богатые купцы, извощики и публичные женщины», и отдыхала привычно: «Весь этот сброд обычных посетителей кофейной пляшет и поет под звуки игры шарманщика»[160]. Но не всё, по словам агента, в поведении «обычных посетителей» было традиционно: «Не говоря уже о песнях разврата, которые там поются, в воскресенье несколько студентов, сидя в главной зале, запели, нисколько ни стесняясь, революционные песни […], а один из аудиторов Военного министерства продекламировал стихи: „Долго нас помещики душили“. Ко всему этому надобно еще прибавить происходящие в кофейной драки»[161].
Последней фразой, видимо, намечался возможный вариант скорого полицейского вмешательства для пресечения беспорядка, а следом можно было обратить внимание и на политическую благонадежность хозяина заведения, допускавшего такие вольности в поведении посетителей. «Прижать» Изюмова можно было и за нарушение распорядка работы кофейной: «Кофейная Изюмова всегда открыта до 4 часов утра, несмотря на то, что он, торгуя на правах кухмистера, обязан запирать свое заведение в 12 часов ночи»[162]. Оставалось только убедиться в достоверности полученных сведений.
Речевая «культура» молодежи пугала не меньше поведенческой. 8 июня 1861 г. в сводке донесений упоминалось, что трое кадет поздно вечером на Невском проспекте «неприлично громко ругались с двумя женщинами, которые без стыда отвечали им такими же русскими бранными словами»[163]. Не сдерживал себя и какой-то студент, попавший не только в жандармскую сводку, но и в полицейскую часть. Он в кондитерского Вольфа неосторожно толкнул господина, незнакомец, оказавшийся Бессарабским вице-губернатором, спросил, как его фамилия. На что студент отвечал: «Ху…овский!»[164]
Нигилизм как политическое течение заявил о себе в середине 1860-х гг. Шеф жандармов П. А. Шувалов писал в отчете Третьего отделения за 1869 г.: «Русский нигилист соединяет в себе западных атеиста, материалиста, революционера и коммуниста. Он отъявленный враг государственного и общественного строя, он не признает правительство»[165].
Современник иронизировал, говоря о внешнем виде оппозиционеров: «По тогдашней либеральной моде, большинство интеллигенции прямо бравировало неряшеством. Юноши ходили нестрижеными и нечесаными, потому что им „некогда“ было заниматься такими пустяками; по той же причине девушки демонстративно не мыли себе шею по целым месяцам и нимало не заботились о чистоте костюма. Странно было то, что одна и та же причина вызывала два совершенно противоположных результата у молодых людей двух полов: юноши, за недосугом, отпускали себе длинные волосы, а девушки, напротив, остригались в скобу — тоже за недосугом»[166].
Об идейном содержании шокирующего имиджа писал Ф. М. Решетников: «Например, я видел много нигилистов. Это глупые люди. Мальчик, вбивший себе в голову, что он нигилист, то есть не верует в Бога, не признает правительство, носит длинные волосы, очки, говорит вздор и подличает; в церкви он ужасно гадок, ужасно гадок на Невском, в Пассаже, где делает пакости девушкам, женщинам». Этих людей не волновали насущные вопросы российской жизни (например, положение крестьян): «Они никак не хочут не только заступиться за мужика, но не хочут сознательно, чистосердечно назвать его гражданином — и всегда ближнему сделают пакость». Особенно досталось от молодого писателя дамам: «Женщины и преимущественно девицы ходят без кринолинов, с обрезанными волосами, с книжками: это нигилистки. И за ними волочатся очкастые, длинноволосые нигилисты […] Эти особы говорят по-ученому, но ничего не понимают, их можно резать с книжкой, но она будет хвастаться, а не объяснять; то, что скажет ей нигилист, — будет говорить и она»[167]. Как видим, новая поведенческая практика имела свою идеологию, пусть и воспринимаемую обывателями не адекватно базисному учению, но с четким перечнем новых ценностей[168].
После покушения Д. В. Каракозова на Александра II терпение тайной полиции в отношении протестного внешнего облика нигилистов лопнуло. Управляющий Третьим отделением Н. В. Мезенцов письмом от 10 мая 1866 г. уведомлял санкт-петербургского обер-полицмейстера о необходимости решительного пресечения демонстрации политически опасных одеяний: «На улицах Невского и других проспектов продолжают, в последнее время, показываться дамы и девицы, носящие особого рода костюм, известный под названием „нигилисток“ и имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие коротко остриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина. Со дня преступления 4 апреля среда, воспитавшая злодея, заклейменная в понятии всех благомысляших людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может, в глазах блюстителей общественного порядка, не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования». Модницы обязывались подпиской к изменению костюма, а при отказе им грозила высылка из столицы и полицейский надзор[169].
Костюм, то есть набор аксессуаров, приобретал для власти пугающий смысл. Политическая распущенность оказалась опаснее моральной.
И. Т. Прыжов отмечал: «У великорусского народа мало-помалу сложилось новое правило жизни, что не пить — так и на свете не жить»[170]. Спиртные напитки не просто скрашивали досуг многих крестьян и горожан, их потребление было самым доступным и желанным средством выражения радости и счастья, а ситуация житейского комфорта не мыслилась вне распития, на трезвую голову.
В 1838 г. председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Н. С. Мордвинов, возражая против расширения системы винных откупов, представил Николаю I записку, в которой предлагал незамедлительно начать осуществление мер по искоренению пьянства. Он апеллировал к опыту Соединенных Штатов Америки, где «рачительно […] занимаются введением трезвости, как непреложного основания к благосостоянию народа»[171]. Этот пример получил распространение и в Европе, где повсеместно возникали общества трезвости. Если не терять время, то для русского народа «неисчислимые впоследствии явятся пользы»[172] (30 марта 1838 г.).
Письмо с запиской «Об искоренении пьянства» было направлено и графу А. Х. Бенкендорфу. Шеф жандармов отвечал (7 апреля 1838 г.), что император прочел представленную бумагу и, «вполне признавая справедливость всего в оной изложенного, изволил, однако же, отозваться, что приступить к мерам об искоренении пьянства в России весьма затруднительно и что в деле сем надлежит действовать с величайшею осторожностью»[173]. Формальность письма была особенно заметна на фоне назначения «спаивающего народ» министра финансов Е. Ф. Канкрина состоять при «особе его императорского величества»[174].
Тем не менее ограничения в продаже спиртных напитков существовали и контролировались полицией. Так, в Москве действовал запрет на музыку, пляски, исполнение песен в питейных домах и распивочных лавках, запрещался вход в них женщин; в кабаки запрещено было пускать «крестьян в смурых[175] кафтанах, господских людей в ливреях и воинских чинов»[176]. 16 августа 1843 г. шеф жандармов представил доклад, в котором излагал просьбу московского генерал-губернатора «дозволить входить в трактир людям в смурых кафтанах, особенно в Москве, куда съезжается множество крестьян из разных губерний, ибо в противном случае они могут обратиться в питейные дома, что еще вреднее для нравственности»[177]. Император с этим предложением согласился, подчеркнув, что другие запреты должны сохраниться. Как видим, нравственный критерий был определяющим: посещение трактира (ресторана) прививало определенную культуру потребления и поведения, в отличие от заведений более низкого уровня, ориентированных только на выпивку.
В 1859 г. в стране началась активность, вызвавшая некоторое замешательство в «верхах». В. А. Долгоруков докладывал императору Александру II: «В течение 1859 года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно воздерживаться от употребления крепких напитков»[178]. Началось это движение сначала в Прибалтике, затем распространилось в Поволжье (особенно в Саратовской губернии), затем проявилось в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Причины были вызваны действиями откупщиков, в погоне за прибылью резко поднявших цены на водку, и низким качеством вина, отпускавшегося в кабаках. По мнению В. А. Федорова: «Это был грандиозный, хотя и пассивный, протест народных масс против наиболее тяжелого и разорительного налога — откупной системы»[179].
В Третье отделение поступали сведения о самоорганизации крестьян («обет трезвости») для противостояния грабительской политике откупщиков. Например, сообщалось: «В городе Балашове обет не пить вина совершен был торжественно 5 февраля: народ, подняв св. иконы и хоругви, вышел на городскую площадь, где отслужен был молебен с коленопреклонением и водосвятием; после того приставлен был к кабакам караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вина, и виновный подвергается немедленно по народному суду денежному штрафу или наказанию телесному»[180]. Жандармский штаб-офицер Андрианов переслал шефу жандармов копию решения (приговора) о неупотреблении вина мирского схода государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии. Показательно, что выступавший перед земляками старшина Н. Е. Мордовин не клеймил действия откупщиков, обиравших народ, но пополнявших государственный бюджет, а рассуждал… о здоровом образе жизни. Он вещал «о трезвой жизни и о том, сколько зол происходит от излишнего употребления горячих напитков, отчего истощается наше благосостояние, портятся душевные и телесные способности»[181]. «Отслужа молебствие о столь благом и важном деле», единогласно и добровольно, крестьяне «обязались не пить водки, что и исполнить в точности; в питейные дома не ходить и в оных трубку не курить, […] и о нарушителях сего доносить сельскому начальству для поступления с таковыми как с вредным обществу». Из общего правила допускались и исключения: «В некоторых случаях дозволить себе покупать и водку, именно: во время свадеб — не более ведра, в крестины — один полуштоф или за болезнью престарелого человека, которому пожелается выпить водки, то может послать и взять в дом не более одной косушки, то есть пятидесятую часть ведра, но ни под каким видом не ходить в кабаки и не пить в оных»[182]. Нарушители подвергались денежному штрафу или должны были выполнять общественные работы («метение и очищение от грязи и сору улиц и площадей»), тех же, кто неоднократно будет нарушать приговор схода, «как пьяницу и распутной жизни человека удалить из общества» в ссылку на поселение[183].
Сообщения о подобных действиях крестьян приходили и из других мест. Штаб-офицер корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусов сообщал: «Число непьющих вина крестьян в Тульской губернии сильно возрастает, в некоторых уездах осталось очень немного селений, которые еще не последовали общему примеру»[184]. Появлялась информация и о том, как крестьяне расправлялись с нарушителями бойкота. Белоусов докладывал: «В иных местах наказание виновных делается при общей сходке. Собирается толпа, ставят на площади шест с привязанным к нему красным платком и около этого шеста наказывают провинившегося. В одном из казенных селений Богородицкого у[езда] устраивается нечто вроде шествия, причем для того, чтобы всем было известно, колотят палкою во что-нибудь металлическое»[185].
Жандармов беспокоила стихийная самоорганизация народных масс, показывавшая «сильный дух» крестьян. Крестьянская тактика: выступление за трезвость, а не против грабителей-откупщиков, опекаемых властью, поставила местное начальство в затруднительное положение. Успокаивало то, что «отречение делается не навсегда, а на разные сроки. Носились слухи, что некоторые крестьяне ожидают условий вольной продажи вина или очень дешевой цены»[186]. В то же время крестьянское единение создавало опасный прецедент. Помещики опасались, что «с наступлением весны крестьяне точно так согласятся не отправлять барщины»[187]. Тревожило и начавшееся самоуправство, подрывавшее монополию государственной власти и помещика на правосудие. Жандармский штаб-офицер Белоусов осторожно указывал на эту опасность: «Большие сходбища толпы, взявшей на себя правило наказания, как бы не повели к беспорядкам». Особенно в условиях грядущей отмены крепостного права: «Толпа, уверив себя в значении массы ее, как бы пугающей ближайшие власти и потому не смеющей мешаться в дела их, не возбудили бы в них дерзость к обращению и на другие предметы»[188].
Шеф жандармов регулярно информировал государя о настроениях на местах. Эти голоса были услышаны. В. А. Долгоруков отчитывался о деликатных мерах реагирования: «Правительство признало нужным при таковых обстоятельствах обратить внимание только на самовольные поступки ревнителей трезвости, которые принуждали других к воздержанию штрафами и взысканиями, а потому местным начальствам было предписано не допускать произвольного составления жителями каких-либо обществ и письменных условий, а также самоуправных наказаний»[189].
С середины 1859 г. трезвенное движение стало радикализироваться, начались погромы питейных заведений. Здесь уже декларациями о здоровом образе жизни крестьяне не прикрывались. В начале июля 1859 г. жандармский офицер Кретович докладывал, что в Самарской губернии «в настоящее время дух народа, покушавшегося на самовольство, принял общий характер»[190]. В отчете Третьего отделения отмечено: «В Самарской губернии грабежи произведены из одних только корыстных видов, а в Вятской, по ограблении питейного дома в селе Петровском, опились до смерти 8 человек»[191]. Здесь уже была очевидна необходимость «для укрощения буйства» использования войск, а в Пензенскую, Тамбовскую, Саратовскую и Самарскую губернии были командированы штаб- и обер-офицеры корпуса жандармов с нижними чинами. По сведениям высшей полиции, в 12 губерниях разграблено 220 питейных заведений, предотвращено 26 погромов, задержано до 400 человек[192]. Тюрьмы были переполнены. Выявленных зачинщиков бунтов судили военными судами, приговаривавшими к телесным наказаниям шпицрутенами и ссылке в Сибирь. Отголоски трезвенного движения не прекращались еще несколько лет. Его затухание свидетельствовало о приоритете у крестьян протестных задач — добиваться снижения цены на водку для большей доступности потребления, а не в декларированных целях сохранения достатка, телесных и душевных сил.
Служащие в Третьем отделении чиновники хорошо понимали вред и опасность пьянства для нравственного здоровья людей и общественной безопасности. Еще в самом начале 1860-х гг. составитель жандармских сводок, пересказывая городскую молву, сетовал на странную конкуренцию Москвы и Петербурга: «Москва, как известно с незапамятных времен, считается гнездом трактиров, харчевен, портерных и кабаков, простым народом называемых заведениями. И если не в каждом доме, то непременно через дом одно, а не редко и по два таких простонародных сборища, так что (как говорят) если взять всех их вместе по всей России, то едва ли число оных будет больше, чем в одной только Москве. Теперь здешняя публика с некоторых пор стала замечать, что и Петербург в скором времени не отстанет в этом от Москвы, — по крайней мере, есть на то большая надежда, ибо очевидно, что в последние годы расплодилось здесь столько этого добра, что на каждой улице и переулке по нескольку таких обетованных простонародных мест — особенно портерных и водочных лавок!»[193]
Неодобрительность проявлялась в самой тональности записки. Обывателей беспокоили криминальные последствия пьянства: «Как же после этого (говорят) не быть увеличивающемуся здесь воровству и вообще порче нравов простолюдин, по мнению наблюдательных людей, все больше и больше пристращая к посещению сих мест, но всякий может удостовериться, что они с утра до ночи наполнены простолюдинами всех сословий, а чтобы пить да есть, надо побольше денег, чем они достаются трудами своими, поэтому и неизбежны воровство, грабежи и все другие порочные средства»[194].
Количество увеселительных заведений в столице действительно постоянно росло, и большинство их было ориентировано на привлечение низших слоев общества. «С некоторого времени здесь при многих гостиницах завели сады, в которых даются увеселительные вечера с довольно дешевою платою за вход. С одной стороны, конечно, подобные заведения необходимы, но с другой — надзор за ними еще необходимее, — рассуждал чиновник Третьего отделения в докладной записке своему руководству. — Собирающаяся там публика состоит из самого буйного класса: мастеров, публичных женщин низшего сорта и разных воришек. Драки и беспорядки беспрестанные, а полиции нет; расправляются сами хозяева, а иногда даже и служители их, разумеется сильнейшие […] всегда правы бывают»[195].
Иногда личность дебоширов удавалось установить и затем сообщить служебному начальству о содеянном для принятия воспитательных мер воздействия. В одном агентурном донесении отмечалось, что 15 октября 1860 г. секретарь распорядительной думы Лапшин со знакомыми «были очень пьяны, ходили в шляпах и один из них часто ругался похабными словами и между прочим обругал управляющего тамошним кварталом штабс-капитана Новицкого, который хотел было его выпроводить, но когда Лапшин зазвал Новицкого выпить шампанского, то он оставил знакомого его в покое»[196]. Как видим, примирительный (или, точнее, попустительный) характер разрешения конфликтов был распространен, полицейские служащие готовы были закрывать глаза на поведение пьяниц, а хозяева и служители заведений оберегали своих пьющих завсегдатаев от административных неприятностей.
Пьянство было основной причиной постоянных конфликтов и происшествий (лето 1861 г.): «Не проходит дня, чтобы в гостинице „Орел“, находящейся на Песках, в саду, где играет музыка, не было какого-нибудь скандала. Там собирается более публика окрестностей, но приезжают и известные кутилы, и много разного сброда. Один из наших агентов, которому велено посещать это заведение, доносит, что 7 числа бывший там в нетрезвом виде потомств[енный] поч[етный] гражд[анин] Самсонов, нанеся сперва многим гулявшим оскорбления, обругал, оплевал и побил приказавшего его отвезти в часть помощника надзирателя, подпоручика Глушановского, крича, что он богат, ничего не боится и всю полицию [от] какой-нибудь дряни помощ ника до самого главного — купит»[197]. Любопытно, что препровождаемый в часть дебошир с гордостью кричал глазевшему на него народу: «Я помощнику три оплеухи дал»[198]. Видимо, этот коммерческий способ разрешения конфликтов с полицией был вполне вероятен.
Другое важное обстоятельство заключалось в том, что, несмотря на усилия содержательницы гостиницы купчихи Бурениной и ее мужа замять скандал и добиться освобождения Самсонова, бывшие при этом посторонние лица не позволили это сделать, заявив, что если Самсонова, оскорбившего офицерский мундир, освободят, то они сами донесут об этом происшествии обер-полицеймейстеру.
Тот же полицейский агент, справно отрабатывая выданные средства, доносил, что «там же [в гостинице „Орел“. — О. А.] из числа посетителей какой-то молодой человек, когда заиграли какую-то пляску, стал кривляться на все возможные манеры, окончив свои кривляния, он ни с того, ни с другого дал две оплеухи одному чиновнику ведомства путей сообщения, человеку уже пожилому, сидевшему очень смирно на скамье…»[199]. «Песенник» Яковлев не только не пошел за полицейским, как того требовала публика, но и помог скрыться дебоширу.
Самый желанный день крестьянского освобождения, который народная молва привязывала то к одному, то к другому знаковому дню календаря еще задолго до реформы 1861 г., должен был ознаменоваться не только царским манифестом, но и обилием водки. В сводке городских толков за 1 сентября 1859 г. отмечены слухи о вероятности манифеста к 8 сентября[200]: «В харчевне на Сенной площади большинство полагает, что 8–9 сентября будет продаваться дешевая водка, а на Царицыном лугу будет отпускаться по требованию гуляющих даром»[201].
Сообщая о настроениях нижних чинов Измайловского полка, агент отмечал, что, получив после смотра от императора по 50 коп. вознаграждения, солдаты были очень довольны. «В последний раз измайловцы просто плясали от радости за доброе царское слово, пошли с песнями с парада, а вечером носили ушатами водку в казармы, которую всю распили»[202], — свидетельствовал соглядатай. Отеческое слово императора к солдатам вызывало такой громадный прилив восторженного благодарения, которому соответствовали адекватные объемы напитков.
Предметом полицейского внимания были трактиры, рестораны и различные увеселительные заведения, где горячительные напитки в сочетании с вольными нравами создавали особую атмосферу раскованного общения. Особенно беспокоил блюстителей нравственности ранний возраст завсегдатаев: «Распущенность воспитанников учебных заведений доходит до крайних пределов. Известного сорта трактирные заведения, некоторые из публичных мест и гуляний только и имеют посетителей, что гимназистов и кадет. Там скрытно от родителей они предаются разврату и полному разгулу на свободе»[203].
Отмена откупов сделала потребление спиртного еще более доступным. По сути, о народном празднике, посвященном снижению цен на водку, свидетельствовал Ф. Д. Бобков, отправившийся 1 января 1863 г. на прогулку: «Подойдя к Никольским воротам, я увидел около кабаков целую толпу. Это праздновалась отмена откупа. По случаю удешевления водки набросились на кабаки и переполнили их. На Трубной площади опять толпа около кабаков. Из любопытства зашел в один. Оказалось, что все заготовленное заранее вино уже выпили и толпа ждет нового подвоза. Вот она, народная трезвость»[204]. 5 января он снова сетовал: «Вообще теперь весь народ, после отмены откупов, с утра каждый день пьянствует, и все улицы переполнены пьяными»[205].
Обнаруженные в архиве Третьего отделения агентурные донесения от 4 января 1863 г. показывают, насколько точно агенты фиксировали народные настроения: «Между тем народ вне себя от радости, что водка подешевела, и благословляет за это государя. Приезжие из Москвы рассказывают, что понижение цены на водку произвело там в первый день неистовый восторг, который превосходил даже радость в день объявления крестьянам свободы. Уничтожение откупов всюду ставят в уровень с освобождением крестьян, с тою только разницею, что в первом деле тотчас же ощутили благие последствия, то есть что народ, при употреблении прежнего количества водки, сберегает значительную сумму денег»[206].
Городская полицейская «хроника» полна примерами разных пьяных дебошей. 31 октября 1864 г. сообщалось: «Вчерашний день в кафе-ресторане „Германия“ в Б. Конюшенной улице опять не обошлось без скандала: одна из бывших там женщин дала пощечину какому-то господину, а кандидат московского университета Федоров до того был пьян, что лежал на полу и его вынуждены были вынести на руках и облить водою, чтобы привести в чувство, при этом у него были украдены золотые часы»[207]. Общественная помощь ученому мужу оказалась не бескорыстной.
2 января 1865 г. агент доносил о новых деяниях «известного скандалиста» Соболевского: «На танцевальных вечерах появляется постоянно в нетрезвом виде, выпущенный в 1863 году из института корпуса путей сообщения поручик Соболевский, производящий почти всегда скандал. Так, будучи вчера у Ефремова, он ударил какую-то женщину в лицо за то, что она, проходя мимо его, улыбнулась»[208]. Немотивированная агрессия объяснялась невоздержанностью, привычкой к хулиганским поступкам.
Публичность проступков иногда способствовала общественному примирению ссорившихся. 30 мая 1868 г. очевидец сообщал: «Вчерашнего числа вечером у Излера некто Львов, поссорившись с сидевшею с ним за одним столом женщиною, ударил ее бутылкою шампанского.
Некоторые их зрители, увидевшие этот случай, заставили Львова помириться с оскорбленною им женщиною. Последняя не изъявляла особенной претензии — взяла с Львова за мировую 50 руб.»[209].
Задержание провинившихся полицией иногда приводило к неожиданным открытиям. 2 ноября 1864 г. шефу жандармов докладывалось, что «третьего дня в гостинице „Палермо“ задержан был за неплатеж денег и буйство неизвестного звания человек, назвавший себя отставным юнкером Ипполитом Ивановым, служащим агентом в III отделении и посланным по секретному поручению»[210]. Это был самозванец, желавший под видом агента «всесильной» полиции обезопасить себя от ответственности за свои поступки. 19 ноября того же года по указанию агента Третьего отделения в кафе-ресторане Наумова был арестован полицией «молодой человек в партикулярном платье». Выяснилось, что он выдавал себя за другое лицо, украл у своей тетки 1500 руб. и «разыскивался полицией, у которой была даже его фотографическая карточка»[211], но полиция на него внимания не обратила, а агент Третьего отделения обнаружил преступника.
Размах пьянства начинал внушать власти опасение. 22 апреля 1864 г. В. А. Долгорукову докладывали: «В городе в течение первых трех дней праздника замечается необыкновенно большое число пьяных, которые при беспечности и слабости полиции производят безнаказанно на улицах шум и драку»[212]. Сетования на бездействие полиции лишь подтверждали серьезность проблемы. 7 декабря 1864 г. агент доносил: «Вечером заметно было лежащих на улице в бесчувственно пьяном виде много простого народа. Городовые и дворники оставались к ним совершенно равнодушными»[213]. Повальное пьянство даже в холодное время года никого уже не удивляло и не побуждало оберегать жертв Бахуса от обморожения и смерти.
Обеспокоенность городских властей положением дел была едва заметна. О безуспешных паллиативных мерах санкт-петербургской полиции докладывали шефу жандармов 6 марта 1865 г.: «На время настоящего поста обер-полицмейстер воспретил в танцклассах и кафе-ресторанах музыкальные вечера, имея в виду, вероятно, уменьшение скандалов, но если эта цель имелась в виду, то она не достигнута: например, в „Германии“ также много пьяных и скандалов бывает еще более, ибо публике нечем развлечься»[214].
Довольно часто фиксировались случаи скандальных происшествий с участием военных. 25 сентября 1864 г. в жандармскую хронику попали сведения о компании приятелей во главе с кавалерийским ротмистром Дрипельманом, повеселившейся на танцевальном вечере у Ефремова: «После ужина господа эти вели себя крайне неприлично, лазили даже ногами по столам и, выйдя на балкон, мочились на тротуар»[215]. Затем ротмистр отказался заплатить по счету 47 руб., сославшись на то, что тех, кто был с ним, не знает, а денег не имеет. Закончилась история тем, что плац-адъютант увел его из ресторана и поместил под арест.
Другая компания военных веселилась непосредственно на улицах города. В донесении от 3 ноября 1864 г. сообщалось: «По некоторым сведениям есть вероятность предполагать, что разъезжавшие на тройке в ночь с 28 на 29 октября и выбивавшие в некоторых домах стекла были кавалергардского полка поручики Куракин и Васильчиков. Эти господа ведут себя вообще не совсем прилично в публичных местах»[216]. Скандальная репутация поддерживала интерес тайной полиции к таким лицам.
Если приведенные выше случаи можно было оправдать безрассудной молодостью, то некоторые проступки Третье отделение связывало с грубостью нравов. Так, донесение с военно-морской базы Балтийского флота полно пикантных подробностей: «На прошлой неделе в Кронштадте, в тамошнем цирке англичанина Борнса, один офицер, сидевший в первом ряду мест подле весьма почтенной дамы и ее дочери, будучи в нетрезвом виде, расстегнул брюки, вынул член и стал мочиться при всей публике, пуская очень ловко фонтан чрез барьер. Англичанин Борнс хотел его остановить и вывести, но офицер вымочил его всего. Подобные неприличные поступки могут, говорят, встречаться только в Кронштадте»[217].
Показательно, что именно такие формы эпатажа публики практиковали военные. Алкогольное состояние лишь высвобождало сексуальную агрессию, нереализованную маскулинность одинокой жизни.
Противостоять пьяному разгулу Третье отделение не могло, но наблюдать за поведением подвыпившей публики было необходимо. Снижение моральных норм, отсутствие «тормозов» (например, пьяная болтовня) могли привести к выплеску политически значимых сведений, обнаружению опасных для власти настроений, слухов. Можно предположить, что жандармское руководство с умилением могло читать донесения наподобие записки от 8 июня 1863 г.: «Вчера в публичном саду „Орел“ (гостиница в рождественской части), где обыкновенно собирается очень разгульная и довольно грязная публика, играли народный гимн „Боже, Царя храни“, при чем полупьяная и совсем пьяная толпа много рукоплескала»[218].
В то же время Третье отделение признавало рост числа дел, связанных с произнесением дерзких выражений против императора. Если в 1860 г. таких дел было 16, то затем их количество начинает увеличиваться: в 1865 г. — около 40, в 1866–1867 гг. — уже более 200, а в 1869 г. — 214[219]. В представленном императору «Обзоре деятельности высшей полиции за 50 лет» (1876) отмечалось: «Вообще […] дела этого рода большею частию не представляют особенного значения и не свидетельствуют о преступном направлении обвиняемых, а тем менее еще о намерении оскорбить Особу Вашего Величества: дерзкия слова произносятся весьма часто в нетрезвом состоянии, в припадке запальчивости и среди ссоры, при отсутствии полного сознания, а нередко без всякой мысли, единственно по невежеству простолюдина и привычке к брани»[220]. Часть дел заводилась по ложным или безосновательным доносам, связанным с личной враждой или неверным толкованием услышанного. «Посему возрастание числа дел этого рода не является каким-либо опасным признаком нравственной порчи народа, тем более что оно отчасти объясняется и большим развитием полицейского наблюдения»[221], — заключал шеф жандармов А. Л. Потапов, делая акцент на надежности полицейского надзора.
Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии специально вопросами городского благоустройства не занималось. Но среди архивных документов Третьего отделения, в сводках донесений о городских слухах и толках содержится немало сведений о проблемах городского хозяйства, о недовольстве жителей состоянием дел в городе, о неэффективности городских властей. В сферу интересов высшей полиции подобные сведения попадали, видимо, потому, что каждодневные проблемы городской среды беспокоили россиян не меньше, чем глобальные вопросы правительственной политики, тем более что общественное недовольство вполне могло вырастать из бытовой неустроенности жизни в городе. Следует отметить, что общий тон заметок о городских новостях и происшествиях в «Сводках о слухах и толках» в конце 1850-х — начале 1860-х гг. скептически-ироничный. Городские власти особым влиянием и уважением у сограждан не пользовались, а потому, сообщив 1 июня 1857 г. об избрании в Санкт-Петербурге нового градского головы, полицейский информатор прибавит, что прежний, говорят, купил себе виллу в Южной Италии и хочет туда перебраться: «Кажется, подобным людям хлеб-соль в России под конец делается уже не вкусна в самой нашей матушке России!»[222] Сильная гроза в один из летних дней 1858 г. дала повод для веселых комментариев относительно происшествия: в результате удара молнии по Думской башне оглох часовой. Шутники говорили: жаль, что гроза была не во время заседания, тогда «этот удар разбудил бы в некоторых тамошних членах секретарях заглохшую совесть и справедливость»[223].
Довольно часто агентами фиксировались суждения горожан о полицейских чинах. Летом 1857 г. безусловное одобрение общественного мнения получило назначение санкт-петербургским обер-полицеймейстером П. А. Шувалова[224]: «Шувалов в глазах Петербурга истинный gentelemen, доказывая, что не горлом надо брать, а кротостью и учтивостью, как за границею»[225]. Особенно выигрывал П. А. Шувалов в сравнении с одним из своих предшественников — А. П. Галаховым[226]: даже голос кучера полицеймейстера наводил тогда ужас на петербуржцев. А вот предстоящее назначение А. В. Паткуля[227] вызвало неодобрительные суждения (10 сентября 1860 г.): «Говорят, что он хотя и человек справедливый и решительный, но горячий, а иногда даже и грубый, об администрации же не имеет никакого понятия»[228].
Рядовые полицейские чины были постоянным объектом общественного порицания. Притчей во языцех были «будочники»[229], в обязанность которых входило обеспечение безопасности в городе. Горожане считали их «бесполезными […] и даже вредными». «Публика вообще, когда в разговорах касается до будочников, отзывается об них не иначе как о мошенниках и первейших грабителях, а не как о блюстителях порядка и безопасности жителей! […] Известно, что они [не] только неоднократно были запутаны в сообществе с ворами, но даже обличены в убийствах»[230], — указывалось в донесении.
Достаточно часто в сообщениях о тайных сборищах «игроков азартных игр» отмечалось, что «полиции все это хорошо известно»[231].
Случаи полицейских злоупотреблений были весьма разнообразны. В июле 1860 г. агенты Третьего отделения зафиксировали рассказ о том, что в Каретной части всеми делами ведал не квартальный надзиратель Гурский, а его жена, «которая вместо его разбирает разные жалобы, чинит по ним суд и расправу, берет взятки». Эту историю обыватели рассказывали «со смехом»[232]. 17 августа 1860 г. в одном трактире агент подслушал историю о том, что пристав 3-й части полковник Шен разыгрывал в лотерею по 50 коп. серебром за билет шелковую материю, «причем разговаривавшие смеялись над полициею и говорили, что хотя в прежние времена полиция и брала взятки, но никогда не прибегала к подобным средствам выманивания от обывателей денег»[233].
Иногда подобные сообщения сопровождались поручением шефа жандармов проинформировать петербургское полицейское начальство «частным образом»[234], то есть неофициально, без указания источника полученных сведений. Столичные обыватели не чувствовали себя защищенными под опекой городской полиции. Эту позицию достаточно четко выразил один петербуржец, сказав о городовых: «У этих людей только в голове как бы придраться к какому-нибудь простолюдину и стянуть с него гривенничек или два»[235].
Полицейские власти в сознании горожан были постоянными виновниками городских неудобств. Особенно «доставалось» полиции за ужасное состояние городских дорог. Даже начав их ремонт, полиция не избавила себя от упреков. 23 мая 1861 г. руководству Третьего отделения докладывались последние городские толки: «Публика хороших кругов, особливо дамы, сильно негодуют на нынешнее непростительное невнимание к ней полиции — допускающей ужаснейшую теперь здесь пыль, начавшуюся от построек и мощения улиц, от которой при ветре решительно ни одному порядочному человеку нельзя ни ходить, ни ездить без опасения глазной боли или потери вовсе зрения»[236]. Городская молва предлагала и способы борьбы с пылью в Петербурге, считая необходимым завести в каждом доме ручные лепки для полива («разумеется, не грязною зловонною водою, а колодезною или канавною»[237]).
Беспокоили обывателей и бездомные животные, которые доставляли им большие неудобства. Любопытная заметка находится в сводке о слухах и толках за 15 мая 1857 г: «Не постигают причин, почему с прошедшего лета отменена здесь благоразумная и столь необходимая для безопасности жителей мера, в летнюю пору убивать бездомных собак, в таком множестве скитающихся по улицам и площадям и устрашающих пешеходов не только ночью, но среди белого дня, — особенно детей порядочных родителей, во множестве гуляющих с их няньками по тротуарам и набережным? Неужели — говорят — мало было случаев от укушений бешеных собак и причиненных ими испуг, когда во время их скопищ оне целыми стаями бегают по улицам и без всяких причин бросаются на людей и лошадей? Настоящие причины такой непонятной и непростительной со стороны здешней полиции беспечности и отступления от прежнего порядка не только не известны обывателям Петербурга, но и к величайшему стыду, даже и самим полицейским офицерам!»[238]
Последующий материал показывает, как основательно чиновник Третьего отделения подошел к составлению этого сообщения: «На делаемые им [полицейским офицерам] обывателями вопросы об этом все их ответы совершенно различны между собою, что ясно доказывает, что никто об этом ныне здесь не заботится и со стороны городского начальства для безопасности людей в этом отношении не принимаются решительно никакие меры!»[239] Далее приводились ответы полицейских, полученные из частных бесед с ними. Объяснения предлагались самые разные, начиная с заботы о чести мундира: «Со времени Игнатьева[240], он отменил этот порядок, находя, что неприлично для солдат бить собак, ибо хотя этим занимаются фонарщики, но они все-таки считаются солдатами»[241]. Обнаруживались и социальные мотивы подобной бесхозности: «Это сделано по представлению брант-майора Эртеля[242], который просил Игнатьева дозволить ему вместо употребления фонарщиков бить собак, отпускать их во время трех летних месяцев, где они не бывают заняты фонарным по городу освещением, ходить на вольную казенную работу в пользу артельных их денег, для улучшения пищи сих бедных людей»[243]. Другая, «финансовая», версия заключалась в том, что «употребленные на этот предмет с незапамятных времен сети до такой степени изгнили, что совершенно сделались негодными к употреблению, а для изготовления новых совершенно нет сумм в полиции»[244].
Рациональный выход видели в предполагаемом намерении «сделать какие-то ручные сети, чтобы ловить живых собак, а потом уже бить их за городом, чтобы удалить это противное зрелище от жителей, и отделять собак с ошейниками от собак, скитающихся по воле, или давать им околевать с голоду в каком-нибудь отдаленном месте за городом»[245]. Этот вариант решения проблемы подтверждался рассуждениями: «Вместо фонарщиков Эртель предложил употреблять на это граждан — дворников, арестантов или разный другой сброд народа, но нет еще разрешения». Вполне вероятным было предположение: «Может, это сделано из экономии, ибо по давнишнему положению, полагается по 10 коп. с каждого собачьего хвоста в пользу фурманщиков»[246]. Опрошенные офицеры прибавляли, что это дело их начальства, а раз оно не делает никаких распоряжений, то и им незачем «соваться не в свое дело»[247].
Резюмируя результаты опроса и недовольства петербуржцев, чиновник убеждал свое начальство: «Но от этих пустых разговоров жителям Петербурга нисколько не легче, — следует действовать, а не рассуждать. Поэтому-то и совершенно справедливо их негодование против непростительного упущения, и желание, чтобы в скорейшем времени были приняты самые строгие меры для восстановления единожды и навсегда в Петербурге прежнего в этом отношении полицейский порядок, без которого в жаркое летнее время никто не может выходить со двора без опасения быть укушеным бешеною собакою»[248].
Результативность подобных донесений чаще всего не известна. Но в данном случае последствия тайной записки оказались заметны для горожан. 10 октября 1857 г. в сводке Третьего отделения появилась новая информация о том, что петербургская полиция наконец-то занялась уничтожением бродячих собак: «Это производится здесь совершенно на парижский манер, то есть двое везут телегу с ящиком, а несколько человек, каждый вооруженный железным обручем с сеткой, как бы мимоходом набрасывает ее на избранную жертву»[249].
Пожалуй, наиболее значимой для Санкт-Петербурга была проблема обеспечения города питьевой водой[250]. К этой теме наблюдатели из Третьего отделения обращались наиболее часто. Не претендуя на новизну в освещении вопроса о строительстве водопровода в городе, приведу лишь одно весьма колоритное свидетельство жандармской «борьбы» за чистую воду. 22 июля 1857 г. в сводку сведений для доклада шефу жандармов В. А. Долгорукову была включена весьма эмоциональная записка. Чиновник Третьего отделения обращал внимание руководства полиции на деятельное участие органов городского управления Москвы в обеспечении горожан питьевой водой. Подчеркивая существенные перемены в столице, он писал: «В Москве еще лет 10 тому назад весь простой народ должен был довольствоваться водой из колодцев, по большому недостатку в городе той воды, которая проведена в весьма малом количестве от Сухаревой башни и которую поэтому могли пить одни только достаточные люди. Теперь к чести попечительного городского управления, не щадящего ни издержек, ни трудов, проведена от Сухаревой башни по всему пространству Москвы, в фонтаны и другие водопроводы, по местам наиболее нуждающимся в чистой воде, и невзирая что число оных теперь уже довольно значительно в Москве и поныне еще продолжают устраиваться фонтаны»[251]. Главным результатом было то, что всякому «приятно видеть, как начиная от фонтана у нижнего кремлевского сада народ постоянно в продолжении целого дня толпится около всех водохранилищ, а еще приятнее думать, что эта хорошая чистая вода сохраняет здоровье жителей Москвы»[252].
Автор записки напоминает, что 9 лет тому назад император Николай I намеревался начать строительство в Санкт-Петербурге 8 фонтанов-резервуаров, но с тех пор дело не сдвинулось: «…это было в 1848 г., во время сильной холеры в Петербурге, когда каждого смерть висела на носу, но прошла опасность, прошел и страх, прошли и заботы. И Петербург на беду и ко вреду бедного класса людей остался по-прежнему со своею отвратительною, мутною, вонючею водой в Фонтанке, Екатерининском канале и Мойке, истинными résérvoires, как сказано медиками, зловредной для здоровья воды, по необходимости употребляемой двумя третями жителей Петербурга для пищи и питья! Не воздух, не пища суть зародыши холеры в Петербурге, а бесспорно тухлая, гнилая вода в канавах, или лучше сказать, этот настоящий настой дохлых крыс, собак, кошек и разных других нечистот, коими оне наполнены; в чем, к сожалению, всякий может ясно удостовериться»[253].
Локальные меры, связанные с надзором за недопустимостью сброса нечистот в городские каналы и чисткой водных бассейнов, должного эффекта не имели[254]. Практические попытки были неудачными. В документах сообщалось: «Чистка же этих каналов дело совершенно невозможное, как доказал сделанный однажды опыт на Фонтанке; изобретенная нарочно на сей предмет машина стоила огромной суммы, и потом оказалось, что она преграждала сообщение барок даже на самой Фонтанке, которая вдвое шире прочих каналов, и во время чистки вода делалась еще мутнее, совершенно негодная для всякого употребления, даже для полоскания белья! К тому же по медленности действия машины, которая могла быть употреблена только в летние месяцы, надлежало бы употребить на это несколько десятков лет, и по очистке каналов, опять снова начать эту операцию, а вода все-таки осталась грязною и вредною к употреблению, от постоянного истока в нее нечистот из домов и улиц»[255].
Обрисовав в красках проблему, чиновник осторожно подталкивал высшее руководство к ее разрешению. Его вывод можно разделить на несколько тезисов. В первую очередь отмечалось: «В Москве не щадят трудов проводить воду из такого дальнего места, как Сухарева башня, а в Петербурге, где Нева не единственная в отношении отличной воды река в мире, в таком близком расстоянии от всех мест, нуждающихся там в чистой воде, — и по сие время, решительно не предпринято ничего по этому предмету»[256]. То есть подчеркивалось, что финансовые затраты, объем работ будет не только сопоставим, но даже меньше московского строительства.
Затем в ход шел медико-санитарный аргумент: «Неудивительно после этого, что в Петербурге не прекращается и никогда не может в черном народе или в бедном классе жителей прекратиться холера, которая в настоящее время даже начала опять усиливаться — ибо по объявлениям в „Полицейской газете“ в короткое время число холерных от 10 или 15 человек вдруг дошло уже до 200! Тогда как в Москве и других городах России народ уже забыл о холере»[257].
Для чиновника полиции значимость «водопроводного дела» была большей, чем уже реализовывавшаяся идея газового освещения города. Поэтому он сетовал: «Если весь Петербург изрыт трубами и каналами для газоосвещения, то не менее было бы полезнее провести таковые же и для провода невской воды в предположенные, но, к несчастью, давно забытые фонтаны! Впрочем, кажется, в этом отношении Петербург принял себе в девиз: L’agréable avant d’utile»[258].
Ну и, как водится, последний аргумент был наиболее ярким, значимым для власти и политизированным: «Кроме очевидной, неоспоримой пользы от фонтанов или водохранилищ в Петербурге, они составили бы величайшую красоту сего единственного, по великолепию своему городу в мире, и сравнили бы его в этом отношении с прочими первейшими столицами Просвещенных Европейских Держав, — и если начатие железных дорог в России, постоянный Николаевский мост и освещение Петербурга газом увековечили царствование Николая I, то конечно продолжение сих дорог по всей России и устройство водопроводов в Петербурге невской воды в числе прочих общеполезных учреждений не менее бы ознаменовало и настоящее царствование»[259]. Лакировка фасадного облика имперской столицы могла стать решающим аргументом. Во всяком случае, может быть, под влиянием приведенных донесений в 1859 г. в Петербурге начались работы по постройке водопровода[260].
В документах Третьего отделения вообще довольно часто можно обнаружить сопоставление двух столиц. В той же коллекции агентурных сведений найдено яркое, написанное в духе некогда популярных «физиологических» очерков донесение из Москвы. Привычное для литературной традиции противопоставление Москвы и Петербурга здесь основывается на аргументах полицейского благочиния.
Автора (им был старший чиновник Третьего отделения А. К. Гедерштерн) сразу поразил ритм городской жизни и внешний вид москвичей: «Для наблюдательного человека, не бывалого в Москве, с первого шагу бросается в глаза разительный контраст между бытом, движением и, так сказать, народным характером жителей той и другой столицы, особенно торгующего класса людей из черного народа. Петербург в этом отношении совершенный щеголь или нарядная кокетка против матушки-Москвы»[261].
Петербургу А. К. Гедерштерн отдавал явное предпочтение — чистота, опрятность, богатство, щегольство делают Петербург европейским городом, а это наиболее значимая оценка. Казалось, что все то неустройство, о котором «сигнализировали» служившие в Третьем отделении чиновники, куда-то исчезло: «В Петербурге все чисто опрятно, — на барскую ногу, исключая разносчиков, извозчиков и мастеровых, изредка только встречаешь простолюдина и то в отдаленных только улицах — вся остальная же масса жителей заключается в барах, щегольски одетых военных и гражданских чиновниках, пышных по последней парижской моде разряженных дамах и вообще людях хоть и различного звания и состояния, но весьма и весьма прилично одетых — словом, Петербург в этом отношении представляет общий вид не русского, а иностранного города, — Москва же напротив, царствует еще настоящий тип русского народа, начиная даже с самой физиономии черни»[262].
Торгово-купеческий лад древней русской столицы удивлял чиновного «европейца»: «Здесь, можно сказать, все нечисто, неопрятно, — просто грязно, и к величайшему удивлению, даже в самом центре города, на лучших улицах, около Кремля и в Кремлевских церквах, чрезвычайно редко встречаешь военного или гражданского чиновника и вообще порядочно одетого человека, — а о дамах и говорить нечего, — их, кажется, как будто и не существует в Москве, но зато встречаешь на каждом шагу простого купца, грязно одетого мужика или бабу, разнощика, толпу пирожников и подобной черни, все это в вечном движении, суетах и как муравейник толпится по грязным площадям, узким улицам и около рынков, и на лицах всего этого люда как бы написано, что все их помышления устремлены на торговые обороты и большее приобретение; у них, кажется, каждый шаг рассчитан и имеет свою цель»[263].
Кажется, что петербургский светский лоск Москве не знаком: «Судя по тому, что видишь на улицах в Москве, должно думать, что здесь и не существует того звания людей, которые в Петербурге составляют красу столицы, то есть тех, которых всюду, не только среди города, но и в отдаленных улицах видишь разъезжающих в щегольских открытых экипажах или беззаботно и величаво прогуливающихся по всем направлениям Петербурга, не в суетах, как в Москве, без всякой торопливости, как бы на гулянье»[264]. Для А. К. Гедерштерна наиболее значимы — военные и гражданские чиновники, а достойное времяпровождение горожан — это неспешные прогулки по городским проспектам, поездки в модных экипажах и посещение театров.
Даже московские театры ранят «тонкую», «возвышенную» натуру петербуржца: «В московском Малом театре (единственном, в котором играют во время лета, и то только два раза в неделю), даже и в ложах не заметно высшего общества; все это довольно просто, обыкновенно и представляет класс людей среднего звания. Военных почти нет, и если видишь генерала, то смотришь на него даже с некоторым удивлением, и все это, когда театр бывает совершенно полон, в представление единственной московской театральной знаменитости: Щепкина[265], ныне, как говорят, весьма редко играющего»[266]. Поведение московской театральной публики вообще давало основание задуматься об эффективности полицейского надзора в Москве: «Для петербургского жителя, посещающего часто тамошние театры, чрезвычайно странно слышать в Императорском московском театре во время пьесы той или другой актрисы, вместе с аплодированием, и громкие, довольно продолжительные, невежливые шиканья, свободно, как видно, допускаемые московскою полициею, чего в Петербурге ни один порядочный человек себе не позволяет не только из осторожности преступить соблюдаемый в тамошних театрах порядок, но из уважения к себе и зрителям. Это заставляет думать, что в Москве существуют две оппозиционные партии театрофилов, довольно сильные, чтобы полиция могла укротить энергические их порывы»[267].
Даже привычное для всех горожан блуждание по темным улицам для А. К. Гедерштерна в Москве еще более неприятно: «Не менее этого обращает особенное внимание […] чрезвычайная в нынешнюю уже пору темнота на улицах в Москве, которые, невзирая на это важное неудобство для пешеходов и экипажей, не освещают еще ни одним фонарем. Хотя и существуют, как говорят, общие для обеих столиц полицейские постановления, не зажигать фонарей ранее 1 августа, но тут, кажется, не принято в соображение весьма важного обстоятельства, а именно, что в Петербурге, по северному его положению, еще можно обойтись до 1 августа без фонарей, но отнюдь не в Москве, особливо в нелунные ночи. Здесь смеркается почти часом раньше, и тогда как на улицах в Петербурге еще довольно ясно можно различать предметы, в Москве от совершенной тьмы носами натыкаются друг на друга и поневоле должны бродить среди грязи!»[268]
В сравнении характера петербуржцев и москвичей чиновник оказался достаточно наблюдательным. Его суждения звучат вполне современно (за «чернь» простите, москвичи!): «[…] заметно, что даже и самый дух и обращение московской черни весьма различен против петербургского простого народа. В Петербурге он учтив, вежлив, предупредителен (даже к иностранцам) — и как будто в этом отношении приобрел уже некоторую степень образованности — в Москве же суров и крайне неучтив в обращении; надо всегда приготовиться к получению отрывистого и даже довольно грубого ответа»[269].
Профессионал полицейского надзора особое внимание обратил на социальную неустроенность, на обилие нищих в городе: «Но всего удивительнее и непонятнее для приехавшего в Москву, что в таком богатом, торговом городе встречаешь то, чего никогда, решительно никогда не видишь в Петербурге, а именно бродящих по улицам лучшей части города баб, девчонок и мальчишек, не то что в рубищах, но к стыду Москвы сказать совершенно босых. Отнести ли это к ослаблению полицейского надзора или к действительной крайности сих несчастных, доведенных до такой степени нищетой от не призрения и не заботливости об них московского градского управления? Конечно, и в Петербурге есть масса нищих, но никто там еще не видал на улицах, среди белого дня совершенно босого человека!»[270] Можно предположить, что А. К. Гедерштерн стал свидетелем работы нищенских артелей[271], ловко мистифицировавших приезжих.
Итоговый вердикт А. К. Гедерштерна примирительный, объединяющий, признающий значимость традиций, народного духа, гордости и патриотизма: «Впрочем, каждый город имеет свой норов, москвич хвалит свою белокаменную, петербургский житель своего красавца Петербурга; известно, что в этом отношении жители столиц всегда пикируются между собою, потому и не удивительно, что недавно один коренной московский купец про Петербург сказал: ну что ваш Петербург, поганый городишка? А вот наша Москва так уж можно сказать, матушка Россия»[272].
Как видим, в поле зрения российской политической полиции попадали сведения о самых разнообразных, порой незначительных и даже курьезных городских событиях. Все то, о чем говорили в трактирах, банях, на площадях и рынках, казалось существенным. Слухи и городские толки суммировались чиновниками Третьего отделения, и несколько раз в неделю, а иногда ежедневно представлялись шефу жандармов. Тот, в свою очередь, имел возможность во время своих докладов императору, в беседах с сановниками проявлять хорошую осведомленность в нуждах, чаяниях, настроениях россиян. Таким образом, в действие вводились незримые механизмы, подталкивавшие к принятию определенных решений, негласно влиявших на ход дел, тянувшихся годами. Несомненно, что городское пространство благоустраивалось и под воздействием Третьего отделения.
Глава 2. Жандармы в борьбе со взяточниками
В жандармской инструкции (1827) указывалось, что все лица, служащие в корпусе, «должны обратить внимание на беспорядки и закону противные поступки во всех частях управления», а также «внимать гласу страждущего человечества и защищать беззащитного и безгласного гражданина»[273]. Бюрократическая система управления на всех уровнях была предметом постоянного внимания высшей полиции.
Глава Третьего отделения хорошо знал язвы России и в своем первом отчете, представленном императору, весьма эмоционально характеризовал пороки служилого сословия: «Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений; они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца»[274].
Создание Третьего отделения и появление жандармских офицеров в губерниях вызвали негативную реакцию в чиновном мире, так как первые шаги охранительной структуры ознаменовались решительными действиями в борьбе со взяточниками.
Еще в апреле 1826 г. было перлюстрировано письмо некоего Чекмарева с довольно откровенным указанием на необходимость взятки для успешного решения судебного дела. После создания Третьего отделения выписка из письма поступила в это ведомство, а из него, в свою очередь, к министру юстиции было направлено отношение, содержащее сведения, обратившие внимание почтового надзора: «Это дело может иметь перевес и на ту и на другую сторону, а потому и нужно пожертвовать для обер-прокурора, обер-секретаря и секретаря, а сенаторам у меня готовятся записки, и я жду вашего ответа, согласны ли вы на сие, ибо время не терпит»[275]. Из цитаты видно, что речь шла о вымогательстве взятки для желаемого исхода дела, причем показан и механизм действия: через судебных чиновников, которые подготовят документы в нужном для положительного решения виде. В упомянутом отношении А. Х. Бенкендорфа указывалось и императорское повеление: узнать секретным образом об этом злоупотреблении, принять меры «для узнания повытчика и о подробностях злоупотреблений по сему делу»[276]. Сведений о результатах расследования данного случая в архивных документах нет, но это дело показательно как пример одного из первых антикоррупционных действий высшей полиции.
М. А. Дмитриев, современник Николаевской эпохи, рассуждал: «Нечего и говорить, что у нас не только берут взятки, но что без взяток не делается ни одно дело». Естественно, что формировались и методы противодействия этому порочному обогащению. Способы борьбы по прошествии многих десятилетий не изменились: «Давали шпиону пачку ассигнаций, которых нумера были записаны, что и служило уликой», — рассказывал мемуарист[277]. Эффективность подобных действий была невысокой: «По методе жандармов попадались не все и не главные взяткобратели, а только те, которые подвертывались случайно, или те, на кого шпион был сердит». Автор воспоминаний приводил пример с купеческим сыном Н. И. Золотаревым, который, желая досадить одному архимандриту, во время посещения его дома подложил под клеенку стола пронумерованных 500 руб. ассигнациями. Затем явился с жандармским офицером и стал требовать денег, указав, что архимандрит убрал их под клеенку, таким образом, «улика для офицера была налицо»[278].
При этом М. А. Дмитриев подчеркивал, что он противник подобных репрессивных, жандармских методов борьбы со взятками, потому что «взятки должно прекращать в их корне, то есть: устроить таким образом судебную часть, чтобы и нельзя было и не за что было брать взятки»[279].
Интересно проанализировать общественную реакцию на резонансные коррупционные скандалы того времени, в частности на дела чиновников Спасского и Дьякова.
Задержания, проведенные в Москве и Санкт-Петербурге, не на шутку переполошили столичное общество. Управляющий Третьим отделением М. Я. фон Фок информировал А. Х. Бенкендорфа, участвовавшего в коронационных торжествах в Москве: «Эти дни общественное внимание занято, почти исключительно, последними арестами. Во что бы то ни стало, стараются угадать их причину. Если, говорят, это простое лихоимство, — к чему та строгость, с какою производится следствие? […] Значит, дело идет о заговоре против правительства. Другие, напротив, думают, что делу этому придано особенное значение для того, чтобы, неожиданно напав на обвиненных, поймать их на месте преступления»[280]. Решительность антикоррупционных действий властей воскрешала параллели с недавними арестами участников и последователей антиправительственного выступления.
В то же время перечень имен арестантов не внушал опасения добропорядочным гражданам. «Надо заметить, что все арестованные личности известны за отъявленных взяточников и что все те, которые громче других кричат против их ареста, — одного с ними поля ягода. Это зловредное отродье вовсе не скрывает своего бешенства и явно выражает его в публичных местах. Пусть себе кричат, это даст возможность лучше отметить их», — отмечал М. Я. фон Фок, акцентируя внимание на поддержке правительственных мер большинством и именовании их мздоимцами[281].
Не зная деталей совершенных проступков, общество щедро конструировало последствия резонансных событий. 8 сентября 1826 г. М. Я. фон Фок вновь писал А. Х. Бенкендорфу: «Дело Спасского причинит, говорят, много неприятностей Министерству юстиции; следствие по этому делу поручено лицам, которые пойдут прямою дорогой и, вероятно, сделают новые важные открытия в судебном мире. Дельцы этого министерства не могут скрыть своего беспокойства: они сильно боятся, чтобы не были выведены на чистую воду все тайные происки коалиции. В среде бюрократии — общая тревога; пора и ей испытать на себе, что всему существуют пределы, и что, наконец, надо отдавать отчет, а это — вещь очень затруднительная для многих!»[282]
В последующие дни М. Я. фон Фок неоднократно обращался к резонансному делу, докладывая шефу жандармов различные мнения столичного мира. С одной стороны, звучал бесспорный тезис о том, что «обуздать лихоимство и воровство — дело столь же справедливое, как благоразумное и необходимое; кто не преступен сам и не слеп, тот должен согласиться с этим», с другой — опасения, что «чем строже будут наказывать […] тем больше будет людей оскорбленных и, следовательно, затронутых личных интересов»[283] (9 сентября 1826 г.). Почти через две недели: «Некоторые говорят, что придется слишком много наказывать, и что самая многочисленность виновных будет причиной их безнаказанности. Вздор! Говорят другие: тот, кто творил зло, должен быть выведен на чистую воду и заклеймен позором. Для подобных людей не должно быть никакого снисхождения, так как и они не оказывали его для общего блага»[284] (22 сентября 1826 г.).
Общественные настроения были не только реалистичны в оценке ситуации, сложившейся в чиновном мире, но даже конструктивны в способах ее разрешения. М. Я. фон Фок писал о столичных разговорах: «Виновные будут постоянно повторять один и тот же припев: „Дайте нам обеспеченное положение, соответствующее той службе, какую от нас требуют, и тогда удвойте строгость во всем, что касается точности исполнения наших обязанностей“. В то же время всеми понималось, что средств для повышения окладов в государственной росписи нет, поэтому выдвигались идеи, как найти средства (обложить 10 %-м сбором пенсии свыше 1000 руб., увеличить судебные пошлины, взыскивать налог с отдельных видов земельных пожалований и др.)»[285].
Глобальность общественного зла не позволяла верить в скорое его искоренение. М. Я. фон Фок пересказывал наблюдение столичного общества о коррупции в чиновной среде снизу доверху: «Возможно ли требовать, чтобы какой-нибудь чиновник, избалованный роскошью и образом жизни нашего времени, устоял бы против соблазна и разыгрывал бы, весьма некстати, роль Катона, тогда как начальники его подают ему пример и загребают обеими руками?» Взяточники хоть и «всеми презираемы, […] но они сильны своими денежными средствами и своими связями»[286].
Неизвестность, отсутствие какой-либо информации о ходе следствия над лихоимцами порождали пугающие взяточников слухи. М. Я. фон Фок писал: «Зная дурной характер Спасского, многие находятся теперь в смертельной тревоге, […] так как заранее предвидят, что Спасский не задумается компрометировать своих сообщников или тех, кто также вкусил от запретного плода»[287]. Через несколько дней фиксировался новый слух: «Уверяют, что Спасский указал на многих значительных лиц, как на действовавших заодно с ним или занимавшихся доходным, но бесчестным ремеслом вымогательства». Страх перед разоблачением, возможным доносом о ранее совершенном преступлении рисовал мрачные картины: «Говорят, что подсудимые и сообщники их громко ропщут и заявляют, что доносы до такой степени размножаются, что под конец придется допрашивать стены». В то время, когда одни роптали на то, что «не следует прибегать к окольным путям для разоблачения их происков», другие шутили, что «нет ничего проще, как одним чортом погнать другого»; что «широкая сеть закинута на всех сторонников бюрократии. Кажется только […] что сеть эта не Евангельская и что все, попавшее в нее, будет выброшено»[288].
Что же на самом деле выявилось в истории со Спасским? 31 августа 1826 г. Сенат получил следующий высочайший указ: «Обер-секретарь 7-го департамента Правительствующего Сената статский советник Спасский по достоверным уликам, до сведения моего дошедшим, обнаружен виновным в лихоимстве и сам в том добровольно признался; вследствие того повелеваю: отрешить его, Спасского, от должности и отослать в Московскую уголовную палату для суждения по законам»[289]. Спасский обвинялся в том, что взял с мануфактур-советника Кожевникова 2 тыс. руб. асс. по делу К. Ю. Измайлова.
При служебной проверке выяснилось, что дело было решено в пользу Измайлова, и Спасский взял деньги в благодарность за выигранное дело и за ускорение объявления решения. Московская уголовная палата, лишив чинов и дворянства, приговорила его к ссылке в каторжные работы. Московский генерал-губернатор посчитал возможным смягчить наказание, заменив каторгу ссылкой в Сибирь на поселение. Это решение было принято Правительствующим сенатом и одобрено министром юстиции. Однако при рассмотрении дела в департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета его председатель, Н. С. Мордвинов, указал на ряд «ощутительных отступлений от законов»[290].
В частности, Н. С. Мордвинов обратил внимание на то обстоятельство, что в законе нет точного определения лихоимства. По буквальному пониманию слова это то, что «излишне взято», следовательно, рассуждал он: «Сам закон допускает имать (брать), но только не излишнее»[291]. Другое суждение заключалось в том, что было бы несправедливым, если равному наказанию подвергались те, «кто получил награду из признательности за дело, правильно решенное, так и тот, кто правду продал на суде»[292]. Указал он и на то, что не только денежные посулы ведут к неправедному суду: «По большею частию оный происходит или из угождения по каким-либо связям, или по ожиданиям через то для честолюбия своих каких-либо выгод и наград, и сего рода лихоимство гораздо чаше, нежели денежное, случается, но только оно удобнее бывает сокрыто и не подвержено. законному преследованию»[293]. «Лихоимственное преступление», которое помимо лишения всех гражданских прав повергает осужденного в каторжную работу, когда обвиняемые будут изобличены «в решении дела с нарушением правды и законов», сокрытии или искажении документов, «в употреблении обмана и хитрости к потемнению истины в деле», «в умышленной проволочке дела»[294]. Н. С. Мордвинов полагал, что за взятки и подарки, приносимые подсудимыми судьям и судебным чиновникам, «неправедно» их сурово наказывать. Такие подношения не могут быть даже запрещаемы «доколе они не будут получать достаточного жалования для удовлетворения необходимым, как их самих, так и семейств их, нуждам, самою природою и степенью служения их требуемым»[295].
В результате последовало решение департамента: «По падающему на Спасского сомнению, признав его к службе неблагонадежным, оставить навсегда отрешенным и впредь на службу не определять», было представлено 30 мая 1827 г. Общему собранию Государственного совета. После чего голоса разделились поровну и участь Спасского была облегчена.
Другая резонансная история связана с делом Дьякова. Какие-то обстоятельства задержания чиновника были известны в обществе и породили слухи о доносчике, мстящем корыстолюбивым чиновникам. 14 сентября 1826 г. М. Я. фон Фок писал А. Х. Бенкендорфу о петербургских разговорах: «Подсудимые не имеют за себя никаких шансов, особенно если это правда, что донесший на Спасского тот же самый, который донес и на Дьякова, то есть некий Бачишкарев, настоящая ядовитая гадина; страшно безнравственный сам, он тем опаснее для людей не совсем чистых, что, кажется, задался целью вывести всех их на чистую воду, так что приверженцы бюрократии не имеют врага более опасного и более способного разоблачить их тайны, — как этот господин»[296].
Страх разоблачения явно демонизировал фигуру Бочечкарова. История же преступления такова: статс-секретарю Комиссии прошений Кикину поступила жалоба коллежского асессора Бочечкарова на коллежского советника Дьякова, который требовал у просителя 1000 руб. за ускорение хода дела. Комиссия выдала заявителю 500 руб., переписав номера ассигнаций. При выходе со службы Дьяков был арестован, ассигнации с переписанными номерами найдены у него в кармане. Петербургская уголовная палата приговорила его к каторжным работам, с этим решением согласились и санкт-петербургский генерал-губернатор и Правительствующий сенат. Прошения Дьякова и его жены о смягчении наказания были переданы на рассмотрение Государственного совета[297].
При обсуждении дела в департаменте гражданских и духовных дел Н. С. Мордвинов указал на то, что передача денег проводилась без свидетелей и Дьяков утверждал, что деньги были даны ему взаймы. Н. С. Мордвинов демонстрировал свое ораторское искусство: «Закон […] повелевает, дабы в уголовных судах обвинения были столь ясны, как свет солнца, и чтобы в оных словам подсудимого даваемо было больше веры, нежели словам доносителя или обвинителя»[298]. По закону для безошибочного разрешения дела надо иметь либо собственное признание обвиняемого, либо ясные, не подлежащие сомнению доказательства. Как же поступить в этом случае? «Сохранить ли предпочтительно силу законов или, дав веру словам доносителя, подвергнуть подсудимого каторжной работе?» — обращался 18 октября 1826 г. Н. С. Мордвинов к членам Общего собрания Государственного совета[299]. В итоге Совет поддержал решение департамента: Дьякова, «исключив из службы, впредь, яко подозрительного, ни к каким делам не определять»[300].
Дебаты в Государственном совете выявили правовую коллизию и существенно затруднили показательное преследование взяточников. Решительные намерения правительственных кругов по искоренению взяточничества, поддержанные общественным мнением, не привели к назидательным результатам справедливого возмездия над преступившими закон лицами. Попытка сурового преследования взяточников закончилась фактически публичным (в Государственном совете!) оправданием их действий. Более чем мягкий приговор должен был разочаровать сторонников показательного возмездия. В результате защита лихоимцев по нормам права воспринималась как оппозиция власти и правительственному курсу. В годовом отчете Третьего отделения Н. С. Мордвинова отметили как столпа «партии русских патриотов» и причислили к разряду «недовольных», политических противников («критикуют все шаги правительства»), не преминув упомянуть, что он «оказывал покровительство Дьякову и Спасскому»[301].
Впрочем, вполне гуманный исход коррупционных дел не снизил жандармской активности.
5 апреля 1827 г. А. Х. Бенкендорф направил министру юстиции Д. И. Лобанову-Ростовскому отношение, составленное в самых изыскано-деликатных тонах: «Государь император, убежден будучи в правилах справедливости, отличающих действия Вашего Сиятельства, и в усилиях Ваших способствовать искоренению злоупотреблений по подведомственным вам местам, Высочайше повелеть мне изволил сообщать на благоуважение Ваше, Милостивый государь, все те сведения, которые в сем отношении до меня доходить будут». В письме подчеркивалось, что А. Х. Бенкендорф только передавал высочайшую волю, а государь, будучи убежден в «правилах справедливости», не сомневался в возможности министра искоренить злоупотребления. Собственно речь шла о направлении для принятия мер полученных полицией сведений. При этом особо оговаривалась просьба — принять записку «благосклонно, в таком виде, в каком я ону получил, то есть как указывающую на следы предосудительных намерений, за основательность которых я ручаться не могу»[302]. Передавалась информация о преступных намерениях, не проверенная, но компрометирующая чиновников министерства, и все расследование предстояло провести ведомству самостоятельно.
В приложенной записке сообщалось: «Помощник столоначальника в департаменте Министерства юстиции в экспедиции г. Солоницына Павел Гриневич имеет родственника Петра Филипповича Гриневича в Глухове. Который хлопочет об ходатайствовании чина коллежского асессора некоему Дмитрию Степановичу Примакову, который намеревается прислать сюда 500 руб. к Павлу Гриневичу для успешного ходатайства по сему делу»[303].
7 апреля 1827 г. министр уведомил шефа жандармов о начатой проверке, посетовав, что «обороты в подобных случаях злоупотреблений бывают столь хитры, что при всем неусыпном наблюдении начальства за подведомственными местами и лицами не всегда могут быть замечаемы, тем паче открываемы преступные лихоимства»[304]. 19 мая министр повторно писал шефу жандармов о том, что по результатам проверки выяснено, что по почте на имя Павла Гриневича ни от кого денег не поступало, кроме того, в департамент герольдии дело о производстве в чин Примакова не передавалось.
В сентябре 1827 г. дело Примакова дошло до рассмотрения в Сенате, однако принятое решение о производстве при увольнении от службы в коллежские асессоры было приостановлено, так как отсутствовали необходимые документы о принадлежности просителя к дворянскому сословию. Внесение дела при неполном комплекте документов герольдмейстер объяснял большой загруженностью чиновников, так как к заседаниям подготавливается зачастую более 200 дел. Впрочем, такое упущение не влекло «никаких зловредных последствий»[305]. Дело было направлено на повторное рассмотрение при получении полного комплекта документов. Каких-либо злоупотреблений со стороны подозреваемого чиновника обнаружено не было.
4 января 1829 г. шеф жандармов А. Х. Бенкендорф направил уже новому министру юстиции А. А. Долгорукову записку, представленную, видимо, жандармским штаб-офицером, о вятском губернском прокуроре Веймарне. Начиналась записка сведениями о его стремительном карьерном росте: после петербургской гимназии взят на службу в канцелярию к своему родственнику губернатору фон Братке, затем определен в горные исправники по Вятской губернии: «В течение сего времени состояние его до того поправилось, что уже мог из казанского университета получить аттестат, дающий ему право на получение без экзамена чина коллежского асессора». Вскоре Веймарн «через сильных покровителей в Санкт-Петербурге получил место вятского губернского прокурора и вскоре чин коллежского советника и награжден орденом Св. Владимира 4 ст. и Св. Анны 2 ст. в один год»[306].
«В продолжение двадцатилетней его службы, — продолжал автор записки, — он из бедного состояния приобрел значительное богатство и теперь содержит на аренде железоплавительные заводы г. Осокина, находящиеся в Вятской губернии […] Веймарн имеет одно только звание блюстителя законов и правосудия, в самом же деле он почти вовсе не занимается службою, но своими оборотами: содержит под чужим именем почтовые станции, торгует винами и пр. Он показывает вид, будто намерен оставить должность, но между тем увеличивает свой капитал и торгует правосудием. Все сие подтвердить может местное купечество и прочие сословия»[307].
Казалось бы, вскрыт нарыв, обличен стяжатель, и возмездие должно свершиться. Однако ответ министра был весьма категоричен: «[Веймарн] доныне известен был мне совсем с противоположной стороны. В бытность мою в 1824 году в Вятке для ревизии, я довольно коротко узнал его. Хотя он и имеет обеспеченное состояние, но чтобы стяжал оное какими-либо непозволительными оборотами и средствами, о том ни слухов, ни жалоб до меня ни от кого не доходило; улучшение же состояния своею бережливостью и не противными чести мерами благоразумных распоряжений ни в каком случае никому в порок поставлено быть не может»[308].
Система защиты довольно специфичная: вы слышали, что он взяточник, а я такого не слышал, значит, он чист. «Веймарн по определению должности своей, как тогда был мною замечен, так и ныне продолжает быть усердным, деятельным и попечительным о скорейшем ходе дел, имея к тому нужные к отправлению звания Прокурора сведения и способности, в чем удостоверяют меня дела управляемого мною министерства, по коим я могу судить о действиях прокуроров и степени заботливости каждого из них по должности; а потому помещенное в означенной записке изъяснение, что будто бы Веймарн вовсе не занимается службою, есть несправедливое», — опровергал жандармские суждения министр юстиции[309]. В ответе сквозит явное раздражение, недовольство жандармскими измышлениями, на которые министерство должно было реагировать.
Шеф жандармов периодически сообщал во всеподданнейших отчетах о подозрениях на лихоимство чиновников различных ведомств.
В 1829 г. в отчете Третьего отделения в числе порицаемых мер нового министра внутренних дел А. А. Закревского упоминалось изменение кадрового состава медицинского департамента, из которого были уволены опытные чиновники. Новые служащие, по мнению шефа жандармов, «внесли путаницу в дела», а поскольку «это одна из наиболее доходных областей, то в нее проникает больше интриг». В результате А. А. Закревский «облек своим особым доверием двух известных и всеми презираемых взяточников гг. Дьяконова и Кусовникова. Недавно он назначил еще директором этого департамента некоего Швенсона, который тоже не пользуется хорошей репутацией»[310].
Критиковался министр юстиции: «Канцелярии министра и Сената полны взяточников и людей неспособных, и министр вынужден сам рассматривать всякое сколько-нибудь значительное дело. Дашков жалуется на то, что он бессилен уничтожить все это лихоимство, не будучи в состоянии уследить за всем лично и не имея возможности положиться на прокуроров, которые все закрывают на это глаза. Что касается общего хода дел, то лихоимство и применение ложных принципов внесли в него такую путаницу и воздвигли на его пути столько препятствий, что необходимо его преобразовать на новых началах»[311].
О Главном управлении водных и сухопутных сообщений: «Все единодушно сходятся на том, что управление этой отраслью государственного хозяйства находится в самом скверном состоянии. Лихоимство и взяточничество — там обычное явление, а отчетность — в хаотическом состоянии»[312].
Если чиновники роптали на высшую полицию, то простой народ видел в жандармах защитников. В феврале 1827 г. в Пензенской губернии Наровчинский городничий разбирался с сообщением о том, что уездный землемер Пекарский списал у своего знакомого текст секретной инструкции А. Х. Бенкендорфа жандармскому полковнику Бибикову[313]. Объяснения Пекарского интересны восприятием этого документа. Он считал, что инструкция дана Бибикову «насчет преследования им и открытия законопреступных действий по части гражданского правосудия, и о прочем», и кроме того, «инструкция не заключает в себе ничего противного не только закону благочиния и нравственности, […] только обуздывает по злоупотреблению власти неблагомыслящих людей», и он даже ходил в земский суд для «удостоверительной выправки, нет ли таковой инструкции в том суде»[314]. Тайные намерения властей по преследованию злоупотреблений в судах казались ему очень созвучными чаяниям простых людей.
Главноуправляющий Третьим отделением А. Х. Бенкендорф докладывал императору в 1828 г.: «Должностные лица и лихоимцы, несомненно, настроены против жандармерии, но народ в целом стоит за это учреждение, принесшее, конечно, немало пользы. Частные и доверительные письма свидетельствуют о том, что в провинции, где нет жандармов, все классы желают их присутствия как защитников от чинимых властями неприятностей и раздоров между ними. До сих пор все интриги и глухие инсинуации разбивались о порог надзора, который внушает страх честолюбцам, интриганам, лихоимцам и взяточникам»[315].
Удалось ли энергичным жандармским участием в борьбе со взяточниками исправить ситуацию? По слова М. А. Дмитриева: «Думали, что страх удержит и других; но вместо того другие делались только осторожнее»[316]. Кроме того, опасный промысел и боязнь попасться с мечеными или переписанными по номерам ассигнациями порождали различные оригинальные решения, о которых рассказывал мемуарист. В Архангельске придумали денежную купюру разрывать надвое, у каждой из сторон оставалась половина. При благоприятном исходе дела проситель приносил вторую половину, а если нет, то «не доставайся же никому!». В другой губернии судебный чиновник брал с каждой стороны пакет с деньгами, в процессе ни во что не вмешивался, а после решения проигравшему «как честный человек, возвращал его пакет с деньгами». «Наконец, — писал М. А. Дмитриев, — решились иначе не брать, как золотом, которого перенумеровать невозможно, и потому оно безопасно»[317].
В отчете Третьего отделения за 1831 г. откровенно признавалось: «Принятые в начале царствования государя императора строжайшие меры к прекращению лихоимства никакой видимой пользы не произвели; лихоимцы сделались лишь осторожнее, но число их не уменьшилось. Мудрости правительства принадлежит изыскать средства к уменьшению сего зла, но одно лишь постепенное распространение просвещения в средних классах людей, коими наполняются судейские места, может со временем оное зло уничтожить»[318].
Шеф жандармов отмечал, что борьба с злоупотреблениями в присутственных местах «всегда встречает самое ревностное содействие со стороны управляющего Министерством юстиции»[319].
Тем не менее до искоренения взяточничества в учреждениях судебного ведомства было еще далеко. В отчете Третьего отделения за 1832 г. сообщалось: «Что касается до губернских и уездных судебных мест, то об них должно сказать, что они представляют самую грустную картину. Решительно нет в них правосудия, и корыстолюбие существует в самой сильной степени. Губернские прокуроры и стряпчие, постановленные для наблюдения за правильным ходом судебных дел, нередко сами причастны к злоупотреблениям». Отмечая, что высшая полиция «беспрестанно открывает производимые […] неправильности» и уже многие чиновники по выявленным фактам взяточничества устранены от должности, но «при всех стараниях лихоимство не уменьшается, ибо законная улика лихоимцев едва ли когда возможна, и они, избегая всякий раз заслуженного наказания, беспрепятственно продолжают вредные свои действия, угнетая истца неимущего, находящегося в невозможности удовлетворить их корыстолюбие». «Не мудрено после сего, что везде слышен ропот, везде жалуются на судебные места»[320], — сетовал А. Х. Бенкендорф.
Борьба со взятками в правовом поле была затруднена особенностями судебного рассмотрения дел о лихоимстве. Именно на это обстоятельство обращал внимание императора шеф жандармов. В отчете за 1835 г. он писал: «Лихоимство не прекращается и, ограждаясь формами закона, укрывается от должного наказания. При существовании нашего законоположения, подвергающего лиходателя одинаковому наказанию с лихоимцем, нередко случается, что давший деньги для получения себе надлежащего удовлетворения подвергается наказанию, тогда как взявший или, лучше сказать, исторгнувший оные остается свободным от всякого взыскания за недостатком улик. До сведения нашего доходило неоднократно, что таким образом бедные крестьяне подвергались тягчайшему наказанию, когда приносили жалобы, что с них взяты были деньги»[321]. В качестве примера А. Х. Бенкендорф приводил случай с новгородским штаб-офицером корпуса жандармов Кованько, который, обнаружив какие-то злоупотребления винного откупщика, доложил о них губернскому начальству. После начала следствия откупщик, желая прекратить расследование, передал штаб-офицеру 2000 руб. Кованько эти деньги передал местному начальству. Дело о подкупе было направлено на рассмотрение в губернское правление, которое определило, что «за неимением достаточных доказательств в даче Кованько денег, откупщика от всякого изыскания освободить; деньги же отдать в пользу Приказа Общественного Призрения»[322].
Любопытный пример жандармской борьбы с бесстрашным взяточником приводит мемуарист Е. П. Самсонов, служивший адъютантом у А. Х. Бенкендорфа. По его словам, старший адъютант штаба отдельного корпуса жандармов, полковник А. Ф. Львов, купил дом, для перестройки и реконструкции которого ему нужны были дополнительные средства. По совету казначея собственного е. и. в. конвоя Х. Я. Пономарева он обратился в Казенную палату за займом под залог дома. Не получив ответа, А. Ф. Львов попросил Х. Я. Пономарева сходить в палату. Ведавший этим делом чиновник сразу обратился к ходатаю с вопросом: сколько Львов даст ему лично за получение необходимых денег. Пономарев робко назвал сумму 500 руб.
Е. П. Самсонов вспоминал, что именно он предложил вручить чиновнику при свидетелях требуемые деньги, а потом рассказать о взятке шефу жандармов и просить наказать мошенника. «Кому же, как не нам с тобою, служащим у источника правосудия и карателя всякого зла и неправды, выводить на чистую воду подобные деяния, вошедшие, как видно, в обычай?»[323] — убеждал он А. Ф. Львова.
Когда Пономарев и его товарищ пришли с деньгами, то были поражены тем, что чиновник принял посул не стесняясь, открыто; на виду у всех пересчитал принесенную сумму, а в ответ на слова о том, что Львов служит у шефа жандармов, сказал: «О! это для нас все равно, были бы денежки; а от кого они приходят, для нас безразлично»[324].
На следующий день, как и было обещано, комиссия провела оценку дома, подписала бумаги, а потом отправилась в трактир: «Там наелись, напились и прислали счет для уплаты Львову»[325].
По словам Е. П. Самсонова, А. Х. Бенкендорф молча выслушал рассказ А. Ф. Львова о случившемся, а после возвращения от императора поручил написать министру финансов Е. Ф. Канкрину отношение, обязывающее его по высочайшему повелению создать при министерстве следственную комиссию для выяснения обстоятельств противозаконного поступка чиновника Ф., включив в нее жандармского штаб-офицера.
Через несколько дней министр финансов прислал ответ, в котором сообщал: «Лично зная с давнего времени г-на Ф-ва за отличнейшего во всех отношениях чиновника, я счел нужным предварительно назначения формального следствия, согласно высочайшей воли, допросить его лично о происшествии, по которому он обвиняется в лихоимстве и так как он положительно отвергает всякое вводимое на него нарекание, то я нахожусь в необходимости покорнейше просить […] прислать ко мне полковника А. Ф. Львова, как подкупателя, для очной ставки с Ф-м, обвиняемом во взяточничестве»[326].
Такой поворот дела сильно расстроил А. Ф. Львова, знавшего, что «дающий взятку (подкупатель) подвергается одному и тому же наказанию, как и берущий». Оставалось надеяться только на то, что граф А. Х. Бенкендорф — «рыцарь чести, не выдаст он честного человека на поругание мошенникам». И действительно, А. Х. Бенкендорф продиктовал Е. П. Самсонову новое отношение к Е. Ф. Канкрину. В нем сообщал, что по докладу императору письма министра о присылке к нему А. Ф. Львова для очных ставок «Его Величеству благоугодно было приказать мне передать вашему сиятельству собственные его слова: „Скажи от меня графу Канкрину, что я не хуже его знаю Русские законы; но в настоящем случае приказываю смотреть на действия Львова как мною разрешенные и потому оставить его в покое и к следствию не привлекать“. Кроме того, император предписал следственной комиссии провести „и тщательное расследование настоящих средств жизни Ф-ва со способами, которые он имеет на приобретение оных“»[327].
Заседания комиссии выглядели довольно абсурдно. Чиновник Ф. все обвинения отрицал. Представитель корпуса жандармов указывал, что его показания могут опровергнуть А. Ф. Львов и еще два свидетеля. А председательствующий заявлял, что «мы имеем высочайшее повеление не привлекать А. Ф. Львова к следствию, а потому ни он, ни его агенты спрошены быть не могут»[328]. Таким образом, чиновник Ф. Был признан… невиновным. При рассмотрении второго вопроса — о способах жизни члену комиссии — жандармскому полковнику удалось доказать, что «за неимением ни за собой, ни за женой, ни наследственного, ни благоприобретенного состояния, и никогда не получая за службу более двух тысяч рублей в год содержания, г. Ф-ву невозможно было (как оказалось) жить в двухтысячной квартире, держать экипаж, своих лошадей и многочисленную прислугу, без темных, сокрытых им источников»[329]. В этом случае комиссия вынуждена была признать чиновника «заслуживающим сильного подозрения»[330].
По представленному докладу последовало высочайшее повеление: отставить надворного советника Ф-ва от службы и отправить его на жительство в город Вятку. Мемуарист прибавлял, что как говорили, «он выехал из Петербурга на великолепном дормезе на шестерке лошадей!»[331]. Даже высшее покровительство не позволило наказать взяточника по суду.
О бесперспективности этого способа привлечения к ответственности А. Х. Бенкендорф вновь докладывал императору в 1837 г.: «Судебное же преследование и обнаружение лихоимства представляется, как мы уже неоднократно замечали, совершенно невозможным; оно всегда прикрывается формами закона и всегда остается ненаказанным. Оно видимо, но недосягаемо»[332]. На этот раз он анализировал сенатскую практику рассмотрения судебных тяжб: «В Правительствующем Сенате дела равномерно производятся и решаются не даром. Несправедливо было бы упрекнуть сенаторов в корыстолюбии; мы по самой истине скажем, что ни одного сведения не доходило до высшего наблюдения, которое могло бы подать в сем отношении и тень подозрения на них; но здесь сильно влияние канцелярий, обер-секретарей, повытчиков». Он отмечал то обстоятельство, что не все сенаторы «отлично дельные и рачительные», есть среди них и те, кто «равнодушно взирают на дела» или имеют «о делах весьма слабое понятие или вовсе никакого». Этим и пользуются корыстные сенатские канцелярские чиновники «улавливая» «летние вакантные месяцы […] для исполнения беззаконных видов своих»[333].
Подобную практику подтверждает отношение шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа к министру юстиции Д. Н. Блудову, направленное 23 февраля 1839 г.: «До сведения государя императора дошло, что по делу о снятии запрещения с имения Курского помещика Полторацкого, дано одному из обер-секретарей Правительствующего Сената 4 тыс. рублей, и сверх того обещано еще столько же, по окончании дела»[334]. Он просил обратить внимание на ход дела и «стараться по возможности самым негласным образом обнаружить истину» для последующего доклада императору[335].
28 февраля министр юстиции информировал, что первый департамент Сената постановил «признать жалобу его [Полторацкого] не уважительною и в домогательствах его [Полторацкого] отказал»[336]. С определенной гордостью Д. Н. Блудов мог отвечать шефу жандармов: «Следовательно, такое противное желанию Полторацкого решение не возбуждает подозрения на обер-секретаря, производившего дело. Если, однако же, ваше сиятельство имеет во ввиду какие-либо более положительные по сему предмету сведения, то покорнейше прошу вас […] сообщить мне оные для дальнейших изысканий и обнаружения истины»[337].
Назначение графа В. Н. Панина управляющим Министерством юстиции было положительно оценено в отчете Третьего отделения. Указав на «хорошее направление» дел в Сенате и ожидание «много полезного в будущем», А. Х. Бенкендорф отмечал: «Лучшим доказательством его деятельности и распорядительности служит то, что мелкие чиновники и стряпчие вопиют против него»[338]. Подтверждением слов отчета о том, что «новая деятельность» графа Панина не могла еще «достигнуть до провинций, где по-прежнему совершаются многие несправедливости»[339], являются сохранившиеся в архиве многочисленные записки, содержащие информацию из перлюстрации и жандармских донесений, которые посылались руководством высшей полиции в министерство.
11 января 1840 г. А. Х. Бенкендорф направил управляющему Министерством юстиции В. Н. Панину на «усмотрение» выписку из таких сведений: «Воронежская па лата гражданского суда обращает на себя внимание с весьма дурной стороны, ибо дела в оной производятся большею частию пристрастно и из корыстолюбивых видов. Таковые противузаконные действия главнейше происходят от того, что по неимению в сей палате председателя, исправляющий должность эту товарищ его коллежский советник Попов, будучи человек не знающий своего дела, слабый и руководимый очень способным, но неблагонадежным и пристрастным заседателем от дворянства Катаевым позволяет себе много дел недобросовестных»[340].
Следом «из полученных частным образом достоверных сведений» графу В. Н. Панину было сообщено о злоупотреблениях саратовских чиновников: губернский прокурор Селивачев, «будучи человек несведующий в делах, исправляет должность свою под руководством других лиц; корыстолюбив и в публике пользуется весьма невыгодным мнением»; уголовных дел стряпчий Головачев, «при весьма ограниченных сведениях в делопроизводстве замечен неблагонамеренным»; заседатель уголовной палаты Ступин «корыстолюбив и в публике вообще пользуется весьма невыгодною репутациею»[341].
6 февраля 1840 г. В. Н. Панину направляется записка А. Х. Бенкендорфа со сведениями, «полученными из достоверного источника». Правда, переданная информация была очень абстрактна: «По случаю Высочайшего указа о представлении дворянам Западных губерний в Герольдию доказательств на носимое ими звание, из тех губерний отправляют в Санкт-Петербург значительные суммы, для получения посредством оных покровительства со стороны чиновников герольдии»[342].
7 февраля 1840 г. вновь с указанием «из полученных частным образом достоверных сведений» присылается информация о харьковском губернском прокуроре Первове и советнике тамбовской гражданской палаты Ярцове.
По сведениям информатора, Первов «замечен в корыстолюбии по занимаемой им должности и непозволительном ходатайстве со стороны его в присутственных местах по частным делам, для извлечения в пользу свою выгод»[343]. Второй фигурант записки — Ярцов «поведения не трезвого, корыстолюбив до крайности и посредством непозволительных выгод по службе приобрел себе недвижимое имение и значительный капитал, частные же лица, имеющие по Тамбовской палате дела, в заведывании его Ярцева, терпят проволочку»[344]. Подобные обращения требовали незамедлительной реакции. В делах министерства сохранились сведения о ведомственной проверке. На запрос В. Н. Панина о личности Первова тамбовский вице-губернатор 21 марта 1840 г. косвенно подтвердил выдвинутые обвинения: «Не смею умолчать перед Вашим Сиятельством, что репутация г. Ярцева в губернии не много приносит ему чести»[345]. Несколько позже уже тамбовский губернатор писал об этом чиновнике: «Слухи на счет корыстолюбия и лихоимства нисколько не преувеличены и совершенно справедливы. Впрочем, формальных жалоб на лихоимство этого чиновника ко мне не поступало и достаточных к обвинению его в том законных фактов в виду не имею»[346]. Тем не менее решено было перевести его на службу на Кавказ. В отношении харьковского чиновника, по согласованию с генерал-губернатором Н. А. Долгоруковым, было решено перевести его из Харькова губернским прокурором в Курскую губернию, а курского прокурора — на его место в Харьковскую[347].
28 февраля 1840 г. из Третьего отделения вновь поступили полученные «частным образом достоверные сведения»: «Состоящий на службе в Херсонской губернии в Бобринецком уездном суде судья Крусер и заседатель Маковеев, отлучаясь самопроизвольно каждый месяц от должностей, живут в своих имениях по неделе и более, а секретарь того суда Фетисов, неоднократно замеченный в неблаговидных и вредных по службе действиях, через кои и приобрел имение в 40 тыс. руб., ложно показывает означенных чиновников по журналам на лицо присутствующими. Сверх того судья Крусер присваивает себе из опек принадлежащие сиротам деньги»[348]. Проведенная проверка вскрыла существенные упущения в делопроизводстве уездного суда. В результате новороссийский генерал-губернатор информировал министра (18 апреля 1841 г.), что «за сокрытие в Бобринецком уездном суде от начальства и ревизии дел и показание их в числе 7, тогда как оказалось действительно 131, судья Крусер и секретарь Фетисов удалены от должности и преданы суду уголовному»[349]. Как видно, уволенным чиновникам в вину были поставлены не корыстные, а служебные нарушения.
Следом из Третьего отделения была направлена записка, полученная от полковника корпуса жандармов К. Влахопулова о беспорядках, происходящих в Екатеринославской гражданской палате[350], затем еще одна. На них В. Н. Панин ответил 19 апреля 1840 г. довольно раздраженной репликой: «О беспорядках сих получено в Министерстве юстиции еще в феврале сего года от местного начальства донесение, почему и предложено о том Правительствующему Сенату на рассмотрение и законное постановление»[351]. Негодование управляющего министерством могло вызвать настойчивое вмешательство высшей полиции в обычный, правовой порядок ведения дел, не требовавший оперативного реагирования.
Постоянные указания высшей полиции на реальные или мнимые злоупотребления требовали обязательной реакции, рассмотрения по существу, выяснения обстоятельств и установления важных деталей инкриминируемых действий, что еще больше затрудняло деятельность перегруженной системы правосудия. 14 октября 1841 г. министру юстиции В. Н. Панину была направлена А. Х. Бенкендорфом «записка о полученных частным образом сведениях». В ней сообщалось, что служащий в Правительствующем Сенате в Москве чиновник И. С. Ивановский получил из г. Суджи от А. Кривошеина деньги «для устранения препятствий по делу, и ему, Ивановскому, сделан Кривошеином вопрос: сколько еще нужно выслать?»[352]. В ходе внутренней проверки было выяснено, что этот чиновник служил в канцелярии 7-го департамента Правительствующего Сената младшим помощником секретаря. По уверению обер-прокурора, «несмотря на достаточное время, употребленное им, для собрания сведений о Ивановском, он не открыл никаких предосудительных его действий по службе; что же касается до поведения его, то оно всегда было безукоризненным». Никаких дел А. Кривошеина в департаменте «не производится, и не производилось с 1834 г., за каковое время собраны им справки»[353]. Поэтому было решено переписку оставить без дальнейших последствий, так как полученные об И. С. Ивановском неблагоприятные сведения ничем не подтвердились.
Еще один документ, показывающий, что «достоверные сведения» не всегда таковыми являлись, а могли быть средством сведения личных счетов. 20 января 1842 г.
А. Х. Бенкендорф писал министру юстиции «о доходящих слухах» о том, что «председатель черниговской уголовной палаты статский советник Михно человек корыстолюбивый, но старается прикрывать свой порок смирением, на дела же имеет весьма малое влияние. Товарищ его коллежский асессор Гримбецкий играет главную роль в палате, он человек не глупый, но хитрый, пронырливый и имеющий самую невыгодную репутацию в губернии»[354].
Министр сделал запрос местному губернскому начальству. В ответ губернатор В. А. Шереметев ничего определенного сообщить не смог, а черниговский губернский прокурор разъяснил, что по сложившейся практике слушаний никто особого влияния на производство дел не имел, дела обычно решаются единогласно. За время его службы «не было слышно, дабы в палате уголовного суда, по делам в оной производящимся, было кому-либо стеснение, или же решалась участь кого-либо, или освобождался бы кто от положенного законом взыскания, из видов корысти»[355]. Что же касается до личности Грембецкого, то прокурор отметил, что «он имеет отличительный порок — злоязычность — чернит людей без всякой цели, за что многие из круга здешних чиновников стараются удаляться его сообщества, считая его злым и вредным. Он вдов, имеет двоих детей, которых воспитывает на своем иждивении, живет в собственном доме и жизнь ведет трезвую»[356]. На основании данного заключения было решено: «Не приступая ни к какому особенному распоряжению по сему предмету, иметь оный в виду на будущее время»[357].
В отчете Третьего отделения за 1841 г. представлена буквально катастрофичная ситуация произвола чиновников-лихоимцев: «В прежние годы слышны были жалобы на лихоимство в присутственных местах, как духовных, так и светских, но никогда жалобы сии не были столь многочисленны, как ныне! Это язва, поедающая благоденствие нашего Отечества, и общий вопль возносится в сем отношении со всех концов России»[358]. Позитивным результатом антикоррупционной деятельности представлялась деятельность Правительствующего Сената. «Теперь Сенат совершенно в другом виде, нежели был за двадцать пять лет пред сим, — и ежели секретари могут взять деньги, то редко, тайно и, по крайней мере, с некоторою благопристойностью»[359], — писал не без иронии А. Х. Бенкендорф.
Благодаря оперативной информации удавалось бороться не только с последствиями неправовых действий, но и предупреждать возможные нарушения.
8 февраля 1844 г. исполняющему обязанности министра юстиции В. А. Шереметеву из Третьего отделения была направлена информация, полученная «частным образом», о том, что проживающий в Одессе П. Поливанов просит москвича И. Н. Давыдова заняться делом купца А. Теплицкого, производящимся в 8-м департаменте Правительствующего Сената. Упоминалась фамилия секретаря Королькова, которому обещалось за содействие 5000 руб., а тому, кто выведет на Королькова, — 1000 руб.[360]. В. А. Шереметьев поручил обер-прокурору 8-го департамента сената «обратить особенное внимание на означенное дело, дабы оно получило правильное разрешение, так и на действия по оному секретаря Королькова»[361].
16 февраля 1844 г. отношением шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа к В. А. Шереметеву было обращено внимание министерства на дело помещицы Головинской, убитой в конце 1841 г. мужем ее воспитанницы, помещиком Быковским, желавшим скорее воспользоваться завещанным жене его имением. На пристрастное ведение дела тогда же поступила жалоба родственника убитой помещицы, и дело было «переследовано штаб-офицером корпуса жандармов, вместе с советником губернского правления»[362]. «Ныне до сведения моего дошло, — писал шеф жандармов, — что по окончании суда, которым Быковский признан виновным и осужден к ссылке в каторжную работу, приговор о нем представлен 31 декабря, на утверждение Правительствующего Сената, и что между тем по всей губернии распространились слухи, будто бы мать Быковского отправила в Санкт-Петербург пять тысяч червонцев на ходатайство по сему делу и остается в совершенном убеждении, что сын ея, вместо ссылки будет оставлен в подозрении на месте жительства. Молва эта дает повод к повсеместным там суждениям, что здесь за деньги все можно сделать и переиначить»[363]. На ход этого дела было обращено особое внимание, что должно было исключить возможность неправового решения.
Таинственные «достоверные» источники информации, загадочные фразы из текстов жандармских отношений заставляли министров и высших чиновников спешно реагировать на поступавшие сигналы, проводить внутренние проверки. Следовавшие административные решения по высылке или удалению со службы обвиняемых чиновников порождали ропот недоумения и суждения о всесилии и произволе тайной полиции. Служивший в Сенате М. А. Дмитриев сетовал на текучесть кадров: «Случалось, что не успеет чиновник принять дела от другого, как его уже переводят в другой департамент»[364]. Небольсин, молодой человек, рекомендованный директором департамента как «отличный чиновник», через пять месяцев по высочайшему повелению, сообщенному министру В. Н. Панину графом А. Х. Бенкендорфом, был исключен со службы. Для общего негативного отношения М. А. Дмитриева к Третьему отделению этот эпизод ничего нового не добавлял. Однако в данном случае речь не шла о жандармском произволе.
Сохранившееся архивное дело раскрывает причину скорой отставки. 16 октября 1841 г. шеф жандармов направил отношение к графу В. Н. Панину, в котором, вопреки правилу не раскрывать источники сведений, указывал на перлюстрацию почтовой корреспонденции, давшей ценную информацию. Он писал: «Случай доставил в мои руки письмо Секретаря 7-го департамента Правительствующего Сената Павла Небольсина, к отцу его, в коим он изъясняет о лихоимственных и противузаконных своих действиях по службе. По всеподданнейшему докладу Государю Императору его письма Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил сообщить о сем Вашему Сиятельству, чтобы секретарь Небольсин немедленно был исключен из службы»[365].
Перлюстрированное письмо было великолепно по беспечности автора[366]: «Любезный батюшка! Только что вчера я почти освободился от своей работы и в понедельник принимаюсь за новую, которая мне предстоит на два доклада в этом месяце в Департаменте и на два в Общем собрании. И сентябрь месяц пролетел, а я все-таки ни при чем: существенного со мною случилось только то, что я получил десяток живых стерлядей, 5 фунтов чаю, серебряную солонку, прибор литого полированного серебра, соболью шубку и больше ничего. Да еще то, что один добрый человек, которому я сделал доброе дело, которое уже и кончилось, надул меня на 500 рублей, по крайней мере на 500, если не больше. Знаете ли что, любезный батюшка, я по делам своим заметил, что кто попросит меня об деле, тот наверное выиграет, а кто попросит одного Об[ер-] Секретаря, тот наверно проиграет. Таким образом я ему с сентября по 2 октября перепортил, старому черту, 7 дел и надеюсь, что это будет ему хорошим уроком. А то ведь просто собака на сене лежит, сам почти не пьет и другим не дает. Теперь, бог даст, будет умнее»[367].
Далее чиновник сделал приписку для своего брата Николая: «Не знаю, как и быть, а все проклятые чистые дела: делу дают направление какое угодно, а они, скоты, и глаз не кажут и как видно меня обходят и идут прямо к Андрееву, только и я не промах, все эти дела я, признаюсь тебе, так порчу, что ну да на! кроме всего прочего весьма часто встречаются надуванья, а это чертовски меня расстраивает, ждешь, ждешь обещанного, и сделаешь дело, а выйдет шиш, особенно один каналья меня надул так, что просто я бешусь, когда вспоминаю, а впрочем, почем знать, может быть, и сдержит слово. Да странно, уже столько времени глаз не кажет, узнавши, что все хорошо кончено. А! куда кривая не вынесет»[368]. Вынесла она его прочь из Сената.
Сменивший А. Х. Бенкендорфа новый шеф жандармов А. Ф. Орлов продолжал традицию постоянного преследования взяточников, инициировав, в свою очередь, и системные меры по наказанию лихоимцев.
25 августа 1846 г. А. Ф. Орлов направил В. Н. Панину на его «усмотрение» вполне традиционные сведения — выписку из вскрытого письма, в котором шла речь о тяжбе в рязанской гражданской палате по делу о деревне Коренца: «Хотя Анна Григорьевна ничего не предпринимает, но ходатайствующий по этому делу Николай Горбов уверяет ее, что указ Сената гражданской палатой не будет исполнен до тех пор, пока она, Анна Григорьевна, не примет мер, известных от чиновника палаты, и что Лош… [так в тексте] негодует на означенную просительницу за табакерку»[369]. Отрывочные сведения, понятные адресату, не разобранная перлюстратором фамилия были не сложным ребусом для министерских чиновников.
5 декабря 1846 г. А. Ф. Орлов уведомлял В. Н. Панина, что после его сообщения об обстоятельствах конфликта наследников помещика Мальцева и госпожи Ермоловой поручил «удостовериться под рукою о степени справедливости сведений на счет злоупотреблений по этому делу» и выяснил, что данное дело тянется более 40 лет, несмотря на неоднократные указы Сената, гражданская палата, находя решение егорьевского уездного суда неправильными, не исправляла их сама, а шесть раз возвращала дело для нового рассмотрения. Хотя состоявшееся в мае 1846 г. решение Общего собрания Правительствующего Сената определило пропорции раздела земли между тяжущимися, были основания полагать, что и это решение не будет исполнено[370]. А. Ф. Орлов, основываясь на сведениях, собранных местным жандармским штаб-офицером, отмечал, что в губернии негативно отзываются о членах рязанской гражданской палаты: «Председатель действительный статский советник Горин, по преклонности и слабости здоровья, решительно не в состоянии заниматься делами; товарищ его статский советник Лошаков известен целой губернии за человека неблагонамеренного и корыстолюбивого, хотя законных фактов к улике его не представляется, а дворянские заседатели в палате суть лица не сведущие в делопроизводстве»[371].
Нашлось объяснение и таинственной табакерке из перлюстрированного письма: «Что же касается до золотой табакерки, обещанной г. Лошакову, то дар сей не состоялся, ибо хотя поверенный г-жи Ермоловой, Парижский, взяв у г. Лошакова, будто бы на память, бумажную табакерку, обещал ему, взамен оной, прислать золотую, но доселе того не исполнил, а г. Лошаков, негодуя за это, говорит, что Парижский обманул его»[372].
Дальнейший ход дел имел весьма серьезные последствия. О результатах проверки информации, изложенной в письме, и выявленных злоупотреблениях чиновников шеф жандармов доложил императору. Помимо увольнения с должности товарища председателя рязанской гражданской палаты Лошакова министру юстиции было сообщено секретно о монаршей воле — «дабы чиновник сей не был принимаем на службу». А. Ф. Орлов прибавлял, что «о не определении в службу ст. сов. Лошакова я известил г. статс-секретаря Танеева[373] с тем, чтобы означенное повеление имелось в виду по секрету, на случай представления от какого-либо начальства об определении г. Лошакова в службу и за тем полагаю возможным не сообщать другим гг. министрам и главноначальствующим, дабы более сохранить упомянутое означенное повеление в тайне»[374].
Кроме того, А. Ф. Орловым были доложены императору подготовленные В. Н. Паниным предложения «относительно общего руководства насчет чиновников увольняемых от службы по их неблагонадежности», получившие высочайшее одобрение. В представленной Николаю I записке перечислялись существующие сложности преследования таких чиновников по нормам права. Прежде всего, «при всем убеждении о неблагонадежности сих чиновников, начальству редко представляется возможность обнаружить действия их в той мере, чтобы повергнуть их взысканию по суду, для которого необходимы установленные законом доказательства». Такие чиновники действуют «с особенною осторожностью ограждая себя единственно на случай ответственности перед судом»[375]. Сведения о них доходят до министерства не в виде жалоб или доносов, при представлении которых доноситель обязан представить доказательства своих изветов, а в виде отзывов, которые, «если они повторяются в течение известного времени и не ослабляются другими сведениями, внушают по роду и свойству оных сомнение в благонадежности чиновника», но говорящие о чиновниках с невыгодной стороны «затрудняются в представлении достоверных улик в неблагонадежности порицаемого чиновника»[376].
Тем не менее «для пользы службы […] чиновники сии увольняются иногда от службы без прошения по распоряжению начальства, которое, однако, при увольнении не может указать и не указывает причины оного. Меры сии неоднократно принимаемы были министерством юстиции, но при подобных распоряжениях увольняемому чиновнику представляется возможность по безгласности причин его увольнения относить оное к личному его преследованию, жаловаться на притеснения и просить суда, а суд, по неимению в виду доказательств неблагонадежности чиновника, то есть таких действий его по службе, которые могут быть обнаружены исследованием, вынужден оправдать его, тем самым и открывается ему снова путь для вступления на службу»[377].
Для достижения указанной императором цели — «освобождения службы от вредной для оной чиновников»[378] министр предлагал, чтобы в случае получения всеподданнейших жалоб, удаленных от службы по рас поряжениям начальств чиновников, Комиссия прошений до представления доклада запрашивала бы сведения с последнего места службы. Министры и главные начальники ведомств могли бы тогда сообщать Комиссии прошений те причины и обстоятельства, по которым последовало удаление чиновника, в случаях «особой тайны» такие сведения представлялись бы с высочайшего разрешения[379]. Император согласился с предложением В. Н. Панина. Канцелярская тайна и келейное рассмотрение участи «неблагонадежных» стало нормой.
Инициированный комплекс очистительных мер вызвал, в свою очередь, ответную реакцию чиновной касты, умело саботировавшей любое непопулярное решение. «Гонение или улучшение чиновников дело не бесполезное»[380], — отмечал К. Н. Лебедев. Предлагаемые действия, по его мнению, являлись полумерами, относились к лицам, не затрагивая служебных установлений. «Так например, частное правило о непринятии на службу уволенных и бывших под судом произвело то, что нынче менее предают суду (как будто это должно зависеть от произвола) и даже в тех мерах, когда должно предавать суду»[381], — рассуждал К. Н. Лебедев. Кроме того, «не предусмотрено, что делать с этими отставными. Они без средств и должны или бедствовать, или ябедничать, или искать способов жизни в преступлениях». По его мнению, «мера сия весьма часто лишает ведомство людей специальных, которые, при хорошем надзоре, могли бы с большею пользою оставаться на своих местах, нежели новобранцы, которых ручательство часто состоит в том, что они заменили исключенных»[382].
Для императора Третье отделение и корпус жандармов были трансляторами настроений сословий, источником сведений о язвах и бедах России.
14 октября 1848 г. А. Ф. Орлов сообщал В. Н. Панину: «Частным образом дошло до моего сведения, что в недавнем времени, при совершении в Полтавской гражданской палате раздельного акта имению, оставшемуся по смерти помещицы Базилевской, председатель палаты надворный советник Терещенко иначе не соглашался совершить упомянутый акт, как за 3 тыс. руб. сер., и наконец, только по убедительной просьбе наследницы означенного имения, окончил это дело за половинную сумму; что обстоятельство это не долго оставалось тайною в Полтаве и между жителями произошел сильный ропот; действия Терещенко называли разбоем, а его самого бичом Полтавской губернии»[383]. Указание высшей полиции на общественное недовольство побудило затребовать отчет о делах полтавской палаты гражданского суда, после рассмотрения которого министр юстиции принял решение освободить Терещенко от должности «с оставлением при министерстве»[384].
Еще один любопытный пример, уже из эпохи «оттепели» Александра II. Полученное в июне 1858 г. Министерством юстиции анонимное письмо послужило основанием для запроса В. Н. Панина в Третье отделение с просьбой «собрать негласным образом сведения о чиновниках ведомства […] председателе бессарабского гражданского суда коллежском асессоре Руссо, советнике того же суда надворном советнике Лоране, секретаре Крыжановском и секретаре уголовного суда Пахаловиче»[385]. Старший чиновник Третьего отделения Ф. Ф. Кранц подготовил требуемую информацию. Удалось выяснить, что Руссо «в исполнении служебных обязанностей усерден, в решениях дел […] справедлив, далек от всяких корыстных видов и ведет себя прилично своему званию», Лоран «не столько усерден к службе, сколько деятелен к изысканию средств к получению противозаконных приношений с просителей и лиц, имеющих тяжебные дела». По мнению чиновника, удаление Лорана «могло бы иметь благоприятное нравственное влияние на других членов оного и принесло бы пользу службе». Крыжановский «чиновник очень способный и мог бы быть весьма полезен, ежели бы не был руководим корыстолюбием, он слывет там за взяточника», Пахалович «к занимаемой им должности способен, но иногда позволяет себе также пользоваться противозаконными выгодами»[386].
На основании информации Третьего отделения министр юстиции принял решение об увольнении Лорана от должности «с причислением к департаменту министерства», вопрос о секретарях посчитал необходимым передать на усмотрение генерал-губернатора А. Г. Строганова. Последний, не желая в эпоху гласности ненужной огласки, «полагал бы достаточным предложить им немедленно подать просьбы об увольнении от службы по болезни и только в случае неисполнения уволить по распоряжению начальства»[387].
По словам современника, при Николае I «преследовались особенно взятки, и были люди, пострадавшие от малейшего подозрения»[388], однако позитивный результат не был достигнут. Ни судебные преследования, ни административные наказания, ни отстранение от службы «по подозрению» не останавливали мошенников от рискованных авантюр. Тайная жандармская «гласность» позволяла бороться со следствием, не замечая причин, консервируя правовую отсталость государственного механизма и особенно судебной системы. Судебная реформа 1864 г. изменила принципы и основы судоустройства, ввела гласность и состязательность в процессуальную практику, существенно потеснив сферу возможного корыстного влияния на ход дел. Утверждение принципов открытости и добросовестности в правовой системе способствовало переносу очагов коррупционной привлекательности в иные сферы, непрозрачные с точки зрения принятия решений (например, железнодорожное строительство[389] и др.).
Глава 3. За закрытыми дверями: семейные конфликты и происшествия
Семейная жизнь россиян регламентировалась как неписаными традициями, так и кодифицированными нормами гражданского и церковного права. Социальный контроль, духовный и государственный надзор не могли обеспечить семейную идиллию. В своей личной жизни россияне позволяли себе достаточно радикальные отклонения от идеальных отношений, зафиксированных в праве. Насколько такие вариации были существенны, многочисленны, как влияли на общий нравственный климат модернизирующейся России, позволяют судить материалы российской политической полиции — Третьего отделения.
Как уже отмечалось, направляемые в губернии жандармские штаб-офицеры получали особую инструкцию. Это предписание позволяло жандармам в целях государственной и общественной безопасности вмешиваться в личную жизнь граждан. А. X. Бенкендорф поучал своих подчиненных, что как только дойдут до их сведения «слухи о худой нравственности и дурных поступках молодых людей», «предварите о том родителей […] или добрым вашим внушением старайтесь поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки перед правительством»[390].
Специфика жандармского интереса и участия в частных делах россиян заключалась не только в его превентивном характере, гарантирующем тишину и спокойствие в империи. А. X. Бенкендорфом создавалась система внесудебного и оперативного рассмотрения семейных споров и конфликтов.
А. X. Бенкендорф обращал внимание императора на то, что практика административного рассмотрения дел получила широкое распространение: «В обществе не обращают внимание на то, что в губерниях нет ни одного штаб-офицера, к которому не обращались бы обиженные и не искали бы его защиты; не говорят, что нет дня в Санкт-Петербурге, чтобы начальник округа, начальник штаба, дежурный штаб-офицер не устраняли вражды семейные, не доставляли правосудия обиженному, не искореняли беззакония и беспорядков»[391].
Современник-москвич М. А. Дмитриев, вспоминая первые годы существования новой полиции, отмечал общее впечатление, что город наполнился шпионами, которые сновали повсюду и даже проникали в дома, никто не чувствовал себя защищенным от доноса, люди стали бояться своих слуг и подозревать друг друга. Возвышенные цели жандармской инструкции не казались ему убедительными. По мнению мемуариста, уже самим фактом существования такого учреждения «нарушалось первое необходимое право гражданина — безопасности и домашнего спокойствия»[392]. Надзором за нравственностью молодых людей «нарушалась уже и семейная безопасность». Этот надзор «по законам и божественным и гражданским должен принадлежать только родителям»[393], — писал М. А. Дмитриев.
Хотя если у родственников не получалось, то они сами обращались к полиции за помощью. 5 июля 1848 г. шеф жандармов А. Ф. Орлов информировал министра Л. А. Перовского о сведениях, дошедших до него «частным образом» (так нередко маскировались результаты перлюстрации): «Жительствующий в г. Симбирске недоросль из дворян Николай Арапов буйным своим нравом и нетрезвым поведением порочит звание дворянина, не оказывает матери и дяде своему коллежскому асессору Арапову должного повиновения; удалился в деревню, где продолжает бесчинствовать, стреляет между строениями, однажды бросился даже с ножом на человека, которого прислала к нему мать»[394].
Глава тайной полиции полагал необходимым принять меры «для предупреждения несчастий, могущих произойти от неистовых поступков недоросля Арапова». Было запрошено мнение губернского предводителя дворянства, который объяснял поступки юноши «как бы некоторым помешательством ума», происходящим от неумеренного употребления крепких напитков[395]. Тем не менее этому делу был дан законный ход. Учитывалось то обстоятельство, что дела об оскорблении детьми родителей подлежали разбирательству губернского совестного суда, обеспечивавшего моральное воздействие и примирительный исход дел между родственниками. В конечном счете, после рассмотрения дела о его предосудительных поступках в Корсунском уездном суде, дворянин Арапов по собственному желанию, совпавшему с желанием матери, отправился на Кавказ для вступления в военную службу.
Беглое знакомство с материалами делопроизводства Третьего отделения показывает, что «семейные сюжеты» довольно часто становились предметами внимания политической полиции. Третье отделение, как орган высшего надзора, значительное внимание уделяло сбору информации о происшествиях (выявлялись факты, фиксировались слухи, а при их важности уточнялась достоверность и детали произошедшего, после чего следовали меры реагирования). 10 августа 1842 г. шеф жандармов А. Х. Бенкендорф сообщал министру внутренних дел Л. А. Перовскому о собранных по высочайшему повелению сведениях о проживавшем в Москве отставном штабс-капитане Александре Певцове.
По данным надзора оказалось, что «офицер сей, живя с женой своей в разлуке, предается порокам безбрачных людей и был задержан полицией в банях с распутною женщиною, вообще ведет жизнь праздную, в сообществе дурных людей, разделяя с ними все занятия, свойственные подобным лицам, и в недавнее время один из его знакомых, в доме его нанес себе ножом раны»[396]. После доклада этих сведений последовало высочайшее повеление: «Следует отдать в монастырь на покаяние»[397].
Правда, покаяние в Берюковской Николаевской пустыни был недолгим, 23 января 1843 г. министр Л. А. Перовский уведомил московского генерал-губернатора о повелении императора освободить Певцова из монастыря.
Обращения россиян в полицию необходимы были не только для защиты своих прав, но и для исходатайствования скорого «всемилостивейшего» решения.
Внезапное появление Николая Киреева вызвало такой ужас в семьях его родных братьев, что те вынуждены были искать защиты у высшей полиции. Причины страха видны из официальной переписки главы Третьего отделения с министром внутренних дел. 15 августа 1842 г. А. Х. Бенкендорф сообщал Л. А. Перовскому: «Отставной флотский капитан Николай Киреев, с давнего времени ведущий беспорядочную и развратную жизнь, скитался по питейным домам из города в город, ходил по монастырям, пересылался, за преступления, из одной тюрьмы в другую, и наконец прибыл в Санкт-Петербург, продолжая оказывать пристрастие к распутству и мотовству, лицемерие, при первом случае переходящие даже в богохульство и ненависть к братьям своим, коллежским советникам Александру и Михаилу Киреевым, до такой степени, что они и семейства их опасаются, дабы от него не произошли гибельные для них последствия»[398].
О грозящей опасности и безнравственном поведении скитальца было доложено императору. В результате последовало высочайшее повеление о заключении Николая Киреева в один из отдаленных монастырей и установлении за его поведением строжайшего надзора. Братьев же обязали высылать в монастырь средства на его содержание.
Однако монастырское уединение не изменило нрав и привычки Николая. 11 января 1843 г. Л. А. Перовский сообщал А. Х. Бенкендорфу, что находившийся в Казанской Седмиозерской пустыни Н. Киреев, «предавшись пьянству, ведет жизнь буйную, делает много неприятностей игумену и даже угрожает опасностью обители […] Для удержания Киреева от подобных поступков приставлен был к нему жандарм. Но вскоре после этого Преосвященный Епископ вновь отозвался, что Киреев предается по-прежнему пьянству и буйству и потому просит командировать для бесперебойного за ним наблюдения четырех жандармов или взять его из пустыни и отдать под присмотр полиции»[399].
Церковным покаянием смирить нрав Н. Киреева не удавалось. Материалы дела свидетельствуют о его заключении за буйство в тюрьму казанского ордонанс-гауза, последующем переводе в Валаамский монастырь, затем в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь, где его предписано было содержать в отдельной келье, чтобы исключить влияние на братию и послушников. Дело в том, что, помимо своего буйного поведения и периодических побегов, заключенный еще занимался обличением нравов и злоупотреблений монастырского начальства.
Дела о семейном насилии редко получали огласку. Жертвы смиренно терпели произвол и жестокость супругов, буквально понимая библейский завет «жена да убоится мужа своего». 4 октября 1850 г. Л. В. Дубельт докладывал шефу жандармов о том, что «в Москве отставной коллежский секретарь Касаткин, женатый на 18-летней девочке, пользуясь ее кротким характером, обращается с нею до того жестоко, что сечет ее арапником до ран, кои прижигает огнем». Видимо, на изувера пожаловались лица посторонние, т. к. сама супруга просила «иметь снисхождение к ея мужу и не предавать его суду»[400]. Распоряжением московского генерал-губернатора А. А. Закревского Касаткин был выслан в Олонецкую губернию под строжайший надзор полиции.
В официальном «Обзоре деятельности Третьего отделения собственной вашего императорского величества канцелярии за 50 лет. 1826–1876 гг.» признавалось, что «в полной неудовлетворительности наших судебных мест Третье отделение имело возможность убедиться и из многих поступавших в него просьб и жалоб частных лиц»[401]. Среди таких обращений имелись жалобы «на нарушение супружеских обязанностей с просьбами жен о снабжении их видами для отдельного проживания и обеспечении их существования на счет мужей», «на обольщение девиц», «на неповиновение детей родителям и на злоупотребление родительской властью» и др.[402].
В своем дневнике один из руководителей политической полиции, Л. В. Дубельт, наряду с тревожными европейскими известиями, придворной хроникой фиксировал и обращавшие на себя внимание события частной жизни жителей империи. Его привлекала, по-видимому, необычность и даже парадоксальность происходящего: «[1852 г.] Ноябрь 12. Лейб-гвардии Преображенского полка офицер Давыдов хотел жениться на девице Масловой. Настал день свадьбы, и он, вместо того чтобы ехать в церковь, застрелился»[403]. Вместо ожидаемого радостного события — внезапная трагедия. Другая запись: «[1853 г.] Июль 25. В Туле сделан выстрел в окно квартиры советника казенной палаты Лазарева-Станищева. Подозревают, что это сделала губернская секретарша Миськова из ревности, имеющая любовную связь с Лазаревым-Станищевым»[404]. Показательно, что «всезнающая» молва легко определила личность и мотивы поступка. Следом еще один пример сложной семейной ситуации: «[1853 г.] Август 18. Отставной коллежский регистратор Тутукин, переезжая на ялике через Неву, бросился в воду, но был спасен. Он хотел утопиться потому, что, имея жену и трех взрослых дочерей, не имел чем их кормить»[405].
Стилистика подобных дневниковых сообщений близка к регулярным агентурным записям, восходившим через чиновников Третьего отделения к руководству полиции. В данном случае политическая полиция осуществляла лишь функции надзора, но часто ей приходилось вмешиваться в частную жизнь. И далеко не всегда жандармы оказывались на защите правой стороны.
А. И. Дельвиг описывал ситуацию, в которой оказалась его сестра после смерти своего мужа. Дети от первого брака подали прошение на имя А. Х. Бенкендорфа в котором обвиняли вдову в том, что она представила в Московскую гражданскую палату фальшивое духовное завещание, украв предварительно оставшиеся после него деньги (от 8 до 16 миллионов рублей)[406]. Жандармы при участии губернского предводителя дворянства действовали оперативно, явно заняв сторону столичного начальства. С сестры была взята подписка о невыезде из Москвы, в ее доме был проведен тщательный обыск (сняты были даже ризы с икон и разобрана мебель), а все бумаги сестры отосланы в Третье отделение.
Жандармский генерал С. В. Перфильев вручил сестре письмо от А. Х. Бенкендорфа, в котором, по словам А. И. Дельвига, глава тайной полиции напоминал о своей обязанности покровительствовать вдовам и сиротам, «зная, до какой степени клевета пристает к самым невинным, он ходатайствовал у Государя о назначении самых строгих следствий и других действий, дабы доказать, что жалобы, поданные на сестру, были не что иное, как клеветы, так чтобы на ней не могло остаться и малейшего подозрения, каковой цели он вполне достиг»[407]. Логика, трактовавшая усиленные обыски в доме оклеветанной, стремлением доказать ее невиновность, показалась вдове «изворотом», и она высказала жандарму, что если раньше ее считали воровкой, то теперь «сверх того и дурою»[408].
Изменить ситуацию удалось только благодаря протекции столичных знакомых, в числе которых оказались М. Ф. Орлов и его брат, будущий шеф жандармов А. Ф. Орлов. При личной встрече Л. В. Дубельт убеждал А. И. Дельвига: «Я не знал ни вашей сестры, ни ее противников. Вадковская и Норова явились ко мне с просьбою, и я, прочтя ее без особого внимания, как большею частию читаются во множестве подаваемые просьбы, доложил ее графу Бенкендорфу, а он нашел нужным нарядить следствия, которые послужили к полному оправданию вашей сестры, а между тем московское общество позволило себе утверждать, что я нахожусь в любовной связи с одною из просительниц (он выразил это самым циническим образом) и что мне обещаны ими миллионы»[409]. Л. В. Дубельт рассказал о криминальных планах несостоявшихся наследников в отношении А. И. Дельвига и его сестры, об их сомнительном моральном облике и обнаруженных злоупотреблениях помещичьей властью; но мемуарист, и в первых следственных действиях, и в последующих настойчивых попытках примирительного разрешения имущественного спора, видел коррупционное воздействие на жандармских чинов со стороны детей умершего Викулина.
Даже если в действиях жандармов не было корыстного умысла, закрытость информации, секретность действий позволяла допускать возможные неправовые решения. Не случайно в «Обзоре деятельности Третьего отделения С. Е. И. В. к. и корпуса жандармов за 25 лет. 1826–1850», говоря о вступлении в должность шефа жандармов А. Ф. Орлова, отмечалась преемственность его курса с прежней деятельностью полиции. В то же время подчеркивалось, что «отступлением» можно назвать то, что граф А. Ф. Орлов «начал менее входить в разбирательство частных дел, как потому, что это собственно не относится до высшей полиции, так и по той причине, что вмешательство в тяжбы нарушает достоинство высших судебных мест, которыми решены дела»[410]. Из чистового варианта «Обзора» была вычеркнута фраза о том, что «часто покровительства шефа жандармов искали такие люди, выставлявшие себя угнетенными, которые, как оказывалось впоследствии, не заслуживали участия»[411], ясно показывавшая, что случай с вдовой Викулина не единичный факт.
Другой любопытной эпизод из надзорной практики политической полиции не менее увлекателен. Много хлопот Третьему отделению доставил крупный землевладелец Подольской губернии граф Мечислав Потоцкий. Его жизнь — достойный сюжет для авантюрного романа, в котором правда обильно перемешена с вымыслом. В ней был и конфликт с матерью из-за наследства, вынудивший ее публично заявить, что Мечислав является не потомком скончавшегося Станислава Потоцкого, а сыном венецианского разбойника Караколли, который во время ее отдыха с мужем в Италии напал на нее и изнасиловал. Потом внезапно произошел пожар в Брацловском суде, уничтоживший документы семейной тяжбы, а чиновники, расследовавшие дело, таинственно умерли после отъезда из тульчинского имения графа. Недолгая служба в гвардии не дисциплинировала молодого человека. Он был несчастлив в браке. Подозревая супругу в неверности, сам увлекся замужней красавицей Меллер-Закомельской и бежал с ней с маневров в свое имение. Уединение любовников было не долгим: беглянку выслали в один из херсонских монастырей, а похитителя — в Воронеж[412]. Правда, вскоре он оказался в Париже и почти десять лет провел во Франции.
В 1839 г. вернувшись в Россию, он поселился в своей тульчинской усадьбе, купаясь в роскоши и разврате. Уединенный образ жизни обрастал легендами. Современники рассказывали, что в этом «Подольском Версале» был организован целый гарем из местных девушек, которых он прятал в подвале, где для провинившихся была оборудована и специальная тюрьма. Те же, кто надоедали хозяину, якобы топились в пруду парка[413].
Второй брак сорокапятилетнего Мечислова с Эмилией Свейковской, заключенный в феврале 1844 г., тоже оказался несчастливым. Свою ревность к двадцатитрехлетней супруге он выражал садистским издевательством над ней и новорожденным сыном. «Растрепанная и оборванная» она прибежала в штаб расквартированной в Тульчине дивизии[414]. Генерал Скарятин взял под защиту молодую особу. Инспектировавшему войска Николаю I, при посещении Тульчина, доложили о бесчинствах М. Потоцкого.
Сохранилась копия доклада главного начальника Третьего отделения А. Ф. Орлова, в котором земельного магната обличали в том, что он «безнравственно и жестоко обращается со своею женой, что сам расставляет ей сети соблазна, беспрестанно терзает ее и даже покушался на жизнь ее и своего сына, от него прижитого»[415].
Глава политической полиции предлагал взять все имения его в опеку (то есть, по сути, организовать внешнее управление, запретив самостоятельные сделки и хозяйственные распоряжения) и принять меры, исключавшие перевод капиталов за границу. Самым любопытным является объяснение того, почему не целесообразно судебное рассмотрение этого дела. Шеф жандармов полагал: «Хотя преступления его не сомнительны и высшей степени вопиющие, но как они относятся до тайн семейных, до нарушения правил чести и нравственности, не могли быть при следствии вполне юридически доказаны, а граф Потоцкий, по известности и богатству, легко может укрыться от заслуженной кары, то суду его не предавать»[416].
С этим предложением император согласился. На представленный доклад 27 июня 1845 г. последовала высочайшая резолюция: «Исполнить, но так как граф Потоцкий известен мне давно как самый подлый негодяй, то лишить его следует всякого пользования имениями и доходов ему отнюдь не высылать, назначив ему только по 150 руб. в месяц из сих доходов на содержание, прочее же отсылать в банк на приращение до совершеннолетия сына, которого ныне же записать в пажи, куда в свое время и доставить на воспитание»[417].
И уже через несколько дней А. Ф. Орлов писал министру внутренних дел Л. А. Перовскому о деталях принятых мер: «Графа Мечислова Потоцкого, не предавая уголовному суду, выслать на безвыездное жительство в Саратов, под строжайший надзор местного начальства, над всеми имениями его учредить опеку, подчинив оную непосредственному наблюдению Киевского военного губернатора. Сына его граф Феликса Потоцкого ныне же зачислить в Пажеский корпус и по достижении им установленного возраста отправить на воспитание в этот корпус, а до того времени оставить его при матери. Для жены Эмилии составить капитал в 180 тыс. руб., а до того времени производить ей на содержание 70 500 руб. ежегодно, на сына до поступления по 1500 руб. […], самому графу 150 руб. в месяц»[418]. Особо подчеркивалась необходимость в качестве обеспечительной меры «Воспретить графу Мечиславу Потоцкому совершение всяких актов и сделок, клонящихся к лишению жены его […] и сына следующих им законных частей из его имения, хотя бы впоследствии он вступил и в новый брак»[419].
Н. М. Колмаков утверждал, что имения были взяты в ведение Третьего отделения, с назначением особого администратора[420]. Это суждение не совсем точно. Общее наблюдение за состоянием имений осуществлял киевский военный генерал-губернатор, опекуном по высочайшему повелению был определен губернский предводитель дворянства Подольской губернии тайный советник граф Пржездзецкий, которого сменили три выборных представителя местного дворянства[421]. В чем прав мемуарист, так это в том, что политической полиции приходилось постоянно заниматься имущественными делами М. Потоцкого, который, «чтобы затруднить жену в средствах, начал выдавать на себя разные обязательства с обеспечением на имение»[422]. Затем он пожертвовал три тысячи рублей ежегодного дохода в пользу сирот Саратовского института благородных девиц и тысячу рублей — в пользу приюта. Потом увлекся православием и пожертвовал 12 тыс. рублей на устройство церквей в своих имениях. Но и эти действия не привели к помилованию.
В сентябре 1847 г. М. Потоцкий направил императору прошение, добиваясь разрешения на освобождение всех своих крепостных крестьян, планируя отдать им в собственность ⅔ помещичьей земли без какого-либо вознаграждения[423]. Бумага была передана на негласное рассмотрение шефу жандармов, министру внутренних дел и министру юстиции, которые представили доклад, указав, что так как существует запрет на сделки, «клонящиеся к лишению наследства его сына», то освобождение крестьян может быть проведено на условиях «не слишком тягостных для наследников», то есть с предоставлением не более ⅓ земли.
При этом шеф жандармов А. Ф. Орлов обратил внимание императора на то, что инициатива М. Потоцкого имеет сторону нравственную и сторону политическую. А. Ф. Орлов писал: «По духу времени и нынешнему расположению умов, к столь важному делу должно приступить с большою осторожностью, дабы освобождением огромного количества крепостных людей не потрясти спокойствие целого края, не подкопать основание существующих постановлений, не раздуть пламени непокорности в соседних вотчинах и тем не привести крестьян в волнение, помещиков в отчаяние, а правительство в необходимость прибегнуть к строгим мерам для восстановления нарушенного порядка»[424]. Предлагаемая А. Ф. Орловым мера предусматривала переход крестьян в категорию обязанных, получение небольшой части земли в собственность, внося за другую, большую часть, плату помещику, гарантировавшую достаток законных наследников.
В январе 1850 г. договор М. Потоцкого с крестьянами был утвержден государем. По словам историка В. И. Семевского, со времени издания закона 2 апреля 1842 г. в обязанные крестьяне перешло только 24 708 душ мужского пола, принадлежавших трем аристократическим фамилиям, так вот М. Потоцкому принадлежало 15 056 душ мужского пола[425]. Как видим, подольский землевладелец стоял у истоков освобождения крестьян. Однако и это не изменило его опальный статус. Не помогло и принятие православия: Мечислав стал Михаилом.
Супруга Потоцкого тоже не оставляла власти без своего внимания. Н. М. Колмаков вспоминал, что, будучи недовольна установленным ей содержанием, Эмилия[426] решила подать жалобу на неправильный перерасчет натуральных повинностей в денежную ренту. Решение о размере компенсации принималось при участии государя и, таким образом, при посредничестве «поклонника прекрасного пола» В. П. Буткова, она подала жалобу царю на царя! Прошение было передано в Министерство юстиции, и докладывавший и проверявший обоснованность первоначального решения Н. М. Колмаков писал, что в результате рассмотрения вопроса «царь оправдан был вполне», а графиня выпровожена из столицы[427].
Публично демонстрируя человеколюбие, смирение, верноподданность[428], внутреннее перерождение и очищение, М. Потоцкий продолжал искать механизмы освобождения, действуя через просителей, стимулированных денежными посулами. Управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт докладывал шефу жандармов, находившемуся в Палермо (8 ноября 1845 г.): «На днях приехала сюда графиня Софья Станиславовна Киселева и намерена хлопотать по делу своего брата графа Потоцкого. А между тем, как дошло до сведения III отделения, граф Потоцкий предлагал огромные суммы жене своей, чтобы она вывела его из настоящего положения»[429].
Из донесения от 20 октября 1845 г. становится ясно, что у М. Потоцкого появились высокопоставленные защитники. Л. В. Дубельт писал: «Генерал-адъютант Нарышкин очень хлопочет в пользу графа Мечислава Потоцкого. Он уверяет, что граф невиновен! Что флигель-адъютант Скарятин произвел следствие пристрастно, потому что влюбился в графиню, посещал ее тайно каждую ночь, имел с нею самые близкие сношения. Что полковник Миницкий знал это, хотел доложить Вашему Сиятельству, но внезапная смерть предупредила его намерение. И наконец, что генерал-адъютант Бибиков все это знает и изустно подтвердит Вашему Сиятельству»[430]. Руководители политической полиции хорошо знали, что Л. А. Нарышкин был женат на О. С. Потоцкой, и прекрасно понимали причины его активности. Вот почему на полях рапорта А. Ф. Орлов написал Л. В. Дубельту: «Г[енерал-] А[дъютанту] Нарышкину посоветуйте от меня, чтобы он был осторожнее, лучше скажу, что Г[осударь] Император все знает и очень недоволен и не скрою от него, что последствия для него могут быть весьма неприятными»[431].
Через неделю Л. В. Дубельт вновь информировал шефа жандармов о том, что Л. А. Нарышкин убеждал его в невиновности М. Потоцкого и рассказывал, что убежденный в этом киевский генерал-губернатор Д. Г. Бибиков специально едет в столицу, чтобы оправдать его. Далее управляющий Третьим отделением прибавлял: «Другие рассказывают, что Бибикова подкупить нельзя, но подкупить можно Писарева[432], которому уже и обещано миллион рублей, ежели граф Потоцкий освобожден будет из Саратова и что Писарев, приняв это благочестивое предложение, умел уверить Бибикова в невинности графа Потоцкого»[433].
Далее из жандармской переписки (25 мая 1850 г.) узнаем, что Потоцкий бежал из Воронежа, последнего места высылки, и пойман в Орловской губернии[434].
Неотвратимость нового наказания побудила беглеца к новым противозаконным попыткам освобождения. Санкт-Петербургским почтамтом было перлюстрировано письмо М. Потоцкого к некоему Турнейзену от 11 июля 1850 г., в нем граф сообщал, что Л. В. Дубельт требовал с него 300 тыс. руб. серебром за его освобождение и просил получателя предложить жандармскому генералу от 800 тыс. до миллиона франков за разрешение ему жить за границей или 2 миллиона франков за возвращение ему полной свободы и имений. Это письмо было передано императором Л. В. Дубельту с припиской Николая I: «Новое канальство Потоцкого; прочесть и возвратить».
О дальнейшем Л. В. Дубельт писал А. Ф. Орлову: «Я возвратил государю императору эту перлюстрацию и написал, что Потоцкий ошибся, ибо я требовал от него через Фалеева не 300, 400 тыс. руб. серебром, и на моем докладе государь написал: „Надо следить за Турнейзеном, что он сделает?“»[435] Этот эпизод не только не запятнал Л. В. Дубельта, а наоборот, обвинения «канальи» Потоцкого произвели обратный эффект и породили легенду о том, что шеф жандармов А. Ф. Орлов написал графу, что «Его Величество повелел передать ему, что не только у него, графа Потоцкого, но у самого государя нет достаточно денег, чтобы подкупить генерала Дубельта»[436]. Меняя каземат Петропавловской крепости (1853) на проживание под надзором в Пензе (с 1854 г.), М. Потоцкий не оставлял попыток получить освобождение через взятку Л. В. Дубельту[437]. Амнистию М. Потоцкий получил уже в начале правления Александра II. В 1858 г. он уехал во Францию, где и скончался в 1878 г.
Другой резонансный случай разрабатывался тайной полицией на основании «высочайшего» повеления. В мае 1851 г. Л. В. Дубельт сообщил начальнику Третьего отделения графу А. Ф. Орлову, сопровождавшему императора в поездке, о похищении в C.-Петербурге кн. С. В. Трубецким жены почетного гражданина Жадимировского. Николай I потребовал немедленно найти беглецов: «[…] надо Дубельту взять для того строгие меры»[438]. Управляющий Третьим отделением оправдывался в своем изначальном бездействии: «Скажите сами, чем же я виноват? Ведь я не имею власти распорядительной, следовательно, мог ли я, имел ли я право вмешиваться в дело, зависящее непосредственно от распоряжения генерал-губернатора». И только получив прямое указание императора, «я в ту же минуту начал распоряжаться, […] и с той минуты делаю все, чтобы поймать бежавших»[439], — сообщал он А. Ф. Орлову. Беглецы были задержаны на Кавказе. Л. А. Жадимировскую передали на попечение ее матери, а С. В. Трубецкого заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а позже, лишив наград, дворянского и княжеского достоинства, отправили рядовым в Петрозаводский гарнизонный батальон[440].
Еще отголосок «отеческого внимания» Николая I к семейным делам своих подданных встречаем в дневнике Л. В. Дубельта: «25 марта 1852 г. Дошло до сведения государя императора, что князь Юсупов, влюбленный в свою двоюродную сестру, дочь Рибопьера, хотел похитить ее и тайно жениться на ней. Его Величество, желая предупредить несчастие как для Юсупова, так и для девицы Рибопьер, повелел арестовать его и немедленно отправить на службу в Тифлис»[441].
Хотя у подобных происшествий мог быть и иной исход. М. А. Корф записал историю, рассказанную ему М. П. Позеном. Во время поездки Николая I по России в 1834 г. император разговорился со своим доктором И. В. Енохиным о его происхождении (из духовенства) и церковном пении.
Затем они начали петь церковные стихиры, и Ерохин похвалил его: «Прекрасно, Государь, Вам бы хоть самим на клиросе петь». Николай поддержал и развил эту тему: «В самом деле у меня голос не дурен, и если б я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы, пока не спал с голосу, а потом — ну потом выпускают меня по порядку, с офицерским чином, в Почтовое ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к директору, и он припрочивает мне тепленькое местечко, например: почт-экспедитора в Луге. Но на мою беду у лугского городничего хорошенькая дочка, в которую я по уши влюбляюсь, но которой отец никак не хочет меня видеть. Отсюда начинаются все мои несчастия. В исступлении страсти я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю ее. Доносят моему начальству и отнимают у меня любовницу, место, хлеб, а напоследок отдают под суд. Что тут делать без связей и без покровителей?»[442] В этот момент в комнату вошел А. Х. Бенкендорф. И император закончил историю: «Слава Богу. Я спасен: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он вытаскивает меня из беды»[443]. Моделирование жизненной ситуации привело в восторг слушателей. Только вот в реальной жизни исхлопотать такое спасение было непросто[444].
Достаточно традиционным сюжетом полицейского делопроизводства были дела, связанные с урегулированием «последствий» любовной страсти.
В 1851 г. прусская подданная Росман жаловалась императору Николаю I, что граф Павел Бобринский соблазнил ее дочь и уклонялся от выдачи на воспитание рожденного от него младенца 3 тыс. руб., обещанных ранее.
Вызванный в Третье отделение, 23-летний граф Бобринский заявил, что «не признает себя виновным в обольщении, уверяя, что, когда с ней познакомился, она не была уже невинна, и, не делая никаких обещаний, передал, однако, разновременно значительное количество денег и готов дать 1000 руб., чтобы прекратить дальнейшие претензии»[445]. Однако мать и дочь отказались брать эти деньги и подали жалобу императору.
При посредничестве полиции дело было кончено полюбовно, дядя графа Павла Бобринского, граф Алексей Алексеевич Бобринский, дал госпоже Росман 1000 руб. серебром, а она, в свою очередь, подписку, что более претензий не имеет[446]. В материалах дела сохранилась записка, объясняющая сговорчивость немки: «Объявлено, что дело прекратить, а будет жаловаться, ее выслать за границу»[447]. Доверием к прусским подданным русская полиция не прониклась.
Частная жизнь демонстрировала самые невероятные модели поведения. Даже искушенный в семейных тайнах Л. В. Дубельт вынужден был изумляться: «[1852 г.] Март 2. Свет пошел навыворот! У нас есть тысячи просьб от барынь и девиц, что их соблазнили, что их изнасильничали. Теперь получена просьба от мещанина Тарасова, что дочь коллежского советника Баранова его соблазнила и, родив от него дочь, не отдает ее ему. Вот мерзавец!»[448]
В начале 1855 г. Третье отделение оказалось втянуто в разбирательство очередной истории с изнасилованием. В этот раз ее действующим лицом оказался брат фаворитки Николая I, В. А. Нелидовой, Иван Аркадьевич. Жена поручика Энгельгардта обратилась на имя императора с жалобой на отставного штаб-ротмистра Нелидова, который «насильственным будто бы образом обесчестив дочь ея, оставил сию последнюю в беременном положении и отказал ей даже в денежном пособии на необходимые издержки»[449].
По заключению Третьего отделения «Николаю I были представлены справки, навлекавшие сомнения в справедливости изложенной жалобы, ибо поручица Энгельгардт по действиям своим не пользуется одобрительным мнением, а Нелидов со своей стороны доказывает, что близкие отношения его с девицей Энгельгардт начались по собственному ее на то согласию и он, обязавшись платить ей по 150 руб. сер. в месяц, передал между тем в продолжении 3 недель 1200 руб. сер.»[450].
Надо полагать, И. А. Нелидов пользовался у тайной полиции большим доверием, и дело было прекращено на основании его показаний. Однако Энгельгардт не сдавалась и теперь уже жаловалась и на саму полицию. Она писала, что дело «оставлено в III отделении без должного […] уважения» и просила «поступить с Нелидовым по закону»[451]. Дополнительно она представила медицинское свидетельство «об осмотре ее дочери после помянутого обстоятельства, и, кроме того, ссылается на слова генерал-адъютанта Дубельта, который, читая представленные ему письма Нелидова, порицал действия последнего и неоднократно повторял mais с`est une infamie»[452], — сообщалось во «всеподданнейшем» докладе.
Всесильный шеф жандармов граф А. Ф. Орлов вынужден был объясняться. Он докладывал императору, что «Дубельт действительно, слушая жалобы и не зная обстоятельств дела, говорил, с`est une infamie, прибавляя, впрочем, si с`est vrai[453], а потому подобная ссылка ни в коем случае не может служить доказательством виновности Нелидова»[454].
Руководство Третьего отделения вынуждено было оправдываться и в отношении того, что жалоба Энгельгардт «не была надлежащим образом исследована». «Я должен сказать, что III отделение, и по самому положению своему, не имело права делать по изложенному предмету нормального следствия»[455], — писал шеф жандармов, полагая, что если Энгельгардт «настойчиво домогается», то дело необходимо передать санкт-петербургскому военному генерал-губернатору, включив в следственную комиссию представителя от Третьего отделения.
После этой жалобы политическая полиция к следственным действиям отнеслась с большей основательностью. Присмотрелись к дочери: «Девица Людмила Энгельгардт, 18 лет, стройна, довольно высокого роста, довольно хороша собою и очень миловидна»[456]. Она воспитывалась в Смольном монастыре пенсионеркою государя императора, но два года тому назад, не дожидаясь общего выпуска, мать забрала ее домой, ссылаясь на слабое здоровье дочери. О матери, урожденной Де Лакаст, также навели справки: «Муж отставной поручик с давнего времени с нею не живет. Продала свое имение в Смоленской губернии и живет процентами»[457].
Надлежало проверить утверждение Энгельгардт, что ее дочь дважды приходила к И. А. Нелидову просить места при дворе и что «во второй раз он лишил ее невинности, от чего она и сделалась беременною»[458]. За это бесчестье она просила выдать 3 тыс. руб. серебром.
Сам Л. В. Дубельт по поручению А. Ф. Орлова запрашивал показания у некоего Н. М. Смирнова, который и направил досаждавших ему женщин к И. А. Нелидову (молодая дама просилась в компаньонки, желая поступить на содержание, и трижды приходила за «маленьким пособием»)[459]. Важными оказались заявления камергера Розенталя, подтвердившего, что Лидия бывала у Нелидова регулярно в течение двух месяцев и один раз ночевала. При этом он «не только крику, жалоб и ничего, что могло бы служить признаком насилия, никогда не слышал»[460].
Формальное исследование документов дела позволило следствию утверждать, что «девица и мать не представили никаких доказательств, тогда как должны были на основании VI дополнения ст. 1176 т. XV Свода законов объявить о насилии в тот же день, того не представили доказательств или свидетелей кого-либо из женской своей прислуги, видевшей синие пятна на теле, кровавые знаки на белье или слышавшие по приезде от Нелидова или в первые дни о сделанном насилии»[461]. Л. Энгельгардт по-прежнему утверждала, что была изнасилована: комната была закрыта, «она всячески ему упорствовала, но выбившись из сил с ней сделался обморок, и тогда Нелидов лишил ее девства»[462].
Летом 1855 г., пока работала комиссия санкт-петербургского военного генерал-губернатора под председательством подполковника Скрипицына и с участием подполковника корпуса жандармов Липгардта, Лидия Энгельгардт родила мальчика. 51-летний И. А. Нелидов никакого интереса к ребенку не проявлял. Хотя следствие продолжалось, точка в этой истории была поставлена еще 24 февраля 1855 г. императором Александром II, когда по итогам сделанного доклада шеф жандармов написал над текстом: «Высочайше повелел считать дело оконченным»[463].
Заканчиваются материалы этого дела очередным письмом г-жи Энгельгардт, в котором она, скорбя о смерти императора Николая I, утверждала, что «при жизни его правосудие было оказано в самом скорейшем времени»[464]. Следует отметить, что справедливость искалась внесудебным путем, расчетом на высочайшую волю, но состязание с братом царской фаворитки оказалось неравным.
Личная жизнь россиян зачастую была увлекательнее любовно-авантюрных романов. Случаи семейной неверности часто привлекали внимание жандармов, правда, скорее как некая секретная светская (или, точнее, интимная петербургская) хроника. И вновь обратимся к дневнику Л. В. Дубельта: «[1853 г.] Генварь 5. Статский советник Демидов застал у своей жены камер-юнкера князя Кочубея и в порыве ревности вызвал его на дуэль. Дуэль эта предупреждена, и князь Кочубей, объявив, что он волочился за горничною девушкою г-жи Демидовой, отправлен на службу в Смоленск»[465]. Находчивость ловеласа и административное решение властей предотвратили возможный кровавый исход дуэли.
Следом у Л. В. Дубельта встречаем очередной водевильный сюжет, обернувшийся трагедией: «[1853 г]. Октябрь 17. Городовой унтер-офицер Колотенко, квартира коего на Литейной в 3-м этаже, придя ночью домой после дозора, застал у своей жены под кроватью писаря военных поселений Лазарева, завернутого в одеяло. Это не понравилось Колотенке, он рассердился, а жена его испугалась и бросилась в окно; Лазарев последовал за нею, и оба убились»[466].
Семейные неурядицы вели в Третье отделение и тех, кто на дух не переносил жандармов. Скандально известный публикацией в Европе книжки о знаменитых российских дворянских фамилиях князь П. В. Долгоруков, отбыв ссылку и затворное житье в своих поместьях, в январе 1854 г. явился к Л. В. Дубельту с жалобой на свою супругу, «что она выходит из повиновения и хочет все жить за границей, и просил, чтобы правительство поставило ее в должные пределы повиновения»[467]. По действующим правилам жалоба была направлена на рассмотрение министру внутренних дел, а жена князя была приглашена в полицию на беседу. После этой встречи Л. В. Дубельт записал в дневнике: «А между тем и княгиня жалуется, что муж ее все дерется, и точно явилась к нам с подбитым глазом»[468]. Теперь настал черед объясняться самому жалобщику. По словам жандармского генерала: «Князь уверяет, что он теперь ее не бил, но точно несколько лет тому назад высек плетьми за то, что застал ее под чужим мужчиной»[469]. Обстановка полицейского ведомства побуждала к интимным откровениям.
С началом правления Александра II задачи политической полиции не поменялись. Надзор следил за частной жизнью россиян, транслируя наверх наиболее интересные, забавные, трагикомичные слухи. Сообщалось: «Живущий в Б. Конюшенной в собственном доме булочник Вебер, не зная, как уже отделаться от любопытных, которые приходят в его булочную справляться о происшествии в его семействе, то есть о брошенном будто бы дочерью его новорожденном ребенке в отхожее место, решился с досады палкою выгонять докучливых гостей, ибо не его дочь, а дочь соседей, часовщика Эбера, совершила, как говорят, означенное преступление»[470].
Молва смешала созвучные фамилии, и трагическое событие превратилось в фарс, обретя черты городского анекдота, лишенного назидательного смысла. В то же время донесение показывало решимость Вебера отстоять честное имя своей семьи и существовавший социальный контроль, признававший семейную ответственность за такое преступление.
Конечно, полиция получала и более достоверные сведения. Например, сообщалось, со ссылкой на место и источник информации, что 2 августа 1860 г. в булочной на Литейной горничная почетного гражданина, фабриканта П. А. Битнера, рассказывала, что «Битнер сильно пьет и в нетрезвом виде возвращаясь домой заводит постоянно драку с женой. На прошлой неделе он приехал домой совершенно пьяный и начал жестоко бить жену, после чего она ночью же куда-то скрылась и по сие время не возвращалась»[471]. Если происшествие в семье фабриканта не заинтересовало политическую полицию, то конфликтная ситуация в семье государственного служащего — чиновника Военного министерства, статс-секретаря Булгакова, напротив, привлекла внимание. Материалы жандармского делопроизводства позволяют проследить «технологию» надзора.
Началось это разбирательство традиционно, с агентурного донесения. В анонимной записке, датированной 12 августа 1860 г., сообщалось, что накануне чиновник Булгаков сильно избил свою жену. Происшествие случилось около двух часов ночи, и, как доложил агент, слышались «ужасные женские крики, которые разбудили весь дом»[472]. По этому факту была начата проверка. Следствие шло окольными путями. Ничего конкретного выяснить не удавалось, но собранные слухи подтвердили непростой характер семейных отношений. Чиновник Третьего отделения докладывал руководству: «сделанные по сему предмету разведывания обнаружили только то, что госпожа Булгакова жила минувшим летом на даче в Павловске, где о ее нравственных правилах носились какие-то темные слухи, заставлявшие думать, что она имела там любовную интригу»[473].
Косвенным подтверждением серьезного конфликта стал неожиданный отъезд в деревню супруги Булгакова. Этот отъезд «крайне удивил даже ближайшую ее прислугу», так как она «собралась в дорогу не более как в полторы […] сутки»[474]. Агенты продолжали интересоваться разговорами о случившемся. Был зафиксирован слух о том, что «статс-секретарь Булгаков высек свою жену за то, что он по возвращении из-за границы застал ее в связи с каким-то офицером и вслед за тем отправил ее в деревню»[475].
Одновременно обратили внимание и на личность Булгакова. Установили, что он «любит выпить и потому жестоко дерзок в обращении как с своими, так и казенными людьми, что он имеет связь с актрисою Барановскою или Барановою, недавно приехавшею из-за границы». Детали конфликта попытались установить по месту службы, но «о происшествии никому из чиновников провиантского и комиссариатского департаментов не известно»[476]. Чиновник полиции сообщал руководству Третьего отделения: «Сведения эти собраны самым осторожным образом» — и, видя явный интерес к продолжению исследования данного случая, прибавлял: «Я отправил одного расторопного агента в Павловск»[477].
Политическая полиция еще глубже завязает в этой семейной истории. И вот уже полицейский агент сообщал из Павловска: «Госпожа Булгакова вела нынешним летом весьма легкую жизнь, была постоянно окружена молодежью и находилась в преступной связи с гусаром Образцового полка, из австрийцев, Николичем. Слухи об этом достигли до ее мужа»[478]. К семейным неурядицам добавились и служебные. Якобы, вернувшись из-за границы, Булгаков узнал о назначении на его место другого чиновника и о явном нерасположении к себе императора. Агент продолжал повествование: «Все это его сильно взбесило. Он едет в Павловск к жене, застает у нее гусара Николича, которого выгоняет. Ее же начинает стегать нагайкой, а на другой день отправил ее в деревню»[479].
По всем правилам тайного сыска, агенты продолжали беседовать с прислугой, рассчитывая на какие-либо неосторожные проговорки. Но тщетно: «В доме же у них агент мог узнать только то, что госпожа Булгакова внезапно уехала в деревню, но о причине, побудившей ее к тому, люди ничего не говорят, вероятно, под страхом гнева самого Булгакова»[480].
Двенадцать дней работали несколько агентов и чиновников Третьего отделения для того, чтобы удовлетворить любопытство своего руководства и резюмировать следующее: «Обстановка летней жизни г-жи Булгаковой дает полную уверенность, что подобная сцена, как ее рассказывают, действительно была, тем более что Булгаков, как говорят, очень горяч и часто забывается»[481].
В подобных ситуациях, когда рушился семейный уклад, даже высшая полиция не могла помочь. Домашние неурядицы осложнялись материальными претензиями и связанными с ними тяжбами.
Любопытный пример такого спора представляет дело, начатое в 1859 г., «по жалобе жены надворного советника Марии Спицыной на мужа своего вступившего с нею в брак из видов корыстных».
В письме на имя управляющего Третьим отделением А. Е. Тимашева М. П. Спицына рассказывала историю своего замужества. В 1851 г. умер ее первый муж, купец 3-й гильдии Чурилов. В 1857 г. стал искать ее руки помощник столоначальника департамента внутренних сношений МИДа надворный советник Спицын. Ему она прямо говорила, что «кроме деревянного дома на петербургской стороне, приносящем 1100 руб. сер. в год, ничего не имею». Он же убеждал, что «не рассчитывает на мое состояние, уверял, что, имея казенную квартиру, может жалованием своим прокормить себя и жену». В своем решении она была осторожна и только через 6 месяцев дала согласие на брак. В день обручения Спицын представил ей даму «под именем тетки, живущей с ним на квартире», эта же женщина с двумя детьми была на свадьбе. Постепенно до нее стали доходить слухи, что эта женщина сомнитель ного поведения жена гамбургского подданного Мильдау, брошенная мужем 16 лет назад[482].
Вскоре после свадьбы начались материальные проблемы. По словам М. П. Спицыной: «Муж взял 800 руб. для уплаты долга за сукно; но тот долг до сих пор не уплачен; жалование употреблял на расходы совершенно мне не известные, а на предложение перевезти мебель и вещи, сказал, что у него ничего нет, что все свое имущество он отдал Мильдау и стал требовать 5000 руб. для уплаты по заемному письму Мильдау (которое было дано за 4 дня до свадьбы)». Дальше он стал настаивать на необходимости продать дом, а затем «собрал свой весьма ограниченный багаж, взял некоторые вещи, которые я ему сделала к свадьбе, и отправился неизвестно мне куда, угрожая меня бросить». Женщина на шантаж не поддалась и в денежных претензиях отказала, тогда он объявил, что «скорее бросит меня, чем Мильдау»[483]. О своей семейной ситуации она никому не рассказывала, скрывая все от своих престарелых родителей, пока сам Спицын не пожаловался на жену санкт-петербургскому обер-полицмейстеру.
Обращалась же М. П. Спицына к руководству Третьего отделения, рассчитывая получить приказание ее мужу выдать бессрочный паспорт для жены. По сути, дело шло не о разводе, а о разъезде супругов, достаточно часто практиковавшейся форме разлучения, вызванной сложной, долгой и непредсказуемой процедурой развода.
Мужской взгляд на эту семейную ситуацию виден из хранящейся в деле копии письма Спицына санкт-петербургскому обер-полицмейстеру[484].
Чиновник показывал себя страждущей стороной и в оправдание апеллировал к законам. По его словам, жена «в течение 8-месячного супружества в нарушение закона […] вместо любви и уважения к мужу, начала оказывать мне непочтительность, делая мне различные упреки и оскорбления и, несмотря на всю мою снисходительность к ней, вынудила меня выехать из ее дома и нанять на свой счет в постороннем доме квартиру». Кроме того, она «позволила себе самоуправно задержать мое платье и другие вещи»[485].
Ссылаясь на статью 103 Законов гражданских («Супруги обязаны жить вместе»), Спицын требовал обязать супругу переехать к нему жить: «Так как законы запрещают самовольное разлучение супругов и я, не желая нару шать священную обязанность брака, считая необходимым долгом для побуждения к исполнению сих обязанностей […] предписать полиции петербургской части немедленно обязать ее подпискою на явку ко мне и затем поручить наблюсти, а между тем отобрать от нее вещи мне принадлежащие, как то: девять сорочек, одно с бриллиантом золотое кольцо, одно пальто, одна шуба на набитом соболем меху с бобровым воротником, один халат на шелковой подкладке, одна шляпа, ящик с пятью бритвами, одно летнее пальто камлотовое, один платок шелковый, одна лорнетка черепаховая, и в случае же дальнейшего ее уклонения от исполнения супружеских обязанностей, поступить с нею как с ослушницей закона»[486]. Солидный багаж должен был сопровождать «блудную» жену при возвращении.
Претензии своего мужа Мария Павловна Спицына считала «пустыми словами»[487]. В письме к приставу исполнительных дел петербургской части она, прежде всего, отмечала, что мужа своего она не выгоняла, затем указала, что Спицын ввел ее в долги свадебными расходами и необходимостью «обшить мужа моего платьем», которого у него не оказалось. Она припомнила, что за 8 месяцев он выдал на домашнее содержание только 10 руб. серебром и вообще явился к ней с двумя корзинками с вещами.
Кроме того, продолжала она, «из всех вещей, поименованных им в просьбе, один только лорнет и бритвы суть собственность его, получить их он может во всякое время, за все же прочее я заплатила свои деньги, исключая шубы, которая не была еще в употреблении, она заказана мною, доверена мне и деньги за нее 250 руб. сер. еще не заплачены»[488].
По наведенным Третьим отделением справкам, Спицын, женившись, не переставал иметь связь на стороне и «сейчас, выехав от жены, ночевал у Мильдау, о чем известно и местному надзирателю»[489]. Руководство политической полиции решило действовать по служебной линии и предписало начальнику Спицына А. Д. Философову «употребить начальническое влияние на Спицына для восстановления семейных отношений его на основании закона и справедливости»[490]. Внешний эффект был скорым, в письме к управляющему Третьим отделением А. Е. Тимашеву чиновник «изъявил готовность выдать свидетельство и отказаться от дальнейшего преследования»[491].
Но из словесной жалобы М. П. Спицыной к начальнику первого округа корпуса жандармов было ясно, что муж хотя и поселился с нею в одном доме, но продолжает преступную связь с Мильдау. Женщина вновь просила через полицию заставить его прервать «всякие сношения с Мильдау» или же дать вид на отдельное жительство и оставить квартиру[492]. Последние листы дела свидетельствуют, что и через десять лет М. П. Спицына просила уже новых жандармских чиновников «убедить мужа к обеспечению моей участи», добиваясь незначительного денежного содержания[493]. Даже некогда всесильная тайная полиция не могла преодолеть супружескую неприязнь и обеспечить материальную поддержку супруги.
Рассматривая документы архива Третьего отделения, можно обнаружить, что достаточно часто участниками семейных конфликтов становилась прислуга, проживавшая в доме и имевшая возможность для постоянного общения, реализации своих матримониальных планов или хотя бы повышения социального статуса и улучшения материального положения.
Так, некая М. Аладова в апреле 1861 г. жаловалась шефу жандармов на свою тяжелую жизнь. Она сообщала, что восемнадцатилетней девушкой вышла замуж за глухонемого дворянина, «движимая полнотою благородных чувств, не слушая убеждения моих родных, смело шла на самопожертвование, поэтически смотря на мою роль, но чрез два месяца я уже предвидела мое несчастье и 20 лет переносила тиранство моего мужа»[494].
По ее словам: «Муж заставлял присутствовать при рождении, крещении и погребении незаконных детей его, болезнях любимой им женщины, моей кухарки», а когда она осмеливалась не пойти, то муж приходил к ней ночью с пистолетами («не знаю заряженными ли?»). Женщина подчеркивала, что готова была и дальше сносить такую жизнь («кого Господь соединил, человек не разлучает»), но теперь муж собрался продать дом, чтобы жить с этой женщиной, а ей надо было «искать казенного места»[495].
Обращение Аладовой в Третье отделение было связано с тем, что она не желала «формального производства по жалобе своей на мужа», а потому шеф жандармов князь В. А. Долгоруков распорядился поручить начальнику первого округа корпуса жандармов «попытаться привести настоящее дело к миролюбному окончанию»[496]. Жандармское следствие выяснило, что действительно «муж Аладовой до настоящего времени имеет любовную связь со своею кухаркою, с которой прижил детей», но было также установлено, «что сама Аладова была в такой же связи с несколькими лицами», кроме того, «муж давал ей достаточное содержание, заплатив некоторые ее долги, и поручился за нее в платеже 10 тыс. руб.»[497].
По признанию начальника округа генерала И. В. Анненкова, его удивила сама Аладова «несвязанностью слов и странностию мыслей»[498]. У нее действительно было обнаружено «помешательство ума», и она была помещена в лечебное заведение. Аладов согласился на предоставление ей вида на жительство на 3 года, а после продажи дома его жене была выделена причитавшаяся седьмая часть. Оставшиеся после уплаты долгов деньги были помещены на хранение в государственный банк. Правда, они скоро пригодились для последующего лечения, так как Аладова продолжала слать письма в тайную полицию, объясняясь в любви к вел. кн. Константину Николаевичу, воображая себя то незаконною дочерью Александра I, то «Мариею Равноапостольною и спасительницей мира»[499].
В зажиточных семьях среди слуг особую роль играли учителя и гувернеры. Приглашенные для воспитания и обучения детей, они являлись носителями специальных знаний и навыков, кроме того, зачастую демонстрировали иной, отличный от привычно обывательского, стиль жизни, манеры, а потому становились предметом особого эмоционального внимания.
Именно из-за гувернера произошли «семейные несогласия и раздоры» в семье помещика Ф. Энгельгардта. Как видно из материалов дела Третьего отделения: «По просьбе помещика Федора Энгельгардта, жалующегося на жену свою и некоего Дубова, по проискам коего он выгнан женою из имения ее», — конфликт вспыхнул в 1849 г. Причем, как писал министр внутренних дел Л. А. Перовский шефу жандармов А. Ф. Орлову: «Муж подозревал жену в непозволительной связи с гувернером детей их Дубовым, жена обвиняла мужа в покушении на жизнь ее и растлении им несовершеннолетней родной дочери их»[500]. Следствие по данному происшествию вел санкт-петербургский генерал-губернатор.
«Формальным исследованием и частными разысканиями» было установлено, что «помещица Энгельгардт действительно имела весьма сомнительные отношения к чиновнику Дубову». Обращало на себя внимание то обстоятельство, что в ответ на требование мужа удалить гувернера помещица предпочла расстаться с мужем, а Дубову дала «полную доверенность на управление имением ее». Когда же «по распоряжению начальства» Дубов все же был выслан в Лугу, то помещица Энгельгардт «имела неоднократные с ним тайные свидания»[501].
В отношении главы семейства было выяснено, что «он человек вспыльчивого и строптивого характера и развратного поведения»[502]. Относительно же обвинения в растлении дочери и «в продолжении преступной связи с нею» «не найдено никаких доказательств, ни даже правдоподобия». Следствие установило, что это обвинение было «возбужденно одною крепостною женщиною», а затем поддержано самой Энгельгардт, которая «домашним образом» добилась от дочери признания, а потом распорядилась провести освидетельствование девочки повивальной бабкою, по заключению которой дочь была «признана якобы действительно лишенной девства»[503]. Видимо, таким страшным обвинением помещица решила раз и навсегда расстаться со своим мужем: его суровое наказание обеспечило бы возможность получения развода.
Ф. Энгельгардт решительно отвергал все измышления. Изменила свои показания и дочь. Как гласят официальные документы: «Равно отреклась от сознания своего и дочь, которая при тщательных расспросах следователей явно обнаружила, что она вовсе не имеет понятия о совокуплении мужчины с женщиной; считала же себя, по собственному ее ответу, лишенною невинности, потому только, что об этом говорила ей свидетельствовавшая ее повивальная бабка, и что отец дозволял себе иногда слишком неприличное с нею обращение»[504]. Характер «неприличного обращения» виден из донесения жандармского полковника Станкевича, участвовавшего в следственных действиях: «Отец ее давал ей в руки держать то, что она стыдится назвать (детородный уд)», и продолжалось это аморальное действо около полугода[505].
Надо сказать, что представители власти постарались сделать все для сохранения семейной тайны. По высочайшему повелению было предписано: «Девицу Веру Энгельгардт от медицинского освидетельствования освободить, а делопроизводство во избежание дальнейшего соблазна оставить без дальнейших преследований». Родители, оказавшиеся «оба развратного поведения», высланы: отец — в Олонец, мать — заключена в монастырь. Имение передано в опеку, сын Валерий помещен в одно из казенных заведений, а дочери были «вверены попечению губернского предводителя дворянства»[506]. Дубова решено было выслать на жительство в одну из отдаленных губерний.
Однако история эта, из-за своей необычности и исключительности, получила огласку. В дневнике Л. В. Дубельта встречаем: «[1853 г.] Декабрь 15. приказано произвести следствие о семейных раздорах графа Салтыкова. Жена его написала безыменные письма, что он влюбился и хочет соблазнить свою старшую дочь, а он показывает, что помещик Федор Энгельгардт уже соблазнил и жену, и дочь его. Срам!»[507] Обвинение в подобных преступных помыслах, несомненно, могло сразу дискредитировать подозреваемого в глазах общества и обеспечивало пристальное внимание властей к нравственному облику потенциального насильника, видимо, поэтому графиня и прибегла к такому способу огласки семейных неурядиц. Граф Л. Г. Салтыков, в свою очередь, разглашая семейную тайну, обращал внимание на аморальный поступок родственника своей супруги.
История, случившаяся в доме Энгельгардтов, рассказана в записках писательницы А. И. Соколовой, и, хотя она ручалась «за полную достоверность»[508] эпизода, перед нами одна из легенд периода правления Николая I. Под пером А. И. Соколовой Анна Романовна Энгельгардт предстает женщиной «безумно любившей мужа, обожавшей детей и благоговейно охранявшей чистоту и святость домашнего очага»[509]. Мотивы ее действий самые возвышенные: «Она подробно расспросила обо всем дочь, пришла к убеждению, что та действовала почти бессознательно, под давлением враждебной нравственной силы, и, не желая щадить ни себя, ни лиц, разбивших ее жизнь, сама передала все это горькое и позорное дело в руки жандармской полиции, в то время ведавшей все тайные и секретные дела, не исключая и самых сокровенных дел семейных»[510]. Виновность отца в растлении 14-летней дочери для нее очевидна. Самое любопытное в этой истории — судьба Ф. Энгельгардта. «В былые времена, — писала А. И. Соколова, — подобные преступления были неслыханно редки и, вероятно, карались беспощадным образом, потому что, по произнесении приговора над обвиненным Энгельгардтом, он, по усиленному ходатайству двоюродной сестры своей, светлейшей княгини Салтыковой, был признан умершим и, совершенно вычеркнутый из списка живых людей, без паспорта проживал в доме Салтыковых»[511].
В разрешении еще одного «семейного несогласия» из-за гувернера принял участие наследник престола великий князь Александр Николаевич, которому при отсутствии императора в столице управляющий Третьим отделением представил соответствующий доклад. В дневнике Л. В. Дубельта читаем:
«[1853 г.] Октябрь 10. У старшего адъютанта военно-учебных заведений полковника Корсакова был гувернер Стерн. Этот господин, как вообще злодеи немцы и французы не воспитатели, а развратители нашего юношества, вместо того, чтобы заняться образованием вверенного ему ребенка, начал стараться свести любовную связь с женою Корсакова.
Государь наследник цесаревич весьма справедливо полагал, что такому гувернеру должно воспретить быть гувернером.
Так сделано: Стерн обязан подпискою не гувернерствовать и его выслали на жительство в Митаву к его отцу»[512].
Известна ситуация в семье помещика М. Е. Гаршина (отца известного писателя), жена которого, как свидетельствовали слуги, лазила в окно флигеля, где жил студент — учитель детей П. В. Завадский (активный деятель харьковско-киевского тайного общества студентов, почитатель А. И. Герцена), а потом, бросив семью, бежала с ним. В материалах дела Третьего отделения сохранилось письмо Е. С. Гаршиной к санкт-петербургскому генерал-губернатору князю А. А. Суворову, в котором она объясняла мотивы своего поступка невыносимыми условиями жизни с мужем: «Нет, кажется, порока, которым бы не наделила его природа: ограниченный умом, проникнутый всеми предрассудками необразованного русского помещика, подверженный притом частым припадкам сумасшествия, он сделал жизнь для меня невыносимой»[513]. Используемые эпитеты явная антитеза в характеристике образа молодого любовника — носителя передовых взглядов[514].
Рубеж 1850–1860-х гг. традиционно считается временем кризиса патриархальной семьи[515]. Сложившиеся морально-этические нормы, поведенческие практики отвергались молодым поколением. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», ставший манифестом шестидесятников, предлагал не выдуманные формы, а фиксировал хотя и единичный, но существовавший семейный уклад.
В сводке городских слухов и толков 28 февраля 1857 г. сообщалось: «В номере „Сына Отечества“ за нынешнюю неделю в числе юмористических гравюр замечают одну, представляющую двух франтов, из коих один, лорнетируя проходящую мимо даму, спрашивает своего товарища: „Ты знаешь ее?“ — „Знаю“. — „Кто она?“ — „Это жена двух моих приятелей“. Многие находят эти слова уже слишком вольными и неприличными в печати. Пусть (говорят они) изображают какими хотят смешными и злыми выходками взяточников, лихоимцев и прочих презрительных людей, кои приняты ныне журналистами целью их насмешек, — но в журнале, каков „Сын Отечества“, читаемом множеством порядочных дам и молодых взрослых девиц […] никогда не следовало бы допускать таковых скользких, неприличных выражений, заставляющих краснеть каждую благопристойную замужнюю даму, а молодых пылких девиц углубляться в мысли не совсем полезные для их нравственности»[516].
С точки зрения общественной морали обличение социальных пороков было допустимо, а святая святых семейная жизнь оставалась неприкосновенной. Через несколько дней агенты выяснили тайный смысл карикатуры, изображавшей «жену двух приятелей». Сообщалось: «Это (говорят) прямо мечено на каких-то известных здесь лиц: Панаева и Некрасова, — таких тесных, задушевных друзей, что у них решительно все общее: квартира, стол и законная жена одного из них»[517].
Добавлялись и правдоподобные интимные подробности этого сожительства: «Брачное их ложе, по огромному своему размеру, свободно помещающее всех троих, — будто бы изящнейшей выдумки, с каким-то особенным механизмом, по одному только давлению пружины соединяющим и разлучающим сию счастливую чету»[518].
Запоздалое открытие, так как А. Я. Панаева стала гражданской женой Н. А. Некрасова еще в 1846 г., не оставляя И. И. Панаева. Супруги жили вместе. Н. А. Некрасов и И. И. Панаев вместе вели и дела по изданию журнала «Современник». Литератор М. И. Михайлов сожительствовал с супружеской четой Шелгуновых. Общим домом проживали И. М. Сеченов и семья петербургского врача Бокова. Как отмечает И. Юркина, в этих отношениях акцент делался на общности интересов супругов с некоторой долей отрицания чувственности[519]. В то же время обывателей, как и жандармских наблюдателей, скорее волновала изящная кровать.
Все же подобные семейные инверсии были единичными. Доминировали традиционные проблемы: супружеская неверность, семейное насилие, нравственное воздействие на детей.
Как видно из раздела «По семейным несогласиям» отчета Третьего отделения за 1865 г., «московская почетная гражданка Боткина жаловалась, что муж ее после 10-летней супружеской жизни, подвергшись влиянию проживавшей у них гувернантки, девицы Бурбовской, поставил ее, Боткину, в униженное, ничем не заслуженное положение. Озадачиваясь участью троих малолетних детей, на нравственность которых поступки отца не могли не оказывать вредного действия, Боткина просила дозволить ей удалиться навсегда из мужниного дома, с возвратом для содержания и обеспечения детей принесенного ею в приданое капитала 60 т. р., находящегося в распоряжении мужа»[520]. Специальная комиссия в составе московского военного генерал-губернатора, городского головы и начальника второго округа корпуса жандармов пыталась привести к «миролюбному окончанию дела на справедливых основаниях», но тщетно. После чего Боткина получила фактически разрешение проживать отдельно от мужа.
В докладе отмечено: «По высочайшему повелению предоставлено московскому генерал-губернатору не тревожить Боткину в отдельном жительстве от мужа, и по общему совещанию их родственников, под руководством московского городского головы, обеспечить ее содержание в той мере, какая будет названа справедливою, а также постановить относительно нравственного воспитания детей Боткина и сохранения их состояния»[521].
Только «высочайшее повеление» могло разрешить отдельное проживание супругов. Подобная практика все более вторгалась в жизнь, как альтернатива долгому судебному производству. В материалах Третьего отделения сохранились сведения о семейной ситуации полковника Еропкина: семейное несогласие, дошедшее до раздельного проживания, длилось около 20 лет. В основе — супружеская неверность и связь с вдовою штабс-капитана Поповою, которая «по бесхарактерности и нетрезвому поведению приобрела над ним влияние и постоянно вооружала против жены»[522]. Сначала он снабжал супругу видами на жительство и выдавал на содержание 600–1000 руб. в год. Однако, видимо испытывая денежную нужду, в 1862 г. он не дал согласия на ее поездку за границу для лечения и прекратил выдачу видов и содержания. По соглашению с Поповой, Еропкин подал в 1863 г. в Санкт-Петербургскую духовной консисторию иск о разводе. Как утверждалось в записке: «…для оклеветания жены прибегал к самым предосудительным средствам, не успев в этом удалился из Санкт-Петербурга и переезжал в разные губернии для того, чтобы, замедляя окончание бракоразводного дела, уклониться от обеспечения жены средствами к жизни»[523]. По жалобе законной супруги последовало высочайшее повеление, вменявшее Еропкину в обязанность впредь до окончания начатого им судопроизводства выдавать ей на содержание по 1000 руб. в год.
Не случайно в вышеупомянутом «Обзоре деятельности Третьего отделения» признавалось: «Закон наш, по-видимому, предвидел только счастливые браки и потому направлен лишь к тому, чтобы сделать эту жизнь неразрывною», а бракоразводный процесс идет в консисториях «при крайних затруднениях и злоупотреблениях»[524].
По действующему законодательству основанием для прекращения брака могло быть доказанное прелюбодеяние другого супруга или неспособность его к брачному сожитию, а также осуждение к лишению всех прав состояния или ссылке на жительство в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ. Брак мог быть расторгнут только формальным духовным судом. Но даже собственные признания, если, по мнению суда, они не согласовывались с обстоятельствами дела и не сопровождались доказательствами, несомненно его подтверждающими, могли не учитываться. Признание в прелюбодеянии, нарушении «святости брака», зачастую не могло привести к искомому освобождению от семейных уз.
Материалы дела «По просьбе разведенной жены подполковника Елены Берновой урожденной гр. Буксгевден о снятии с нее осуждения на всегдашнее безбрачие за преступную связь с юнкером Самаржи» представляют тому доказательство. Как видно из документов, 7 марта 1858 г. подполковник Бернов обратился к тверскому епархиальному начальству с ходатайством о расторжении брака. Основанием для положительного решения было представлено собственноручное письменное сознание его супруги «в непозволительной связи». На суде Е. Бернова не созналась в измене и заявила, что писала признание «будучи принуждена к тому жестоким его с нею обращением и угрозами». Свидетелями со стороны мужа выступила прислуга, под присягой подтвердившая, что «действия, происходившие между Берновой и Самаржи в спальне, доказывали, что они, несомненно, прелюбодействовали». Причем горничная свидетельствовала, что признание написано при ней без принуждения, а дворовый человек показал, что застал Бернову «в самом действии прелюбодеяния с Самаржи». Кроме того, следствие установило, что «Самаржа посещал ее в отсутствие мужа поздно вечером, когда она уже находилась в постели, а иногда проводил в ее спальне целые ночи». Результатом стал тот самый вердикт о «всегдашнем безбрачии», который и обжаловался в обращении к императору[525].
На стороне Е. Берновой выступил ее дядя, отмечавший в письме, что суд необоснованно доверился свидетельским показаниям, так как все выступавшие были либо крепостные обвинителя, либо служащие истцу за плату; что его племянница была введена в заблуждение, запугана, не знала русского языка и написала признание, чтобы добиться развода и освободиться от притеснений мужа. Однако итоговый доклад Третьего отделения от 10 февраля 1860 г. венчала резолюция императора: «Решение Святейшего Синода принять к исполнению»[526].
Не удалось добиться скорого внесудебного рассмотрения ходатайства о расторжении брака и жене генерал-майора Софии Зотовой. В своем обращении к шефу жандармов князю В. А. Долгорукову она сообщала, что вышла замуж по принуждению родителей, желавших поправить имущественное положение: «Постоянные преследования Зотова, оскорбления, его невыносимо тяжелый, ревнивый и подозрительный характер довели меня до совершенного изнеможения»[527]. В результате чего она вынуждена была возвратиться в дом родителей. С. Зотова признавалась, что «отец из писем усмотрел, что я еще в девичьем состоянии», и потому было решено подать иск о признании брака недействительным. Сам Зотов «средств на содержание не дает», а «согласен дать свободу, если заплатить 35 тыс. руб.», кроме того, он всячески «замедляет и затрудняет ход дела»[528].
Молодая женщина, отмечая, что «ждать судебного рассмотрения долго», просила об административном решении ее дела. Адресовала она свои письма и императрице Марии Александровне. Однако было «Высочайше повелено объявить просительнице, что она должна действовать обыкновенным судебным порядком»[529].
После принятия Судебных уставов 1864 г. подобная практика получала все большее распространение. Но по признанию руководства Третьего отделения, разбор семейных дел «даже в новых судебных учреждениях, не стесненных в своих приговорах неизбежною в прежнее время формальностью, тем не менее не всегда приводит спорящих супругов к такому судебному решению, которое вполне соответствовало самой строгой справедливости и сколько-нибудь примирял ссорящихся между собой»[530].
Главную причину жандармские чины видали в «несовершенстве наших законоположений, касающихся внутренней жизни супругов […], законоположений неопределяющих с достаточною точностью взаимные их отношения в случае каких-либо между ними столкновений, личных или имущественных». Рассмотрение бракоразводных дел духовным судом было долгим, связанным с многочисленными трудностями в доказательствах оснований развода[531]. Кроме того, по словам В. Михневича: «Те же немногочисленные случаи, которые закон признает уважительными для развода, обставлены юридически требованием таких позорных для семьи и для личности условий, что очень немногие супруги решаются ценою их добыть себе свободу»[532].
Практика разъездов супругов реально существовала и широко использовалась, но законом не была разрешена[533]. Третье отделение хорошо знало, что довольно часто бывали ситуации, когда «при неимении достаточных по закону причин к формальному разводу, отношения между супругами тем не менее таковы, что делают совместное сожительство положительно невозможным и даже опасным»[534].
В цитируемом «Обзоре деятельности Третьего отделения» подчеркивалась значимость существовавшей практики внесудебного административного решения дел: «Неоднократно встречались случаи, что мировые судьи, видя неизбежность дозволить одному из супругов отдельное проживание от другого и затем определить их права на детей и не усматривая на этот предмет никаких указаний в нашем законодательстве, сами обращали спорящих для разбирательства их дел в Третье отделение, которое, являясь в подобных случаях единственным прибежищем для терпящей стороны, принимает в ее защиту экстренные меры, а при обстоятельствах особой важности доводит о них до сведения вашего величества»[535].
В одной из записок Третьего отделения приводились примеры судебной практики, основанные на нормах, «которые сами по себе далеко не удовлетворяют требованиям строгой справедливости, но к которым суд наш должен прибегать, чтобы не отклониться от буквального смысла закона»[536].
Так, устанавливая в суде справедливость жалобы жены на жестокое обращение, суд приговаривает виновных мужей к тюремному заключению, но «с тем вместе, не желая отступить от закона, по которому супруги обязаны жить вместе (СЗРИ. Т. Х, ч. 1, ст. 103), тот же суд определяет: по окончании срока наказания мужа опять водворить к нему жену для совместного их жительства»[537]. «Понятно, что если муж и до того времени был жесток в обращении с женою, то участь этой последней естественно должна еще отягчиться при сожительстве с мужем еще более прежнего ожесточенным против нее как принесенною ею на него жалобою, так и потерпенным им вследствие этой жалобы наказанием»[538], — заключал чиновник Третьего отделения.
Политической полиции был известен случай, когда «одна жена вследствие жестокого обращения с нею мужа бежала от него и, не имея паспорта для отдельного жительства, обратилась к одному лицу, которое добыло ей паспорт фальшивый, и несмотря на то, что на суде она созналась в проживательстве с этим поддельным паспортом и по закону подлежала лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и ссылке на житье в отдаленные губернии, кроме Сибирских, или отдаче в рабочий дом, суд присяжных ввиду жестокого обращения с нею мужа, вынудившего ее прибегнуть к подобному подлогу, объявил ее невиновною и тем освободил от ответственности»[539].
Таким образом, Третье отделение последовательно указывало на необходимость изменения семейного законодательства.
Другое важное обстоятельство: в условиях реформирования правовой системы Российского государства политическая полиция продолжала настаивать на целесообразности сохранения за собой практики участия в разрешении семейных конфликтов.
Статистические сведения, представленные в «Обзоре деятельности Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии за 50 лет. 1826–1876», свидетельствовали о росте популярности внесудебного административного рассмотрения конфликтных ситуаций[540] (Таблица 1).
Таблица 1
Причем была отмечена тенденция: вовлечение в разрешение семейных несогласий через посредничество Третьего отделения лиц непривилегированных сословий. Шеф жандармов А. Л. Потапов писал: «Таким образом, в течении 10 лет, когда число семейных дел между лицами привилегированных сословий даже не утроилось, в среде мещан, крестьян и нижних чинов оно увеличилось почти в сто раз (с 18 на 1756)»[541].
Демократизация общественной жизни, смягчение норм социального контроля, утверждение новых ценностей, «новой морали» в пореформенную эпоху требовали существенного пересмотра норм гражданского права, регулировавших брачно-семейные отношения.
Даже после ликвидации Третьего отделения (15 ноября 1880 г.) М. Т. Лорис-Меликов считал необходимым совсем не прекращать производство дел, ранее рассматривавшихся в тайной полиции. Ибо такие дела возникают особенно часто «в низшем классе населения, где власть мужа представляется еще в самой грубой форме»[542]. По-прежнему весьма актуальной и в то же время сложно выполнимой была задача устранения при помощи закона противоречий «обусловленных, с одной стороны, необходимостью охранить авторитет супружеской и родительской власти, а с другой — весьма естественным стремлением оградить личность неполноправных членов семьи от резких проявлений произвола и самовластия»[543]. Любопытно, что, по мнению М. Т. Лорис-Меликова, главной причиной косности семейного права являлось утверждавшееся веками «исключительно религиозное значение православного брака и православной семьи», игнорировавшее «приниженное положение личности в этих союзах»[544]. Видимо, не случайно семейное право молодого Советского государства основывалось на принципах атеизма и свободы выбора.
Глава 4. Герой-любовник Н. Н. Телепнев и его жертвы
10 октября 1855 г. в Москве в Мясницкой части в доме купчихи Кобелевой произошел сильный взрыв. В полицейском рапорте сообщалось: «Вышибло рамы, двери, перебило зеркала, переломало находящуюся в зале мебель, под ящиком пол совершенно проломился, а стены комнаты и потолок избило как бы железом. Все лица бывшие в комнате в числе 8 человек более или менее переранены»[545].
Это происшествие приковало к себе внимание московских властей и руководства политической полиции. Специально созданная следственная комиссия довольно быстро вышла на след злоумышленника, выяснила все обстоятельства покушения, о результатах расследования было доложено императору[546]. По прошествии времени помимо выяснения фактических обстоятельств дела интерес представляют бытовые детали происшествия, позволяющие выяснить мотивы, установить причинно-следственные связи поведения, приведшего к столь необычной развязке конфликта. Взрыв в московском особняке, немедленные следственные действия позволили проникнуть во внутренний мир лиц, оказавшихся так или иначе причастных к этому событию. Полиция вынуждена была изъять личную корреспонденцию, вести многочисленные допросы, интересоваться деталями частной жизни[547].
Первые сведения о случившемся происшествии находим в донесении начальника 2-го округа корпуса жандармов генерал-лейтенанта С. В. Перфильева к шефу жандармов графу А. Ф. Орлову (21 октября 1855 г.). Жандармский генерал докладывал, что проживающий в указанном доме калужский помещик, отставной коллежский регистратор Иван Андреевич Чернов, получил 10 октября посылку весом в 4 пуда, но «удивленный ей не решился вскрыть ее сам, а о получении оной объявил местному квартальному надзирателю Джежелею и просил его присутствовать при вскрытии»[548]. Специальная комиссия в составе названного квартального надзирателя, добросовестного свидетеля мещанина Н. Хватова, вольнонаемного писаря мещанина А. Саловкина и рядского старосты А. Келлера обнаружила «посередине зала стоявший ящик около 1½ аршина длиною и в 1 аршин вышины, кругом обшитый и запечатанный. По снятии с ящика крышки в нем оказался другой, а в том третий ольховый полированный под красное дерево, с надписью на околе с документами, и тут же найден ключ, особо завернутый, с надписью „отпереть ящик самому Чернову“»[549].
Последующие действия и вызвали тот самый взрыв, от которого «в оконных рамах залы, прихожей, в дверях гостиных выбиты стекла, из залы в коридор вышибена дверь, в зале изломана мебель, разбило орган и причинены повреждения штукатурке»[550]. Серьезные повреждения получили почти все участники осмотра: квартальный надзиратель был «в бесчувственном состоянии с весьма израненным лицом и руками», Хватову обожгло все тело и раздробило на ноге кость, от полученных ран он вскоре скончался. Следователи сразу обратили внимание на то, что «менее же других ранен сам Чернов»[551]. У него на лице оказалось только несколько незначительных ссадин.
Естественно, что первые вопросы были обращены к Чернову. Свою осторожность он объяснил тем, что в сопроводительной записке, с которой был привезен ящик, от имени некой Марии Жуковой сообщалось, что в нем находятся важные бумаги, ящик же весил 4 пуда. Эта дама Чернову была неизвестна. Следователям он указал вероятное направление поиска, сообщив, что «в Санкт-Петербурге живет жена его, которая ведет жизнь предосудительную для женщины, а потому можно предполагать, не была ли посылка эта прислана Чернову его женою, или кем-либо из лиц, с которыми она имеет порочную связь»[552].
Как видно из черновика письма к С. В. Перфильеву от управляющего Третьим отделением Л. В. Дубельта, розыску по этому делу была придана особая важность и предписано, чтобы «следствие это проведено было наистрожайшим образом и безостановочно, и чтобы употреблены были всевозможные старания к непременному отысканию виновных»[553]. Такое предписание — не обычная формальность. О характере тревожных ожиданий властей свидетельствует разговор графа Ф. В. Ридигера с Л. В. Дубельтом, зафиксированный в дневнике последнего 31 октября 1855 г. Гвардейский генерал убеждал жандармского в том, что после смерти Николая I «все эти недоброжелатели в обществе перестали бояться и готовы на все преступное». Особое внимание он призывал обратить на Москву, где «адская машина в действии против Чернова» воспринималась им как подтверждение того, что «все готово к произведению революции!»[554].
Немедленно была создана комиссия под председательством состоящего при московском генерал-губернаторе гвардейского полковника Замятнина. Ему в помощь были определены подполковник корпуса жандармов Воейков, частный пристав Цвиленев и следственных дел стряпчий Дружинин[555].
Комиссия развернула бурную деятельность. Сначала попытались выяснить маршрут движения злополучного ящика. Было установлено, что «посылку ту 9 октября часу в 12-м утра привез на биржевом извозчике в гостиницу Пуаро неизвестный человек, который нанял в той гостинице № 3, для какой-то барыни, и, дав в задаток 1 руб. сер., оставил посылку в сенях гостиницы и сам ушел, а потом вскоре возвратился обратно, приведя с собой со станции железной дороги сторожа унтер-офицера Дементьева, с которым на другом нанятом извозчике отправил посылку вместе с письмом по адресу в квартиру Чернова, а сам неизвестно куда скрылся»[556]. На этом след обрывался.
Параллельно «собрав по возможности все остатки этого ящика, а равно обломки медных и других вещей», комиссия привлекла для изучения материалов мастеров, «вытребованных от ремесленной управы, кои объявили, что ящик был ольховый, наполированный под красное дерево, длиною 12, шириною 10 и вышиною 5 вершков, медные же вещи признаны кусками обыкновенной кастрюли, спаянной оловом с крышкой, в которую была вставлена медная трубочка, вероятно служившая проводником к находившемуся внутри кастрюли разрывному составу. Кроме того, в числе найденных остатков после взрыва ящика оказались: небольшой, заграничной работы пистолетик и ствол большого пистолета, отрезанный от ружейного ствола; замок заграничный, а курок к нему русский и не мастерской работы; в большом количестве толстые осколки бутылок, в коих предполагать можно, что заключалась воспламеняющаяся жидкость, ибо при взрыве ящика на всех получивших ушибы и обжоги горело платье». «Для химического исследования и определения составных частей разрывного состава» собранные улики были переданы в медицинскую контору[557].
Сам Чернов наиболее вероятным мотивом преступления считал «корысть или личную месть». Следователям он высказал «некоторое подозрение» на жену свою Веру Михайловну и ее родного брата Владимира Суражевского, проживающих в Калужской губернии. Изъятая переписка с женой и ее родными подтверждала «неприязненные отношения между ними и Черновым»[558]. Для выяснения обстоятельств дела на месте в Калугу был отправлен пристав Цвиленев.
Среди изъятых у Чернова бумаг нашли письмо помещицы Анны Сергеевны Шабловской, в котором «упрекают Чернова за отказ в деньгах просимых у него заимообразно и объясняют, что, зная до него касающуюся тайну, от которой зависит вся его жизнь, могли бы быть ему полезны, да не за что, потому что он сильно огорчил»[559]. Таинственные намеки заинтересовали следствие. Чернов мог лишь пояснить, что письмо получил в конце августа — начале сентября, а с госпожой Шабловской познакомился в Москве на маскараде, потом виделся на гулянье, «короткого знакомства с нею не имел». По наведенным справкам выяснилось, что она — калужская помещица. Ее небольшое имение (32 души) из-за просроченных процентных платежей опекунскому совету было назначено к продаже с аукционного торга[560]. Разъяснять тайны письма отправили А. В. Воейкова.
Новые направления для следственных поисков подсказали бдительные граждане. Случайно оказавшаяся на месте происшествия мещанка Анна Власьева сообщила, что слышала, как Чернов «после взрыва упрашивал неизвестную женщину и других лиц, давая им деньги, чтобы они скрыли находившуюся у него молодую женщину Матильду»[561]. Действительно, полицией вскоре была найдена двадцатидвухлетняя девица Елена Матильда Гальен, которая рассказала, что познакомилась с Черновым в Санкт-Петербурге и недавно приехала по его приглашению в Москву для «услуг и хождения за ним по случаю его болезни»[562]. Порицавшему образ жизни своей жены Чернову было кого и что скрывать. Оказалось, что «Чернов действительно болен венерической болезнью, от которой и пользует его доктор Иноземцев»[563]. Поимке преступника выясненные обстоятельства не помогли, но для понимания отношений в семье Чернова были немаловажны.
Не меньший интерес вызвали переданные следователям письма. В первом доктор Я. Ионсон, редактор немецкого журнала Вольного экономического общества, сообщал, что, узнав о происшествии в доме Чернова, вспомнил, что «им было получено письмо от неизвестного ему человека Ивана Суслова, со вложенным в оной в незапечатанном куверте другим письмом, адресованным на имя г. Чернова в Москву, каковое он, Ионсон, запечатав своею печатью и отправил по адресу»[564].
Заинтересовавшись этой линией, следователи установили, что в том письме некий И. Суслов ссылался на то, что в московской гостинице познакомился с родным братом Ионсона, орловским аптекарем, и по его рекомендации обратился к доктору Я. Ионсону с деликатной просьбой переслать письмо, «ибо в бытность в Петербурге забыл отослать это письмо и как коммерческий человек не желает навлечь на себя нарекание в неаккуратности». Подозрения Я. Ионсона еще больше усилились, когда он получил ответ своего брата, что он никакого Суслова не знает[565]. Позже упомянутое письмо было найдено. Оно было без подписи, в нем «ломаным русским языком, как выражаются иностранцы», сообщалось, что отправитель «выполнил поручение Чернова и отправил ему настоящий берлинский пульфер, английский пистон, гремучее серебро и прочее» и просил прислать деньги за купленные материалы. Следственная комиссия нашла, что это письмо с перечнем взрывчатых веществ и приспособлений для их детонации «обнаруживает один отвод, или намерение запутать более происшествие и скрыть настоящие следы оного, направив разыскание в Петербург»[566].
Другое известие из Москвы носило характер классического доноса. В ноябре 1855 г. служивший в Московском губернском правлении коллежский регистратор Василий Некрасов, узнав о взрыве[567], «при содействии прусской подданной Шпринфельдт сделал секретный об этом розыск, и вследствие сего подозрение пало на отставного поручика Карцева, живущего с бывшей содержательницею девок вольного обращения Марьею Фандерзе, у которой однажды вырвался укорительный, обращенный к Карцеву намек по означенному предмету — „если бы она захотела, то Карцев был бы в Сибири“[568]. Для придания доносу большей основательности Некрасов озвучил патриотический мотив, подчеркнув, что „знакомство у Карцева самое подозрительное, что из слов его видно, что он не слишком любит и уважает русских“. Через какое-то время он еще вспомнил, что Карцев „перед случившимся, откуда-то имел несколько тысяч рублей и употребил их в самоскорейшее время совсем не на надлежащее дело, именно: промотал их нетрезвым образом“[569].
16 ноября у Фандерзе был проведен обыск. „Ее нашли в весьма нетрезвом виде, пирующею с Карцевым. При обыске никаких бумаг и писем не оказалось, — докладывали полицейские чины. — Ипполит Карцев объяснил, что он в связи с Фандерзе около четырех лет, а подвергся обыску, вероятно, по доносу жены или свояченицы. Он 22 августа сего года женился на вдове Фелиции Ивановне по первому мужу Курганиновой, помещице Курской губернии, 45 лет от роду, имеющей 5 человек детей, с которой он через 7 часов после женитьбы разъехался по семейным неудовольствиям“. Комиссия признала, что „Карцев ведет жизнь предосудительную“, но по делу Чернова „никакого подозрения нет“[570]. Ситуация оказалась достаточно типичной: добросовестный доноситель вводил следствие в заблуждение, уводя в сторону от реального разоблачения.
Примерно в это же время пришли известия от находившегося в Калужской губернии под видом купца частного пристава Цвиленева. Он нашел местных мастеров-умельцев: у одного из них брат Черновой, отставной офицер корпуса инженеров путей сообщения В. Суражевский, заказал „ящик ольхового дерева для дорожной тележки“, другому — отдавал „пистолетный ствол для приделки курка“[571]. Обратил он внимание и на то обстоятельство, что Владимир Суражевский часто приезжал верхом на лошади из своей деревни в имение Грабцево к Черновой (расстояние более 60 верст). По его мнению, „поездки делаемые весьма часто из одного места в другое, совершались с большой торопливостью и замешательством, что навлекает подозрения“[572].
По мнению полицейского, жену Чернова „по соображениям обстоятельств, не совсем можно подозревать в соучастии по злодеянию, но, по-видимому, ей небезизвестно, кем совершено оное“[573]. Правда, Цвиленева, отправившегося в ее имение якобы для покупки хлеба, смутило то обстоятельство, что на половине пути он встретил Чернову, „едущую в Калугу без человека и девки с одним лишь кучером“[574]. Такая упрощенная форма передвижения состоятельной замужней женщины бросалась в глаза и вызывала недоумение.
Поездка Воейкова оказалась более удачной для дела следствия. Нагрянув в имение к Шабловской, он отобрал переписку, „бывшую в ее шкатулке“. В числе подозрительных депеш оказалось письмо от провизора Таганской аптеки Ф. Гекена, в котором тот убеждал „согласиться на деланные им ей предложения“, обещая, что тогда она „поедет из Москвы в великолепном экипаже“. Таинственные пассажи найденных писем дали основание для ареста Шабловской. Она была доставлена в Москву, где „сделала сознание“[575]. Госпожа Шабловская указала на некую С. Лукович, польку из дворян, сделавшую ей предложение „зазвать Чернова в гости, напоить его допьяна, подсыпать усыпительного порошка и в это время воспользоваться его билетами сохранной казны, которые он по привычке всегда имеет при себе“[576]. За помощь та обещала 7 тыс. руб. Шабловская утверждала, что отвергла сомнительное предложение и даже хотела предупредить Чернова об опасности. Не советовал доверять Лукович и Гекен. В том письме он называл ее „запазучной змеей“ и предостерегал верить „этой ветреной Венере“[577].
Немедленно была найдена и арестована Лукович. У нее был сделан обыск, и „вся переписка ее захвачена“. Полька созналась в плане „обобрать Чернова, нисколько не покушаясь на его жизнь“, и указала, что главным инициатором плана и действующим лицом был помещик Орловской губернии Телепнев. За ним был немедленно отправлен частный пристав.
Допрашивая Лукович, полиция установила, что ей 31 год, в Москве находится более восьми лет, „сначала жила в компаньонках, потом снискивала себе пропитание рукоделием и, наконец, была на содержании у одного купца, имея с ним любовную связь“, а со смертью его „содержит себя сбереженными деньгами, отдавая их за проценты взаймы“[578]. По ее словам, именно Телепнев предложил „нанять в Сокольниках дачу, поместить на оной девиц вольного обращения, заманить туда Чернова, которого страсть к женскому полу была ей известна, устроить пир, напоить его допьяна, всыпать ему в вино усыпительный порошок и, когда уснет, взять билеты сохранной казны“[579].
Естественно, Лукович изображала из себя жертву. По ее словам, именно Телепнев, „чтобы завлечь Лукович к исполнению его плана и взять у нее денег, он, смеясь, сказал, что тысяч на сто билетов Чернова можно оставить у себя, тогда она будет богата, и он может на ней жениться“[580]. Не поддаваясь чарам искусителя, она якобы советовалась с Шабловской, не стоит ли донести о нем правительству, но та предложила „обождать и вызвать к себе Чернова“.
18 декабря тридцатитрехлетний отставной штаб-ротмистр Николай Николаевич Телепнев был привезен в Москву, 19 декабря допрошен следственной комиссией. 20 декабря Телепнев сознался.
Свои показания он давал следственной комиссии в присутствии московского обер-полицмейстера, „по увещании священника и при тщательных убеждениях Комиссии к показанию истины“. В деле зафиксировано: Николай Телепнев, „придя в чистосердечное раскаяние, сознался и объяснил“, что „машина, которая 9-го октября была привезена в квартиру коллежского регистратора Ивана Андреева Чернова, была сделана по моему плану, для отсылки главнокомандующему в Крыму войсками кн. Горчакову, как модель, чтобы он мог употребить другие в большем размере против неприятеля“[581].
Далее следовало детальное описание изготовленной машины: „Сначала был сделан ящик, с перегородкою, и вложен в деревянную шкатулку; в ней утверждена скамеечка, на ней поставлена запаянная медная кастрюлька, для помещения в нее пороху, к кастрюльке проведены два пистолета дулами, а замками к одной стороне наружного ящика, и когда в кастрюльку был бы насыпан порох и заряжены пистолеты, то при выдвигании крыши наружного ящика, взведенные курки пистолетов должны были произвести выстрел и воспламенить порох, долженствовавший быть в кастрюльке, и потом взрыв всей машины“[582]. Своим следователям Телепнев пообещал позже описать подробнее устройство машины и даже сделать ее модель, видимо искренно считая себя автором полезного изобретения.
Как видно из его дальнейших показаний, патриотический порыв вскоре остыл, и для борьбы с врагом приспособление не было использовано. „Когда машина была совершенно устроена, то она находилась долгое время без заряда, потому что отсылать ее к кн. Горчакову мне показалось дорого и бесполезно, так как я не был уверен, что она будет принята для желаемого мною употребления, подобно тому, как прежде посылаемые мною к разным должностным лицам проэкты и изобретения оставались без внимания“[583], — продолжал Н. Телепнев. Свои дальнейшие шаги он объяснял мотивами морального свойства: „Почему не зная, что делать с упомянутою машиною и не находя лучшего употребления для нее как послать ее к дворянину Чернову, известному мне по слухам с самой дурной стороны“[584].
Приступая к детальному описанию содеянного, Телепнев в правдивых мелочах прячет большую ложь: „Я насыпал в кастрюльку полтора фунта пороху, заместив остальное пространство внутренности оной древесными опилками, зарядил пистолеты, поставил машину в новый ящик и приказал бывшему у меня в услужении дворовому человеку родителя моего Гавриле Герасимову Ларину отвезти этот ящик в гостиницу Пуаре с тем, чтобы оный оттуда чрез сторожа железной дороги был отправлен к Чернову под тем предлогом, что к нему означенный ящик прислан из Санкт-Петербурга, а для большего удостоверения в этом приклеил печатный ярлык от станции Санкт-Петербургской до Московской, снятый им от чемодана своего, который был посылаем по железной дороге при поездке моей из Санкт-Петербурга в Москву“[585]. Первая ложь заключалась в умолчании о набитом в ящик стекле, травмировавшем понятых при взрыве (в первом рапорте зафиксировано, что „найдены осколки бутылки весьма толстого стекла“[586]).
Дальше Телепнев продолжал лгать, пытаясь смягчить свою вину и скрыть мотивы проступка: „Цель посылки машины к Чернову была та, чтобы взрывом оной испугать его и может быть легко ранить, — но убить Чернова, а тем более кого-нибудь другого из окружающих его я не имел ни малейшего помысла, доказательством этого служит то, что машина была сделана для помещения пяти с половиною фунтов пороху, а я всыпал в нее оного только полтора фунта — и то, что я с Черновым не только неприятностей, но и знакомства не имел, никогда его не видал и кто его окружает, не знал, — следовательно, убить его, Чернова, или кого-нибудь из живущих при нем мне не было никакого побуждения и цели и никто из родных Чернова и посторонних меня к этому не подкупал и не подговаривал“[587]. Телепнев очень скоро откажется от своих „чистосердечных“ признаний. Пока же он только назвал тех, кто помогал ему отправлять посылку (дворовый человек Г. Ларин, столяр Михайло, писарь И. Мягков).
Жандармский штаб-офицер Воейков, слышавший эти признания, полагал, что „показание это не заслуживает вполне доверия“, что Телепнев „скрывает главную побудительную причину, старается своим сознанием оградить от ответственности соучастников сего замысла и затмить истину“[588].
Воейков был вновь командирован для допроса и задержания Г. Ларина. Слуга Телепнева, двадцатилетний парень, оказался довольно разговорчив и сообщил следователю, что „главное лицо — жена Чернова, с которой Телепнев знаком с 1853 г.“[589]. Для свидания с ней он три раза ездил в Калугу и был в Грабцове, она приезжала в город из своего имения для свидания с Телепневым, а в прошлом году приезжала в Москву и была у Телепнева в квартире. После встречи с Черновой Телепнев посылал Ларина в Петербург, с заданием передать „пузырек с какою-то жидкостью, для того чтобы влить оное в питье Чернову“. Пузырек был отдан камердинеру Чернова В. Афанасьеву, будто бы от жены Чернова. Признался Гаврила Ларин и в том, что помогал в устройстве ящика, набил бутылки, заполнил пустоты ящика ими, „пересыпал опилками и переложил ватою“. Установлено было со слов Ларина, что Телепнев был знаком с орловским аптекарем Ионсоном, чиновник Мягков привлекался им для переписки бумаг, у С. Лукович „бывал в квартире, а также и она к нему приезжала“, знаком был и с французом Шарлевилем[590].
При такой осведомленности следователей Телепневу не имело смысла более упорствовать. По сообщению Перфильева: „Телепнев доведен был до сознания, что он действительно предпринимал различные средства для уничтожения Чернова“[591].
Если сразу после задержания Телепнев был сдержан в показаниях, то после уличения фактами он начал активно „сотрудничать со следствием“ и оговаривать своих знакомых. Он рассказал, что посылал яд для Чернова, „имел намерение заманить [его] в Марьину рощу и убить, и, наконец, придумал послать ему разрывной ящик“. Телепнев признал, что к этому „повлекла любовная связь его с женою Чернова, желавшей освободиться от мужа“. По словам Телепнева, в подготовке убийства будто бы принимал участие отец Черновой (к началу следствия уже умерший). Именно он дал пузырек с ядом. „При объяснении с Черновой Телепнев требовал от нее постоянной любви и 300 тыс. руб. сер., если цель будет достигнута и будто бы ею было дано ему обязательство, что она непременно все исполнит, но впоследствии это обязательство Черновой он, Телепнев, при ней же будто бы уничтожил“[592], — записывали следователи признания преступника. Но своему начальству докладывали, что Телепнев сообщает „разные вымыслы, не имеющие никакого вероятия“, и явно желает скрыть соучастников[593]. Потом Телепнев вспомнил, что „он чрез французского подданного виконта Шарлевиля был подкуплен родными Чернова за 40 тыс. руб. сер.“. Кем именно, не знал точно, так как Шарлевиль говорил, что его дело „деньги, а не имена и что он не уполномочен их называть“[594]. Допрошенный Шарлевиль отрицал какие-либо разговоры и намерения в отношении Чернова.
Тем временем было принято решение об обыске в имении и аресте Веры Михайловны Черновой. Молодая женщина (ей было 25 лет) вместе со своими слугами (кучер А. Овсянкин, горничная Е. Филипьева и дворовый А. Бобылев) была привезена Воейковым в Москву.
Жандармский штаб-офицер собрал попутно сведения и о самом Чернове. Оказалось, что ему 33 года, имеет двух сыновей и дочь (проживавших с женой). Раньше он служил в Калужском дворянском депутатском собрании. Ему принадлежало имение с 843 душами, пустошь в 300 десятин, каменный дом в Калуге и „капиталу до миллиона руб. сер.“. Особо отмечалось, что „имение его по высочайшему повелению взято в опеку за отдачу им крепостного своего человека в военную службу[595], о чем производилось следствие, а сам содержался на гауптвахте, поступок представлен обсуждению калужского дворянства“. Воейков признавал, что следствие на месте было довольно сложно вести, так как распущен „весьма гласно и с намерением слух“, что Чернов из ненависти к своей жене, желая бросить на нее подозрение, устроил сам „разрывной снаряд“, а потому и находился в другой комнате. Кроме того, в губернии „общее весьма сильное нерасположение к Чернову и участие к его жене“[596].
Последующие материалы следствия рисуют интересную картину поведенческих практик холостого мужчины и замужней женщины. Надо признать, что это все-таки не типовое поведение, а действия, вызванные необычными обстоятельствами.
Новые „чистосердечные“ показания Телепнева показывают любопытную модель действия, во многом созданную его воображением и потому кажущуюся наиболее близкой к идеальному, „мечтательному“ для него типу поступков.
На допросе Телепнев пояснил: „Бывши в Калуге, он услыхал, что жена богатого человека Чернова хороша собою и находится в дурных отношениях с мужем, которого с нею нет. Пожелав познакомиться с [Черновой] в видах холостого человека, отправился к ней 23 декабря 1853 г. в село Грабцово“, назвался кн. Кочубеем, объявил о намерении „торговать имение мужа“, разговаривал как об имении мужа, так и посторонних предметах[597]. Далее Телепнев касался интимных подробностей своего следующего визита: „25 декабря приехавши к Черновой опять вечером и находясь с нею наедине, довел ее до того, что она имела с ним несколько раз любовную связь, а когда он приехал к ней на другой день, она упрекала его за обольщение, говоря, что может сделаться беременною, что узнает об этом муж ее и разведется с нею“[598]. Не желая слушать упреков, Телепнев назвался своим подлинным именем и уехал не простившись.
Затем герой-любовник начинает перечислять четко зафиксировавшиеся в его памяти победы: перед Масленицей 1854 г. в Калуге „помирились и опять имели любовную связь, потом Чернова приходила к нему в номера, и он был у нее в Грабцове и расстался с нею в дружеских отношениях“; в мае 1854 г. он в третий раз ездил в Калугу, чтобы с ней видеться, посылал к ней с запискою, и на другой день она приходила к нему; был в Грабцове „и продолжал любовную связь“[599].
Именно в ответ на его сетования, что „он по стесненным обстоятельствам не может с нею видеться чаще“, Чернова сказала, „что если бы она обладала миллионами своего мужа, то любя Телепнева, удовлетворила бы его желание и спросила, сколько бы ему нужно денег: он отвечал, что желал бы иметь 300 тыс. рублей сер. и ее любовь, и тогда бы вполне был счастлив“. И тогда якобы Чернова обещала, что если бы сделалась вдовою, то не пожалела бы для него этой суммы»[600].
На предложение стреляться с Черновым возразила, что ее муж хорошо стреляет, и не советовала рисковать. Следом к нему пришел неизвестный человек, признавшийся, что он отец Черновой, и обещал «дать на это средства, [сказав] что дочь его любит Телепнева и сделавшись вдовою не пожалеет для него ничего, а любовь ее продолжится к нему навсегда, что у мужа ее 70 миллионов и он скрывает свой капитал»[601]. Полагая, что отец был у него с ведома Черновой, Телепнев согласился взять пузырек с ядом. Как ему показалось, после совета стряпчего начать процесс с мужем, чтобы обеспечить себя и детей, Чер нова охладела к нему. Правда, через месяц Чернова, возвращаясь в Калугу, приехала в Москву и была у него два раза. По признанию Телепнева: «Хотя он имел с нею в это время любовную связь, но заметил, что она не столько дорожила им как прежде, и потому сам сделался равнодушным к исполнению своего плана — убить Чернова»[602].
Игровое, авантюрное, книжное поведение кажется совершенно нереальным на просторах Калужской губернии. Маска таинственного, богатого князя позволяет легко добиться первой победы и соблазнить чужую жену, раскрытая мистификация дополняется любовным увлечением, ведущим к нереальному богатству, переступить через злодеяние должно помочь благословение отца и тайное действие яда. Столь же ирреальными могли быть и фиксируемые, как вехи пути к благополучию, многочисленные «любовные связи».
В поступках Телепнева заметно постоянное ожидание чуда, действия иной, внешней силы, которая обеспечит искомое благоденствие. В своих планах он рассчитывал то на «усыпительный порошок»[603], то на пузырек с кротоновым маслом[604] и, наконец, на разрывной ящик[605]. На этом фоне показательно рационалистическое поведение простолюдина — камердинера И. Чернова В. Афанасьева. Получив через посыльного от В. Черновой пузырек с наговорной водой для подмешивания в чай, он сначала «отказывался взять пузырек, но потом, не желая казаться ослушником перед барынею, принял оный, и как только расстался с тем человеком, разбил данный им пузырек, не веря, чтобы заключавшаяся в нем жидкость могла иметь влияние на согласие между господами»[606].
Допрос 25 января 1856 г. Черновой, выявивший мотивы ее поступков, позволяет выстроить женскую модель поведения. Действительно, Телепнев под именем Кочубея приезжал к ней в имение 23-го, а потом 25 декабря; ознакомился с описью и уехал, «выказавши свой ум и любезность, доказавшие отличное его воспитание», о себе говорил, что служит в Министерстве внутренних дел. Исходя из этого, Чернова встретилась с ним в Калуге у купчихи Конюховой, рассчитывая помочь мужу, находящемуся на гауптвахте, и в деле опеки имения. Узнав о ее несчастной семейной жизни, Кочубей — Телепнев заявил о намерении стреляться[607].
Чернова утверждала, что никогда никаких денег ему не обещала. Напротив, Телепнев «всегда выдавал себя за весьма богатого человека, и в доказательство того, однажды начал было читать ей опись огромного имения, называя оное своим, но она отказалась слушать, говоря, что не имеет никакой надобности знать о его состоянии». Рассказала Чернова и о том, что «в то же свидание у Конюховой он начал диктовать ей записку, что 1854 г. февраля (не помнит, какого числа) я, нижеподписавшаяся, покушалась на жизнь своего мужа. Написавши это, она остановилась и не хотела продолжать записку, потому что в ней писала явную клевету на себя». Тогда Телепнев взял записку и уехал. Приехав на следующий день, он «пытался подарить браслет и просил завершить записку». Она отказалась, «после чего [он] назвался Телепневым и уехал не простясь, когда она вышла в другую комнату»[608].
Странный замысел Кочубея, последующее саморазоблачение и бегство новообретенного Телепнева не смутили молодую женщину. Через какое-то время, по ее собственному признанию, «будучи увлечена умом и любезностью, она хотела продолжать с ним знакомство, а потому и была у него в номере, пробыла там с час, разговаривая с ним о предметах обыкновенных и уехала»[609]. Потом еще «встречалась с ним в гостинице» и вновь «разговаривала о предметах обыкновенных», узнала московский адрес и была в его квартире, затем снова у него в номере и «пробыла с час в обыкновенных разговорах»[610].
Из важных для следствия деталей Чернова указала, что ей Телепнев «показывал пузырек с какой-то жидкостью, называл оную чистительным, говорил, что выписал из Америки за 1000 червонцев» и предлагал послать его мужу. Обратила она внимание и на то, что он «расспрашивал имена отца, матери, родных, адвоката по делу о наследстве и все записывал карандашом»[611].
На прямые вопросы следствия о характере их отношений Чернова заверила: «Противузаконной связи она не только не имела с Телепневым, напротив, он, с первого знакомства с нею до последнего свидания, был так деликатен с нею, что даже не говорил ей обыкновенных светских ласкательств, тем более не упоминал о своих чувствах к ней и не делал ей оскорбительных для замужней женщины предложений»[612]. О планах Телепнева отравить мужа она не донесла, «ибо никто не поверил бы, что ее привязанность к нему чиста и что она не имела с ним противозаконной связи»; все разговоры происходили наедине, и она могла подвергнуться наказанию за ложный донос; люди, окружавшие мужа, ему верны и не могли сделать ничего во вред И. Чернову[613].
Свое необычное поведение Чернова объясняла тем, что «она имела к нему привязанность и увлеклась его умом и ловкостью до свиданий с ним в его квартире»[614]. Замужем она была уже девять лет и от своего мужа терпела разные оскорбления (он бил ее бильярдными киями, заставлял пить вино с подмесью рвотных порошков и проч.). Служанка Екатерина Столярова рассказывала следователям, что муж Черновой как-то, «приехав из Санкт-Петербурга тайком на розвальнях, встретил жену свою с пистолетами и выстрелил в то место около коего она стояла, а потом, после ужина заставлял ее пить вино и избил ее кием до того, что приглашен был священник для ее исповеди; сверх того бивал ее чубуком и заставлял камердинера Василия вязать ее»[615]. При этом, по признанию Черновой, ненависти к нему она не питала, а напротив, всегда видела в нем отца ее детей[616].
Во всяком случае, следователей Чернова пыталась убедить исключительно в платонических отношениях с Телепневым. «Любовной связи не имела и не могла иметь, так как при втором свидании около нее была дочь, при прочих она брала с собой девушку, чтобы она могла служить препятствием, если бы он решился забыться, да и человек его входил к ним при свиданиях в его квартире»[617], — зафиксированы ее слова в материалах следственного дела. Невинный характер встреч подтверждался словами служанки. Во время поездки в гостиницу она сидела в передней и «уверена, что Телепневу с Черновой иметь любовную связь было невозможно, как по тому, что Чернова пробыла у него не долго, и человек Телепнева Гаврило входил к ним в номер, подавая чай, так и потому, что номер от передней, где она была с Гаврилою, отделялся перегородкою, и движение их было бы слишком явно». Е. Столярова вынуждена была признаться, что «при всех свиданиях Черновой и Телепнева она, по женской слабости, подсматривала за ними и никогда любовной связи их не замечала»[618]. Была ли Вера Чернова откровенна? По свидетельству А. И. Соколовой, Чернова демонстрировала на допросах «очень курьезный, чисто театральный образ»: «Она ходила в черном платье с длинным траурным шлейфом, носила на голове фантастическую наколку из черных кружев, и иначе не появлялась в камерах судебных следователей, как с черным бархатным молитвенником в руках, на которых всегда висели длинные черные четки»[619].
Уличаемый в оговоре Телепнев, как бы не желая расставаться с созданным образом удачливого любовника и переживая вновь триумфальные похождения своего героя, продолжал спорить по мелочам. Он утверждал, что не говорил от имени Кочубея, что служит в МВД, а мог лишь сказать, что у него там есть знакомые; пузырек с кротоновым маслом предлагал Черновой для того, чтобы она дала его своему мужу, «если желает подшутить над ним», а заодно проверить, «будет ли она согласна содействовать исполнению задуманного им плана»[620]. Недоумение следователей в том, как он мог без согласия Черновой рассчитывать на получение денег после устранения ее мужа, Телепнев рассеивал, утверждая: «Надежда его на миллион была основана на том, что он при каждом свидании всеми мерами старался испытывать сердце, щедрость, великодушие и любовь Черновой и всегда был твердо уверен в том, что Чернова, будучи вдовою, по необыкновенной любви и доверчивости к нему дала бы ему более 300 тыс. руб. сер. лишь бы имела их в своих руках»[621].
Телепнев заявил следственной комиссии, что саму идею использовать созданную им машину для убийства Чернова ему подсказал французский подданный Николай Вуавре де Шарлевиль. Трудно судить, чем досадил за полтора года их знакомства молодой мужчина Телепневу, но последний насочинял подробный план своеобразного заговора иностранцев против богатых мужей русских барынь.
По словам Телепнева: «Шарлевиль не раз говорил ему, будто иностранцу, несчастному как он, нельзя в Москве выгодно жениться, иначе как бросивши много денег или уничтожая богатых мужей, что гораздо проще и безубыточнее, и так как он только теперь понял истинный смысл этого обстоятельства, после долгого анализа духа, нрава и обычаев москвитян, то не замедлил бы энергически заняться этим делом с свойственной ему ловкостью и вкрадчивостью, если бы зрелые плоды долгих его размышлений не были предупреждены скорой высылкою его из России, к этому Шарлевиль прибавил, что если бы он, Телепнев, познакомил бы его с госпожою Тиличеевою, жившею тогда порознь со своим мужем, то она давно уже была бы вдовою; или если бы оставили его на два месяца в Москве, то он мог бы составить самую блестящую партию, обладать большим богатством, выстроить на Театральной площади дом с теплыми прачечными и прочее; что для этого купил бы у него, Телепнева, модель за значительные деньги; подкрасил бы волосы в рыжий цвет и сам бы подсунул ящик, как будто присланный с ним из Петербурга к мужу помянутой богачки, а ему, Телепневу, сказал бы, что покупает модель для того, чтобы выдать ее за свое изобретение»[622].
Сочинив новый авантюрный роман, Телепнев утверждал, что «эти обольстительные слова были единственною причиною, решившею его отослать машину к Чернову. Без Шарлевиля эта мысль никогда не запала бы ему в голову, так как с Черновою он уже не виделся более года и сам собирался жениться на вдове Зыбиной и прежнего намерения против Чернова вовсе не имел, ограничившись только некоторыми слабыми попытками через Лукович и, наконец, ей же объявил, что вовсе оставляет свое предприятие как несбыточное по своей беззаконности»[623]. В новой истории герой-праведник становился жертвою коварного француза. Правда, погружаясь в новый образ, Телепнев признавал, что все-таки предпринимал «некоторые слабые попытки» против Чернова. Голословные утверждения заключенного были признаны оговором в отношении Шарлевиля, и он к ответственности не привлекался.
Что же это за демоническая личность, маскирующая свои преступные замыслы сочиненными, ложными признательными записками увлеченной им дамы; выставляющая напоказ в предосудительном свете личные доверительные отношения с женщиной, оговаривающая в противозаконных намерениях едва знакомого человека; тщательно готовящая взрыв большой разрушительной силы? Кто же такой Николай Телепнев?
Как только Н. Телепнев был арестован, выяснилось, что этот человек хорошо знаком тайной полиции. Причем внимание он привлек именно своими неординарными поступками.
Триумфальные выступления в России австрийской балерины Ф. Эльслер в 1848–1851 гг. вызывали восторженную реакцию столичной театральной прессы. Излияния восторга зачастую превышали пределы разумного[624].
В этой атмосфере всеобщего обожания балерины наш герой выпускает брошюру «Критический взгляд на г-жу Эльслер, наскоро набросанный Николаем Телепневым». «С некоторыми умственными способностями, опираясь на знание и пособия искусства, человек и в солнце видит пятна: я, основываясь на этом убеждении и, как дансоман, беру на себя смелость сделать легенький критический анализ нашей знаменитой посетительницы»[625], — начал он повествование. Далее новоявленный критик, пародируя восторженные отзывы печати, издевался над балериной. Одно за другим следуют неуместные напоминания о возрасте: «На сцене г-жа Эльслер кажется годами восьмью моложе настоящих ее тридцати шести лет»; замечания о внешнем виде: «Я твердо уверен, что кроме ненатурального цвета лица, необходимо принятого для сцены […] у г. Эльслер нет решительно ничего поддельного»; излишне натуралистические акценты: «Взгляните на грудь и весь бюст г. Эльслер — это верх идеального совершенства и упоительной грации!» и вывод знатока искусства: «В г-же Эльслер мы не видим никакого таланта, это унизило бы ее достоинства!»[626]
В книжке упомянут случай, когда «по ошибке нумера в адресе моего приезжего знакомого» автору случилось «нечаянно зайти к славной артистке в десять часов утра»[627]. Надо полагать, что назойливому поклоннику были не очень рады. Можно предположить, что изгнание визитера дало ему повод для последовавшего затем печатного мщения актрисе.
3 марта 1849 г. танцовщица Ф. Эльслер подала жалобу на Телепнева, «который всюду ее преследует», и просила защиты. Судя по сохранившейся записке Л. В. Дубельта, главная обида балерины состояла в том, что в напечатанной брошюре достоинства Ф. Эльслер восхвалялись «самыми пышными выражениями», но «эти похвалы так преувеличены, что она считает их за ядовитую критику»[628].
Прежде всего в Третьем отделении заинтересовались личностью балетомана. Из формулярного списка, запрошенного из Военного министерства, выяснилось, что Николаю Телепневу 31 год. В службу он вступил в 1836 г. юнкером в Чугуевский уланский полк. В 1838 г. был произведен в офицеры. С 1840 по 1843 г. служил в Кирасирском ее императорского высочества цесаревны полку. В апреле 1843 г. уволен из поручиков по домашним обстоятельствам с производством в чин штаб-ротмистра[629]. В личной беседе в Третьем отделении Телепнев объяснял свою отставку задетым самолюбием, так как вместо него ординарцем к императору назначили другого офицера[630]. Тогда же он объяснил свое длительное нахождение в Санкт-Петербурге (с 1847 г.) тем, что прибыл в столицу для представления принцу П. Ольденбургскому и графу П. А. Клейнмихелю «своих механических изобретений»[631].
О дальнейшем сообщают документы политической полиции: Телепнев «известен Третьему отделению еще по жалобе на него в 1849 году танцовщицы Фанни Эльслер, которую преследовал оскорбительными для нее насмешками и напечатал насчет ее таланта брошюру, которую она приняла за личную обиду и просила защиты со стороны правительства, вследствие чего г. Телепневу было сделано внушение, дабы в поступках своих соблюдал скромность»[632]. После этой беседы он «дал честное слово не встречаться с нею и действительно исполнил это, выехав в Орел»[633].
Вскоре Н. Телепнев напомнил о себе. В Комиссию прошений поступила его «всеподданнейшая» просьба от 7 мая 1849 г. Из этого ведомства она была направлена в Третье отделение для доклада императору.
Отставной штаб-ротмистр Телепнев просил государя «о дозволении […] действовать за границею в качестве тайного Русского политического волонтера, без инструкции, но с обязательством непременно оказать ощутительную услугу государству»[634]. Для этой миссии ему необходим был «полугодовой заграничный почпорт, куда укажет надобность и, для большего удобства, под предлогом излечения болезни и под немецкой фамилией»[635]. Кроме того, для помощи в задуманном действе, он просил «даровать» ему в сотрудники чиновника Министерства иностранных дел: «Сметливого, осторожного в словах, знающего основательно язык французский и немецкий, при этом в таком чине, который не мешал бы ему быть моим товарищем с запасом тысяч десяти руб. серебром и хорошим почерком для переписки секретных донесений»[636].
При успешном выполнении плана Телепнев «ручался только за то, что, частным образом […] буду уметь тронуть некоторые пружины Франции и завязать сильную борьбу между нею и Англиею, а между прочим сниму голову Дембинского[637] и привезу ее на родину, или положу и свою там же, рядом с головою этого врага России»[638].
Весь этот авантюрный план был доложен императору, находившемуся в Варшаве. Через главного начальника Третьего отделения было объявлено высочайшее повеление: «Поблагодарить за добрые его намерения, но при открытии военных действий и другим обстоятельствам предложения Телепнева не могут быть приняты»[639].
В данном повелении любопытно не только признание «добрым намерением» обещания лишить головы деятеля польской эмиграции, но и серьезность отношения Николая I к патриотическому порыву отставного военного. Безрассудно-наивная готовность к героическому подвигу была альтернативой рутинной военной службе[640] или унылому заточению в поместье отца.
Отказ не остановил прожектера. В сложных внешнеполитических условиях он вновь обратился к государю, теперь Телепнев просил «назначить его в Действующую армию и дать ему хотя бы 10 казаков для партизанской войны, обещая впоследствии сформировать отряд даже из мятежных жителей, а если обстоятельства войны потребуют, то собрать ополчение из Русских охотников»[641].
Новый отказ заставил его искать личные интриги противников. «Видимо, причина чье-то злонамеренное на меня донесение», — писал он 24 августа 1849 г. Л. В. Дубельту, которого и подозревал в противодействии. Управляющий Третьим отделением, видимо, был удивлен таким домыслом. «Чем же я виноват, если не приняли? Хорош должен быть!»[642] — написал он карандашом на письме отставного офицера.
Письменные рассуждения Телепнева, отчаявшегося в своих попытках занять себя и принести действенную пользу государству, показательны и в какой-то степени поясняют его последующие поступки.
Он признавался Л. В. Дубельту: «С горя простой народ пьет, а я пустился на отчаянное волокитство»[643]. Апеллируя к случаю с «милой, доброй Эльснер», он просил «не обращать никакого внимания на те слова сумасбродной фантазии, которым, по оригинальной системе моего волокитства — я нередко пишу дамам без оскорбления их личного самолюбия, а когда оне жалуются, то это не иначе как по приказанию тех из моих соперников, от которых они зависят по прежним, непредусмотрительным залогам постоянной верности»[644].
Это виртуальное общение было сублимацией сексуального влечения одинокого офицера, выдумывавшего себе женский круговорот и славные победы: «Способ моего странного волокитства я употребляю, чтобы сократить время необходимое для достижения цели, и нередко способ этот приносит мне прекрасные плоды любви, а горячечный бред мой, изливаемый на бумагу (дамам), несколько не мешает Вашему Превосходительству быть твердо уверенным, что на самом деле я никогда не делал и не сделаю ничего беззаконного»[645].
О невинности своих не столько поступков, сколько слов он и предупреждал управляющего Третьим отделением, предвосхищая обращения к стражу нравственности, утомленному приставаниями особ: «За всякое слово неправды пред Вашим Превосходительством, я буду отвечать моею честию и головою, так же как и за то, что каждое слово, адресованное мною дамам: совершенная ложь, химера, бред воображения, поэтические цветы бурной, необузданной фантазии, но не писать им писем галиматьи — с моею пылкостию и слепою влюбчивостью я воздержаться не могу»[646].
Его личная неустроенность провоцировала, как было показано выше, не только безобидный любовный флирт и эротические фантазии, но и криминальные действия.
В июне 1852 г. вновь Телепнев обратился в Третье отделение, на этот раз надеясь найти защиту от своих родственников. Он жаловался, что «зять его, сын Орловского прокурора Маслова равно и сам Маслов, стремятся всеми силами и путями расстроить его с отцом, ослабевшим в рассудке от паралича, дабы похитить значительное его законное дедовское наследство, состоящее из 1500 душ крестьян и 14 тыс. десятин земли». Телепнев просил «предписать секретно орловскому жандармскому штаб-офицеру следить за поступками тех людей, которые стремятся всевозможными пронырствами поссорить его с отцом, для того чтобы он лишил его наследства, передал оное им»[647].
Управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт обратился к орловскому губернатору Крузенштерну с изложением обстоятельств дела. Аналогичное поручение разобраться дано было и местному жандармскому штаб-офицеру. В конце июля 1852 г. подполковник Слезкин сообщал начальнику 2-го округа корпуса жандармов генерал-лейтенанту Перфильеву, что помещик Н. В. Телепнев известен «по дурной деспотической жизни в своем семействе». Однако «при всем желании познакомиться с г. Телепневым, чтобы убедиться, в какой мере справедливы общие неблагоприятные о нем слухи — это оказалось невозможным, по той причине, что он, с давнего времени удаляясь от общества, ведет жизнь совершенно уединенную»[648]. В конце рапорта Слезкин прибавил, что им получено секретное письменное сведение о безнравственной жизни г. Телепнева.
По линии гражданских властей в октябре 1852 г. поступила информация от мценского предводителя дворянства Александра Минха. Ответ был очень осторожным. Признавалось, что образ управления крестьянами «не подпадая собственно укору в нарушении помещичьей власти не может быть назван и благонамеренным». В отношении же развратного образа жизни отмечалось, что есть подобные слухи, но если подобные действия «и совершались им, то в тесном только семейном кругу или между преданными ему дворовыми людьми, почему поступки те и не могли проявляться в обличительном для него виде»[649]. Деликатность суждений вполне объяснима. По мнению В. И. Сафоновича, у предводителей дворянства главной целью их действий была защита личности и интересов помещиков от жалоб и обвинений: «Они стояли за них горою, несмотря на очевидность дурных дел их, и надобно было долго бороться с предводителями, чтобы убедить их в необходимости предать дворянина следствию и суду. Предводители держались ложного правила, что, будучи выбраны дворянами, они обязаны отстаивать их от нападений администрации, на которую всегда смотрели как на нечто враждебное дворянским интересам»[650].
Губернский жандармский офицер должен был быть свое образным «всевидящим оком» государя. Секретная жандармская инструкция предписывала штаб-офицерам «наблюдать, чтобы спокойствия и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личною властью или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных»[651]. Негласный характер действий облегчал сбор информации. Поэтому записка, представленная Слезкиным, более интересна. Ее неизвестный автор образно, с легкостью суждений и оценок, характерной для жанра анонимного доноса, повествует о семейных тайнах Телепневых.
Первая часть документа обличала Телепнева-помещика. Его крестьяне «разорены до крайности, так что большая часть не имеет пропитания и крестьянские жены ходят просить милостыню, тогда как у помещика их десятки тысяч пудов сгнившей от времени муки и целые хлебные скирды вывозятся в поле в виде удобрения или просто сваливаются в овраги. Около трех сотен душ обоего пола дворовых людей, особо поселенных на полном барском содержании, служат г. Телепневу вроде подкупной пропаганды, распространяющей большею частью ложно-хорошие про Телепнева слухи и ложно-дурные про его семейство, за то с них не взыскивается никакая работа; они подобно волкам среди смиренных овец угнетают крестьян всеми мерами, собирают с них вовсе не следуемое количество подушных денег […] не дают никого доступа к помещику, занимающемуся единственно блудодеяниями, варварским наслаждением в угнетении крестьян и собственного семейства». Сочинитель утверждал: «Телепнев угнетает кре стьян даже не из видов корысти, а потому только, что находит в том наслаждение»[652].
Некогда процветавшее поместье под его управлением приходило в упадок. «Имение он получил от своего отца, от сестры Кирилловой и дяди Гринева имения незаложенные с большим количеством лесов и крестьянами весьма зажиточными». Сам Телепнев «жил почти постоянно в деревне, в уединении, окруженный собственными крепостными развратными девками и бабами». Автор записки считал, что цель его «угнетать и во зло употреблять власть свою везде, где только он может». В доказательство он приводит тот факт, что «приобретя только на 4000 руб. [земли] Телепнев роздал своим крепостным девкам из родового имения до 300 десятин и долгу сделал тысяч на 100 руб. сер., между тем как хлеб гниет в огромном количестве, дворовые грабят крестьян, доведенных до нищеты, жена и дети нуждаются в самых обыкновенных необходимостях»[653].
С хорошим знанием обстоятельств, деталей описывается частная, точнее сказать, интимная жизнь Н. В. Телепнева. При живой законной жене г. Телепнев «имеет формальный гарем в особливо устроенном здании. Из числа наложниц, с которыми Телепнев имеет постоянное беззаконное сожительство суть: бывшая его крепостная, а в последней ревизии показанная вольною Анисья Карзеева, переименованная Уваровою и записанная в купчихи 3-й гильдии, ей отрезано от родового имения 160 дес. земли. У Анисьи от безбрачного сожития с женатым Телепневым 6 человек детей. Ефросинья Елисеева, коей от родового же имения отрезано земли, имеет детей от Телепнева в числе трех. Наконец, Аксинья Николаева недавно в первый раз родила от г. Телепнева, а сожительствует с ним с незаконного возраста»[654].
Если содержание таких гаремов было делом преступным, но часто практикуемым помещиками[655], то обвинения в инцесте придавали особо изуверское звучание нравственной распущенности помещика. По словам автора записки, «одна из наложниц гарема г. Телепнева, именно Аксинья Николаева, сожительствующая с отцом своим с незаконного возраста. Действительно дочь Телепнева, в том может свидетельствовать: а) сама мать Аксиньи; б) Мария Тихоновна Волкова. Ныне жительствующая с дочерью в здании гарема, а лет 6 тому назад Марья была отвезена силою и в цепях на хутор Грачевку за то, что желала взять с собой малолетнюю дочь свою Аксинью и потом настоятельно, но безуспешно требовала этого, понимая замыслы своего барина — прежнего любовника; в) голос целого села, что Аксинья точно дочь Телепнева; г) собственное убеждение». Он пояснял, что Н. В. Телепнев «с колыбельного возраста содержал Аксинью и снабжал ее хорошею одеждою точно так, как поступает […] и теперь с другими малолетними побочными детьми», и — второе, что в то отделение гарема, где помещена Аксинья, он «всегда пробирался украдкой, воображая, что никто его не видит», к другим наложницам «ходил и ходит без всякого стеснения и встреченный ими на крыльце, он при всех днем целуется с ними и, говорят, целует сам у них руки без зазрения совести»[656].
В такой атмосфере семейству Телепневых нелегко было жить. Безымянный автор буквально восклицал: «Поступки Телепнева в отношении своего семейства суть дела вопиющие, о которых и камни не должны умалчивать»[657].
Приводимые примеры убедительно подтверждают тезис о самодурстве помещика. «Добродетельная супруга Телепнева и дочь его круглый год днем не смеют не только пройтиться в сад, но и выйти и походить в зал, а с 9 час. вечера ключник, под названием буфетчика, запирает беззащитные жертвы и с ключами уходит ночевать за полверсты на дворовое поселение, так что если случится пожар или болезнь, требующая немедленного медицинского пособия и духовного напутствования, в обоих случаях должно будет сгореть или умереть без помощи медика и покаяния»[658], — сетовал осведомленный наблюдатель.
Не остался без отцовского внимания и сын Николай: «30-летний сын г. Телепнева штаб-ротмистр Николай Николаевич, по крайней неволе живущий в доме отца своего, еще в более сжатом положении, нежели мать и сестра, разница только в том, что вместо запоров, вероятно полагаемых отцом недостаточными для удержания в заключении мужчины — за сыном смотрят бдительные дневные и ночные караулы под названием дневальных, а ночью дежурных, наряжаемых с тех пор, как сын вышел в отставку. Для должного же успокоения неимоверно ревнивого нрава отца сын никуда не выходит из определенной ему комнаты, не смеет отворить окна, в годовые праздники показываться в церковь и даже говеть, отпрашивается в город, преодолевая множество затруднений, оскорблений и неприятностей от отца своего к исполнению этого священного долга Христинина»[659].
Все свои суждения автор подкреплял фактами, примерами: «В Орле во время выборов и во всякое другое время Телепнев так же, как и дома, не оставляет преследовать и ревновать сына и по ночам сам ездил выспрашивать у коридорных лакеев санкт-петербургской гостиницы, нет ли и не было ли у сына (там остановившегося во время выборов) кого-либо из женского пола. Сын холостой и имеет за 30 лет». «Злонамеренность и коварство» отца не знали границ: «Невзирая на таковую свою ревность г. Телепнев допускает одной грамотной крепостной девке развратного поведения входить после ужина к сыну для шпионства о его намерениях и занятиях, также и для того, чтобы сказали, что и сын имеет любовницу. С шпионкой этой Телепнев почти никогда не говорит, а сведения от нее о сыне своем получает через посредство любовницы своей Анисьи Карзеевой и так у Телепнева до последней мелочи все замаскировано»[660]. Тайные намерения Телепнева-отца анонимным автором были замечены и раскрыты.
Судя по записке, непростой и даже трагичной оказалась судьба двух других сыновей Н. В. Телепнева. Старшему сыну было в то время 45 лет, «служивший с приличною честью в польской кампании, за которую получил саблю за храбрость и на грудь 4 знака отличия в избежание ужаса наводимого неукротимым и придирчивым нравом отца и нестерпимостью затворнической жизни, лишенной самого необходимого моциона и свежего воздуха, [он] удалился в убогую хижину, принадлежащую матери своей за 70 верст […] Не взирая на жестокую свою контузию, полученную в сражении, больной сын в течение 15 лет, ежегодно раза два ездил почтительно молить отца о предоставлении ему приличных способов жизни и даровании средств к излечению своей болезни, но отец […] постоянно отвечал язвительною насмешкою, нестерпимо-неделикатным вымышленным упреком или, наконец, площадными угрозами». «Нищета больного человека заставила Валериана Николаевича сойти с ума»[661], — заключал автор.
Второй сын Федор «собственно за красоту лица своего, нестерпимую для высшей степени азиатски ревнивого и завистливого характера отца, был им без всякой причины жестоко наказан шпицрутенами в манеже и изгнан без пощады из родительского дома». По утверждению автора записки, Ф. Телепнев умер в бедности, получив это известие, его отец «улыбнулся и с самым веселым выражением лица поехал на охоту»[662].
Замужние дочери Телепнева особым сочувствием автора записки не пользовались. Он сетовал, что жена сына орловского прокурора Маслова, получив от отца всего 150 душ крестьян, не имела возможности нормально жить и «сама приезжала продовольствоваться к отцу». Аналогичным было положение и ее сестры, в замужестве Казаковой, любимой дочери отца, получившей 200 душ крестьян[663]. Более того, автор записки особо отмечал, что после того, как Н. В. Телепнев серьезно занемог, именно Казакова, которая отцу «симпатизирует по сходству в зверских душевных качествах» и «подсказывает ему делать зло, на которое он всегда охотно готов» «из видов корысти силится поссорить его со всем семейством, в особенности с сыном, думая этим похитить все сыновнее наследство»[664].
Обилие приведенных в тексте деталей семейной жизни, закрытой для посторонних и тщательно оберегаемой отцом семейства и его шпионами, изложенные в записке опасения за здоровье и имущественный достаток сына Николая позволяют предположить, что автором столь откровенной рукописи был именно Н. Н. Телепнев.
Этот документ не донос в чистом виде. Николай Телепнев защищался. Пока разбиралось его официальное обращение с просьбой защитить от действий семьи Масловых, от имени больного отца поступила жалоба на поведение сына к орловскому военному губернатору. И следом по инстанции к военному министру было отправлено отношение «об определении сына в службу на Кавказ за его предосудительное поведение и непочтительность к отцу и с прибавлением, что Телепнев действительно ведет себя неодобрительно, непочтителен к своему отцу и делает ему нестерпимые неприятности»[665]. Буквально через неделю, 19 декабря 1852 г., из Военного министерства в Третье отделение поступило уведомление о высочайшем повелении, по которому Н. Телепнев определялся рядовым на Кавказ[666].
Казалось, что анонсированный заговор Масловой-Казаковой удался. Но к московскому военному генерал-губернатору графу А. А. Закревскому обратилась 75-летняя мать Н. Н. Телепнева, просившая о помиловании сына, которого муж ее «при престарелых летах и в слабом состоянии рассудка» «безвинно оклеветал». Она же просила о наложении опеки на имения[667]. Отправка была приостановлена, а в Орловскую губернию был направлен для следствия старший адъютант при дежурном генерале главного штаба Огарев.
Представленный им и генералом Перфильевым 17 марта 1853 г. доклад не подтверждал жалобу отца: «Телепнев изобличается в любовной связи с тремя девками, с коими прижил 11 человек детей, в даче им 164 дес. земли, в отпуске на волю до 20 душ людей обоего пола […] в неправильном и резком обвинении им своего сына в пьянстве, буйстве и проч., чего он положительно не доказал и доводов не представил. Сын напротив того в образе жизни и поведения одобрен официально собранными о нем сведениями. Управление старика Телепнева своими крестьянами признано неблагонамеренным. Жену свою уже 30 лет как он вовсе от себя отстранил, учредив оригинальные отношения: жить в одном доме, почти не видеться и 30 лет не говорить и уклонился от очной ставки с нею»[668].
Справедливость восторжествовала. По докладу военного министра князя В. А. Долгорукова 22 мая 1853 г. было объявлено о высочайшем повелении «учредить опеку над имением с высылкою его [Н. В. Телепнева] из имения», «сына его простить»[669].
В материалах разных следственных дел нет упоминаний хотя бы о сомнениях в психическом здоровье Н. Н. Телепнева. В приведенной выше анонимной записке 1852 г. о злодеяниях его отца упоминается, что сын Николай Николаевич «имел уже паралич от такого рода затворнической жизни», и доктор Лоренц писал Н. В. Телепневу: «Здо ровье его в таком положении, что он должен сойти с ума или получить удар» — и предписал ему переменить образ жизни. Отец, правда, отказался отправить сына на Кавказские Воды, сославшись на то, что «денег не имеет и знать ничего не хочет»[670].
Эта косвенное указание позволяет признать, что какие-то проблемы с нервной системой у Телепнева-младшего были, но окружающим его поведение не казалось социально опасным.
Наоборот, 6 ноября 1855 г., почти через месяц после организованного взрыва, Н. Телепнев женился на некоей госпоже Зыбиной, имевшей 10-летнюю дочь[671]. Трудно судить, какие факторы были решающими при устройстве брачного союза — эмоциональные или меркантильные. Рассылая ходатайства о смягчении участи своего супруга, А. Зыбина писала: «Выходивши замуж за Телепнева, исключая его личные достоинства, я имела в виду, что он единственный наследник после смерти отца его 1400 душ и 16 тыс. земли за выделом уже сестрам моего мужа сверх законной части из родового имения»[672]. Сам Н. Н. Телепнев, видимо, рассчитывал на семейную стабильность. До его ареста А. Зыбина успела забеременеть, правда, ребенок не родился. Этот факт упоминался в просьбах о смягчении участи: «От испуга внезапного появления вооруженных жандармов не доносила ребенка и совершенно расстроила здоровье»[673].
Чем же закончилась история о взрыве в московском доме?
На докладе о штаб-ротмистре Н. Н. Телепневе Александр II наложил резолюцию: «Хорош голубчик. Предать его военному суду»[674]. В 10-м номере «Сенатских ведомостей» за январь 1857 г. было опубликовано решение: Телепнева, лишив чинов, дворянского достоинства и всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 10 лет[675]. На пути следования Телепнев был «по неизлечимой болезни оставлен в больнице нижегородского тюремного замка и отдан на попечение жены». Паралич ног не позволил ехать дальше. В Нижнем Новгороде Телепнев оставался «под всегдашним надзором полиции»[676]. Его супруга рассылала ходатайства, безуспешно просила возвратить мужу дворянское достоинство и права на имение или даровать оное родившемуся в 1859 г. сыну[677]. Ее жизненный сценарий, начавшийся браком с завидным женихом Телепневым, не реализовался.
Случившиеся испытания сплотили семью Чернова. Как видно из материалов дела, его супруга ответственности не избежала: «Хотя муж Черновой простил ее, равно и сам Телепнев впоследствии старался ее оправдать, но, тем не менее, по закону, она подлежит наказанию за знание по собственным показаниям о намерении лишить жизни мужа ее и не объявлении об этом, а также за блудную связь» (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных ст. 127, 130, 131, 132). Несмотря на то что в любовной связи с Телепневым она не призналась, но, говоря словами официального документа, «изобличается [в ней] обстоятельствами дела»[678].
Сама Чернова писала по ходу следствия, что «будучи внезапно арестована и провезена без отдыха 160 верст, а затем по прибытии в следственную комиссию встречена страшными угрозами, она в изнеможении и испуге наговорила сама на себя, подтвердив возведенные на нее обвинения»[679]. С разрешения императора до решения дела она была освобождена от тюремного заключения и отдана на попечение мужа и брата.
И Чернов, и его супруга рассылали ходатайства о прощении, отмечая, что в их семье уже пятеро детей, что глава семьи болен и не встает с постели. Из письма В. Черновой к шефу жандармов князю В. А. Долгорукову от 6 января 1860 г. видно, что ее дело рассматривалось в общем собрании московского департамента Сената и решилось таким образом: 14 сенаторов и обер-прокурор «совершенно освободили меня от суда», а 4 сенатора осуждают на 2-годичное тюремное заключение[680]. В конечном счете при рассмотрении дела в Государственном совете в 1861 г. Чернова от ответственности была освобождена, хотя и оставлена «в подозрении в том, что она под влиянием неприязни к своему мужу, с намерением не объявила о умысле Телепнева на его жизнь»[681]. Но ее муж об этом не узнал, он скончался 10 апреля 1860 г.
История почти невероятных похождений Николая Телепнева завершилась печально. В ней удивительно перемешались частная жизнь человека и внутренняя жизнь страны. Об этом «маленьком» человеке узнали два правителя России — Николай I и Александр II. За совершенные поступки первый — благодарил, второй — отдал под суд.
Правительственная пропаганда пробуждала в гражданах патриотизм, проявлявшийся зачастую в нелепо примитивных планах немедленного действия, невостребованность «героического» поведения властью толкала его носителя на выплеск энергии в доступной ему общественной сфере. Не случайно Телепнев сетовал, что многие его проекты и изобретения, посылаемые «к разным должностным лицам […] оставались без внимания»[682].
«Лишний» человек старался реализовать себя в качестве героя авантюрного романа, замысловатого по фабуле, но обязательно завершающегося триумфом победителя. В то время как его обычная жизнь под деспотическим надзором отца, в склочных тяжбах с сестрами не обещала итогового благополучия. Семейной атмосферой он «запрограммирован» был на постоянное самоутверждение. Те, кто оказался на пути этого героя-любовника, стали его нечаянными жертвами, сам же он своими руками разрушил собственную жизнь, не обеспечив себе идиллического финала.
Глава 5. Развлечения горожан: от благопристойности до порока
Правовая база, регламентировавшая публичное поведение россиян в 40–60-х гг. XIX в., была достаточно обширна. В «Уставе о предупреждении и пресечении преступлений»[683] специальный раздел был посвящен недопущению «беспорядков при публичных собраниях, увеселениях и забавах» и «явного соблазна и разврата в поведении»[684]. Россиянам запрещалось без разрешения полиции устраивать как в городе, так и вне его «общенародные игры или забавы и театральные представления» (ст. 194). Если же такое разрешение было получено, то организаторы должны были обеспечить, чтобы в играх, забавах, песнях, представлениях не было «поносительных слов или поступков, нарушающих благопристойность, или наносящих кому-либо вред» (ст. 196). Устанавливалось, как именно надлежит веселиться: «Никто не должен шуметь, кричать, говорить громогласно, прерывать или препятствовать окончанию представления» (ст. 202). Особое внимание уделялось безопасности собравшихся. Запрещалось как на самом месте представления, так и в ста саженях[685] от него «начать ссору, брань, драку, учинить кому-либо придирку или обиду, вынуть из ножен шпагу, употребить огнестрельное оружие, кинуть камень или порох или иное что, чем можно причинить рану, вред и убыток или опасение» (ст. 203). Меры предупреждения и пресечения нарушений порядка в питейных и трактирных заведениях подробно определялись в Уставе питейном и в Положении о трактирных заведениях[686].
«Предохранение от шума и всякой непристойности при публичных зрелищах и маскарадах»[687] было возложено на полицию. Полицейские чины должны были наблюдать, «чтобы благочиние, добронравие, порядок и все предписанное законом для общей и частной пользы было исполнено и сохраняемо», а в случае нарушения установленных правил они были обязаны «приводить каждого, несмотря на лицо, к исполнению предписанного законом»[688].
Третье отделение в сферу деятельности исполнительной полиции не вмешивалось, но через своих агентов внимательно наблюдало как за гуляющими, так и за теми, кто должен обеспечивать на гуляньях порядок. Еще в первые годы правления Александра II шеф жандармов князь В. А. Долгоруков в одном из годовых отчетов, касаясь общего положения дел в стране, отметил необходимость бдительного надзора: «[…] теперь при безнравственности, которая, к прискорбию, позорит род человеческий, самые лютые злодеяния совершаются с непостижимою неожиданностью»[689].
Общественные настроения в первую очередь интересовали политическую полицию. Агенты посещали места скопления горожан, прислушивались к разговорам, запоминали экспрессивные оценки событий. Однообразная по характеру деятельность не всегда давала ощутимые результаты. В ноябре 1858 г. чиновник, составлявший обзор для руководства Третьего отделения, сетовал: «За неимением в настоящее время для разговоров никаких особенных интересных городских приключений и слухов, теперь в семейных кругах и собраниях если не бранят погоду или не выхваляют английского актера Алдриджа[690], то непременно рассуждают о водопроводной кампании»[691].
Помимо фиксации пересудов и настроений, особое внимание обращалось на аномальное поведение, отклонение от общепризнанных норм, обеспечивавших, с точки зрения властей, общественную стабильность. Столпами порядка считались религиозность, уважение к властям (начальству), нравственное поведение, традиционность жизненного уклада, поведение «по чину». Не подменяя полицию исполнительную (Министерство внутренних дел), политическая полиция (Третье отделение) осуществляла функции высшего надзора, вскрывая язвы и указывая на аморальные явления общественной жизни.
На первом месте среди порочных увлечений жителей столицы были азартные игры.
По мнению В. В. Шевцова: «К началу XIX в. карточная игра утвердилась как досуговая норма, наследовавшая из XVIII в. ряд внеигровых значений — связь с высоким социальным статусом и причастность к европеизированной светской культуре, пренебрежительное отношение к деньгам и способам их получения, возможность вольного, праздного времяпрепровождения»[692].
В первые годы существования Третьего отделения внимание было обращено на распространение азартных карточных игр в Москве. Поступавшие доносы послужили основанием для обращения к генерал-губернатору за объяснениями.
В своем ответе кн. Д. В. Голицын пытался доказать вполне благонамеренный характер игры в домах лиц, упомянутых в отношении А. Х. Бенкендорфа. Он писал в Санкт-Петербург, что эта игра «не имеет в себе коварства, ни происков, и есть игра чистая и непринужденная […] А потому всякое преследование со стороны моей сих лиц, известных и принятых в обществе, без всякой к тому побудительной причины, было бы одним явным оскорблением, тем более что в точности обнаружить игру, основанную на честных правилах и непринужденную, трудно и почти невозможно, а не обнаружив преступления, все розыски означали б не иное что, как стеснение личности»[693]. Дворянская честь не допускала оскорбления подозрением.
Однако доносы продолжали поступать в Третье отделение. В феврале 1827 г. сообщалось, что после отъезда из города жандармского полковника И. П. Бибикова «игра картежная со всеми средствами макиавелизма увеличивается в Москве, и многие неопытные и даже отцы семейств делаются ее жертвою»[694].
Вскоре появились и конкретные факты. В апреле 1827 г. начальник 2-го округа корпуса жандармов А. А. Волков докладывал А. Х. Бенкендорфу, что «подпоручик Полторацкий, молодой, прекрасно воспитанный человек, имел нещастную минуту проиграть здесь до 700 тысяч рублей»[695].
5 мая 1927 г. московским генерал-губернатором Д. В. Голицыным было получено отношение, в котором сообщалось о том, что император, узнав о московском происшествии и видя, «что азартные игры в карты в Москве не искореняются, невзирая на многократные запрещения и строгие подтверждения о нетерпимости их»[696], потребовал доложить о принятых мерах. По поручению генерал-губернатора столичной полиции быстро удалось установить обстоятельства случившегося, участников игры и выяснить, что картежный долг маскировался заемными письмами. В результате — вмешательство власти было энергичным. Для того чтобы не допустить разорения семейства С. Д. Полторацкого, над его имением была учреждена опека, продолжавшаяся 9 лет. Два участника обыгрыша поплатились за свое «везение» многолетней административной ссылкой, а еще один игрок был переведен из гвардии в армию с понижением чина.
Несмотря на то что азартные игры были запрещены, они велись с молчаливого согласия представителей власти. Симбирский жандармский штаб-офицер Э. И. Стогов вспоминал, что частенько великодушно разрешал поиграть[697]. В дворянском собрании для этого на всех балах была отдельная комната. В подобных действиях, по мнению жандарма, была определенная польза, так как допускался деликатный контроль за игроками. Однажды 18-летний сын богатых и влиятельных родителей проиграл 30 тыс. руб.; чтобы избежать огласки и шума, Э. И. Стогов попросил деньги вернуть, и «в тот же вечер проиграли ему обратно»[698]. Далеко не всегда ситуация разрешалась примирительно. Погашение карточного долга было делом чести, потому крупный проигрыш мог иметь весьма серьезные последствия.
Проблема становилась серьезной, когда за дело брались карточные шулера, зачастую жившие открыто и на широкую ногу. Для наказания по суду их необходимо было поймать за игрой или получить собственное признание, что было невероятно сложно. Современник вспоминал, как однажды кампания, инициированная против «червонных валетов», или «рыцарей зеленого поля», самим министром внутренних дел Л. А. Перовским, чуть было не увенчалась успехом. Несмотря на запирательство обвиняемых, на основании собранных улик и показаний пострадавших было составлено дело в огромном фолианте, уже подготовленное для рассмотрения в Правительствующем сенате.
«Все однако ж обвиняемые оставлены были на свободе, и наконец, накануне доклада, дело из Сената вытребовано было шефом жандармов, графом Бенкендорфом, „для некоторых соображений“. Оно так и осталось не рассмотренным в судебном порядке. Третье отделение собственной е. и. в. канцелярии вероятно, по почерпнутым из этого дела указаниям, приняло меры к обузданию запрещенной игры»[699], — сообщал О. А. Пржецлавский. В этом суждении, думается, не намек на коррупционный маневр со стороны игроков, а указание на то, что иногда, дабы не допустить судебного оправдания из-за шаткости улик и доказательств, власть использовала меры административного воздействия на обвиняемых.
Хотя, говоря «о мерах к обузданию игры», мемуарист иронизировал, указывая, что это не помешало председателю управы благочиния И. Г. Клевенскому проиграть более 300 тыс. руб. казенных денег[700]. Кроме того, О. А. Пржецлавский отмечал, что «в выигрыше участвовало лицо не то чтобы высокопоставленное, в свое время очень влиятельное и так же, как Клевенский, принадлежавшее, хотя и в высшей сфере, к блюстителям благочиния…»[701]. На мой взгляд, это намек на Л. В. Дубельта.
О деталях «операции» по выявлению и аресту картежных игроков был информирован император. Именно управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт, в отсутствие А. Ф. Орлова, докладывал, что «по частным сведениям ему известно, что после великих усилий д[ействительного] с[татского] с[оветника] Липранди, с[татский] с[оветник] Клевенский сознался в похищении им сумм и объявил при том, что он проиграл ее в банк арестованным лицам»[702]. Об особой важности этого дела свидетельствовала резолюция Николая I на докладе Л. В. Дубельта (7 октября 1847 г.): «За этим делом надо следить, ибо арест полицмейстера столицы[703] и накануне моего приезда, без явных улик в его вине, дело весьма несогласное с порядком службы»[704].
Следствием повышенного внимания стало и необычное решение по этому случаю. Служивший в Сенате К. Н. Лебедев считал, что дело это «решено не юридически», «по шемякински»[705]. Помимо наказания расхитителя средств, было решено взыскать «с игроков, Глинки, Болотнова и Либрехта» по 30 тыс. руб., с Трубачеева — 14 тыс. руб. «и со всех штраф по Уложению», остальную часть средств взыскать с членов управы и с чинов министерства внутренних дел, допустивших хищение. То есть сумма нанесенного ущерба компенсировалась. К. Н. Лебедев писал: «Валовой расчет конечно не имеет законного основания в распределении, и вообще судебной истины тут недостает; но […] решено ладно, и всем сестрам досталось по серьгам»[706].
Карточные вечера проходили и в доме тайного советника А. Г. Политковского, директора канцелярии комитета, высочайше учрежденного в 18-й день августа 1814 г. (так называемый «комитет о раненых»). В столице его называли Лукулл Политковский[707] или Политковский-Монте-Кристо[708]. Весь город говорил о его «валтасаровских пирах». «На этих балах, в покоях на улицу (Литейную) танцовали, а в задних на двор были расставлены столы для обыкновенной игры в маленькую […] Когда же бальное и танцовальное общество удалялось — сцена переменялась и в задних комнатах открывался жестокий бой за карточными столами, уже далеко не в маленькую, а просто в азартную. Тут-то деятели „общества“[709] без милосердия стригли зазванных баранов с золотым руном, угощая их прохладительными яствами и питиями на роме, коньяке и тому подобных крепких напитках, а на заре выпускали их налегке, обстриженных и голых, как сокол»[710], — вспоминал Н. С. Голицын. Публикуя материал о Политковском, редактор «Русской старины» М. И. Семевский сослался на указание «А. Ф. Г.» о том, что «вся тогдашняя власть и сила перебывала на лукулловских пирах Политковского», в числе гостей пиршеств названы: военный министр А. И. Чернышев, санкт-петербургский генерал-губернатор А. А. Кавелин и Л. В. Дубельт[711]. Н. С. Голицын прямо назвал управляющего Третьим отделением «сообщником» Политковского[712].
Объяснения столь расточительной жизни весьма небогатого чиновника казались вполне вероятными. По признанию В. А. Инсарского: «Большинство думало, что тут главную роль играют карты, которые многим доставляют обильные средства, заменяя имения, места и другие правильные статьи»[713]. К тому же чиновник сам поддерживал эту версию получения дохода. «Близким знакомым, а быть может и официально заинтересованным лицам, Политковский рассказывал по секрету, что назад тому более 10 лет он выиграл в карты с лишком миллион рублей у сына известного миллионера Яковлева и что должник его, не имея еще в руках будущего огромного состояния, платит ему по 10 процентов, что и составляло годового дохода более 100 000 р. с.», — свидетельствовал О. А. Пржецлавский.
С его смертью обнаружилась недостача инвалидного капитала на сумму более миллиона ста двадцати тысяч рублей серебром. Естественно, современники задавались вопросом: «Но как понять, что ведомство высшей полиции, которое по своей специальности должно было иметь более проницательности, оставалось безучастным зрителем скандальной расточительности человека, не имеющего никакого состояния?»[714] И вполне логичным ответом казалось негласное покровительство Л. В. Дубельта. О том, что слухи о карточной игре были прикрытием банального казнокрадства, свидетельствовал и сын Л. В. Дубельта Михаил, который «бывал довольно часто» у Политковского и даже играл там в карты, но никогда не видел и не слышал того, о чем рассказывали[715].
По случаю обнаружившейся растраты было проведено следствие. Члены комитета и лица, не обеспечившие должного контроля за поступлением и расходованием средств, предстали перед судом[716].
Упустив из сферы своего внимания такую колоссальную аферу, Третье отделение предложило довольно оригинальный способ возмещения государственного ущерба. По свидетельству Л. В. Дубельта, граф А. Ф. Орлов «подал мысль» И. А. Яковлеву «сделать денежное пожертвование». Мысль эта была материализована в слово, а затем и в дело. Л. В. Дубельт был в дневнике цинично откровенен: «Граф Орлов полагал, что прилично было бы Яковлеву написать к Государю письмо следующего содержания: „В порывах молодости я проиграл Политковскому довольно значительную сумму и заплатил ему оную. Политковский разгласил, что эта сумма дает ему возможность вести такую роскошную жизнь, какую он вел, и, таким образом, я сделался невинною причиною, что его начальники вдались в обман, который не мог бы иметь места, если бы я никогда с Политковским не имел денежных счетов, а потому прошу Ваше Императорское Величество дозволить мне внести в инвалидный капитал миллион рублей серебром…“»[717] Неудивительно, что И.А Яковлев «внял мысли графа Орлова». За это пожертвование И. А. Яковлев был пожалован чином камергера, стал кавалером ордена Святого Владимира 3-й степени и удостоился личной благодарности императора Николая I. Л. В. Дубельт поступок купца определил как «честный, благородный подвиг»[718].
С началом правления Александра II в сводках высшей полиции вновь появилась карточная тема. Весной 1857 г. в столице говорили о «схваченном недавно обществе игроков азартных игр», которые «вели тайную игру по ночам в своем кругу, стараясь не столько обыгрывать друг друга, как привлекать к себе и общипывать приезжих новичков, преимущественно богатых москвичей»[719].
В сводке агентурных донесений за апрель 1857 г. содержался своеобразный аналитический обзор ситуации. Карточная игра уже не воспринималась элитарным увлечением высшего света. Признавалось, что карты с 1855 г. (то есть с началом нового царствования) сильно распространились в простом народе. Традиционно звучало порицание того, что «играют же большею частью в азартные игры и с обманом». Специфика надзора требовала и вполне естественного вывода о политической угрозе: «Сборища эти, состоящие из мелких чиновников, купцов, мещан, служителей и солдат, служат средоточием разврата и вредных толков о распоряжениях правительства, о слабостях высших лиц и об ожидаемых переменах в народном быту»[720]. Ясно, что разврат и вольномыслие с политической подоплекой требовали немедленного вмешательства органов власти.
Переадресовать упреки в неэффективности мер борьбы по ведомственной принадлежности — исполнительной полиции — было недостаточно. Автор цитированной записки обращал внимание своего начальства на то, что «хотя полиция по временам застает врасплох подобные сходбища игроков, но примеры эти очень редки, ибо все меры предосторожности приняты с их стороны с большой ловкостью, и их тревожат только по особенным приказаниям, когда платимая ими дань делается недостаточным ограждением, но и в этих случаях последствия для игроков не очень страшные: азартная игра признается не вполне доказанною, с игроков берется подписка, что вперед того делать не будут»[721].
Агенты предупреждали, что «везде их [игроков] сторожат дворники и они платят подать кому нужно»[722]. При всей многозначительности суждений реальной информации для задержания с поличным игроков не было.
Личности карточных шулеров были хорошо известны полиции. 2 февраля 1863 г. шефу жандармов докладывали: «Сегодня ночью накрыли у Ольшевского по Моховой в доме Слатвинского картежную игру и опечатали 150 колод карт; там застали большое общество игроков. Накрытие производил полицеймейстер Банаш с приставом Постовским и надзирателем Казитским»[723].
В ноябре 1864 г. фамилия В.Е Ольшевского фигурировала в анонимном письме, переданном шефу жандармов. Автор сообщал адрес и указывал, что там еженедельно по пятницам собираются до 50 чел., «расставляют огромный стол и играют в стос. Ольшевский и восемь его товарищей принимают роль банкометов», играют обычно с полуночи до 10 утра. Отмечалось, что полицейские чиновники об этом знают и даже иногда сами участвуют в игре. Доноситель просил «чиновников тайной полиции» явиться «потихоньку в игорную комнату через коридор» в час ночи, добавляя, что «преследование Ваше разбойников принесет великое благодеяние обществу»[724].
В. А. Долгоруков поручил на основании доноса подготовить отношение к санкт-петербургскому обер-полицмейстеру и параллельно запросил у чиновников отделения сведения об известных им игроках. На следующий день, 28 ноября 1864 г. руководителю высшей полиции докладывали имевшуюся информацию о результатах надзора за выявленным карточным притоном: «На Невском проспекте в доме № 53 живет купец Непецин, у которого ежедневно бывает значительная картежная игра, за что он получает в день по 100 руб. от компании банкометов. Главные дольщики в банке у него суть Зарудный, Щедрин, Морозовский, Ольшевский, Никитенко (Федор). Кроме означенных 100 руб. Непецин получает еще 10 % с выигрыша или проигрыша. Компания этих шулеров старается заполучить к себе для игры молодых купеческих сынков и таким образом разоряет не одно семейство»[725].
Особенно важным было указание на то, что «игорный дом этот должен быть известен полиции, ибо в игре принимают участие местный надзиратель полиции Николаев и надзиратель Белозеров, которого на днях агент наш спрашивал, не знает ли он купца Непецина, на что он отозвался незнанием»[726].
Информатором был один из проигравшихся, желавший отомстить содержателям притона. Он рассказал, что расспрос о Непецине вызвал подозрение, и вечером игры не было, «вероятно, вследствие предупреждения г. Белозерова». Сообщил он и любопытные подробности о системе уведомления на случай внезапных проверок полиции: «В квартиру Непецина от швейцара проведен звонок, которым играющие предупреждаются заблаговременно о прибытии какого-либо постороннего лица. По всему видно, что надзиратель Николаев покровительствует игорным домам: у него долгое время в квартале существовало игорное сборище у некоего Лаврова, игрока и сбытчика фальшивого, в настоящее же время у него в квартале живет отставной прапорщик Александр Левицкий, у которого в известные дни бывает игра и в которой деятельное участие принимает г. Николаев, игравший также у Лаврова»[727].
Возмездное покровительство полицейских чинов игрокам не было сенсацией. Кадры полиции частенько порицались в жандармско-агентурных донесениях за корыстолюбие, безразличие и невнимательность. Так уж получалось, что обеспечением благочиния ведали люди далекие от нравственных высот благочестивого поведения. Высшая полиция не была исключением. В это же время В. А. Долгорукова информировали о другом тайном сборище: у мещанина Наумова после музыкальных вечеров собираются в особой комнате шулера и «обыгрывают тех, кого им удается заманить в свои сети». Важным был слух о том, «что несколько лиц проиграло там казенные деньги»[728]. Былые картежные скандалы связывались в общественном мнении с противоположными по смыслу суждениями: о безразличии к преступным действиям или о корыстном покровительстве игрокам со стороны тайной полиции. Поэтому решено было сообщить полученную информацию полиции исполнительной. К тому же личность Наумова была хорошо известна Третьему отделению. Чиновник, собравший информацию для шефа жандармов, напоминал, что этот человек, «бывший наш агент, постоянно занимается картежною игрою и уже неоднократно у него накрываемо было общество шулеров, но он всегда умел выпутываться»[729].
Иногда удавалось осуществлять успешные операции. 3 января 1866 г. шефу жандармов докладывали: «Гостиница „Малороссия“ на Пантелеймоновской улице давно обращала на себя внимание как притон шулеров и азартной игры, для которой хозяин гостиницы Касимов отвел отдельную комнату с отверстием в полу, куда в случае прихода полиции спускались карты. Сверх того, в эту комнату проведен из буфета звонок, который дает игрокам знать о приходе незваных гостей. Полиция все это знала и, несмотря на наши записки, не хотела обращать на „Малороссию“ серьезного внимания. […] Третьего дня в 5 утра местный помощник надзирателя Власов сделал там обыск, но звонок предупредил играющих и они почти все разбежались задним ходом, а на столе нашли одну шестерку. Один из застигнутых игроков оказался отставным губернским секретарем Фектошевым»[730]. Особо подчеркивалось в рапорте, что задержанный возмутился проведенным обыском, назвал себя чиновником Третьего отделения и угрожал Власову. Полицейский хотел даже его отпустить, но собравшаяся посторонняя публика потребовала арестовать его и препроводить игрока-скандалиста в полицейскую часть.
В свою очередь, полицейское начальство информировало Третье отделение о подозрительных собраниях, если замечало какие-либо политические следы. В феврале 1861 г. санкт-петербургский обер-полицеймейстер генерал-адъютант А. В. Паткуль сообщил В. А. Долгорукову, что им получены сведения о том, что с одной станции Московской железной дороги два раза в неделю ездит в Санкт-Петербург какой-то инженерный офицер (уроженец западных губерний). В столице «он будто бы участвует в обществе поляков, собирающихся в разных квартирах с политическою и возмутительною целию». В результате собрали довольно обширную информацию о самом офицере и его товарище: «Фамилия означенного офицера Губин, а имя товарища его — Любанский, из поляков. Первый находится на Любанской станции и человек, как говорят, довольно богатый, второй же состоит при Санкт-Петербургской станции московской железной дороги. Оба они почти постоянно играют вместе в разных домах в большую игру. Губин (по отзыву ген. — ад. Паткуля он женат на русской, но в ссоре с женою) имеет здесь близ Московской железной дороги любовницу, у которой и останавливается, он на прошедшей неделе в гостинице Палкина проиграл в домино 1000 рублей. Ни за ним, ни за товарищем его Любанским до сих пор не замечено ничего предосудительного, кроме большой игры». Политического подтекста в их действиях не было, а потому особого интереса у Третьего отделения они не вызвали.
Не менее опасной по социальным последствиям считалась и набиравшая популярность игра в лото, которой особенно увлекались, по мнению агента Третьего отделения, чиновники. Результатом азартной страсти «были горькие жалобы матерей семейств, приходивших с грудными и малолетними детьми к военному генерал-губернатору и у ног его со слезами умолявших о защите против разорительной страсти мужей их к игре, проигрывающих в клубах в лото в первых числах месяца не только все месячное жалование, но разоряющих, сверх того, вконец от накопляющихся на них через то неуплатных долгов, и беззаботно оставляющих семейства свои в совершенной нищете, без куска хлеба, и через страсть к этой игре совершенно охладевших к служебным их обязанностям»[731]. С точки зрения обывателя, только административное вмешательство могло предотвратить социальную катастрофу (а также наказать или выдать пособие). Показателен и акцент сводки не только на частные, но и на общественные (нерадивое служение государству) последствия азартной игры.
Агентами отмечалось повсеместное распространение игры в лото, превосходившее по популярности традиционные карты: «Игра в карты очень умеренная, но зато толпа играющих в лото, особенно дам, растет с каждым днем»[732]. Та же тема была затронута и в другом документе, синтезировавшем сведения, полученные от посетителей разных клубов (16 марта 1864 г.): «Игра в домино, лото чрезвычайно усилилась в последнее время в Благородном собрании, прикащичьем и немецком клубах и можно сказать развилась до страсти не только у мужчин, но и у женщин. […] Во время балов и семейных вечеров в поименованных двух клубах огромное число молодых дам предается игре в лото. Иногда даже на деньги. Независимо ставки играющие держат между собою всегда значительное пари. Игра эта отодвигает постепенно назад другие невинные и не разорительные удовольствия»[733].
Выявленная тенденция продолжала развиваться. 23 апреля 1864 г. шефу жандармов докладывали: «В клубе взаимного вспоможения дамы по-прежнему продолжают играть в лото. Ныне по распоряжению клуба, для игры в лото, отведены в 3-м этаже совершенно отдельные и с особым ходом комнаты. Это, как говорят, сделано с целью скрыть дам и вообще играющих в лото от взоров и прочих посетителей балов и семейных вечеров, всегда многолюдных»[734].
Азартные игры с крупными денежными ставками были всегда на подозрении у полиции, но теперь в омут разорительной напасти скатывались женщины, традиционно порицавшие мужскую неосмотрительность и расточительность в использовании средств семейного бюджета.
Предпринятые административные меры получили общественную поддержку. В агентурном донесении (6 марта 1865 г.) сообщалось, что «пронеслись недавно слухи, встреченные сочувствием весьма многих, о запрещении с 1 мая в клубах игры в лото», однако появилась новая напасть, или скорее, стало возрождаться старое зло — карточная игра. «В настоящее время, — сообщал наблюдатель, — игра эта [лото] заменяется картежною игрою „стуколка“, принимающая все более и более широкие размеры»[735].
Азартные увлечения россиян не ограничивались картами и лото.
9 августа 1860 г. агент Третьего отделения в очередной раз сообщил руководству жандармского ведомства, что «в Александровском парке происходит, в особенности по праздникам, игра в орлянку, горку, фортунку или рулетку, и что там собирается обыкновенно много народу […] Игра бывает целый день, но вечером она усиливается». Акцент делался на то, что «по временам являются туда и полицейские нижние чины, но игру не воспрещают, а собирают лишь с играющих дань»[736].
Среди студенческой молодежи, как утверждалось агентами надзора, был популярен бильярд. Центрами игры были трактир «Новопалкинский», «Hotel du Nord», кондитерская «Dominique», где обычную среду чиновников и купцов разбавляли студенты, которые «прилагают чрезвычайное старание к биллиардной игре и некоторые из них достигли большой известности». Агент с возмущением докладывал: «Они почти живут в трактирах, и, кажется, главное их занятие составляют не университетские лекции, а биллиардная игра […] многие из них вопреки постановлений учебных заведений повадились, по несмотрению клубных старшин, ходить для биллиардной игры в клубы»[737]. Особо подчеркивалось, что, кроме университетских студентов, воспитанники иных учебных заведений в таких местах не бывают. Видимо, предполагая получение стандартного ответа полицейских чиновников о необнаружении подобных азартных игр, в записке подчеркивалось, что посетителей впускают и выпускают через черный ход и для сохранения тайны «глухо-наглухо завешивают окна или закрывают их ставнями, чтобы скрыть от полиции свет»[738].
В то же время, без какой-либо конспирации, под носом у военного начальства в казармах устраивались настоящие притоны. 16 сентября 1860 г. агент рассказал о забавном происшествии: «В казармах лейб-гвардии Гренадерского полка каждый праздник бывают у музыкантов вечера, с платою за вход по 50 коп. сер. с человека, где собираются публичные женщины, писаря разных ведомств, бедные чиновники и проч. и устраивается временный буфет, за которым водку продают по 20 коп. рюмку. Там же составляется картежная игра в три листа и горку, ставка бывает от 50 коп. и выше, чрез что случаются драки и солдаты выталкивают ссорящихся на улицу. Последний вечер был в воскресенье, и тогда устроена была лотерея, в которой разыгрывались золотые часы. Их выиграла публичная женщина, известная под именем Сашки „Шепелявой“, но ей вместо золотых дали серебряные часы, а когда она не хотела их принять, требуя выигранных, то ей не дали ничего и выпроводили вон»[739]. Подмена выигрыша показывает, что и в этой весьма демократичной среде статус проститутки был принижен, но все же не настолько, чтобы вообще не допустить ее до общего розыгрыша призов.
В 1864 г. Третье отделение вновь забило тревогу: «Игра в бикс[740], под фирмою общенародного развлечения, увлекает простонародье до самых крайних пределов». В первую очередь волновали социальные последствия азартных увлечений: «Играют в эту игру почти исключительно мастеровые и рабочие. Главную роль в игре составляет интерес — проигрыши весьма значительны. Во всех почти трактирах и портерных поставлены биксы и игра на них начиная с утра продолжается во всю ночь. В особенности вредное влияние оказывают биксы в общественных садах, долженствующих служить местом отдыха для народа»[741].
Политическая опасность игры, по заключению чиновника, состояла в традиционно распространившихся суждениях о связи организаторов игр с властями: «Со стороны цехового класса все более и более слышится ропот на администрацию за допущение игры в бикс. Мастера говорят, что развившаяся в их учениках страсть к этой игре усиливает в них лень и наклонность к порокам. Цеховые того убеждения, что правительство получает большие деньги от содержателей трактиров за право постановки у себя биксов»[742].
В данном случае полицейские меры не заставили себя долго ждать, в том же архивном деле сохранился приказ столичной полиции от 4 июня 1864 г., в котором признавалось, что игра на биксе «вовлекает многих людей в большие проигрыши, несообразные с их средствами», во время игры «бывают споры и даже бесчинства, нарушающие общественный порядок», и предписывалось содержателям трактиров убрать их немедленно и «воспретить игру на всех вообще публичных гуляниях»[743].
И вновь одна напасть сменяла другую. 22 июня 1864 г. шефа жандармов информировали: «Недавно последовало распоряжение об уничтожении в публичных местах игры на биксе. Между тем здесь осталась другого рода забава и едва ли меньше вредная, чем первая, — это стрельба в цель. Забава эта существует по преимуществу там именно, где она, скорее всего, может быть опасная, то есть в таких заведениях, куда более всего собирается любителей сильных ощущений. Стрельбой занимаются только подобные личности и то всегда под хмельком — примеры опасности, тонкие щиты, щели, раненые»[744].
Эффективность запретительных мер была невысокой, как только закрывался один притон, рядом появлялся новый. Спрос рождал предложения. В одной из служебных записок Третьего отделения (1867) сообщалось: «По закрытии гостиницы „Малороссия“, где по ночам происходила азартная картежная игра, шулера всех оттенков нашли себе другой приют […] Игра ведется там совершенно систематически — даже избраны особые дни, то есть вторник, пятница, воскресенье, дни в которые бывают собрания в клубе прикащиков. Туда являются шулера и подготовляют себе там свои жертвы, в лице молодых купчиков, а наше молодое купечество, к сожалению, и без того не сильно в нравственном отношении»[745].
Постоянным объектом внимания политической полиции были маскарады, где случались экстраординарные события: потасовки, срывание масок или превышение допустимых границ приличия. От прежней (начало XVIII в.) дидактической функции маскарада[746] не осталось и следа.
Демократичность, всесословность маскарадного сообщества хорошо понималась современниками, безошибочно определявшими стратификационную принадлежность масок по поведению, замыслам, «честолюбивым видам».
Аллегоричность действа, концептуальность костюмов при копировании форм досуга высшего света средними городскими слоями выливалась в примитивное сокрытие лица, освобождавшее от условностей, от регламентированных норм поведения. Герой опубликованной в 1840 г. повести В. Соллогуба, рассуждая «о тайне маскарадов», замечал: «Под маской можно сказать многое, чего с открытым лицом сказать нельзя»[747]. В новую эпоху к глаголу «сказать» можно было добавить и глагол «сделать»[748].
Свобода поведения выходила за рамки приличия. А. В. Дружинин записал в дневнике (19 февраля 1854 г.): «Ничего не помню, кроме маскарада, скорее похожего на Содом и Гоморру, чем на маскарад. Ко мне подходили какие-то маски чуть не в рубищах. Одна из масок потеряла башмак, он так и лежал на полу очень долго»[749]. В другой раз он отметил вполне «прикладной» функционал маскарада (16 декабря 1855 г.): «Две дамы изливали передо мной свои чувствия и, кажется, были не прочь от благородной интриги […] Вообще, я сам не знаю, зачем езжу я в маскарад. Из всех встречаемых мною женщин (я разумею порядочных) ни одна не возбуждает меня нимало. А возня с незнакомыми хороша только 18-летнему мальчику»[750].
В декабре 1860 г. агентом было обращено внимание на поведение участников маскарада: «В субботу в немецком клубе, во время бывшего там маскарада, произошло несколько так называемых шкандалов, вследствие чего шесть человек были выведены из клуба, между прочим, и приказчик книгопродавца Исакова, который, когда ему связали руки и привели в переднюю, обратился к старшинам со словами: „Вы, господа, все свиньи и ослы!“ Грязные, весьма неприличные танцы, которыми некоторые отличались, обратили и тут внимание людей благопристойных». Особо подчеркивалось, что один из выведенных из зала был студентом университета[751].
Довольно подробно описано в донесении от 8 февраля 1861 г. происшествие «в маскараде благородного собрания, когда какая-то маска (женщина), канканируя во время танцев, делала до такой степени неприличные жесты, что один из членов собрания, начальник телеграфной станции Московской железной дороги поручик Никитин, не выдержал и взял ее за руку, намереваясь вывести ее из зала. Толпа посетителей, недовольная этим поступком Никитина, вся, в числе, быть может, 500 человек, бросилась за ним с шумом и свистом, требуя оставления в зале маски. Никитин обратился тогда к публике со словами, будто бы муж этой маски просил его удержать жену от неистовых танцев, и когда это не подействовало, то он сказал: всякий благородный и благомыслящий человек согласится со мною, что подобного беспутства нельзя допускать в пристойном обществе. Несколько голосов возразили: „Мы не разделяем этого мнения“, на что Никитин отвечал: „Это очень глупо с вашей стороны“. Слова эти, к счастью, остались без последствий, полиция вмешалась в спор, и маска была оставлена в зале»[752]. Одинокий поборник нравственности потерпел жесточайшее поражение. К счастью, обошлось без физического насилия. Маска в этом карнавальном сообществе была свободна в своем поведении и защищена от внешней опеки. Явившаяся полиция предотвратила конфликт, но не нарушила правил маскарада.
Исполнение канкана считалось верхом неприличия. Не случайно ходили слухи, что в каком-то заведении «[…] смотрители врачебно-полицейского комитета записывали публичных женщин, которые во время танцев канканировали, и слышно, что комитет хочет их, то есть женщин, за это подвергнуть аресту»[753]. С точки зрения обывателей, именно порочные женщины выступали проводниками элементов европейской массовой культуры.
«Маскарадные» донесения часто содержат сведения привычные для обычной полицейской хроники. Например, 27 декабря 1861 г. было сообщено, что «в маскараде Большого театра при большом стечении публики было много купеческих прикащиков, из которых несколько пьяных»[754]. Этих пьяных вывели, и веселье продолжалось. Хотя этим дело не ограничилось: «Задержали также одного замаскированного вора — купеческого сына Фомина, при обыске которого нашли 5 часов, 3 цепочки и перстень»[755].
18 декабря 1861 г. агент доносил: «В маскараде в академии художеств г. Сабуров, как говорят, привез певицу Доттини и любовницу ювелира Вальяна, француженку Бобри (femme peintre). Рассказывают, что этих дам хотели вывести, но оставили, не желая сделать скандала»[756]. Незваные дамы полусвета шокировали публику, но «воспитанное» общество решило их не заметить. Социальная терпимость, разрушение сословных страт явочным порядком через массовую культуру проникали в повседневность.
Изредка в донесениях появлялись сведения, тревожившие тайную полицию. В той же записке сообщалось: «В кружках мелкого русского купечества был разговор о бывшем на днях в академии художеств маскараде. Беседовавшие между прочим рассказывали, что там был взят один подозрительный человек, при обыске коего нашли два револьвера, что он намеревался покуситься на жизнь государя императора. […] откуда взялся вышеупомянутый слух — решительно не известно. Надо думать, что есть неблагонамеренные люди, которые с целью тревожить правительство распускают подобные слухи»[757]. В Третьем отделении навели справки. Подобных разговоров зафиксировано не было, поэтому В. А. Долгоруков написал на донесении: «Я ничего подобного не слыхал»[758].
Отсутствие бесшабашного веселья тоже вызывало подозрение и настороженность высшей полиции. Новогоднее веселье по случаю наступившего 1865 г. обратило на себя внимание Третьего отделения обилием скучавших посетителей маскарадов: «Вчера [4 января 1865 г.] по донесению агента, объездившего почти все места публичных увеселений, ничего особенного не замечено. В маскераде в Большом театре было много публики — военных, против обыкновения, весьма мало, маскерад шел вяло: публика была как будто уставшая. Характеристических масок не было. У Марцинкевича, Ефремова было также очень много публики»[759].
В записке от 6 марта 1865 г. говорилось: «В последнее время, по наблюдению наших агентов, жизнь общества в публичных местах проявляется какою-то серь езною и натянутою. В клубах во время музыкальных вечеров собирается много публики, которая не живет здесь жизнью отдыха и удовольствия, а точно по наказу. Причину такого поведения нельзя искать во времени поста — в прошлом году в это же время то же самое общество вело себя иначе»[760].
Другим примером свершавшейся контркультурной агрессии Запада стало появление кафешантанов. «Кафешантанная эпидемия, возникшая в Париже в середине XIX века, быстро охватила весь мир», — пишет исследователь истории эстрадного жанра Е. А. Сариева[761]. Появление французской новинки в России сразу вызвало интерес полиции, но ожидания опасности для общественной нравственности оказались завышенными. 3 июня 1861 г. агент сообщал о ничем не примечательном событии: «Вчера в воскресенье происходило открытие „Café chantant“, где было довольно много публики. Замечательного там ничего не происходило, но обратил на себя внимание один кавказский драгун юнкер Базилевский, который бросал цыганкам огромные букеты цветов, приноравливаясь попасть им оными прямо в лицо. Юнкер этот затевал уже скандалы в общественном заведении „Орел“, куда ему местная полиция запретила вход»[762]. Через несколько дней (значит, наблюдение продолжалось) все опять было на удивление спокойно: «Вчера вечером до 50 вновь произведенных офицеров спрыскивали эполеты в „Café chantant“. Они бросили тирольцам и цыганам более 100 венков, пили и веселились, но не делали никаких бесчинств. В особенности, как и всегда в подобных случаях, отличились кавалеристы»[763].
Опасность инокультурной интервенции состояла в возможном подрыве народных, национальных ценностей и традиционных поведенческих форм. Пасторально-идиллическую картину народного времяпровождения («в гостиницах и трактирах гудят органы и шарманки»[764]) подсмотрел старший чиновник Третьего отделения А. К. Гедерштерн, командированный в поисках заговорщиков в сердце России — Нижний Новгород, на ярмарку. Расчувствовавшись от звуков народного пения, он сообщал 11 августа 1857 г. в Петербург: «Припевать под звуки шарманки составляет верх блаженства для русского простого народа […] Впрочем, если смотреть на это с настоящей политической точки [зрения], то для черни даже необходимы подобные развлечения, они подавляют в ней ложные мысли и не дают углубляться в рассуждениях! Народ, который находит еще непритворное удовольствие в звуках родимой балалайки и заунывных праотцовских песнях — тот еще добр душою и корень его не испорчен»[765].
В столице преобладала иная музыка, иные поведенческие практики, иные народные развлечения, которые власть старалась пресекать.
«Легкое» поведение проникало даже в корпоративные клубы, имевшие свою внутреннюю систему правил общения и контроля посетителей. И если немецкий клуб, по мнению жандармского чиновника, не вызывал беспокойства: «Там, как и всегда по понедельникам, собирается много публики и танцы, и веселый говор продолжаются до утра»[766], то клуб служительского общества, напротив, заслуживал пристального внимания. Проводимые там музыкальные вечера посещались «смешанною публикою немцев-ремесленников, лакеев, писарей, которые являются сюда более для игры и скандалов, нежели для препровождения времени»[767]. По заключению чиновника: «Этот клуб имеет членами много таких лиц, которые совершенно не понимают общественных отношений, обращает на себя внимание поведением этих членов и потому клуб этот представляет собою иногда тот же танцкласс с обычными скандалами»[768]. Политическую полицию беспокоило отсутствие «понимания общественных отношений» многими посетителями клуба, то есть их чуждость корпоративным регуляторам поведения, что делало поведенческие практики ненормированными.
Показательно донесение от 17 ноября 1864 г.: «В воскресенье в прикащичьем клубе на семейном танцевальном вечере было до 800 особ. В танцевальном зале господствовал дух совершенно беззаботного веселья. Прикащики и купеческие сынки все еще не могут привыкнуть проводить время в таком дамском обществе, где надобно удерживаться от слишком свободного обращения и выражений, а потому танцующих преимущественно составляют офицеры и чиновники»[769]. Именно культурная ограниченность, по мнению жандармского чиновника, не позволяла «третьему сословию» конкурировать с дворянством и чиновничеством в «воспитанном» обществе.
Объектом пристального внимания политической полиции были массовые гулянья — своеобразные смотры модных туалетов, причесок, выносившие страсти, пороки и вольности за стены заведений и делавшие вольное (не служебное) поведение участников предметом внимания и подражания для многих.
Излюбленным местом гуляний в столице был Невский проспект, ко всему, на нем происходившему, было особое отношение. Это была витрина, образцы с которой обсуждались и оценивались во многих петербургских домах: в гостиных и на кухнях. Поэтому любое происшествие на Невском подавалось и трактовалось властями с неким оттенком негодования, с ощущением брошенного вызова, на который должен быть дан немедленный и жесткий ответ.
Управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт информировал шефа жандармов А. Ф. Орлова (5 мая 1849 г.) о ночном происшествии с участием офицеров лейб-гвардии Гусарского полка. В частности, он сообщил, что «поручик Ивин, быв в нетрезвом виде, схватил встретившуюся с ним даму и начал с ней вертеться, но дама на это не изъявила никакого неудовольствия. Потом встретили они зубного врача Вагенгейма с женой и тот же Ивин поднял ей юбку». Нарушители порядка были задержаны и доставлены к оберполицеймейстеру, врач, видя искреннее раскаяние Ивина, его простил, а военный генерал-губернатор не давая этому делу гласности, передал виновного полковому командиру[770]. По мнению А. Н. Плещеева, по внешнему проявлению порока Москва уступала Северной столице: «Уличной публичной жизни несравненно меньше, чем в Петербурге. Видимо, что здесь любят развратничать тайно, келейным образом»[771].
Традиционность свободного поведения в самом центре города подтверждает дневниковая запись А. В. Дружинина (11 мая 1854 г.): «Пробираясь домой в ясную летнюю ночь, я встретил несколько баядерок, еже слишком привязчивых, — этого давно не было: изменение в их нравах должно быть приписано изобилию армейского войска и молоденьких офицеров, никогда не бывавших в Петербурге. По Невскому совершенное гуляние, продолжающееся до поздней ночи»[772].
В апреле 1858 г. полицейский чиновник с возмущением писал о «русской пирожной» на Невском проспекте, где по вечерам собирался «сброд неопрятно одетых мужчин и самого последнего, низкого разряда тех ночных нимф, кои по вечерам на Невском проспекте бесстыдным обращением и словами завлекают в свои сети молодых неопытных людей, особливо несчастных молодых чиновников, вечных спутников сих развратниц — и за порочные эти наслаждения платящих потом или болезненною жизнию или мучительною смертию»[773]. Под скрипку «это веселое сборище выплясывает всевозможные штуки собственной импровизации, сопровождаемые такими необузданными телодвижениями, которые обращают в совершенное ничто самый вольный Cancan»[774]. По сути, бесшабашная вечеринка трактовалась как деяние, ведущее к растлению и скорой гибели молодых людей, не успевших еще толком послужить государству.
В сводку донесений от 24 сентября 1859 г. попало сообщение о том, как накануне вечером шедший по Невскому проспекту монах «приволакивался ко всем женщинам, которые ему попадались навстречу». Чиновник сообщал: «Толпа гулявших с видимым удовольствием провожала монаха во все время его шествия в довольно близком расстоянии, стараясь прислушиваться к его любезностям, когда же он взобрался с одною женщиною на извозчика, то все разразились громким хохотом. Один из гулявших сказал при этом вслух: вот до чего доводит просвещение, даже монахи сбрасывают с себя личину святости»[775]. Поведение служителя культа имело не просто резонанс, но и спровоцировало дискуссию среди очевидцев этого зрелища об аномалиях церковного быта.
Шумные перебранки молодежи также не оставались без внимания. В 11 часов вечера три кадета «подняли не то что шум, но даже неприлично громко ругались с двумя женщинами, которые без стыда отвечали им такими же русскими бранными словами […]»[776], — сообщал полицейский агент. Новые поведенческие образцы, утверждавшиеся на вечерних улицах столицы, явно смущали столпов политического сыска.
Сообщая о носившемся в публике слухе о том, что Государственный совет будет обсуждать вопрос «насчет дозволения курить на улицах», чиновник Третьего отделения позволил себе пуститься в рассуждения, полагая, что «если в финансовом отношении […] произойдет польза, во всех прочих [сферах] непременно будет от сего лишь вред. При грубости нравов нашей публики, все подобные вольности не ведут к добру […] нельзя позволить нашей молодой военщине курить на улицах, ибо это еще больше уменьшит их уважение к старшим и дамам, которые и без того жалуются на дерзкое их поведение при встречах во время гуляний»[777]. Далее автор еще прибавлял пессимизма: «И думать не хочется о картине, которую представит Невский проспект по вечерам, когда там появятся толпы офицеров, студентов, кадет и публичных девок с папиросами и сигарами во рту. Правда, нельзя этого дозволить!»[778]
Если подобные вольности встречались в самом центре столицы, то в парках, загородных садах и вокзалах («воксалах»)[779] распущенности было больше. Необычайная популярность таких форм досуга приковывала к ним внимание полиции. Агентурное донесение тому подтверждение: «Никто из петербургских сторожил не помнит, чтобы в Духов день в Летнем саду было столько народу […] В средней аллее буквально была такая давка, что решительно нельзя было сделать свободного шагу и вся публика казалась какою-то еле-еле двигающеюся массою. Неоднократно слышны были насмешливые выходки против несчастных кринолинов[780], иные вслух пред дамами говорили, что от того так и тесно, что, по крайней мере, половину пространства сада занимают кринолины». Наблюдатель сетовал: «[…] надо было видеть, в каком ужасном состоянии они выходили из этой мятки»[781]. При таком значительном стечении публики любая выходка становилась известной, порицалась или одобрялась зрителями, а молва разносила не всегда точные отголоски события.
Обозреватель «Сына отечества» сокрушался: «Большинство гуляющих собралось сюда [на публичные гулянья] для того, чтобы предаваться неблаговидному кутежу и не менее неблаговидному волокитству. Главная приманка, привлекающая толпу на гулянье, вино и легкие недостойные интриги»[782].
Кокетство и флирт влекли барышень в модных одеяниях не только в парки, но и… в церковь. О забавных случаях у обедни в Троицын день рассказывал агент Третьего отделения. В ходе службы прихожане должны были троекратно становиться на колени, особенно тяжело приходилось дамам с многочисленными металлическими обручами кринолинов: «Многие из них, не взирая на всевозможные усилия, никак не могли опять подняться без помощи услужливых мужчин, что производило в церквах невольный смех»[783]. «Из этого заключают, что подобные безобразно наряженные куклы ходят в церковь не для моления, — единственно, чтобы выказать свои модные наряды, не понимая, что делаются чрез то предметами общих насмешек»[784], — передавал суждения моралистов агент.
Традиционным источником беспорядков была так называемая «военная молодежь», хотя, как отмечалось в донесении (август 1860 г.), «с возвращением войск из лагеря на общественных гуляньях бывают часто маленькие скандалы, но они большей частию оканчиваются миролюбиво»[785].
Участники гуляний и празднеств иногда умышленно шли на конфликт, разыгрывая своеобразное представление, а потом пытались искусно выпутаться из ими самими созданной ситуации. В сентябре 1860 г. агент сообщал: «Несколько недель тому назад приказчик из магазина Исакова (в Гостином дворе), прогуливаясь во время гулянья на минеральных водах[786], надул при публике „гондон“, за что он был приставом отправлен в часть и теперь по делу этому находится при Выборгской части под следствием»[787].
Этот поступок мог бы раствориться в полицейских сводках среди перечня происшествий, совершенных нетрезвыми горожанами, если бы в пьяном раже приказчик не стал хвастать, что с ним будет «трудно справиться» (так как его мать была нянькой у детей великого князя Николая Николаевича), и даже обещать, что «он, приказчик, о помянутом случае с ним в Новой деревне и о том, как с ним поступила полиция, сообщит Герцену для напечатания в „Колоколе“»[788]. Если первая угроза была традиционным средством защиты, своеобразной формой патерналистского прикрытия, то обращение в орган вольной русской печати — новое явление, апелляция к общественному мнению, пример перевода проигрышной ситуации в политическую плоскость, превращение хулигана в жертву произвола полиции.
Парки и загородные увеселительные заведения были под постоянным надзором. Естественно, что в этой среде сновали и полицейские наблюдатели и собирали слухи о подлинных и мнимых происшествиях. Агент деликатно сообщал, что «на днях узнано, что в саду, принадлежащем ко дворцу вел. кн. Елены Павловны […] производятся некоторые волокитства и любовные интриги»[789]. Одно время в городе говорили о священнике, который якобы был выпущен из дома Всех Скорбящих[790] и через несколько дней «арестован в Летнем саду при изнасиловании им там одной женщины». В подтверждение слуха молвой упоминалась точная дата задержания — 27 августа и то, что «на одной скамейке, близ которой случилось означенное насилование, вырезано несколько слов по сему предмету»[791].
К своим «наблюдательным» обязанностям полицейские чиновники подходили уже со сложившимися представлениями об объектах полицейского интереса. 23 сентября 1861 г., сообщая о главных местах отдыха горожан — «гуляньях у Излера, в воксалах Александровском и Петровском и в трактире на Крестовском», — чиновник отмечал, что «и ныне характер поведения тамошней публики, особенно в последних трех местах, нисколько не изменился противу прежних лет — как бы уже навсегда присвоенных к тем гуляньям»[792].
Основными посетителями этих заведений являлись «университетские и медицинские студенты, всевозможных родов мелкие чиновники, конторщики, приказчики, купеческие сынки», предававшиеся обычно «нескромному вольному обращению с тамошними дамами и кулачному самоуправству после веселых дружеских между собой бесед», после чего «уже не нужна была и полицейская над ними расправа»[793].
Собственно, ничего необычного там не происходило: саморегулирующаяся система обеспечивала ровный характер отношений подвыпившей публики. Изредка обращали на себя внимание отдельные фигуры, например студент университета Красильников в вокзале Петровского парка, «до того уже с избранною своею дамою в танцах непристойно заканканировал и сверх того дерзко и буйно поступил с содержателем воксала и самою полицию, что она должна была прибрать его к своим рукам»[794]. Хотя серьезных происшествий не случалось, но тем не менее внимание жандармского руководства обращалось на отсутствие контроля за порядком со стороны столичной полиции.
Популярный «воксал» Заведения искусственных минеральных вод И. И. Излера[795] был под постоянным наблюдением. Это заведение имело давнюю историю. Еще в 1840-х гг. дом в Новой деревне с несколькими большими залами и довольно большой сад стали местом популярных увеселений: концерты нескольких оркестров, театральные представления с французскими шансонетками и танцами, фейерверки, полеты воздушных шаров, акробатические и гимнастические упражнения, выступления тирольских певцов и цыганских хоров и т. п. Заведение работало ежедневно. Вход был платный (от 50 коп. до 1 рубля в дни праздников). Молодой Н. Г. Чернышевский уверял родителей, что не посещал увеселений, но описывал их очень эмоционально (23 августа 1849 г.): «Здесь нынешнее лето веселились господа, имеющие охоту и возможность веселиться так, как никогда еще, кажется. Особенно много толкуют о вечерах Излера на минеральных искусственных водах. В прошлый раз, говорят, было там 5600 посетителей (за вход по 1 руб. сер.); и между тем они устраиваются так великолепно, что до сих пор едва, говорят, сбор (и еще более кушанья, чай и т. д., которые берут, разумеется, во множестве) покрывал издержки. Все лето беспрестанно летали оттуда воздухоплаватели, под конец стали подыматься и дамы»[796].
О. А. Пржецлавский отмечал, что увеселения безбоязненно посещали и представители высшего общества, так как, несмотря на многолюдность, там не случалось никаких безобразий и скандалов. И. И. Излер, не особо доверяя официальным стражам порядка, добился разрешения иметь свою внутреннюю службу охраны: «Она, размещенная повсюду и тщательно наблюдавшая за подозрительными личностями, предупреждала и посягательство пик-покетов[797] на чужие карманы, и готовившиеся скандалы. Подгулявших гостей, затевавших неуместные демонстрации, выводила без церемоний из сада и передавала в руки стоявшим за воротами казенным полициянтам»[798].
Мемуарист отмечал особую политическую значимость, говоря современным языком, «проекта И. И. Излера»: «В смутное время 1848 года, когда почти весь запад Европы был взволнован революциями, а в Петербурге свирепствовавшая вторая холера еще более омрачила горизонт, заведение Излера много поспособствовало к противодействию, как дериватив, мрачному настроению общественной мысли. Эта своего рода заслуга оценена была властью и изобретательный предприниматель был ею поощряем и награждаем различными льготами»[799].
Пример такого взаимодействия находим в документах Третьего отделения. Л. В. Дубельт докладывал шефу жандармов (11 августа 1849 г.): «Вчерашнего числа на минеральных водах содержателем гостиницы Излером был дан праздник в честь победоносных российских войск. Публики было до 5 т[ысяч] человек. В числе посетителей находились г[осподи]н военный министр, военный генерал-губернатор и другие знатные особы. В иллюминированном саду, кроме оркестра Гунгля, играла военная музыка и пели военные песенники»[800]. Отмечалось, что многократно представленная «фантасмагория», изображавшая государя, наследника и их свиту, а также портретное изображение императрицы «приняты были с восторгом и продолжительным восклицанием „Ура!“, при сем музыка играла „Боже, Царя храни!“». «Публика, в знак благодарности, вызывала Излера»[801], — особо подчеркнул управляющий Третьим отделением. 30 августа 1853 г. Николай I посетил увеселительное заведение Излера, «пробыл там ¾ часа и был доволен»[802].
С началом нового царствования популярность заведения не уменьшилась. Разнообразная культурная программа (цыганский хор, гимнасты-арабы, живые картины, фейерверки, иллюминации, хороший оркестр) привлекала туда большое количество публики, правда, нравы и поведение гостей существенно изменились. В 1858 г. об увеселительном заведении Излера говорили, что там «университетская молодежь и мелкие чиновники позволяют себе разные вольности с женщинами двусмысленного поведения», правда, посланный наблюдатель сообщал, что во время его визита все происходило «тихо и чинно»[803].
Летом 1861 г. петербургская публика обратила внимание на то, что И. И. Излер сосредоточил свой бизнес именно на Заведении минеральных вод. Третье отделение зафиксировало негативное отношение к этому факту: «Иван Иванович [Излер] добился таки всего (говорят с удовольствием в публике), перешел же наконец на свои минеральные [воды]. Находят, что ни „Café chantant“, ни другие затеи, предпринятые им в последние 3 года, когда владели тем заведением русские аферисты, Излеру были совсем не к лицу — тут же он как бы совершенно в своем поместье — да и ночная разгульная публика тут совсем как дома, в „Café chantant“ и „Monde Brillant“ ей было душно, тесно — она там слишком была на виду — на Минеральных же есть ей где разгуляться на просторе в дальних уголках и кусточках»[804]. Ясно, что от времяпрепровождения порочной публики «в дальних уголках и кусточках» ждать ничего хорошего не стоило.
Трудно сказать, что именно — полицейские придирки или коммерческая выгода заставили хозяина позаботиться о репутации заведения. Перемену сразу заметила петербургская публика, а следом за ней и политическая полиция, сохранившая скепсис в оценке нравственного облика заведения: «Петербургский потешник Иван Иванович уже объявил, что у него на Минеральных и впредь будут продолжаться по два раза в неделю танцевальные вечера со строгой благопристойностью, каковые уже и начались на днях, но слишком строгой благопристойности еще не замечено, да (как полагают в публике) от класса посетителей и посетительниц тех вечеров, кажется, никогда и ожидать нельзя»[805]. Новый подход Излера оказался правильным: «По окончании летних у него увеселений на Минеральных, вслед же за тем устроил там по два бала или танцовальных вечера в неделю, которые почти с месяц шли весьма недурно для него, так что он хотел продлить их во все зимнее время, с устройством при них еще и гор»[806].
Однако в бизнес вмешалась политика — студенческие волнения 1861 г. В ноябре 1861 г. в сводке агентурных донесений сообщалось: «Студенческие аресты, как слышно, весьма невыгодно отозвались и на Излере […] С давнего времени известно, что лучшую в своем роде и самую многочисленную публику на минеральных всегда составляли студенты и какой-то особенный класс молодых офицеров и мелких чиновников с так называемыми их дальними родственницами, внезапное же исчезание там большей части студентов и почему-то многих офицеров, сделало Излеру жестокий подрыв, так что он принужден был прекратить сии вечера, по крайней мере (как говорят), до Рождества, в надежде, что может быть к тому времени и освободят многих из главных его потребителей студентов»[807].
Анализируя городские толки, полицейский наблюдатель отмечал, что «этой разгульной ватаге» очень не нравилась установленная на балах «строгая во всем благопристойность, особенно в танцах», а также то, что «они не могли ныне, (как сами говорили), хорошенько там по-прежнему разгуляться, то есть производить любимую свою разбивательную систему, поканканировать как следует и вообще дозволять себе всякого рода вольности»[808]. Нарушители порядка при содействии полиции теперь немедленно удалялись.
Запрет привычных практик досуга едва не привел к физической расправе над Излером: «Этот придворный этикет, как они, будто, в глаза говорили Излеру совсем не к лицу ни ему, ни его минеральным, которых они в насмешку стали называть моральными, и будто бы незадолго до их арестования, между собой решили хорошенько отдубасить (любимое выражение студентов) Излера, так что в публике говорят: нет худа без добра, ибо заключение их помешало им произвести новый скандал на минеральных, а у почтеннейшего Ивана Ивановича, может быть, уцелели чрез это ребра»[809]. Как видно из пересказа студенческих настроений, низовая культура, значительный элемент которой составляла эротическая составляющая[810], решительно не принимала «придворную», «моральную», антисексуальную культурную компоненту.
Все же Излеру удалось добиться желаемого и изменить скандальную репутацию своего заведения. В записке чиновника Третьего отделения от 18 июля 1866 г. говорится: «Удовольствия и загородные увеселения шли своим чередом: в Лесном в субботу был спектакль любителей — публики много, немало также стрижек с папиросами во рту и длинноволосых грязных юношей, прибывших туда из Коломяи и Парголова. У Излера публика ведет себя прилично, разгуливаясь уже у Ефремова в Шато-де-флер»[811].
В 1830–1840-х гг. Крестовский остров был местом семейных идиллических прогулок. Г. Т. Полилов вспоминал, что там можно было спокойно отдыхать с детьми, брать самовар и чайную посуду для пикника, совершать прогулки на баркасе или «ялботе» с двумя гребцами, посмотреть на пляски молодежи, послушать роговой хор с дачи Нарышкина, гитарную игру[812]. В начале 1860-х гг. это уже место высшего праздничного разгула. Автор статьи «Крестовский сад» пишет: «Громадный, наполовину покрытый лесом и удаленный в сторону залива Крестовский прослыл любимым местом отдыха „среднего петербуржца“ […] Большой славой пользовался праздник, называвшийся Кулерберг — по небольшому холмику, бывшему центром всех игр и затей на Крестовском острове. Гулянье устраивалось в начале июля и продолжалось целые сутки. Свидетельства современников сходятся на том, что это был самый пьяный праздник старого Петербурга, — будто бы именно из-за него речка, протекавшая неподалеку, получила название Винновка»[813].
В 1863 г. канун Иванова дня[814], согласно полицейскому рапорту, отпраздновали на Крестовом острове более 29 тыс. человек. Хотя гулянье «продолжалось до 9 часов утра и только сильный дождь разогнал публику», обошлось «без важных приключений, хотя скандалов и драк было довольно»[815]. В том году у празднества была особенность, определившая характер веселья: «Так как ныне в первый раз дозволено было открыть временные кабаки, коих в Крестовском лесу насчитывалось 24, то конечно было множество пьяных, с которыми происходили разные смешные сцены, по милости ловких мазуриков. Многих в пьяном виде раздели донага, некоторых уговаривали купаться и когда они были в воде, то уносили их платье, между прочим, у одного писаря генерального штаба, с серебряными нашивками, сняли сапоги, брюки и постанники, так что он принужден был отправиться домой в рубашке и сюртуке»[816]. Агенты Третьего отделения наблюдали как обычно не только за гуляющими и выпивающими: «И с полицейскими было несколько замечательных случаев: так например, один городовой представил начальству другого городового, который за бесценок купил краденые вещи»[817].
В следующем, 1864 году все, по сути, повторилось: «Гуляние на Кулерберге и нонешний год, как и прежде, ничего особенного не представляло, обыкновенных скандалов и драк между пьяною публикою было не меньше прежних годов»[818].
Среди случаев, все же обративших внимание полиции, упоминался хулиганский поступок: «Одна женщина подняла подол, а какой-то пьяный бросил ей в известную часть спереди пустую бутылку, которая, однако ж, не попала в цель, а ударилась в лицо одному писарю и очень порядочно изранила»[819]. Надо полагать, что оба действующих лица инцидента находились в подпитии, хотя и пострадавший зритель вряд ли пребывал в трезвом состоянии.
Выпивкой соблазнялись не только отдыхающие, но и полицейские чины, находившиеся на службе. Неудивительно, что цитируемое агентурное донесение от 25 июня 1864 г. завершалось конфиденциальной припиской: «Некоторые из полицейских вели себя на Кулерберге так дурно, что возбудили ропот в порядочной публике […] Из городовых особенно отличились два с бляхами № 370 и 709. Они пьяные очень шибко, делали разные дебоширства больше гуляющих»[820].
Отчет о празднике от 25 июня 1869 г. более лаконичен и менее эмоционален, чем предыдущие: «Не видно было никакого широкого разгула, не слышно было ни веселого говора, ни песни […] простуда, болезни, воровство, вульгарные сцены — вот спутники этого гулянья»[821]. Рассмотренные примеры гуляний на Крестовом острове показывают, что уже упоминавшаяся «низовая» культура веселья простолюдинов включала в себя достаточно широкий набор низкопробных развлечений, разрешаемых и поощряемых властью.
Однако жандармские блюстители нравственности, посещая места традиционного скопления публики, с постоянным упорством фиксировали в своих донесениях бессилие и равнодушие столичных властей к безнравственной атмосфере гуляний. «На балах, даваемых в Екатерингофском вокзале, происходят неприличные сцены и бесчинства, на которые полиция не обращает почти никакого серьезного внимания. Так что многие из порядочных посетителей отказываются туда ехать»[822].
Доносили агенты и о плохой организации петергофского праздника (давка на пристани, перегруз пароходов): «Говорят также, что карманным ворам было раздолье: слышно о многих воровствах, особенно у иностранцев, имеющих привычку всегда ходить нараспашку»[823]. Сравнение с иностранными образцами — постоянная черта российского менталитета. Этот критерий «соответствия» характерен был и для полицейских сводок: «Народ восхищался иллюминацией в Петергофе 22-го числа. Многие иностранцы отзывались о ней также с похвалою, сравнивая ее с гуляньями, бывающими за границею, и отдавая преимущество нашему. Осуждали только одно, именно дороговизну на все питейное и съестное и винили в допущении такой дороговизны правительство. Приводя пример распоряжения на этот случай заграничной полиции, которая будто бы не дозволяет на гуляньях возвышать цены при подобных случаях»[824]. Как видим, подтверждение хорошего качества состоявшегося зрелища — позитивное мнение иностранца.
Порицание отечественных пороков («дороговизны») основывается на идеальных представлениях о целесообразности, разумности мер, якобы осуществляемых в других государствах. Несмотря на традиционную для российской печати литературно-публицистическую критику пороков европейской цивилизации, подсознательная «идеальность» Запада существовала в сознании россиян.
Банальное сообщение о поднятии воздушного шара приобретало политический подтекст. Агент обратил внимание на то, что хотя большинство было «чрезвычайно довольно зрелищем» на Николаевском мосту, некоторые говорили: «Всегда у нас публика бывает обманута, так как в афишах было обещание, что после поднятия какой-то франт спустится с него на парашюте»[825]. В другом донесении было упомянуто о срыве обещанного запуска воздушного шара: «В толпе говорят, что это только можно у нас делать, а за границей такого обмана быть не может, ибо в подобных случаях там народ сам распоряжается по-своему»[826]. Из таких высказываний «угроза» революции, демократической республики легко конструировалась агентами.
Потребительский спрос на развлечения в столице был достаточно высок. Привлечь обывателя было возможно если не порочностью, то оригинальностью, новизной зрелища. Как уже показано, выполнять обещанное было не обязательно. Шефу жандармов докладывали о постоянном обмане публики содержателем вокзала Александровского парка Наумовым: «…6 августа в афише было объявлено, что воздухоплаватель, достигнув известной высоты, опустится вниз с парашютом; вместо же его была спущена кукла. Наумов постоянно обманывает афишами публику»[827].
Красочные фейерверки традиционно были любимы народом. Агенты зафиксировали сетования, что не было объявлено в газетах о предстоящем фейерверке в день рождения императрицы Александры Федоровны: «Фейерверк есть главная приманка и магнит на сих гуляньях, а не полковая музыка, которая многим уже страх надоела»[828].
Порицались и излишне экстремальные развлечения, шокировавшие публику. 26 июня 1864 г. шефу жандармов докладывалось: «Вчерашнего числа в заведении искусственных минеральных вод в новой деревне акробат Пальмер, ходящий по потолку, упал с него в протянутую сетку, как уверяют положительно, с намерением опровергнуть в глазах публики высказанное в газетах мнение, что он упасть не может. Конечно, Пальмер не причинил себе падением никакого вреда, ибо оно заранее было придумано, что подтвердили и другие акробаты, его товарищи; но при виде его падения публика и без того уже ажетированная самим представлением этим испустила пронзительный крик ужаса, а одна дама […] впала от страха в такую сильную истерику, что ее должны были отнести в особую комнату и послать за медиком. Она приведена была в чувство после долгих усилий. В публике слышан ропот на это увеселение, при описанном случае некоторые выражали мнение о прекращении этой забавы»[829].
Постоянным вниманием пользовались музыкальные вечера в Павловском вокзале. Полицию интересовали не только происшествия в парке или поведение обожательниц дирижировавшего оркестром Штрауса[830]. 10 сентября 1860 г. внимание агентов привлекли демократизм поведения брата царя и газовое освещение. Читаем в сводке: «На бенефисе Павловских музыкантов было публики до 1000 чел., тишина и порядок чрезвычайные. В первый раз зажженная газовая иллюминация была очень мила и понравилась публике, хотя она не совсем удалась, ибо была постоянно задуваема порывами ветра, чрез что весь вечер невыносимо пахло газом»[831]. Особо отмечалось, что в 9 час. вечера приехали вел. кн. Константин Николаевич с супругой, они «слушали сперва в особо устроенных для них местах, а потом в ½ 10 пошли гулять по саду наравне с прочими посетителями»[832].
15 мая 1861 г. шефу жандармов докладывалось: «Вчерашнего числа происходило открытие Павловского вокзала, куда собралось большое число публики, в том числе многие в надежде, что будет скандал, но все обошлось благополучно, хотя и Штраус был принят довольно сухо. Слышно было сначала где-то шиканье, но его заглушили аплодисменты»[833]. Интересно замечание о том, что многие ожидали скандала. Видимо, такие происшествия были обыденным явлением, можно даже сказать, каким-то дополнительным развлечением для некоторых зрителей.
Конечно, шефа жандармов волновало не исполнительское мастерство Штрауса, а то, что ожидания «многих», как и опасения Третьего отделения относительно возможности «скандала», не оправдались. Успокоительным было и сообщение о том, что «концерт начался в зале гимном „Боже, Царя храни!“, который публика заставила повторить, причем решительно все сняли шляпы»[834]. В докладной записке от 13 апреля 1863 г. об открытии концертного сезона в Павловске хорошо виден политический подтекст: «Завтра 14 апреля имеет быть открытие Павловского воксала, а потому туда будет послан нарочный агент. В минувшем году в этот день был произведен шум, когда оркестр заиграл народный гимн»[835]. Не случайно В. А. Долгоруков распорядился: «Доложить о последовавшем»[836].
Если зрители не привлекали внимание полиции, то она проявляла свой интерес к артистам и музыкантам. Так, летом 1860 г. доносили, что в вокзале Петровского парка поет хор скандинавских певиц, в свободное время промышлявших развратом[837]. На следующий год в поле зрения Третьего отделения попал оркестр еврейских музыкантов, выступавший в Царском Селе в гостинице «Александрия». По наведенным справкам оказалось, что «оркестр этот минувшим летом играл некоторое время на островах близ столицы находящихся, но как члены оного оказались евреями, которым пребывание в Санкт-Петербурге воспрещено, то они были удалены»[838]. По инициативе Третьего отделения было инициировано расследование, «на каком основании музыканты эти находятся в Царском Селе»[839].
Следует отметить, что не только негативная информация наполняла полицейскую хронику. В контексте городских происшествий довольно неожиданно звучит следующее сообщение: «[…] против Екатерининского института, на очищенном на Фонтанке месте, для езды на коньках между множеством мальчиков и взрослых мужчин, катавшихся на коньках, обращала на себя внимание публики девица лет 15 или 16, прехорошенькая собой и весьма стройной наружности; к удивлению всех, тоже катавшаяся и даже слишком смело для прекрасного пола и такого нежного возраста. По обеим сторонам Фонтанки собралось множество зрителей, любовавшихся сей новой в своем роде здесь амазонкой, находились, однако, люди, в том числе порядочные дамы, которые порицали смелость этой девицы и находили непристойным выказывать себя так публично, именно потому, что этот род невинного увеселения для женского пола еще не принят у нас в публике.
Говорили, что она была с двумя братьями, однако незаметно было, чтобы к ней приближался кто-нибудь из мужчин и она каталась одна, ни на кого не обращая внимания. Впрочем, мужчины имели удовольствие видеть, как эта миленькая дамочка в прелестном костюме раза два падала и их любопытным и жадным взорам открывались довольно высоко щегольские и белые как снег женские брючки»[840].
Сделанное чиновником поэтическое описание зимнего времяпровождения молодежи — свидетельство того, как отступали старые и утверждались новые поведенческие модели. Носителями и контролерами норм являлись «порядочные дамы», которые хотя и порицали девушку, но, тем не менее, смотрели на ее выступление. Нарушением норм были юный возраст («фигуристку» воспринимали не как ребенка, а как девицу), необычный для женщины вид развлечения (в среде мальчиков и мужчин), смелость и раскованность (черты неженского поведения), акцентирование на себе внимания публики (нескромность), костюм (оценивалось белье, то есть открывалась возможность подглядывания под юбку), отсутствие видимой мужской опеки (контроль семейных уз). Чем дальше зрелища были от эталонных образцов, рекомендованных для подражания, тем больший интерес они вызывали.
Совершенный восторг публики, близкий к состоянию массовой истерии, вызвал приезд в Петербург женщины-обезьяны. Это событие получило отражение и на страницах толстых журналов, и в полицейских донесениях, и в дневниках современников.
Как и положено по законам жанра, сначала таинственному явлению предшествовали слухи, появившиеся в марте 1858 года. Наиболее рационалистически мыслящие полагали, что это обычное мошенничество, что, скорее всего, женщина не родилась такой, а «ухитрилась удачно натянуть на голову безобразную обезьянью шкуру» (ибо о ней заговорили, когда ей было уже 23 года, перед приездом в Россию)[841]. Другие видели в ее появлении какой-то особый смысл, включая ее визит в контекст отношений император — народ. Абсурдность ситуации подтверждалась существованием абсолютно противоположных по смыслу слухов-суждений. Говорили, что «ее сюда вытребовал сам император и даст 300 тыс. руб. приданого [тому] кто на ней женится» и, наоборот, что «император запретил приезжать, чтобы чудовищный вид сей обезьяны не произвел здесь в беременных женщинах испуга […] и тем предохранить многие семейства от распространения в оных обезьянного рода»[842]. Обозреватель «Отечественных записок» свидетельствовал: «Ни одна артистическая знаменитость не пользовалась в Петербурге такой популярностью, как мисс Пастрана, еще до приезда которой во всех магазинах, на улицах и перекрестках продавались более или менее дешево ее портреты. Благодаря этому обстоятельству, каждый мужик в Петербурге знает, кто такое мисс Юлия Пастрана и чем она замечательна»[843]. Следом, видимо в ожидании разоблачения, раскрытия обмана, исчезновения «героини» заговорили о ее смерти в Москве при родах.
«Наконец, приезд Юлии Пастраны (которую здесь уже начали считать каким-то мифом или просто заграничным обманом) рассеял все сомнения петербургской публики насчет действительного ее существования, — писал чиновник Третьего отделения. — 2 мая было первым радостным днем ее появления взорам любопытной нашей публики, замечают, однако ж, что борода Пастраны жестко колется, ибо она немилосердно дерет по 3 и по 2 руб. сер. за вход. Впрочем, в России (говорят) денежки легки и круглы, оне катаются во все стороны! Не то что немецкий талер […]»[844]. Следом он продолжал развенчивать мифы: «К удивлению оказывается, что Пастрана не просто, как полагали, бессловесное чудовище, — но говорит по-английски и по-испански, а также понимает и по-французски; находят ее даже любезною и слишком образованною в отношении ее отвратительной наружности! Впрочем, голос и произношение вялы, слабы и неопределенны, а романсы, которые поет с аккомпанементом какого-то несчастного пиано, как заметно не производят в зрителях особенного удовольствия, а пальпирует она для сложения своего довольно грациозно, ножка же чрезвычайно мала и весьма красива»[845].
С «полицейским» взглядом заочно полемизировали в деталях толстые журналы. И. Панаев в своих заметках с присущим фельетонному жанру ехидством представлял девицу, доставленную в Петербург «вместе с последним привозом устриц»: «Танцующая, поющая, говорящая на нескольких европейских языках, занимающаяся рукоделием, словом девица, отличающаяся блестящим образованием, и притом, как известно, чудовищною наружностью»[846]. «Отечественные записки» признавали: «Для удовольствия посетителей, несчастная мисс, отличающаяся, по словам афиш, веселым характером, поет и танцует, что должно сказать правду, вместе с ее наружностью, с ее не первою молодостью, возбуждает тяжелое грустное чувство»[847].
Ажиотаж первых недель скоро поубавился. «Гордая женщина-обезьяна, сначала ошеломившая взиманием 3 руб. сер. за вход в свою конуру, теперь смиренно дозволяет смотреть на себя за полтинник», — напоминал хроникер «Библиотеки для чтения»[848].
Следствием популярности должно было стать тиражирование необычного образа. Чиновник Третьего отделения предсказывал: «Ожидают, что в скором времени, по принятому вообще в модном дамском свете обычаю, вероятно, появится здесь много предметов дамского туалета a la Pastrana! Не будут же (говорят) наши миленькие дамочки отращивать усики и бородку? Для брюнеток, и без того уже одаренных природою изобильною растительностью волос, это было бы весьма нетрудно […]»[849].
Через неделю ситуация не изменилась. Шефу жандармов докладывалось о том, что Пастрана «все еще l`heroine de jour, только и разговоров, что о ней». Новые слухи шли в развитие прежних: «Здешние женихи повесили носы […] приехавший с нею сюда молодой ловкий англичанин, находящийся при ней в качестве кавалера-сервенто, а может быть и легитимированного цицисбео, по-видимому, уже вполне пользуется дикими ее ласками и вероятно навсегда перебил дорогу прочим искателям мохнатого сердца Пастраны, а особенно ее денег, коих у ней (говорят) набрано довольно»[850]. Пересказывая всю эту ерунду, полицейский чиновник прибавлял: «[…] публика, как заметно, твердо уверена, что Пастрану непременно в скором времени будут требовать во дворец»[851].
Народная молва продолжала конструировать вероятные практики типового, житейского поведения, повторяя слух, «что за 15 целковых секретно показывает себя совершенно нагая». Как и предполагалось, началось копирование узнаваемых элементов звериного облика: «Слышно, что уже появились здесь чепчики и другие головные дамские уборы a la Pastrana» и продаются «особенно крепкие мексиканские папиросы» с ее портретом с папиросою в руке[852].
Терпимое, ироничное отношение к заблуждениям низов сменилось раздраженным порицанием увлечения высших кругов нелепым чудом. В докладной записке от 20 мая 1858 г. указывалось: «Здешняя молодежь с иностранных контор и сынки наших богатых, но необразованных старинного века купцов, как известно, всегда любят щеголять безобразною густою своею бородою и корчить каких-то лордов. Теперь же с приездом сюда Пастраны замечают, что жалкая эта страсть перешла к многим нашим аристократам из военного и гражданского звания, кои один перед другим тщеславятся тем, у кого лицо безобразнее другого, что они с самодовольством называют a la Pastrana»[853].
Городские слухи, заботливо собираемые стражами порядка, зачастую опровергали сами себя. Недоверие к ним основывалось на элементарном здравом смысле. Так, ложность слуха о том, что Пастрана показывает себя нагой, «многими оспаривается тем, что полиция не допустила бы такого соблазна». За разрешением загадки («действительно ли она обезьянного рода») обращались якобы к каким-то медикам («будто бы это можно только доказать, если она имеет нечто подобное хвосту»). По их заключению Пастрана не имеет хвоста и вообще «чрезвычайно стройная женщина»[854]. Обозреватель «Библиотеки для чтения» резонно замечал: «Нас удивляет одно: как до сих пор не объяснят верно и удовлетворительно происхождение этого, в самом деле замечательного явления? Неужели так трудно добраться до истины?»[855] Такого рационального подхода явно не хватало для разрешения недоумения и снятия ажиотажа. С другой стороны, этот коммерческий проект держался именно на «загадке» Пастраны, и пригласивший ее голландец Юлиус Гебгард всячески поддерживал ауру таинственности.
Совершенно ничтожное по значимости событие столичного мира развлечений так долго волновало Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, думается, в силу нескольких причин. Представленный образ «мисс Юлии Пастраны — девицы из Мексики, с усами и бородой»[856] вполне укладывался в исконные, демонические представления простого народа о Западе. Явное или подсознательное признание цивилизаторской миссии Европы и догоняющего характера развития российской цивилизации предполагало рефлекторную, маскирующую ущербность реакцию иронии, высмеивания, обращенную на далеко не лучших представителей западной культуры. Пастрана была неплохим средством для ее дискредитации. Один из современников писал: «На афише она представлена подбоченившеюся и танцующею в коротеньких юбках, надутых кринолином»[857].
Образ «обезьяны в кринолинах» нес и сатирическую нагрузку, высмеивая повальное увлечение высшего света этой французской модой. Высокая цена билетов делала это зрелище элитным[858], создавая в народном сознании почву для новых антизападных мифологических построений. Активировать эти настроения руководство Третьего отделения считало нежелательным. Поэтому сведения о намерении везти Пастрану в Москву и на Нижегородскую ярмарку сопровождались на полях сводки заметкой управляющего Третьим отделением А. Е. Тимашева: «…появление ее в Москве и Нижнем произведет неприятное впечатление»[859]. В большей степени полиция, конечно, следила за политическим подтекстом массовых зрелищ. Показательна и первичная информация, и заключение профессионалов политического сыска по поводу одной из афиш (март 1858 г.): «Агент списал с вывески балагана на адмиралтейской площади: „Восковая большая картина предстающая голову отсечение преступников которые поси гали на жызень Французского Императора Наполеона“. Кажется, что не только эта надпись, но и представление, о коем она говорит, совершенно неуместно как забава для нашего народа, которому нет надобности знать о посягательстве на жизнь Государя»[860].
Особое отношение у блюстителей общественной нравственности и спокойствия было к театрам. По цензурному уставу 1828 г. на Третье отделение была возложена цензура драматических сочинений как на русском, так и на иностранных языках. Подобное обособление сценических произведений от общей цензуры, предполагавшее более пристальное внимание, можно объяснить особым эмоциональным воздействием театра на публику.
Еще в 1830-х гг. чиновник Третьего отделения, цензор драматических сочинений надворный советник Е. И. Ольдекоп, предлагал запретить одну французскую пьесу по весьма своеобразной причине — опасаясь откровенной игры актрисы: «Новая артистка M-lle Irma хочет блеснуть в этой пьесе и, судя по ее выбору, намерена идти по стопам M-lle Maihot, которая неоднократно была неприлична на сцене, благодаря чему многие пьесы, по существу совершенно невинные, в исполнении M-lle Maihot становились неприличными и снимались с репертуара»[861]. В данном случае речь шла о том, что актриса в одном спектакле «раздевалась до такой степени, что все были скандализованы»[862]. Настоящий талант не нуждался в провокационном поведении. А. В. Дружинин описывал появление знаменитой Рашель в «Федре»: «Роль свою она начала глупыми и неестественными завываниями, но скоро расходилась и была точно хороша. В любовных сценах она походила на женщину, одержимую бешенством матки. Меня трудно потрясти, и я не потрясался, но публика потрясалась и была права»[863]. Сценическая откровенность порождала эротические фантазии.
О театральной жизни столицы Л. В. Дубельт информировал шефа жандармов, находившегося в отъезде (20 октября 1845 г.): «В городе все благополучно. Итальянская опера в нынешнем году [не] угодила публике, без Рубини дело не идет на лад. Сальви все болен; слышно, что на будущий год не будет желающих абонироваться. Теперь все заняты госпожой Арно-Плесси. Она понравилась публике — и точно сверх красоты телесной обладает талантом в высшей степени совершенства»[864].
Нарушение порядка во время спектакля было серьезным происшествием, достойным внимания высших сановников и императора: «В Москве есть две танцовщицы, Санковская и Вейс. Во время балета первой аплодировали, а во вторую — неслыханное на Руси дело — бросили два яблока! Одно попало ей в плечо, другое в ногу. Это все делается, как говорят, по интригам Санковской и танцевального учителя Герина. По их же милости, в недавнем времени во время танцев девицы Вейс подкинули на сцену гвоздь! Метание яблок делалось в присутствии князя Щербатова»[865]. То, что хулиганский поступок был совершен в присутствии московского генерал-губернатора А. Г. Щербатова, придавало действию особую важность, на него надлежало реагировать, чтобы не создавать иллюзию безнаказанности.
Строго регламентируя содержание публичных представлений, власть не допускала никаких акций с особыми смыслами. Как только было донесено, что один чиновник «во время обеда у Доминика слышал разговор двух армян, намеревающихся во время спектакля бросить ей [актрисе Миле] на сцену неприличную штуку»[866], незамедлительно со стороны полиции и Третьего отделения были приняты меры для недопущения подобных действий.
С началом новой эпохи проблемы остались прежними. В мае 1858 г. чиновник Третьего отделения обращал внимание своего руководства на то обстоятельство, что даже «при всей строгости нашей театральной цензуры и бдительности ее смотрения во время самих представлений» очень многое зависит от актеров. Будут они «буквально ли придержаться словам пьесы или дозволять себе отступления и употребление своих выражений и экспромтов. Часто одно слово, брошенное актером кстати, даже один нескромный жест или особенное выражение глаз, направленное на публику, может придать словам пьесы площадную тривиальность, за которую цензура никак отвечать не может»[867]. Беспокойство вызывали «новейшие парижские водевили и комедии», избиравшиеся французскими актерами для своих бенефисов. Проблема была в том, что эти постановки характеризовались как «более или менее наполненные скользкими, двусмысленными каламбурами и намеками, кои в русском переводе их пьес весьма часто передаются выражениями несравненно больше оскорбляющими благопристойность»[868]. Так, одна из французских пьес была разрешена с условием, что «при раздевании актеры не будут снимать панталон, что, впрочем, не помешает веселости фарса»[869]. В 1863 г. по ходатайству Третьего отделения последовало высочайшее дозволение артисту А. Олдриджу «исполнить в Полтаве роль Ричарда III, согласно тому, как она была играна актером Брянским в Санкт-Петербурге»[870].
Естественно, спектр развлечений жителей столицы 1830–1860-х гг. был значительно шире зафиксированного тайной полицией. Заинтересованное в сохранении и поддержании традиционных устоев, полицейское ведомство изначально было ориентировано на фиксацию девиантного поведения, выявление факторов его предопределявших и способствовавших изменению канонов. В канун Крестьянской реформы 1861 г., по наблюдению А. Ф. Некрыловой, «официальные круги все с большей опаской глядели на скопление народа в центре города в дни традиционных гуляний и ярмарок, на обилие бесцензурных речей, свободного слова на праздничной площади»[871]. Следствием стало вытеснение зрелищных мероприятий на окраины, в загородные сады и парки, пристальный контроль и цензура текстов балаганных представлений, пьес, афиш.
После покушения Д. В. Каракозова на императора Александра II необходимость усиления надзора стала еще более очевидной. Чиновник Третьего отделения Н. Д. Горемыкин представил новому шефу жандармов П. А. Шувалову записку, обосновывавшую «насущную […] и неотложную потребность» наблюдения. Для повышения эффективности надзора следовало обеспечить свободный доступ агентов в места скопления публики: «Агенты наши поддерживают этим знакомство с нужными для нас лицами и приобретают новое, конечно, в наших видах полезное знакомство»[872]. Чиновник убеждал новое руководство в том, что, стремясь обеспечить постоянное посещение загородных гуляний, не следует заставлять агентов делать это за свой счет, так как они получают «крайне ограниченное содержание» (от 25 руб. до 100 руб.). Наибольшее вознаграждение получали только два агента в силу специфики их деятельности, связанной с денежными тратами.
В записке приводился примерный расчет средств, одновременно показывающий и объекты жандармского внимания: шесть клубов — «немецкий, прикащичий, благородного собрания, купеческий, служительский и поощрения художников» с платой за вход по 1 руб., то есть 6 руб. ежедневно; пять загородных гуляний со стоимостью входа по 1 руб. на три и оставшиеся два сада — по 30 коп., итого 3 руб. 60 коп.; разные мелкие сады (до 10) с платой от 20 до 30 коп., в среднем — 2 руб. 50 коп. в день. Добавлялись еще посещение ежемесячных собраний в клубах (по 12 руб. в каждом), прочие мелкие зрелища — 70 руб., разъезды по городу 2 агентам — 60 руб. и т. д.[873]
Тотальный надзор за массовым времяпровождением горожан для выявления следов политической активности и предотвращения злоумышлений превращался в дорогое занятие, с далеко не очевидной эффективностью и результатом.
Глава 6. Высшая полиция: наблюдение за общественной нравственностью и здоровьем
Вечная проблема любого государства: противодействие или регламентация проституции — не прошла мимо и государства Российского.
Традиционно половые преступления и отклонения от «нормативной» сексуальной жизни находились в ведении православной церкви. Соборное уложение предусматривало только ответственность за сводничество для блуда. Петр I добивался цели поддержания боеспособности армии и обеспечения физического здоровья солдат, поэтому в ст. 175 «Артикулов воинских» было четко определено: «Никакия блудницы при полках терпимы не будут, но ежели оные найдутца, имеют оныя без разсмотрения особ, чрез профоса раздеты и явно выгнаны быть»[874]. Важно отметить, что законодатель четко обозначил, что насилие «над явною блудницею» и «честною женою» «все едино», и «надлежит судье не на особу, но на дело и самое обстоятельство смотреть»[875].
При Елизавете Петровне Главная полицмейстерская канцелярия была озадачена сыском «непотребных жен и девок, как иноземных, так и русских» для заключения в Калинкинский дом[876]. При Екатерине II «непотребных девок» Мануфактур-коллегии предписывалось определять в работу на фабрики. Система безусловного запрета проституции из прошлого законодательства перешла в Свод законов Российской империи (1832). Действовавший Сельский полицейский устав (1839), Наказ чинам и служителям земской полиции (1837) предписывали наблюдать за тем, чтобы не было «чинимо и допускаемо» «всякого разврата нравов», уличенных в «непотребстве» наказывать общественными работами. Причем ужесточение ответственности заметно в статье 781 Свода законов уголовных (1842): «виновные в блуде подвергаются тюремному заключению и церковному покаянию»[877].
Однако через несколько лет позиция законодателя существенно изменяется. По наблюдению А. И. Елистратова, «в Уложении 1845 г. впервые […] в истории русского законодательства проявляются проблески либеральной идеи в отношении непотребства идеи сексуальной свободы личности»[878]. «Сожитие неженатого с незамужнею» теперь предусматривает только церковное покаяние, если оно не обращено в ремесло. Ст. 1249, 1287. С начала 1840-х гг. ведется разработка полицейского регламента с целью борьбы с «любострастными болезнями», предполагающего составление правил надзора за публичными женщинами. В сентябре 1843 г. министром внутренних дел Л. А. Перовским был внесен в Комитет министров проект создания в столице в виде эксперимента на два года при медицинском департаменте врачебно-полицейского комитета, для надзора за женщинами, промышляющими развратом. Это предложение получило одобрение императора. 29 мая 1844 г. министром были утверждены особые правила для содержателей борделей и публичных женщин[879]. Тем самым абсолютно запрещенное уголовным законом стало регулироваться ведомственным циркуляром. В марте 1848 г. министр внутренних дел Л. А. Перовский и министр юстиции В. Н. Панин получили согласие императора на предложенный механизм освобождения от ответственности поднадзорных проституток за непотребство, если они не повинны ни в каком другом преступлении.
Поскольку все распоряжения по этому вопросу осуществлялись через систему Министерства внутренних дел, Третье отделение вмешивалось в правоприменительную практику только в случаях, затрагивавших государственные интересы.
6 февраля 1839 г. М. А. Корф сделал запись в своем дневнике о событии, произошедшем на Масленицу: «Один чиновник французской миссии схвачен был полициею вместе с несколькими русскими в публичном доме, где они неиствовали над хозяйкой и послушницами до такой степени, что крики и вопли привлекли стражей общественного благочиния»[880]. Учитывая статус дебошира и последовавший его скорый отъезд на родину, можно предположить, что это дело не осталось без внимания Третьего отделения, тайно опекавшего иностранных гостей.
Высшей полиции приходилось участвовать и в решении глобальных вопросов — обеспечения здоровья военнослужащих.
5 мая 1842 г. жандармский штаб-офицер А. И. Ломачевский рапортовал шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу о ситуации, сложившейся в Минской губернии. Жандарма беспокоила несогласованность в действиях местных властей, ставившая под угрозу исполнение высочайшего повеления[881]. Дело в том, что осенью 1841 г. во время пребывания императора в Ковно, посетив военный госпиталь, он заметил в нем большое число нижних воинских чинов, находившихся на лечении от венерических заболеваний. Император распорядился принять строгие меры для того, чтобы на будущее время, «вблизи лагерей казарм и мест, где расположены войска, не было непотребных женщин»[882]. Генерал-губернатор Гродненский, Минский, Белостокский Ф. Я. Миркович немедленно предписал Минскому губернскому правлению «непотребных женщин, зараженных венерическою болезнью, по излечении строго наказывать розгами, брить ими головы и высылать из города»[883]. Однако губернское правление указало на незаконность подобных действий. Детали конфликтной ситуации проясняет отношение А. Х. Бенкендорфа к министру внутренних дел Льву Александровичу Перовскому от 16 мая 1842 г. В ответ на предписание генерал-губернатора Минское губернское правление осуществило некоторые меры, но не посчитало возможным предписать полиции «без суда наказывать розгами женщин, излечаемых от любострастной болезни, о бритье им голов и высылке из города, так как мера сия вовсе не согласуется с существующими узаконениями»[884]. Ф. Я. Миркович подтвердил безусловность исполнения предложенных им мер. Минское губернское правление вновь указывало на серьезную проблему, которая возникла бы при исполнении этих распоряжений: она «повела бы к величайшим злоупотреблениям и к неизбежной ответственности, поелику между развратными женщинами часто встречаются не только вдовы, жены и дочери чиновников, но и дворянки, по коренным законам телесному наказанию не подлежащие». Другой «неудобоисполнимой мерой» было «учреждение при полиции больниц, для пользования женщин зараженных венерическую болезнью». В то же время, как стало известно шефу жандармов, генерал-губернатор одобрил и передал в Минское губернское правление для примера распоряжение Гродненского губернского правления, согласно которому предложено «развратных женщин, излечаемых от любострастных болезней, отдавать помещикам или обществам, если они согласятся уплатить за их лечение, в противном случае женщин этих отсылать на работы»[885].
А. Х. Бенкендорф указывал на противоречивость предложенных мер, если телесное наказание «в отношении к простолюдинам и не противно 230-й статьи „Устава о предупреждении и пресечении преступлений“, то явно неисполнимо предписание о направлении их на работы: „ибо женщина, строго наказанная розгами и с обритою головою нигде не будет принята в работницы“». Кроме того, шеф жандармов обращал внимание на опасность нарушения закона: местные полиции, буквально исполняя данное предписание, «на всяком шагу будут в опасности сделать уголовное преступление телесным наказанием женщины-дворянки, да и самые губернские правления подведомственных генерал-губернатору Мирковичу губерний не могут исполнить такового распоряжения не подвергнув себя строгой ответственности»[886]. Разрешить эту коллизию А. Х. Бенкендорф и предлагал Л. А. Перовскому.
Министр запросил объяснения у генерал-губернатора. В рапорте от 15 июля 1842 г. Ф. Я. Миркович изложил логику предпринятых действий. Прежде всего он обратил внимание на сохранявшееся в военных госпиталях Ковно, Вильно, Бреста, Гродно большого количества больных нижних чинов, «объятых любостростной болезнью», что «служит достаточным убеждением в значительном распространении распутства и что принимавшиеся доселе меры, сообразно существующим правилам, недостаточны пресечь оное»[887]. Источник болезни выявить практически невозможно: «Нижние чины, по запирательству или действительному неведению названий женщин, от коих заразились, не представляют средств к открытию их для предания действию закона, между тем оне, оставаясь в неизвестности, продолжают распространять болезни»[888]. В тех же случаях, когда личность проститутки установлена, меры воздействия на нее неэффективны: «Отдача простой распутной женщины в работы к частным людям, по недостатку для того казенных заведений, не производит на нее никакого существенного впечатления, так как она, по состоянию своему, быв привычна к таковым занятиям, с полным равнодушием принимает это, слишком легкое для нее наказание; и даже во время бытности в работах, находит способы продолжать по-прежнему беспутную жизнь»[889]. В большинстве местностей невозможно организовать «близкий надзор» за этими дамами, да и исправительных и работных домов там просто не существует. Поэтому необходимы более строгие меры, которые заставляли этих женщин «уклоняться от связей с нижними чинами». «Сделанный над несколькими пример этого наказания, устрашит прочих и этим средством можно только надеяться, достигнут, с большим успехом, остановления, очевидно распространяющегося разврата»[890].
Логика в рассуждениях генерал-губернатора несомненно была. Выход из ситуации был, по сути, подсказан уже письмом А. Х. Бенкендорфа. 3 августа 1842 г. Л. А. Перовский сообщал в Третье отделение, что предложенное Ф. Я. Мирковичем наказание непотребных женщин «быв совершенно необходимо для пресечения распутства, относится лишь до женщин простого звания»[891]. Высшая полиция предупредила возможное нарушение закона и сословное недовольство, к тому же к проблеме было привлечено внимание столичных властей, что, в свою очередь, было гарантией исполнения предписаний, хотя бы на короткое время.
Другой материал, обнаруженный в архиве, касается ситуации, сложившейся примерно в это же время на Нижегородской ярмарке. Эта ярмарка в первой половине XIX века являлась крупнейшим центром оптово-розничной торговли России. П. И. Мельников, будущий крупный чиновник Министерства внутренних дел и писатель, а в то время — редактор неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей», справедливо писал в 1846 г.: «Ярмарка Нижегородская сделалась в некоторой степени мерилом успехов нашей промышленности и рычагом, поддерживающим сложную машину торговли отечественными фабрикатами»[892]. Эта ярмарка — своеобразное «сборное место купечества»[893]. «В Нижнем Новгороде собираются все купцы внутренней и восточной России и здесь производят окончательный процесс годовых своих оборотов. Здесь в одно время собираются капиталисты из Москвы и Кяхты, из Астрахани и Каргополя, из Петербурга и Тифлиса; сюда являются бухарцы, армяне и бродские евреи; сюда стекается многочисленное собрание розничных городовых торговцев, которые, купив на ярмарке товары из первых рук, распродают его по всей России»[894], — писал нижегородский публицист.
Помимо деловой части ярмарки существовала и ее неофициальная, теневая сторона, тесно связанная с проходившим коммерческим оборотом. О ней свидетельствует обнаруженная в фонде Министерства внутренних дел записка, открывающая дело «О стечении на Нижегородскую ярмарку значительного числа непотребных женщин»[895]. Неизвестный автор повествовал о ситуации, сложившейся на ярмарке к августу 1843 г. Его описание представляет несомненный интерес для понимания организации теневого рынка сексуальных услуг, поведения его акторов и выработки способов противодействия.
Неизвестный автор указывал на беспрецедентный и циничный характер разврата, творившегося на ярмарке: «Нигде в целой России, и вероятно нигде в свете, с таким отъявленным бесстыдством, как происходит это в течение последних годов на Нижегородской ярмарке, не является столько публичный разврат и до такой степени наглое непотребство»[896]. Традиционность в нарушении правил общественной морали с «отъявленным цинизмом» требовала не только административных преград, но и понимания способов ограничения аморального поведения: «Порок достиг здесь такого печального систематизма, который в самых многолюдных городах Европы привлек на себя внимание и Науки, и Правительства, с целью если не искоренения, то по крайней мере удержания его в возможно тесной рамке общественной вредности»[897].
Далее автор перечислял основные центры ярмарочного разврата — «главные притоны». «Первое и главнейшее в этом бесчестье» место — это расположенное поблизости от Нижнего Новгорода село Кунавино: «Целые домы отдаются под бесчестный промысел, целые переулки Кунавинские сплошь набиты постыдными артелями. Ничего не может быть отвратительнее зрелища дерзко освещенных во всю ночь нижних этажей сих домов, совершенно видимых с улицы, с накрытыми столами, будто для ужина и расхаживающих, выставляющихся в окошки, зазывающих к себе, тварей этих гнездилищ»[898]. На второе место автор ставил ярмарочные бани: «Почти при каждой из них содержится несколько своих таких женщин, для немедленных требований, и сверх того, приговорены нарочные извощики для привоза». Затем следует «самое неопрятное место», расположенное за ярмарочным театром: «Тут тесно наставлены войлочные шалаши, и в них набито битком женщин по десяти, и больше». И наконец, «бродячий» притон — «на пристонях и по всему ярмоночному берегу как Оки, так и Волги. Тут укрываются по кустарникам»[899].
Помимо притонов, действовавших несколько ярмарочных недель, существовала и собственно нижегородская инфраструктура разврата. Автор подчеркивал, что жители Нижнего Новгорода избалованы ярмаркой: «В нем не только мещанки и дворовые, но даже купеческие жены и дочери порядочных домов продают себя»[900]. Таких особ насчитывалось не менее 200. Летом они из города переходили на ярмарку. Местами локализации сексуальных услуг выступали питейные заведения. «Необыкновенно многочисленные ярмоночные трактиры, распивочные лавки и питейные домы смело потворствуют распутству, имея нарочные кельи внутри, либо на дворах. В верхних этажах богатых трактиров задаются ночные гульбы, часто с цыганками, также наезжающими из разных губерний»[901], — сообщал автор записки.
Указывал он и количество «непотребных женщин» в отдельные годы: «по внимательному частному исчислению до 2500». Особо оговорив, что «под таким наименованием разумеется самая отъявленная категория: завсегда готовые, только и ищущие случая продать себя»[902]. Есть сведения и о расценках за услуги: «Пределы цен за порок весьма различны. Бродячие продают себя на пристанях, бурлакам, и за пятиалтынный, даже менее. Вино обыкновенно бывает наддачею. В вертепах, убранных с походною роскошью, рядовая цена 5, 10 и до 25 р. ассиг[нациями]. В них также стараются затягивать в попойку»[903]. В сравнении с ценами петербургских притонов ярмарочные услуги были дешевле. Интенсивность обслуживания потребителей, вероятно, была аналогичной столичной, а возможности «бродячего» варианта обслуживания в летний день на живописных речных берегах привлекательнее грязных притонов[904].
Интересна представленная автором логистика живого товара. Откуда же движутся «обычные стаи… непотребных женщин»? Ежегодно из Киева и Вильно, не каждый год из Варшавы «едут сюда, в огромных фургонах и бриках» целыми артелями. Их хозяева берут в тех городах какие-нибудь цеховые свидетельства, якобы для работ на ярмарке. Все это делается с ведома полиции: и «местная, и Нижегородская, покрывают обоюдно эту уловку». По национальному составу «пациентки тут более польки, немки, потом жидовки и белорусские»[905].
«Второй набор» прибывает из Москвы. Причем эти артели кочуют с ярмарки на ярмарку, переезжая в Нижний с Ростовской ярмарки Ярославской губернии, занимаясь своим ремеслом «несмотря на самое постное в году время, первые недели великого поста»[906]. Как видим, религиозные нормы и ограничения не оказывали даже формального влияния на этот промысел. К тому же эти артели располагались занимая целые улицы в слободе неподалеку от монастыря.
Традиционный водный путь использовался максимально и в начале, и в конце ярмарочного торжища: «Третий набор приплывает по Волге, и сверху, и снизу. Рыбинск, в своем качестве сильной пристани, не бедный и этим товаром; приученный к чувственный роскоши Ярославль, Кострома, и даже уездные верховые города и посады, спускают от себя по нескольку больших лодок, нагруженных их артелями. Казань любимое перепутье сибирских, большею частью денежных, купцов и их прикащиков, высылает на ярманку множество женщин, и Волгою в верьях, и на лошадях. По окончанию оной, они спешат спуститься по воде, дешево и скоро, чтобы опять встретить и задержать гостей, на возврате их назад в Сибирь»[907].
Наконец, «четвертый, самый многочисленный, набор распутных женщин приходит на Нижегородскую ярманку пешком, „табунами“, по местному выражению»[908]. Свой основной род занятий они маскировали под мелкое предпринимательство, занимаясь попутно с поиском клиентов разносной торговлей: «Под видом хлебопечек, прачек, продавиц калачей, рыбы, грибов, ягод, но собственно с привычным уже им и отъявленным промыслом, „снуют“ на ярманку толпы крестьянских баб и девок, и, приходя, размещаются по сказанным шалашам, бродят по берегам, или получают притон и покровительство во множестве тамошних питейных домов. Большей частью все оне остаются до конца торгового срока ярманки, пока не отойдут уже суда и обозы с товарами, и не отхлынут назад толпы рабочего народа»[909].
Жрицы любви умело организовывали витринный просмотр предлагаемого товара: «В начале ярманки, для озна комления и показа себя, а в конце оной, чтоб напоминать о прощании, непотребные женщины разъезжают по гостиному ярмоночному двору в довольно нарядных иногда линейках; или прогуливаются, разрядясь как можно щеголеватее»[910].
Автор записки отмечал, что «бесчестная торговля», по сути, подчинялась тем же принципам, что и основная, имея свой наилучший ход один-два раза за сезон.
Первый наиболее выгодный период — в начале ярмарки. «Настоящим образом» она открывалась 25 июля, в это время «делались дела» только на чай, низовой хлеб и сало. В это время «пока не съедутся отцы семейств и старшие хозяева»[911], у торговых представителей много свободного времени и нет семейной и начальственной опеки. Поэтому праздное времяпровождение обеспечивало спрос на интимные услуги, заблаговременно прибывших, обустроившихся и раскинувших свои сети жриц любви.
«Тишина торговой деятельности» длилась до 6 августа — праздника Преображения Господня. «К этому празднику, — пишет нижегородский наблюдатель ярмарочного разврата, — съезжаются уже все, и следующего дня начинается горячая торговля, вплоть до двадцатых чисел августа. В это горячее время, если бы кто и думал о проказах, успевает улучить время разве урывками. Молодые купцы и прикащики беспрестанно на глазах, беспрестанно спрашиваются, по делам, своими старшими. Только вследствие попоек при торговых сделках удаются им свободные случаи»[912].
Таким образом, сексуальная индустрия в это время пребывала в застое. На ярмарке в этот период шла только предварительная работа, подготавливалось заключение сделок, обговаривались условия контрактов: «Деньги во все это время мало еще выходят из хозяйских сундуков, ибо вся почти торговля на Нижегородской ярманке, — этом годовом средоточии купеческих взаимных требований и расчетов, — есть переводы, покупка, продажа, выплаты, обделываются сначала на словах, на условиях, на бумаге»[913].
Время реальных денежных расчетов начиналось с 23 августа и продолжалось около десяти дней. Затем «главные хозяева разъезжаются; молодые люди и прикащики остаются доканчивать подробности дел», и тогда «начинается и вожделенный самый срок разгула»[914]. Причем спрос на живой товар разного качества менялся в соответствии с ритмом ярмарки: последние дни «важны и прибыльны для развратных мест несколько высшей цены, напротив того, для самых дешевых из них, удовлетворяющих рабочий народ, самое барышное время есть средина ярмарки»[915].
Следует напомнить, что в кульминационные ярмарочные дни ежедневный людской поток достигал примерно 200 тыс. чел.[916]. По-видимому, сложившаяся система сексуального обслуживания мужчин, оторвавшихся от морального надзора семей и от социального контроля старших и начальников, без труда удовлетворяла колоссальный спрос разгульного купечества, чернорабочего люда, бурлаков и др., получивших «живые» деньги за товар или работу и жертвовавших их толику, согласно своему статусу и запросам, на празднование завершившегося трудового цикла. Древняя традиция распития магарыча как факта завершения сделки дополнялась удалыми формами кутежа, закреплявшими в памяти удачный торговый год.
Указывал автор записки на особую роль откупщиков, которые, считая ярмарку «в числе самых лакомых добыч», «за позволение продажи вина в трактирах, харчевнях, развратных домах… за смотрение заодно с полициею сквозь пальцы, за запрещенный впуск в трактиры женщин, людей в тулупах и проч.» облагали каждое такое заведение особым сбором — «сложностью» — закупкой «стольких-то ведер в день, по безобразно высокой цене»[917].
Содержатели притонов вынуждены были идти в эту питейную кабалу. «Выпродадут или не выпродадут вино, но взять сполна должны, а не то — хоть не бери, — говорят откупщики, — но деньги отдай, с малою разве уступкою за невзяток»[918]. И здесь поставки зависели от уровня обслуживания в заведении: от дешевых виноградных вин до дорогого шампанского. Виноторговля превращалась в навязчивую реализацию спиртного, обеспечивавшую баснословные доходы откупщикам. Посетивший в 1845 г. Нижний Новгород драматург А. Н. Островский сделал в дневнике запись о посещении ярмарочного театра: «Я ходил в кондитерскую, устроенную в театре, спросил чашку кофе; мне отвечали: „У нас кофею нет-c, некогда варить, да и не требуется“. — А что же у вас есть? — „Водка, вины и больше ничего“»[919].
Каким же образом можно было бы исправить сложившуюся ситуацию? Неизвестный автор записки указывал на невозможность и опасность скоропалительных и решительных мер: «Начать надо полумерами, и что даже на будущее время, неизбежима будет терпимость, а не строгий пуризм… Зло это там давнее, вкоренилось, привычно: оно перешло, совсем уже созревшее, из прежней Макарьевской ярманки»[920]. Обращал он внимание на этнический и половой состав ярмарочного мира: «Нельзя также не принимать во внимание, что стечение народа бывает огромное, много разноплеменных, и что отношение числа мущин к числу женщин, в смысле теперь исследуемом, бывает там: как многие сотни к единицам»[921].
Указывал он и на поведенческие особенности ярмарочной толпы, получившей как итог напряженной работы свой денежный куш и окунувшейся в доступный мир гастрономических и плотских наслаждений: «Почти все это, столь безженственное на целую пору ярманки, множество мущин в возрасте жизни самом бодром. Все они в страстном напряжении, и при том страсти, одной из самых невозвышенных: корыстолюбии. Все хлопочут, мечутся, взволнованы — барышами. Деньги общий кумир ярманки. И всякий, от первейшего купца до беднейшего бурлака, получает тут свой расчет, свою наличную выручку. Всякий, по-своему, не хочет упустить и удовольствий. Такое материальное, такое напряженное стремление еще более разжигает к одной чувственности людей, и без того слишком, в большинстве, материальных. Сверх того потребление мяса, рыбы, питий, обильное, ибо всего много, и сравнительно недорого»[922]. К числу рисков с неблагоприятными последствиями была отнесена опасность того, что «в случае слишком крутых запрещений, не начали возникать, и отсюда, как из ежегодного центра, распространяться в народе поползновения азиатские»[923], то есть гомосексуальные отношения понимались в то время как форма вынужденного сексуального удовлетворения в мужском сообществе.
На текущий год предлагались довольно осторожные административные действия, а именно: выслать «все формальные артели непотребных женщин, как сухопутно наехавшие, так и поволжские»[924]. Решительный удар планировалось нанести по самым искусным мастерам секса: «Первая и преимущественная строгость должна быть обращена на артели Западных губерний, собственно говоря, польские, как самые искусные в обольщениях»[925]. Предлагалось запретить традиционное «прощание» разряженных дам, забирая их сразу в полицию, строго соблюдать действующие правила, не разрешающие, чтобы «в трактирах и питейных домах посетители оставались ночью еще позже, нежели допущено это по откупным кондициям», специально наблюдая «за верхними этажами и каморками»[926]. Провести эту акцию предлагалось внезапно, «на полусроке», сообщив нижегородскому военному губернатору не раньше 15 августа. Планируемые действия должны были защитить потенциальных жертв разврата и сохранить вырученные от торговли средства: «Они, заплатя печальную дань началу ярманки, спасены будут по крайней мере от самого гибельного, последняго ея времени. К тому же недолго останется им и до разъезда по домам, вместо погибельного растрачивания здоровья и нравственности»[927].
Расчет делался и на то, что слухи о строгих правительственных мерах по мере распространения будут сдерживать деятельность таких женских артелей: «При первых слухах о гонении на богатые артели, уберутся восвояси и большая часть пешеходных, да и время их само тогда окончится, на будущий же год оне будут робче, следовательно, малочисленнее и скромнее. Слухи же о строгости правительства разнесутся повсюду, и на свежей памяти. Таким образом, без дальних усилий много избавлены будут от того же самого зла, и прочие ярманки, по порядку их времени»[928].
В дальнейшем события стали развиваться стремительно. 14 августа 1843 г. министр Перовский направил с эстафетою нижегородскому военному губернатору предписание о высылке в 24 часа в места постоянного проживания артелей непотребных женщин, особо подчеркивалось, что не следовало слушать никаких отговорок[929]. 21 августа губернатор отвечал: «Тотчас по получении, я, призвав к себе Старшего полицмейстера и жандармского штаб-офицера, поручил им наблюсти немедленное исполнение и предписал соседних уездов исправникам, чтобы сим женщинам не допускалось проживать в окрестностях города в уездах»[930]. Для наблюдения за действиями местных властей министр внутренних дел направил двух чиновников действительного статского советника С. В. Сафонова непосредственно в Нижний Новгород и надворного советника А. М. Дорогина в Кунавино. Прибывшие до эстафеты чиновники подтвердили все ранее сообщенное в записке. О выполнении министерской директивы С. В. Сафонов сообщал уже 21 августа: большая часть домов закрыты, в них не было освещения и женщин, сидевших у окон и у ворот. На следующий день часть артелей выехала, а часть собиралась. Многие балаганы и притоны были разломаны. Как сообщал чиновник, содержательницы непотребных домов были поражены такими мерами и приписывали их проказам одной какой-нибудь девицы, за которую всем досталось. 22 августа С. В. Сафонов объехал всю ярмарку и заключил, что «разврат и соблазн прекращен». Он докладывал, что «некоторые содержательницы говорили, что они много издержались и полиция их должна защищать. Сам полицмейстер был в некоторых домах и уговаривал не делать сопротивления, не доводить его до беды и немедленно отправляться»[931]. На коррумпированность полиции указывал и второй чиновник, выяснивший, что в Кунавине не менее 40 домов занято непотребными женщинами, а содержательницы притонов «полиции платят за каждую женщину от 50 до 100 руб. асс.»[932]. С. В. Сафонов проявил настойчивость. Он выяснил, что часть женщин «низшего разряда» осталась и живут они «по секрету на чердаках и принимают к себе посредством дворников». Он потребовал от полицмейстера более энергичных действий до полного исполнения предписания. 23 августа старший полицмейстер рапортовал, что «квартировавшие в некоторых домах Кунавинской слободы женщины, прибывшие на ярмарочное время для рукоделий, высланы»[933]. Ярмарочные беглянки, перебравшиеся в город, также были выявлены и высланы. Порок был побежден.
Надо сказать, что на крупнейшие ярмарки жандармы назначались в качестве временных комендантов, в обязанности которых входило прекращение «мелких беспорядков и денежных поборов, которые были чрезвычайно стеснительны для торговли»[934]. По итогам торгов они представляли отчет о происшествиях. Временный комендант Нижегородской ярмарки подполковник Панютин в отчете за следующий, 1844 г. следом за перечислением сведений об объемах торговли, количестве посетителей, лодок, барок, лавок, трактиров, харчевен сообщал, «что новое распоряжение Министра Внутренних дел о публичных женщинах, по которому усилен надзор как за ними, так и за содержательницами их, имел хорошее влияние на нравственность, тем, что удержал многих от разврата, единственно для избежания освидетельствований и записки в цех»[935].
Удалось ли решить проблему на будущее время? Нет. Любовавшийся волжскими просторами в 1858 г. А. Дюма писал о раскинувшемся в низине у Нижнего Новгорода поселении: «Этот городок целиком населен женщинами, то есть попросту это городок проституток; в нем от семи до восьми тысяч обитательниц, которые приезжают сюда с самыми человеколюбивыми целями со всех концов Европейской и даже Азиатской России на шесть недель ярмарки»[936]. Повстречавшиеся летом 1861 г. другому французскому писателю Т. Готье жрицы любви демонстрировали те же сексуальные практики охоты на клиентов, как и их предшественницы из 1843 года: «Иногда дрожки поизящнее уносили двух раскрашенных и напудренных, точно идолы, женщин в ярких одеждах, в выставленных напоказ кринолинах. Они улыбались, показывая зубы, и поглядывали направо и налево хищными взглядами куртизанок, как бы расставляя сети для улова по возможности всех устремленных на них вожделенных взглядов. Ярмарка в Нижнем Новгороде привлекает этих птиц — грабительниц из всех дурных мест России, да еще и из более отдаленных мест. Пароходы привозят их целыми стаями, им предоставляется специальный квартал. Ненасытный разврат желает своей добычи — более или менее свежего мяса»[937]. После напряженного торгового дня начиналось порочное веселье: «Сквозь открытые двери, освещенные окна домов, в жужжании балалаек вперемешку с гортанными выкриками вырисовывались причудливые силуэты людей. По узким доскам тротуаров двигались нетвердой походкой тени пьяных или особы в экстравагантных туалетах, то утопая во тьме, то возникая в бичующем свете»[938]. Безграничное веселье и пьяный угар перемалывали купеческие барыши, питая порочную индустрию сексуальных услуг.
Массовость действа свидетельствует об отсутствии табуированности распутного сексуального поведения. Несмотря на формальное порицание, церковное осуждение, беспорядочные половые практики не казались чем-то предосудительным, солидарное поведение обеспечивало формирование новой нормы, не встречавшей осуждения окружающих.
Карой, сдерживающим фактором могли быть только венерические болезни. Современник вспоминал об их повсеместном распространении даже в провинциальной глуши: «Лутовиновка, благодаря разврату разных приказчиков, бурмистров и прочего сельского „начальства“, уже в тридцатых годах представляла из себя гнездо заразы и поголовно гнила от „французской болезни“. Болезнь распространялась с ужасающей быстротой, так как ей на подмогу спешили голод, холод, нечистоплотность и невежество. В короткий срок все соседние деревни, а больше всего ближняя Любовша, были наделены лутовиновской заразой»[939].
Городская среда еще более освобождала от ограничительных норм, корректируя моральную составляющую новых поведенческих практик.
Рассказывая о судьбе крестьянских девушек, отправленных помещиком на саратовскую фабрику, И. М. Кабештов сетовал: «Никакого присмотра за поведением их не было, а потому не более как в полтора года почти буквально все развратились»[940]. Когда известия об их тяжелом труде и печальной участи дошли до властей, последовало распоряжении о возвращении их в родное село, но по прибытии работницы «внесли разврат в более или менее патриархальную жизнь»[941].
Промышленный рост, трудовая миграция, освобождение от опеки семьи, отсутствие социального («соседского») контроля в больших городах способствовали утверждению новой морали. Целомудренное поведение воспринималось как анахронизм, как явление нуждающееся в защите и пропаганде (вспоминается «жертва безумной страсти» гоголевский «тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта», «бедный» Пискарев). Нетрадиционным было уклонение от магистрального потока плотских удовольствий разгульной жизни. На 78-м году жизни мемуарист вспоминал, как он, будучи молодым человеком, «позабывал нравоучения матери, чуть не с головою погрязал в разгуле», потом, «видя свое падение, горько каялся и молил Бога избавить меня от этой бездны разврата, но потом опять все-таки падал»[942].
В конце 1840-х гг. в сферу жандармского интереса попали так называемые танцклассы — модная форма времяпровождения, привлекавшая искателей веселья и плотских удовольствий из разных социальных страт общества.
Из-за многочисленных жалоб добропорядочных обывателей в феврале 1849 г. за столичными танцклассами было организовано секретное наблюдение. Результаты надзора агентов Третьего отделения показали: «Хотя в означенных танцклассах, открытых с разрешения правительства, дозволено только преподавать уроки танцования и изредка давать общие для учащихся танцевальные вечера, но правило это не соблюдается и, вместо скромного препровождения времени, в сих заведениях, там водворились разврат и бесчиние»[943].
Информатор докладывал, что танцы обычно начинаются в 10–11 часов вечера и продолжаются до 5 часов утра, среди посетителей отставные и служащие военные офицеры и гражданские чиновники, студенты, гвардейские юнкера, черкесы, купеческие сыновья, публичные женщины и дамы сомнительной нравственности.
Агента шокировало то, что «посетители не стесняют себя никакими приличиями: мастеровой с дворянином пьют из одного стакана и тотчас между ними водворяется братство, которое, однако же, почти всегда оканчивается если не дракою, то ссорою, и сильная сторона остается правою; мущины танцуют кто как хочет и как знает, без галстуков и даже в одних жилетах; делают разные непристойности с женщинами, тем более соблазнительные, что тут изредка бывают дочери благовоспитанных семейств»[944]. В некоторых заведениях рядом с танцевальным залом находились особые комнаты — нумера — «для непотребных наслаждений мущин и женщин». Обычно эти мероприятия заканчивались ссорами и драками, так что сами содержа тели танцклассов вынуждены были выгонять дебоширов прочь. У танцклассов была весьма выгодная коммерческая составляющая: «Для большего привлечения посетителей содержатели танцклассов принимают развратных женщин безденежно и извлекают выгоды для себя преимущественно от распродажи вин за дорогую цену»[945].
Собранная информация была доложена императору, который повелел закрыть имевшиеся в столице танцклассы.
Однако исчезнув под одним названием, танцевальные вечера стали появляться под другими именами: музыкальные вечера, балы по случаю именин, дней рождений или мнимых свадебных сговоров и т. п. Эти мероприятия проводились с разрешения полиции, вход был платный (1–2 рубля), а буфеты — достаточно дороги. Среди посетителей — люди разных сословий, но, как отмечалось, обязательно бывает учащаяся молодежь, преимущественно студенты университета.
Направленный для надзора корнет Шуский рапортовал жандармскому начальству 19 ноября 1849 г.: «Учредители этих собраний имеют ту цель, чтобы собирать с посетителей более денег, а сии последние, совокупясь с непотребными женщинами, пользуются полною свободою для пьянства, мотовства и всего по желанию каждого, за что не жалея денег, а часто за недостатком их, лишаются и вещей, под предлогом заклада, безвозвратно; теперь в руках многих есть пригласительные билеты на бал»[946]. На этой записке сохранилась карандашная резолюция: «Смотреть».
Терпение окончательно лопнуло после ознакомления с рапортом поручика Чулкова, посетившего один из таких вечеров: «Прежние танцклассы превратились в балы, на которые испрашивается дозволение полиции, под видом крестин, рождения или имянин, вчерашнего числа в доме Камеля г-жа Рулева давала бал (однако с дозволения местного надзирателя Брянцова за 10 руб. сер.) по случаю будто бы ее рождения, на котором были гости, как служащие, так и отставные военные офицеры, студенты университета, правоведы, купцы, а преимущественно публичные женщины, которые впускаемы были на бал безденежно, собственно для привлечения развратных молодых людей, а прочие платили по 3 руб. серебром за вход, во время бала, который начался в 11 вечера и продолжался до 4 часов утра, пьянство, разврат и неприличные танцы, так же точно как и в бывших танцклассах»[947]. Императорская резолюция: «Генерал-губернатору этого никак не должно допускать» предрешила участь танцевальных вечеров.
Видимо, по этой же причине — драматическая цензура Третьего отделения не пропустила на сцену пьесу «Les danceusse à la classe». В цензорском рапорте сообщалось: «Весь интерес [пьесы] основан на представлении театрального танцовального класса. А потому будет зависеть от воли актрис сделать из этой пьесы неприличное представление»[948].
Нужно заметить, что термин «танцкласс» и в начале 1860-х гг. носил у представителей власти совершенно определенную негативную окраску. Еще в 1857 г., когда началось возрождение этой формы досуга, полицейский чиновник напоминал, что «лет 9 тому назад по высочайшему повелению были в одно время строго запрещены здесь публичные танцклассы, а в клубах — игра в лото. Первые — по вселившемуся в них разврату и часто случавшимся буйствам от пьяных черкес и студентов, начинавших нагло обижать бедных девушек, а лото — по принятому сею игрою характера разорительной игры»[949].
Возобновление танцклассов беспокоило высшую полицию и по другой причине, которая становится ясна из записи от 20 июня 1864 г.: «Открытие в Санкт-Петербурге в большом количестве танцевальных вечеров, кроме всех других зол, имело, как оказывается последствием еще и усиление гнусного промысла — торговли молодыми девушками, совершенными еще детьми. Конечно, нельзя отвергать, чтобы промысел этот не существовал и прежде, но в последнее время, когда большая часть живших в публичных домах женщин бросилась на вечера, а между тем содержательницы сих домов все-таки должны были уплачивать значительные суммы по содержанию тех заведений, — хозяйки эти стали изыскивать другие способы»[950].
Поводом для негативных оценок популярного времяпрепровождения стали результаты полицейской облавы: «На днях […] взято на месте самого разврата несколько девочек, из коих большая часть от 15 до 10 лет, последнего возраста пока еще одна и кажется еще нерастленная, все другие лишены уже невинности, две из них в возрасте 11 годов»[951]. Сексуальная составляющая низовой культуры вновь заявляла о себе и входила в противостояние с полицейской репрессивной практикой.
Современник-петербуржец оставил описание нескольких танцклассов, которые он посетил зимой 1862/63 г. По его словам: «В залах, освещенных керосиновыми лампами, стоит сизый, тяжелый воздух, пропитанный запахом табаку, кухни, духов и человеческих испарений; прифрантившиеся кавалеры, порою в заношенном белье, но с яркими цветными галстуками, неуклюже отплясывают фигуры кадрили, выкидывая самые сильные „колена“; дамы с подрумяненными лицами стараются не уступать им в развязанности. Среди танцующих проталкиваются люди, отдающие предпочтение буфету, причем случаются и перебранки с задетыми локтем танцорами. А над всем этим, покрывая шарканье ног по пыльному полу и отдельные возгласы танцующих, завывает дешевый струнный оркестр, поместившийся на эстраде. Еще два-три „легких“ танца и потом перерыв, во время которого „артистки“ в коротеньких юпочках, оставляющих движению ног полную свободу, исполняют более чем пикантные куплеты, а „артисты“ либо рассказывают сцены из народного или еврейского быта, либо тоже поют куплеты»[952].
Отметив, что сам он не танцевал, автор дал ясное понимание цели своих визитов в подобные заведения. Если считать насаждение подобных заведений попытками отвлечения от политических вопросов повседневности, то современники полагали этот опыт негативным, ибо в качестве альтернативы гражданской позиции предлагался набор безнравственных удовольствий.
Еще более дешевый вариант получения запретного удовольствия давали загородные гулянья. В записке агента о гулянье на Кулерберге докладывалось (1864): «Кабаков и вообще разного рода питейных заведений было множество, публичных домов (борделей) — 2 и то низшего класса. Нового только то, что в „Русском трактире“ устроены номера, главное назначение которых — представление возможности желающим иметь сообщение с женщинами. Плата в них по 1 р[ублю] в час»[953].
Публичные дома привлекали внимание политической полиции в случаях их отклонения от заявленного профиля.
Незаконное содержание публичных женщин (хозяйка поставляла их в ближайшую гостиницу), а также организация у себя карточной игры привели Авдотью Исаеву к тюремному заключению. После первого анонимного доноса ее квартира была «накрыта» столичной полицией, а хозяйка подпиской обязалась прекратить незаконную деятельность. Однако после нового доноса проверка показала, что Исаева продолжала прежнюю деятельность, которая теперь уже была окончательно пресечена ее задержанием. Внимание политической полиции к этому делу объясняется еще и неподтвердившейся информацией о том, что «у нее каждый вечер бывает человек, который, по словам доносчика, кажется, агент Герцена»[954].
В сентябре 1860 г. из Третьего отделения санкт-петербургскому обер-полицмейстеру была направлена записка о том, что вопреки запрещению открывать «непотребные дома» близ церквей, школ, дворцов, иностранка Гейдер содержит публичных женщин в помещении, окна которого обращены на дворец великой княгини Марии Николаевны. Любопытно, что директива тайной полиции не была безусловной истиной и руководством для исполнения для столичной полиции. Ответ обер-полицмейстера содержал ссылку на действующие правила, дозволявшие содержание публичного дома, упоминание, что в этом здании подобные заведения были и раньше, при других хозяйках, и заключение: оснований для закрытия нет[955].
В конце 1864 г. шеф жандармов распорядился проинформировать санкт-петербургского обер-полицмейстера о лотерее, организуемой в кафе-ресторане Ефремова «содержательницею развратных женщин — еврейкою, известною в некоторых кругах под именем „Соньки воровки“, ибо она, как говорят, скупает, сбывает краденые вещи и даже сама не прочь присвоить себе чужую собственность»[956]. Разрешения на проведение лотереи она не получала, да и само это действие являлось безусловным обманом. «Есть, правда, на выставке и несколько ценных вещей, но их никогда и никто не выигрывает. Цена билету 50 коп. сер., и заплативший деньги вынимает по большей части пустой билет или с выигрышем далеко не стоящим 50 к. Содержательница лотереи имеет своих подручных женщин, которые заставляют молодых людей брать билеты, а они выманивают выигрыш, если таковой бывает, и передают его обратно хозяйке»[957].
Традиционное для публичных домов пьянство здесь дополнялось еще одним способом обирания подвыпивших «молодых купчиков» при помощи лотерейного азарта.
В сводках агентурных сведений о происшествиях в столице периодически появлялись любопытные, курьезные истории о любовных приключениях горожан. В одном из донесений (1857) сообщалось, что в городе говорят о том, что будто бы по приказанию полицейского начальства будочники[958] забирали в разных местах «самых простых публичных женщин»[959]. В одном из этих «отвратительных сходбищ» якобы застали нескольких плотников, «которые в энтузиазме вина и любви стали упрашивать и даже препятствовать будочникам исполнять их долг». Разгоряченный страстью, один даже стал отбивать любовницу, за что был арестован, и «его будут судить как возмутителя, ибо произнесенные им слова были в высшей степени преступны»[960]. Показательно, что в общественном сознании путь в политические преступники («возмутитель») представлялся достаточно легким, а само возможное наказание виделось незаслуженно суровым.
Другой забавный случай касался распространившихся в октябре 1858 г. слухов «о какой-то новоучрежденной полицейско-врачебной комиссии, на которую будто бы возложена обязанность врасплох, так сказать, свидетельствовать здоровье девок, промышляющих легким своим товаром в номерах гостиниц, называемых для приезжающих — ибо весьма хорошо известно, что главную выгоду сии гостиницы получают […] от людей, приходящих в сии номера для временного свидания с добрыми своими приятельницами»[961]. Весь город обсуждал случай, когда два мужчины напоили шоколадом и накормили ужином двух девиц, а их увели на обследование. Этот слух «навел такой страх на бедных невинных девок, тайно посещавших сии номера, что оне со слезами теперь должны отказываться от любимых своих гимнастических упражнений, (говорят) теперь ни одну из них и калачом не заманишь в номер»[962].
В августе 1860 г. сообщалось о происшествии с иностранцем Юлием Мазингом. Он «попал случайно, а может быть и нарочно, в дом непотребных женщин», где «одна из обитательниц этого заведения и, бросившись на него с большим перочинным ножом, намеревалась отрезать ему детородные части»[963]. Тогда же обратили внимание на творчество приезжих вокалисток в пригороде Санкт-Петербурга: «В воксале Петровского парка поет хор скандинавских певиц. Девицы эти почти все из публичных домов и, как рассказывает воксальная прислуга, начали и здесь уже сильно заниматься развратом. В прошлые годы содержатель воксала купец Тайвани строго за ними надзирал, и заметив одну из них, девицу Jenny (которая ныне тоже поет), в распутном поведении, тотчас же удалил ее, теперь же он на все смотрит сквозь пальцы, ибо чем более оне развратничают, тем более у него бывает посетителей кутил, от которых главный доход»[964].
Коммерциализация развратного промысла, его широкое распространение, видимо, породили слух (запись 17 февраля 1861 г.) о том, что шеф жандармов В. А. Долгоруков предложил «в Государственном совете [ввести] налог на публичных женщин, как источник увеличения государственных доходов»[965].
Все «бесчинства» творились на виду. Никто особо не таился. А. В. Никитенко в дневнике описал свое посещение публичного сада на Крестовском острове (7 июля 1863 г.): «Два оркестра музыки, канаты для плясунов, цирк, какие-то декорации странного вида — все это аляповато и грубого свойства. Гулявший народ весь состоял из разных мастеровых, всероссийского мелкого купечества, немцев-ремесленников, девиц несомненного поведения (курсив мой. — О. А.) и проч. Все это, впрочем, вело себя благопристойно и прилично, что, как говорят, продолжается до 12 часов»[966]. Второй период веселья продолжался до утра. «Героями этого периода выступают уже лица, сильно вкусившие даров Бахуса, или, как говаривал Петр Великий, Ивашки Хмельницкого. Тут уже начинается всякое коловратство, и человечество начинает превращаться в свинство»[967]. Этому эволюционному процессу никто не мешал, его как бы не замечали.
При всех попытках регламентации проституции (публичные дома, желтые билеты) оставались и неорганизованные, не контролируемые полицией «ночные нимфы», «кои по вечерам на Невском проспекте бесстыдным обращением и словами завлекают в свои сети молодых неопытных людей, особливо несчастных молодых чиновников, вечных спутников сих развратниц — и за порочные эти наслаждения платящие потом или болезненною жизнию, или мучительною смертию»[968]. Традиционная локация проституток сохраняла силу. Гоголевский художник Пискарев на вопрос товарища, почему он не пошел за понравившейся брюнеткой, покраснев, отвечал: «Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту…» Не случайно А. В. Дружинин называл Невский проспект «вавилонской улицей»[969]. В июле 1860 г. агентами было замечено, что гуляющие вечером по Невскому проспекту «камелии низшего сорта поют весьма грязные песни»[970]. В сводках постоянно мелькали сообщения о мелких стычках, о вызывающем поведении дам и их спутников, о совсем юных кавалерах, курящих и сквернословящих барышнях.
Еще об одной тайне вечернего Невского проспекта писал Н. В. Гоголь: «Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться».
Выставлять, производить, продавать «соблазнительные изображения» было запрещено законом. Статья 1301 Устава о предупреждении и пресечении преступлений предусматривала штраф от 1000 до 500 руб. или арест от 7 дней до 3 месяцев. Но ни денежные взыскания, ни заключение под стражу не останавливали торговцев, имевших покупателей во всех частях города.
В канун Пасхи 1852 г. полковник корпуса жандармов Васильев обнаружил и доложил своему начальству о том, что в Санкт-Петербурге, «в магазинах и кондитерских продаются сквозные карты, картины, фарфоровые, металлические и другие вещи с развратными изображениями». Особенно кощунственно выглядели выставленные на продажу «кондитерские яйца, с транспарантами самого безнравственного вида»[971]. Сообщенная информация подтвердилась: «В одной кондитерской на Васильевском острову куплены кукла, представляющая артистку Дюпре, из труппы Раппо, в одной из делаемых ею фигур, но совершенно обнаженною; и сахарное яйцо, еще более недозволительное: ибо здесь неблагопристойность соединена с религиозными предметами. На поверхности этого яйца изображены срамные предметы, с крылышками, как бы херувимы, а внутри, в транспаранте, представлены юноша, с крылышками же, и взрослая девица, оба совершенно нагие и в соблазнительном виде. Подобные яйца и куколки продаются хотя и не явно, но всякому желающему, почти во всех кондитерских; а фарфоровые, гипсовые и даже металлические куколки, неприличного вида, можно купить во всех магазинах туалетных принадлежностей и даже в Гостином дворе, в лавках, где производится торговля фарфоровыми изделиями»[972]. Быстро были выяснены изготовители: иностранец Вильгельм Фогт и его сестра, и торговля прекращена.
Следом были обнаружены еще более шокирующие товары. В магазине купца Кене были найдены тайно продаваемые «безнравственные предметы, состоящие в эстампах, прозрачных картах, картинках, паланированной жести, бумаги, булавках, портмоне и прочих мелочах с двумя механическими из резины подражаниями мужского уда»[973]. Магазин опечатали, а необычный товар доставили обер-полицмейстеру, а купца решено было «выдержать один месяц под стражей и установить строжайший надзор»[974]. В дневнике Л. В. Дубельта (10 апреля 1852 г.) сообщается об окончании этой истории: «В разных магазинах обнаружена продажа развратных предметов. Магазин Кёне опечатан и иностранец Вольф, делавшие эти предметы, будут высланы за границу»[975].
По прошествии времени мало что изменилось. В апреле 1858 г. было выявлено, что «по примеру прошлых лет и в нынешнюю страстную неделю на выставке в Гостином дворе продаются разные похабные рисунки и неприличные „сюрпризы“. Они известны под названием „скоромных вещей“, и на спрос охотников до сего рода сюрпризов без затруднения показываются им продавцами»[976]. Продавцы не особо следили за конспирацией. Агент указывал, что на Итальянской улице переплетчик Штольценбург постоянно выставляет на окошке «весьма неприглядные картинки, заставляющие краснеть проходящих порядочных женщин»[977]. Продавцы-букинисты были осторожнее (25 июня 1858 г.): «У них можно купить не только книги, но и самые скандальные гравюры всех возможных старинных и новейших вкусов», но реализуют они запретный товар не «свежему человеку», а «бывалому»[978].
Потребительский спрос диктовал новые маркетинговые решения, заимствованные у порочного Запада. Шефу жандармов докладывали: «Случайно узнано, что некто фотограф Александровский, имеющий заведение на Невском проспекте, против Казанского собора, недавно был за границей и теперь, будто бы, кроме обыкновенных фотографических занятий тайно занимается и фотографическими изображениями не только отдельных женщин, но по желанию охотников даже и цельных групп в сладострастных, соблазнительных положениях — и сверх того торгует под рукою такими же заграничными скандальными гравюрами, поддельными алмазами и, будто бы, иногда случаются у него и запрещенные книги»[979]. Информация была получена из уличного разговора, посланный агент «не видал там ничего неприличного, а посему сведения могут подтвердиться, если имеют основание, лишь случайно, при продолжительном наблюдении за Александровским»[980].
Осуществлять социальный контроль за образом жизни, поддерживать нравственные устои, формировать «правильное» поведение населения правительственным структурам помогала церковь, но иногда агрессивность в исполнении своей миссии настораживала охранные структуры. Осенью 1857 г. Третье отделение обратило внимание на пастора реформатской церкви Икене, который «начал дозволять себе слишком резкие и даже неблагопристойные в церкви выражения при порицании человеческих слабостей и пороков». Ссылаясь на реакцию прихожан, агент сообщал: «Замечают, что он особо стал сильно нападать на заблуждения молодых мужчин и девиц, но обрисовывает оные такими красками, что многие матери семейств находят неприличным для молодых невинных девушек слушать подобные вещи […] Он, например, говорит, что нынешние молодые люди истаскавшиеся, изнуренные и иссохшие от блуда, утонченного разврата и позорных болезней, и подавившие в себе всю силу и бодрость молодости и моральные и физические способности, живут жалкою жизнью, как тени и живые мертвецы, и по бессилию своему даже страшатса первой брачной ночи — приготовляя себе бесплодное супружество, которому чуждо всякое семейное счастье»[981]. Изобличал он и девиц, которые «по наружности часто представляются смиренными, набожными, непорочными девами в белых одеждах невинности, — но порочными помышлениями и тайными пороками, — нечисты и душею и телом. Сей необузданной жизни, следствием балов, маскарадов и соблазнительных театральных представлений»[982]. Подобное поведение пастора посчитали «несколько странным», но объяснимым потрясением после смерти его молодой жены.
Наблюдая за порочным поведением жителей, Третье отделение обращало внимание на внешнее соблюдение норм приличия. Криминальная обстановка в борделях и притонах была хорошо известна властям, но повлиять на нее не представлялось возможным. Вопиющие случаи, получавшие огласку, привлекали внимание охранных структур, но отдельные аресты, задержания и штрафы не могли кардинально изменить ситуацию.
Глава 7. Театр и цензура: воспитание нравственности
Цензурным уставом 1828 г. было определено: «Драматические сочинения одобряются к представлению в театрах Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а к напечатания общею внутреннюю цензурою»[983]. Подобное обособление рассмотрения произведений для сценических постановок от общей цензуры текстов можно объяснить особым эмоциональным воздействием театра на публику и требованием тщательного контроля за массовыми мероприятиями.
Цензурой театральных пьес первое время занимались два чиновника Третьего отделения: цензор драматических сочинений Евстафий Иванович Ольдекоп (в 1840 г. его сменил Михаил Александрович Гедеонов) и помощник его Антон Венедиктович Пенго (его преемником стал Александр Андреевич Урель)[984].
Порядок рассмотрения драматических сочинений был следующий. Пьесы для императорских театров передавались через их дирекцию в Третье отделение. Цензоры читали, отмечая «все предосудительные места», и составляли более или менее подробное описание содержания («рапорт») с указанием «цели и направления сочинения». Этот рапорт представлялся на утверждение управляющего, обычно определявшего судьбу произведения (решения по наиболее резонансным пьесам иногда принимались шефом жандармов или даже императором). Таким образом, цензор лишь высказывал свое мнение о пьесе и давал рекомендации (пропустить, сделать изменения или запретить), это уменьшало ответственность чиновников за возможный промах[985]. Разрешенный к постановке текст мог существенно отличаться от публикации. П. Д. Боборыкин вспоминал, что после переделки его комедия «Однодворец» «(против печатного экземпляра) явилась в значительно измененном виде»[986].
Заглавие одобренной пьесы вносилось в соответствующий «алфавит», а все замеченные цензором «предосудительные места» записывались в особую книгу («протокол»). После этого пьеса отсылалась обратно в дирекцию театров, а не разрешенные к представлению пьесы «удерживались» в Третьем отделении[987].
Что же касается провинциальных театров, то их репертуар представлялся в Третье отделение через губернаторов. Там сравнивался с «алфавитами», и чиновники указывали, разрешена ли (полностью или с исключениями) та или иная пьеса. Намерение поставить пьесу «дозволенную с некоторыми изменениями» предполагало присылку ее текста и проверку его по «протоколу» (если пьеса напечатана) либо новой читки (если представлена рукопись)[988].
Помимо чтения драматических сочинений, на цензуре лежала обязанность наблюдения за театральными представлениями. По установленному порядку губернаторы еженедельно присылали в Третье отделение афиши прошедших спектаклей. Если цензоры обнаруживали недозволенную к представлению пьесу, то об этом сообщалось местным властям с просьбой исключить ее из репертуара театра. В Санкт-Петербурге наблюдение осуществлялось через ежедневную доставку афиш и присутствие в театре цензора или его помощника[989].
Объем работы цензоров постоянно увеличивался. Только за сентябрь 1842 г. в цензуру на рассмотрение поступили 57 пьес, из них 28 в трех действиях[990]. В результате шеф жандармов А. Х. Бенкендорф вынужден был обратиться к императору с предложением об изменении порядка надзора за театральными пьесами: «С 1828 г. в продолжении 14 лет число театров беспрерывно возрастало. В главных губернских городах находятся ныне постоянные театры; странствующие труппы беспрестанно посещают ярмарки и города, в особенности западных губерний. При таком размножении театров необходимо умножились занятия и увеличилось значение театральной цензуры. Между тем с 1828 г. число чиновников осталось в прежнем положении, и все цензурные дела исполняются одним цензором и одним помощником. Входя в положение сих чиновников и видя, что при всем их старании им становится совершенно невозможным успевать рассмотрением всех пьес, представляемых на всех театрах России, и вместе с тем наблюдать за всеми в России издаваемыми журналами, осмеливаюсь […] испрашивать разрешение на учреждение при III отделении, пятой экспедиции, под названием, цензурной, с тем чтобы сравнять чиновников оной, в разрядах и окладах с чиновниками прочих четырех экспедиций»[991].
В результате было принято решение о создании специальной цензурной экспедиции, увеличении штата чиновников, занятых чтением пьес, и их окладов[992].
Как правило, цензурой в Третьем отделении ведали хорошо образованные люди. Е. И. Ольдекоп окончил Московский университет со степенью кандидата, хорошо знал несколько европейских языков и зачастую отзывы о пьесе писал на языке оригинала. М. А. Гедеонов, сын директора императорских театров А. М. Гедеонова, окончил Санкт-Петербургский университет.
В конце 1850-х — начале 1860-х гг. драматической цензурой также ведали люди с университетским образованием. Возглавлял экспедицию (с 1856 г.) старший чиновник Третьего отделения действительный статский советник Иван Андреевич Нордстрем, еще в середине 1830-х гг. окончивший Казанский университет со степенью кандидата и золотой медалью «за отличные успехи и поведение». Младший чиновник Третьего отделения (с 1862 г.) Карл Иванович Бернард был кандидатом Московского университета (1849), а помощник старшего чиновника Третьего отделения (с 1859 г.) Егор Александр Иванович Кейзер фон Нилькгейм окончил со степенью кандидата Санкт-Петербургский университет (1849), кандидатом этого же университета был и старший сын Ф. В. Булгарина — Болеслав — младший чиновник Третьего отделения (с 1855 г.)[993].
Хотя для лиц, имевших отношение к театральным постановкам, это было слабым утешением. Будучи убежденным в том, что «театр был любимым удовольствием государя Николая Павловича», актер Ф. А. Бурдин полагал, что император «был не повинен в цензурных безобразиях того времени, где чиновники, стараясь выказать свое усердие, были les royalistes plus que le roi»[994]. У чиновников цензурной экспедиции было свое мнение на этот счет. Много настрадавшийся от произвола цензуры П. Д. Боборыкин вспоминал, что во время очередного его энергичного протеста в кабинете И. А. Нордстрема тот остановил его жестом. «Вы студент. И я был студентом Казанского университета. Вы думаете, что я ничего не понимаю? — И, указывая рукой на стену, в глубь здания, он вполголоса воскликнул: — Но что же вы прикажете делать с тем кадетом? А тот „кадет“ был тогдашний начальник Третьего отделения, генерал Тимашев»[995]. Управляющий Третьим отделением был верным адептом охранительной политики Николая I и в кругах литераторов пользовался недоброй славой[996]. В своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин оставил еще несколько штрихов-описаний важных для понимания отношений автор — цензор. Он отмечал, что зачастую решение о допуске пьесы к постановке могло приниматься «убийственно» долго: «Сразу не запрещали пьесу, а водили вас месяцами, а иногда годами»[997]. При этом само посещение Третьего отделения для авторов становилось своеобразным родом морального подавления. Он вспоминал: «Проникать в помещение цензуры надо было через лабиринт коридоров со сводами, пройдя предварительно через весь двор, где помещался двухэтажный флигель с камерами арестантов. Денно и нощно ходил внизу часовой — жандарм, и я первый раз в жизни видел жандарма с ружьем при штыке»[998]. Не надо было обладать богатым воображением, чтобы сконструировать участь противников Молоха власти.
Вступив в должность управляющего Третьим отделением (1839), Л. В. Дубельт, под впечатлением прочтенной драмы «Послушница», сформулировал ряд положений, которые можно считать своеобразной методологической основой драматической цензуры, определявшей, что можно, а что нельзя россиянам видеть на сцене. Исходя из того, что «драматическое искусство, как и всякая отрасль литературы, должна иметь цель благодетельную: наставляя людей, вместе забавлять их», Л. В. Дубельт полагал, что эта цель достигается «несравненно скорее картинами высокого, нежели описаниями низости и разврата». Обличение порока для воспитательных целей менее эффективно: «Редко случается, чтобы порочный человек узнал себя в безобразном портрете». Наоборот, показ порочного поведения закреплял подобные практики в сознании человека и способствовал тиражированию аморальности, убеждая, что в своем грехе он не одинок. По словам Л. В. Дубельта: «Все доказывает, что люди нашего времени, наслушавшись вредных рассказов и насмотревшись на разврат во всех его видах, так свыклись с изображением адских позорищ, что не только не гнушаются повторять на деле все, поместившееся в их изображении, но еще оправдывают свои поступки и часто гордятся ими. Зачем литературе, дочери неба, вместо того чтобы вести людей к добродетели на помочах нравственности, уклоняться от своего блистательного назначения и делаться союзницею ада?»[999]
Еще более четко выразил цензурное credo чиновник Третьего отделения Е. И. Ольдекоп: «Театр должен быть школой нравов, он должен показать порок наказанным, а добродетель вознагражденной. В этом отношении театр есть учреждение полезное и необходимое, удовольствие благородное и приятное. Но как только драматическая сцена берется изобразить перед нами целый ряд проступков, преступлений ужасных, исключительно с целью вызвать у нас сильные ощущения, театр становится презренным и опасным. Ибо человек, который привык к сильным ощущениям, которого возбуждает один вид преступления, тот человек скоро будет в состоянии сам совершить преступление»[1000]. Такое утрированное понимание «совратительной» роли театра ставило цензора на роль полицейского, разыскивающего потенциального преступника.
Еще один интересный документ, вышедший из недр Третьего отделения, — это записка М. А. Гедеонова (18 ноября 1841 г.), в которой новый цензор драматических сочинений рассуждал о пользе и вреде различных жанров театральных произведений. «Самой безвредной отраслью драматического искусства» он считал, наряду с оперой и балетом, трагедию: «Трагедия не представляет настоящей жизни; в ней все преувеличено, и оттого почти невозможно зрителю извлечь из нея какое-либо применение. Кроме литературного удовольствия, публика не вынесет из нея никакого впечатления»[1001]. «Злодейства, преувеличенные страсти признаны причинами к запрещению пьес. Но злодейство, когда оно не признано геройством, не может иметь вредного действия на умы зрителей, а преувеличение необходимое в трагедии и высшей драме именно и делает из трагедии и высшей драмы совершенно безвредное представление»[1002].
Он полагал возможным для пользы дела смягчить требования цензуры в отношении трагедий и высшей драмы, так как нынешняя ситуация ведет к упадку репертуара и популяризирует легкие жанры. По его мнению: «[…] в настоящем положении публика обращена почти исключительно к комедии и водевилю, что не может быть безвредно. Оригинальная русская комедия смеется над лицами правительственными, переводная большею частью вертится на двусмысленных и не всегда нравственных остротах. Если предоставить трагедии более обширное поле, этим уменьшится влияние комедии»[1003]. Теоретические рассуждения цензора в лучшем случае были приняты к сведению. Реальных перемен не произошло, во всяком случае, шекспировский «Макбет», который был избран актером В. А. Каратыгиным для бенефиса и лоббировался М. А. Гедеоновым, разрешен не был.
Анализ архивных материалов Пятой (цензурной) экспедиции дает богатый материал для составления обширной палитры цензорских фобий и авторских прегрешений, выходивших за сформулированный Л. В. Дубельтом постулат: театр должен веселить и поучать. За 1828–1864 гг. театральной цензурой было запрещено 466 пьес на русском, 234 на французском, 257 на немецком и 11 на итальянском языках[1004].
В «Обзоре деятельности III отделения С. Е. И. В. к. и корпуса жандармов за 25 лет. 1826–1850 гг.» о драматической цензуре говорилось, что ею «не были допускаемы пьесы, могущие произвести на зрителя вредное впечатление», а она «с особенным поощрением разрешает пьесы патриотического содержания, исполненные чувства и мыслей в духе нашего правления. При таком направлении театры у нас, принося невинное удовольствие, а частию пользу для нравственности и вкуса, составляют орудие правительства»[1005]. Показательно четкое понимание роли театра в идеологическом обеспечении стабильности и порядка.
В отчете Третьего отделения за 1860 г. подчеркивалось то, на что обращали внимание бдительные специалисты полиции слова: «Причины запрещения были как в русских, так и в иностранных пьесах, безнравственное или неблагопристойное направление, изображение в невыгодном свете целых сословий, не исключая и высшего, неуместное суждение о политических и других важных современных вопросах и, наконец, изобличение злоупотреблений крепостного права»[1006].
А вот взгляд изнутри. «Для театральной цензуры равно важны и судьба государства и судьба ничтожного чиновника. Народ восстает против притеснения губернатора („Вильгельм Телль“, неуважение к власти: „запрещается“. Квартальный напивается пьян и смешит честную компанию (купцы 3-й гильдии) — неуважение к власти: „запрещается“. Нравственное чувство цензуры возмущается проделками злостного банкрота, который за них попадает в тюрьму („Свои люди, сочтемся“): „запрещается“, а „Чужое добро в прок нейдет“, в первой картине которой воровство, во второй пьянство, в третьей еще более более пьянства, в четвертой nec plus ultra пьянства; в пятой допившейся до белой горячки сын идет резать спящего отца, „позволяется“. По понятиям ценсуры, — как видно из ее решений, — писать нельзя о казнокрадстве, о злоупотреблении власти, о купеческих проделках, о семейном разврате, об офицерах, о чиновниках, о крестьянах, о дворянстве, об откупщиках, об Иоанне Грозном, об опричине; о самозванцах…»[1007] — так критиковал цензуру Третьего отделения П. С. Федоров, начальник репертуарной части санкт-петербургских императорских театров.
Актуальность крестьянского вопроса послужила основанием для запрещения пьесы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина». Цензоры сочли неудобным в преддверии реформы разжигать народные страсти[1008]. По аналогии с ней чуть не запретили пьесу А. Н. Островского «Грех да беда». Цензор И. А. Нордстрем писал: «Эта новейшая пьеса […] есть отчасти картина того же темного царства, которая изображена им [А. Н. Островским] в прочих его пьесах, и вместе с тем она во многом напоминает и не одобренную к представлению драму Писемского „Горькую судьбину“»[1009].
Большое внимание цензорами обращалось на отношение драматургов к монархическому началу и особенно к выдающимся фигурам российской истории. Цензоры руководствовались высочайшим повелением Николая I, разрешившим изображать только «особы царей до дома Романовых». Так в 1857 г. было оставлено в силе запрещение трагедии М. П. Погодина «Петр Великий». Иногда запреты простирались и вглубь веков. Нежелательными были сюжеты, связанные с личностью Дмитрия Самозванца[1010].
Опасение вызывало изображение на сцене революционных событий, различных народных волнений, даже происходивших на Западе. В 1858 г. пьесу Э. Ожье «La jeu-nesse», отражавшую настроения французского общества в 1789 г., Александр II сопроводил пометкой: «По-моему можно», однако пьесу пропустили с большими исключениями[1011]. Против повторного рассмотрения в 1860 г. по ходатайству дирекции императорских театров пьесы И. В. Гете «Эгмонт» восстал министр двора В. Ф. Адлерберг, считавший, что это произведение «по существу революционное, хотя основанное на исторических фактах», и управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев пьесу запретил. Как отмечал Н. В. Дризен, «иногда цензура входила в рассмотрение причины, смуты, и, когда она была направлена в пользу утверждения законной власти, разрешала пьесу»[1012]. Цензор ходатайствовал о разрешении пьесы «Andreas Hofer», в которой подвиг главного героя был созвучен с подвигом Минина и Пожарского[1013].
Даже временная отдаленность событий не облегчала пьесам из придворной жизни доступ на сцену. Цензор И. А. Нордстрем в отзыве на одну немецкую пьесу писал:
«Содержание этой неестественной и нелепой драмы составляют почти исключительно всевозможные ужасы, убийства, отравления ядом, появление при дворе беглых каторжников под личиною аристократов и другие несообразности»[1014].
Величие образа монарха строго оберегалось. Основанием для запрещения пьесы «Die Sterne wollenes» (из истории Франции конца XVII в.) послужило то обстоятельство, что «в этой пьесе, исполненной придворных интриг, король выведен в неприличном его высокому сану виде»[1015].
Несмотря на то что драма «Graf Essex» немецкого писателя и драматурга Г. Лаубе была «превосходна в сценическом и литературном отношении», цензора Третьего отделения смущали как политические мотивы, так и обстоятельства личной жизни графа: «Эссекс представлен героем и государственным человеком, поднявшим знамя бунта за личное оскорбление королевы, с которой был когда-то в связи»[1016]. Через год, в 1859 г., не пропустили другой вариант этой драмы Г. Лаубе уже в русском переводе «Елисавета и граф Эссекс»: «Содержание то же самое: открытое восстание непокорного вассала и месть подданного монархине»[1017].
Сомнения появились и у цензора, просматривавшего «невинный фарс, основанный на каламбурах и немногих остротах» и посвященный приключениям приказчика Жано, перенесшего кораблекрушение и попавшего на остров к дикарям («Janot chez les sauvages»). Его вопрос был обращен к руководству Третьего отделения: «Не может ли быть сочтено предосудительным, что короли, хотя совершенно диких и вымышленных островов Пиявок и Кокосов, представлены в несколько смешном виде?»[1018] У руководства политической полиции сомнений не было — пьеса не была разрешена для постановки.
«Undine» — романтическая история любви графа и русалки, их смерти и воскрешения в подводном мире — обратила на себя внимание цензора драматических сочинений тем, что автор «допустил неуместные суждения об императорах, политике, аристократии, улучшениях в правлении, конституции, недостатках правительства, которые ни в коем случае не могут быть допущены на сцене»[1019].
Сцены из жизни городских низов тоже казались малопоучительными для российского зрителя. В отношении пьесы «Парижские рабочие» (по мотивам произведений Э. Золя) в отзыве было сказано: «грубейшие нравы низшей среды» способны лишь «оскорбить чувство приличия и даже общественное благочиние»[1020]. Можно привести и суждение о пьесе по роману В. Гюго «Отверженные», в которой «зритель невольным образом увлекается на скользкий путь коммунистического учения»[1021].
Талант автора только усиливал вредный эффект от таких постановок. Об этом предупреждал еще в 1830-х гг. цензор Е. И. Ольдекоп, рассуждая: «На каком основании приучать русскую публику к ощущениям сильным и в то же время пагубным и неестественным? Последствия сего будут у нас те же, что и во Франции, правда, не скоро, но они не замедлят прийти. История нас учит, что самые большие и ужасные события часто происходят от причин незначительных»[1022].
В то же время «имя» автора, классика, гарантировавшее хорошие сборы театральной дирекции, заставляло переводчиков, авторов русских версий делать «проходные» варианты кассовых пьес. Тот же Е. И. Ольдекоп рецензировал (1832) драму А. Дюма-отца «Ричард Дарлингтон»: «Пьеса сия принадлежит к новейшим сочинениям французского искусства, следственно, основана на ужасе, и сочинитель достиг своей цели, прибавляя к сему изображение на сцене спора при выборах депутатов для английского парламента. Не довольствуясь всем этим, французский сочинитель написал еще пролог, в котором дочь маркиза де Сильва родит младенца почти на сцене». Исключив отмеченные эпизоды, пьеса, имевшая «нравственную цель показать, что чрезмерное честолюбие ведет всегда к пороку»[1023], была пропущена.
Безусловно запрещались пьесы, в которых непочтительно отзывались о целых сословиях или противопоставлялись добродетели высших и низших страт российского общества. Хотя авторам казалось, что они совсем не замахивались на глобальные обобщения. На сей счет интересны рассуждения цензора М. А. Гедеонова (1841). Он обращал внимание на специфический подход русской цензуры к трактовке поступков отдельных персонажей произведений: «У нас нет совершенно частной жизни. Отношения к сословиям и правительству неотделимы от каждого лица. Французский писатель представлял поэта, музыканта, актера, торговца — словом, все состояния, но не сословия. Русский сочинитель, рисуя какое бы то ни было лицо, представляет либо крестьянина, либо купца, либо дворянина, служащего или неслужащего. Так родятся необходимые сравнения и применения, большей частью вредные»[1024].
Этот подход остался в силе и через 20 лет. В водевиле «Барон с крылышками» «обыкновенный, даже пошлый сюжет этот [дряхлый и безнравственный барон сватается к 17-летней дочери погрязшего в долгах графа] изложен языком до того напыщенным и так глупо, что некоторые места можно принять за унижение лиц дворянского сословия. Кроме того, в пьесе есть неуместные выходки слуг против своих господ»[1025].
В пьесе В. Карелина «Свой круг. Эпизод из военно-походной жизни» цензуру не устроили обрисованные автором «армейские типы» собравшихся на обед у батальонного командира офицеров. Подпоручик Вихорев — «игрок и кутила, живущий на чужой счет», молодой прапорщик Струйкин, только вступивший в полк, «матушкин сынок». «Все эти лица рассуждают о предметах их службы и рассказывают о злоупотреблениях, свершающихся в батальоне. […] Все офицеры, не исключая и батальонного их командира, выставлены людьми лишенными всех нравственных достоинств, они беспрестанно пьют водку, как до обеда, так и после». Хотя по заключению цензора, «пьеса эта довольно верно изображает жалкий быт армейских офицеров и написана с целью выставить недостатки и злоупотребления военных людей» и даже была одобрена особой комиссией при Дирекции Императорских театров, тем не менее управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев ее запретил[1026].
Комедия А. А. Потехина «Кто лучше?» не была разрешена для постановки в Императорских театрах на основании заключения И. А. Нордстрема: «В комедии этой нет особенных ни характерных ни сценических достоинств, но тем не менее мысль автора очень ясна: выставляя на одну доску двух негодяев: купца и князя — он спрашивает: кто лучше? Кроме самого князя, с весьма невыгодной стороны обрисовано все аристократическое общество: спесивая и надменная мать князя и распутные друзья его»[1027]. Относительно драмы П. Д. Боборыкина «Старое зло» цензор заключил: «В этой драме все лица высшего сословия возмутительные негодяи и честными людьми являются только жена графа Андрея и Веригин — по происхождению не принадлежащий высшему дворянству, и, наконец, крепостная девушка Груша»[1028].
В 1857 г. были запрещены пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина «Утро Хрептюгина» и «Просители». Причем относительно последней цензор И. А. Нордстрем представил благожелательное заключение: «На русской сцене не было еще примера, чтобы губернатор представлен был с невыгодной стороны в административном отношении; впрочем, автор, выставляя в нем плохого администратора, нисколько не унижает характера его как человека, и притом нет повода полагать, что автор имел при этом в виду какую-нибудь личность». Такая же участь постигла пьесы Р. М. Зотова «Последние философы», А. Н. Писарева «Забавы Калифа»[1029].
Драма П. И. Степанова «Опекун» (1858) была запрещена на том основании, что «главное лицо этой пьесы Трутнев — величайший негодяй, остался ненаказанным и пьеса эта желает показать, как легко и безнаказанно у нас можно мошенничать и наживать состояние при содействии к тому должностных лиц»[1030].
Комедия Друцкого-Соколинского «Совесть говорит, а нужда велит» (1858) была не пропущена, так как в ней не порицалось, а скорее оправдывалось взяточничество: «Пьеса эта, доказывая, что нужда может поколебать правила самого честного человека, извиняет злоупотребления по службе, когда причина их крайняя нищета чиновника и необходимость, в которой он находится, поддержать хоть взятками свое семейство; по мнению цензуры взяточничество никогда и ничто извинять не должно»[1031].
Комедия А. А. Потехина «Мишура» (1858) попала в запрет как произведение безнравственное по нескольким основаниям — это и взятки, и циничная любовная связь: «Автор имел целью доказать […], что под внешним видом честности и благородства часто скрываются самые безнравственные натуры. Имея в виду, что основанием этой пьесы служат всякого рода взятки и что изображение невещественных взяток — любовная связь Пустозерова и Дашеньки — доведена до цинизма»[1032]. По аналогии были запрещены к представлению и сцены С. Королева «Заблуждение» (1859), «имея в виду, что разговор всех действующих лиц этой пьесы ограничивается рассуждениями о взятках и что сходная по содержанию пьеса под названием „Мишура“ была запрещена»[1033].
Изображаемое в пьесе недостойное поведение чиновников также могло быть основанием для ее запрета. О комедии «Неопытность» в рапорте о рассмотренных произведениях 25 мая 1859 г. сообщалось: «Пьеса эта, не имея никакого внутреннего достоинства, есть не что иное, как пошлое описание взяточничества губернских чиновников. В ней нет ни одного благородного лица, которое могло бы вознаградить зрителей за чувство отвращения, которое должен возбудить разврат действующих лиц и притом лиц состоящих в государственной службе»[1034]. Молодой чиновник Морозин, прибывший из Петербурга, занимает важное место в губернской администрации, но делами не занимается, поручив все своему помощнику Гвоздину, а сам волочится за чужими женами. Гвоздин «бессовестно берет со всякого просителя, что только может, деньгами и натурою». «Скажут мошенничество, — говорит он в свое оправдание, — да ведь у всякого человека свое ремесло, отчего же мошенничество не может быть ремеслом»[1035] — такое жизненное кредо оказалось недопустимым для демонстрации со сцены, несмотря на то, что в конце пьесы обоих чиновников выгоняют со службы.
Целый каскад запретов нарушил Ф. М. Толстой в драме «Пожизненное владение». Героями пьесы были пьяный становой пристав, судья-взяточник, бессердечные чиновники. По отзыву И. А. Нордстрема: «В драме этой, кроме некоторых неуместных рассуждений, как, например, о циркуляре правительства против трезвости крестьян, о взятках и о ссылке помещиками дворовых людей по одной жестокой прихоти их, неприятно поражает не только внешняя сторона безнравственности в лице офицера, получившего воспитание в столичном высшем военном заведении, но преимущественно заключение пьесы, вызывающее мысль, что наше правосудие до того близоруко и немощно, что по одному отвратительному корыстолюбию судей ссылается в Сибирь невинная жертва, хотя все являющиеся в пьесе административные чиновники, как то чиновник по особым поручением при губернаторе, чиновник человеколюбивого общества — вполне убеждены в совершенной невинности осужденной»[1036].
Эпидемия «обличительства», захватившая российскую периодику, штурмовала и театральные подмостки. В декабре 1860 г. одна за другой были запрещены А. Е. Тимашевым три пьесы, раскрывавшие тайные механизмы карьерного роста чиновников. В отношении комедии «Маскарад» признавалось, что «хотя в существе пьесы, изображающей прихоти и капризы молодой неопытной жены, не было ничего предосудительного, но как в пьесе выведена камелия, окруженная ее поклонниками и раздающая по ее обширному знакомству и связям служебные места, цензура затрудняется в одобрении комедии к представлению»[1037].
Герой комедии «Вакантное место», честный чиновник, имеющий за плечами 25 лет службы, не может добиться места начальника отделения, так как у него нет про текции, по словам начальника «не умеет порядочно поклониться». Случайное знакомство с камелией Эммой Карловной Вейс, за которой ухаживает в числе других почтенных лиц его начальник, доставляет вакантное место. Вторым не уместным обстоятельством было выведение на сцену публичной женщины[1038]. Сцена из петербургской жизни «Дурная примета» была не пропущена, так как в ней был представлен «на первом плане быт чиновников и притом, к сожалению, в весьма жалком и безрадостном виде. По недостаточному нравственному и умственному развитию, по крайне стесненным средствам жизни, эти представители администрации являются способными на всякие мелкие проделки корысти и честолюбия, что не может не уронить их во мнении необразованной публики»[1039].
Весьма обстоятельный отзыв подготовил И. А. Нордстрем на представленную в 1863 г. А. В. Сухово-Кобылиным пьесу «Дело». Это произведение он не допускал на сцену без предварительной переделки, так как «недальновидность и непонимание своих обязанностей в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых затем зависит направление и решение дел; несовершенство наших законов (сравнимых в пьесе с капканами), полная безответственность судей за мнения и решения, — все это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое тяжелое впечатление»[1040].
Цензура пресекала не только дискредитацию институтов власти и служебного поведения чиновников, не менее строго оберегались канонические нормы личной и семейной жизни, шатавшиеся под натиском новых веяний и практик. Необычные формы семейных отношений фиксировались авторами как новое, интересное зрителю явление, но дальше здания Третьего отделения их опусы не продвигались. Героиня пьесы «Барышня. Сцены из уездной жизни» (1858) дочь помещицы Аделаида, окончившая свое воспитание в каком-то институте, соглашается на брак с богатым и безнравственным стариком, а своему прежнему возлюбленному говорит: «Не отчаивайтесь, зачем… вы можете любить меня, это не мешает». Цензора возмутило то, что «автор представил в этой пьесе влияние современного безнравственного направления воспитания девушек, по которому оне смотрят на брак только как на необходимую форму, которая нисколько не будет стеснять их в дальнейшей беспутной жизни»[1041].
22 сентября 1859 г. цензор излагал в рапорте содержание пьесы П. Д. Боборыкина «Фразеры». Героиня, Марья Васильевна, дочь вдовы-генеральши, будучи еще девицей, имела любовную связь с командиром роты ополченцев Абласовым, который предлагал ей замужество, но она, не признавя «обычаев, приличий и предрассудков света», не согласилась. Своему новому избраннику князю («глуповатому и карикатурному фату») она еще до свадьбы объявила, что любить его не будет, и после замужества заводит новые связи, чтобы «освежиться», возобновляет знакомство с Абласовым, но он от такой «дружбы» отказывается.
В свою очередь, у ее матери есть также любовник — помещик Голубец, «который, следив за нравственным падением дочери, под конец предвещает ей, что она пойдет в камелии». Безнравственные типажи, сцепление порочных отношений предопределили решение: «Пьеса эта действительно состоит из одних фраз, большей частью пошлых и бессвязанных и при такой отвратительной безнравственности и отсутствии всякой основной идей в пьесе, цензура находит одобрение ее невозможным»[1042].
«Однодворец» П. Д. Боборыкина пошел по тому же пути. Цензор пересказывал содержание, отмечая примеры безнравственного поведения героев пьесы[1043], далее следовало предложение о запрещении, сопровождаемое ремаркой: «Автор Боборыкин известен по сочинению „Фразеры“, запрещенному по безнравственности»[1044]. Репутация автора работала против его творчества.
Вновь процитирую П. С. Федорова, хорошо знавшего внутреннюю жизнь, «кухню», жандармской цензуры: «Она [драматическая цензура Третьего отделения] как будто заподозревает каждое выражение, видит во всем скрытый намек, боится всякой дельной мысли, каждого слова со смыслом, держится того порядка, в котором даже простой намек на правду и действительность считается неприличным и заставляет драматических писателей ограничиваться наивными допотопными сентенциями и пустяками. Ценсура, в лице одного цензора, становится решительницей судеб драматического искусства в России. В общей цензуре для печатных произведений есть апелляция; в цензуре театральной ее нет. Приговор одного лица цензуры театральной свят, ненарушим и непогрешителен. За что пьеса запрещена? Почему позволена? Неизвестно. Цензуре не нравится выражение, она его переменяет; не нравится развязка, она заставляет переделывать ее, часто во вред идеи и здравого смысла; не нравится сцена, она запрещает всю пьесу! В приговорах театральной цензуры трудно отыскать последовательность: она ее знать не хочет…»[1045]
В пьесе «Le paletot brun» («Коричневое пальто») (1859) цензора «неприятно поражает не только любовная связь женщины высшего круга, но и то легкомыслие, с которым графиня меняет своих любовников»[1046]. Пьеса А. Александровой «Женщина. Современный этюд» (1861) «проповедует полную, соблазнительную свободу чувств и поступков в супружеской жизни, утверждая, что если муж делается неверным жене, то и последняя имеет право искать вознаграждение в любви к постороннему». Пьеса была запрещена, так как изложенный в ней взгляд на семейную жизнь «противоречит всем правилам нравственности»[1047].
По признанию чиновника Третьего отделения А. К. Гедерштерна, император Николай I не желал видеть на сцене всего того, что «женский пол не может смотреть не краснея»[1048], и цензоры должны были руководствоваться этим критерием нравственного допуска, ставшим вневременной заповедью цензуры.
В свое время М. А. Гедеонов полагал, что многочисленные французские переводные пьесы «не в духе русской публики, не свойственны ей и почти непонятны»[1049]. Большое число французских пьес, поступавших в театральную цензуру, как раз свидетельствовали об обратном, указывали на то, что запрос на такие постановки был, а цензоры хорошо понимали, какие сюжеты возможны на русской сцене.
В категорию безнравственных попали пьесы: «Les pupilles de dames Charlotte» (изображена незаконная любовь брата к сестре), «Les chansons de Dejasier» (муж и жена перебраниваются лежа в постели), водевиль «La baigneuse ou la nouvelle Susanne» (цензор считал, что ни один зритель не выдержит представления не краснея, так как в пьесе «девушки поднимают платья и спорят о красоте своих икр, а мужчины без исподнего платья ходят по сцене»)[1050]. Одну из пьес пропустили после исключения первой сцены, в которой молодой человек покидает свою прелестницу после ночного свидания, а название невинного фарса «Suites du premier lit» цензор предлагал заменить на «Suites du mariage», правда, Л. В. Дубельт разрешил постановку с первым названием[1051].
Реагируя на запрос публики, цензура стала более «широкой и снисходительной» к изображению пороков и страстей. Зачастую чиновная резолюция касалась не частей текста, а характера исполнения ролей. Одна из французских пьес была разрешена с условием, что «при раздевании актеры не будут снимать панталон, что, впрочем, не помешает веселости фарса»[1052].
В заключении цензора относительно пьесы «Voyage autour de ma marmite» отмечалась предосудительность главного сюжета — «желания Альзеадора удовлетворить чувственную страсть», что полагали «слишком щекотливым и даже неприличным»[1053]. По той же причине было остановлено продвижение на сцену пьесы «Eunuques et Odalisques», даже после того, как «неприличные выражения, начиная с самого заглавия, были частию уничтожены, а частию заменены более приличными»[1054].
Пьеса «Clarisse Harlowé» (граф Ловлас притворяется влюбленным, похищает девушку, «поит ее сонным порошком и пользуется ее усыплением, чтобы достигнуть своей цели») представляла собой «разврат во всей его наготе»[1055]. Относительно произведения «Il le faut» делался вывод, что «основание этой пьесы ложно и предосудительно: автор заставляет молодую и совершенно невинную девушку сознаться в падении, которого не было»[1056]. Аморальные суждения звучали и в пьесе «La fille du diable». Дьяволина желает освободиться от греховного проклятия своего порочного рождения и стать простой смертной, но для этого ей надо сохранить невинность до 18 лет, «что между людьми, по мнению сатаны, совершенно невозможно»[1057].
Комедийные и драматические сюжеты воспринимались как «доведенные до фотографической точности» в изображении «современных испорченных нравов французского общества»[1058]. В «Un pére prodique» на первом плане выступали «личности двусмысленного мира», особенно «тип современной куртизанки в лице Альбертины, любовницы переходящей от сына к отцу»[1059]. В другой пьесе — шокировала идея сестры главной героини, не дававшей согласия на брак младшей, пока скромный моряк Поль «не насладится досыта удовольствиями хо лостой жизни и потом уже пресыщенный ими не явится вновь искать руки»[1060].
Подобные образцы поведения были неуместны для тиражирования со сцены, особенно если в спектакле подвергалась сомнению святость брачных уз. Рецензируя пьесу «Deux hommes ou secret du monde», чиновник политической полиции резюмировал: «Пьеса эта представляла Антонена безнаказанно и счастливо живущего в связи с женою брата своего и, выставляя эту преступную связь совершенно законною и естественною, стремится сказать, что любовь мужчины и женщины не нуждается в освещении религии и этим противоречит понятиям нашим о нравственности и святости брака, как таинства»[1061]. Подобное поведение главного героя в пьесе «Rédemption» («Морис, сколь можно судить из слов его, не намерен вступить в брак с Мадлен, хотя и соглашается разделить ее любовь») трактовалось как «восхваление любви неосвещенной браком»[1062].
Даже если в итоге добродетель торжествовала, столь сомнительный с точки зрения нравственности путь к ней делал представление пьесы невозможным. В упомянутой выше пьесе, по словам цензора, проводилась мысль, что «любовь может восстановить падшую женщину и, обновив ее духовно, возбудить в ней религиозное чувство»[1063]. «Между тем живое представление на сцене такого женского характера, как Мадлен, может сделать на некоторых зрителей столь сильное впечатление, что они, приняв исключение за правило, будут в каждой падшей женщине искать более или менее идеала представленного в настоящей драме. Не будет ли это иметь вредного последствия в том отношении, что порок, потеряв мрачную сторону свою, покажется привлекательным?»[1064] — рассуждал цензор, обосновывая запрет сценической постановки.
В драме «La rocher de Sisyphe», по заключению цензуры, основная мысль «верна и совершенно нравственна», но при ее развитии автор впал «в ложное и даже вредное направление»: «Он представил в Мадлен идеал женщины, придав ей все высокие качества». В итоге в лице Мадлен (последовательно сменившей трех любовников и с последним прижившей сына) «порок представлен в облагороженном и привлекательном виде»[1065].
Проявляя хорошую осведомленность в жизни французского полусвета, цензоры заочно спорили о судьбе пьесы «Les memoires de Mimi Bamboche»: по мнению драматической цезуры Третьего отделения, героиню «нельзя принять за гризетку, а прямо за лоретку, хотя она среди окружающего ее соблазна сохраняет свое сердце жениху и, по уверению авторов, остается честною». В этом отношении «пьеса забавна, но вместе с тем совершенно неправдоподобна», кроме того, «пьеса изображает вообще в ярких красках мягкость современных парижских нравов и поэтому уже, по мнению цензуры, не уместна на нашей сцене»[1066].
В главном управлении по делам печати эту пьесу читал И. А. Гончаров. Он признавал, что в пьесе показан круг женщин легкого поведения, называющихся biches, cocottes: «Вся эта интрига служит слабою, едва приметною нитью, на которую нанизан ряд комических местами пошлых сцен составляющих целую вакханалию распущенных нравов парижской жизни». Во Франции такая пьеса может идти в Bouffe parisiens, Théatre du Palais Royal, куда ходит публика «посмеяться над распущенностью общественной и семейной жизни и полюбоваться игривыми картинами веселого житья-бытия». В России одна французская сцена — Михайловский театр, и эта пьеса «не откроет никаких новых тайн из demi mond’a и жизни камелий», так как на этой сцене уже идут «La vie de Boheme» и «Les diables roses». В первой — гризетки на сцене приуготовляются провести ночь с любовником, а во второй перед зрителем проходит вся жизнь легких женщин во всем ее веселом безобразии. Внешнее приличие на сцене не нарушается. Единственно на что он обратил внимание, так это «на эпитет renversantes (сногсшибательный), отнесенный к легким женщинам». «Но едва ли есть одна веселая пьеса, в которой не было бы подобной двусмысленной игры слов»[1067], — отмечал цензор. Заключение Третьего отделения оказалось более весомым.
Объясняя название пьесы «Ches une petite dame», другой цензор этого ведомства отмечал, что такое прозвище теперь дается «женщинам легкого поведения, которые прежде назывались лоретками, а потом бишками (biche)», и, хотя в тексте нет ничего безнравственного, смущала «основная и весьма резко проведенная мысль […], что мужчины умеют быть умными и любезными только в обществе женщин легкого поведения; в присутствии же порядочных женщин ум и любезность их исчезают, так что в этом отношении честные женщины, в лице г. Шатене, имеют основания завидовать женщинам, принадлежащим к demi-monde»[1068]. Помимо названного, продолжительные сцены, в которых один из героев обращается с г. Шатене «как с лореткою, предлагает ей левую руку и даже целует ее, могут показаться не совсем приличными»[1069].
Даже довольно легко читаемый смысл сцен «De Stettin à S’Peterbourg» («рассказ расчетливой публичной женщины, которая приезжает в Санкт-Петербург с тем, чтобы набрать как можно больше денег»)[1070], вполне уместных как предупреждение о коварстве заезжих иностранок, не был дозволен. Смущала и сама героиня, и ее откровенные рассказы о беспутной жизни в Париже, и параллельная линия действия, происходящего на палубе парохода, идущего в Санкт-Петербург: «Бенуа, влюбившийся в Матильду, утешается той мыслью, что она, его дядя и он будут жить вместе, составят „un ménage à trois“»[1071]. Не допустили на сцену и «Jeu de Sylvia», в которой героиня «выведена на сцену исключительно как любовница, которая не стесняется признаться, что в любовниках ей всего важнее их деньги»[1072]. Порочность героинь перестала смущать цензоров уже в конце 1860-х гг., правда, если в текстах отсутствовали «цинические места».
Откровенность натуралистических сюжетов на сцене порицалась и в России, и во Франции. Зарисовка «La sensitives», показывающая «неловкое положение мужа, оказавшегося неспособным в первую брачную ночь», вызвала осуждение даже парижского рецензента, считавшего «подобный сюжет слишком смелым и не советовавшего молодым девицам видеть этот водевиль»[1073]. Разница была лишь в том, что французский зритель имел возможность выбора, а за россиян запретительное решение принимала цензура.
Профессионалы Третьего отделения весьма чутко реагировали на подделки à la français. Одноактный водевиль «Ночной колокольчик» был запрещен цензором Е. И. Ольдекопом со следующей мотивировкой: «Этот водевиль подражание неизвестной мне французской пьесе, но я сомневаюсь, чтобы во французском подлиннике нашлось бы столько нелепостей, столько площадных, подлых и глупых шуток, как в этом подражании, которое едва может повеселить степных мужиков»[1074].
Более развернут отзыв другого стража нравственности. Его вердикт касался пьесы, которая была переделана с французской драмы «La petite Polone», «в которой преимущественно изображен быт беззаботных и честных парижских бедняков»[1075]. Буквальный перевод пьесы, шедшей в Петербурге на французской сцене, и адаптация текста под русские нравы исказили ее вполне невинный смысл: «В русской же переделке автор, сохранив внешний ход пьесы, дал лишь действующим лицам русские названия, между тем как нравы, в сущности, остались чисто французскими. Утратив свою оригинальность, эти французские обычаи и понятия, в неудачном их применении к нашему обществу, являются крайне ложными и решительно предосудительными. Так, например, простые парижские гризетки заменены женщинами промышляющими собой. Два действия пьесы почти исключительно заняты изображением их беспутного разгула»[1076].
Оценка нравственного воздействия пьес на зрителя очень тонкая и субъективная материя. Были ли правовые механизмы, четкие критерии принятия решений? Чем руководствовались цензоры Третьего отделения вынося запретительные вердикты?
В ответ на обращение председателя высочайше учрежденной комиссии по делам книгопечатания Д. А. Оболенского, просившего «сообщить все те правила и инструкции», которыми руководствуется Третье отделение при рассмотрении драматических сочинений, его управляющий, А. Л. Потапов, сообщил (12 июня 1862 г.): цензурная экспедиция «не имея никаких особых инструкций при рассмотрении пьес руководствуется […] общими правилами Цензурного устава, соображаясь при том, по указаниям Начальства, с современным политическим и общественным положением России»[1077]. Распоряжения начальства, в свою очередь основанные на высочайших повелениях, создавали волюнтаристскую систему, без труда преодолевавшую нормы и ограничения Цензурного устава 1828 г.
Согласно этому документу, запрещению подлежали произведения противные догматам христианства и православной веры, нарушающие неприкосновенность и демонстрирующие неуважение к самодержавной власти, содержащие что-либо противное основным государственным законам, оскорбляющие «добрые нравы и благопристойность», содержащие оскорбления и клевету на частных лиц[1078].
Специальными пунктами устава оговаривалось: «Цензура в произведениях изящной словесности должна отличать безвредные шутки от злонамеренного искажения истины и от существенных оскорблений нравственного приличия» (п. 13), она не препятствует «печатанию сочинений, в коих под общими чертами осмеиваются пороки и слабости, свойственные людям в разных возрастах, званиях и обстоятельствах жизни» (п. 14), наконец, «цензура не имеет права входить в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя […], не может входить в суждение о том, полезно или бесполезно рассматриваемое сочинение, буде только оно не вредно, и не должна поправлять слога или замечать ошибок автора в литературном отношении […]»[1079]. Приведенный материал показывает, что эти требования для политической полиции носили лишь рекомендательный характер. На цензорских рапортах постоянно встречались резолюции: «Этот дивертисмент, как глупость запрещается», «В пьесе недостает смысла, вкуса и приличия», запретить пьесу «по безграмотству», запретить за «нелепость и безграмотность авторов» и др.[1080] Некоторые красивые резолюции Л. В. Дубельта как раз иллюстрируют такой произвол. На одном из рапортов он написал: «Из уважения к прекрасному СПб. театру я не могу согласиться пропустить эту ничтожную пьесу, которая замарала бы даже балаган Лемана»[1081].
Собственного вкуса и убеждения в правоте взглядов было достаточно для принятия административного решения. 11 мая 1850 г. Л. В. Дубельт докладывал шефу жандармов А. Ф. Орлову о рассмотрении в цензуре двух пьес. Первая, «Облака и солнышко», «есть жалкая, безграмотная компиляция и пародия на достославную нашу отечественную войну», комедия «Светские люди» «описывает людей большого света весьма с невыгодной стороны». «Первую из этих пьес я запретил по ее безграмотности, вторую — по ее неприличию»[1082], — сообщал Л. В. Дубельт. Занимаемая должность обеспечивала такое понимание высших интересов государства, которое позволяло преодолевать ограничения Цензурного устава.
Субъективный контроль цензуры не мог остановить репрезентации жизни на театральной сцене. Массовый наплыв в цензуру низкопробных, вульгарных произведений — это тот тренд, который отражал новые реалии эпохи. Неформатная жизнь, семейные тайны, девиантные практики из полумрака выходили на освещенную сцену.
Заключение
Насколько успешной оказалась деятельность Третьего отделения по нравственному контролю и опеке русского общества? Победить пороки и исправить нравы явно не удалось. Да и недостатки жандармской службы были хорошо видны современникам. Одни — были системными, другие — личностными. В записке, представленной императору Николаю I в апреле 1841 г. Н. Кутузовым, отмечалось, что распространение влияния жандармов на дела не только политические, но и гражданские, семейные «усилило еще более неправду и злоупотребления, поелику жандармы те же люди, с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной, потому-то умели овладеть ими и красотою женскою, и приманкою обогащения, умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями». Автору показалась уместной аналогия с фискалами Петровской эпохи, с помощью которых царь думал остановить неправосудие и казнокрадство, но они «соединились с бессовестными людьми и с неправыми судьями и увеличили зло до безмерности»[1083].
Неясный правовой статус Третьего отделения, таинственность полномочий жандармов, негласный характер надзора, секретность административных действий, дополненные представлением обывателей о повсеместном проникновении агентов даже в частную жизнь, — все это дискредитировало благую цель учредителя. Великий князь Константин Павлович спорил с А. Х. Бенкендорфом: «Вы говорите мне, что по одному обвинению жандармского офицера никто еще не был преследован и наказан и что на их донесения смотрят как на простые указания для открытия истины путями законными. Я с вами в этом совершенно согласен; но за то, согласитесь, что всякий обыватель знает, вообще какое призвание жандармов, знает, что они надзирают за всем порядком и обязаны доносить своему начальству о всяком дурном действии или нарушении, какое только заметят или услышат. Вот почему их боятся, а потому все сословия более ли менее избегают их. Публика же решительно не знает, какой ход имеют их донесения и какие последствия»[1084]. Процитированный Константином Павловичем аргумент А. Х. Бенкендорфа очень показателен: жандармский контроль воспринимался создателем системы надзора как альтернатива гласности: вскрывать недостатки мог только уполномоченный на то государством чиновник, а не рупоры общественного мнения.
Другой брат императора, великий князь Михаил Павлович, тоже не был в восторге от действий носителей голубых жандармских мундиров. М. А. Корф 15 ноября 1838 г. записал откровения Михаила Павловича. «Должен признаться, — сказал он иронически, — что у меня большая слабость и особенное почтение к этому прекрасному сословию небесного цвета». Критический настрой касался именно нравственных критериев отбора для службы: «Понимаю, что если бы в жандармы можно было набирать все ангелов или, по крайней мере, святых, то это учреждение было бы истинно полезно; но мы видим, что туда, напротив, стремится всякий сброд, и никак не поверю, чтобы человек мог переродиться и сделаться надежным ценсором и блюстителем моих поступков потому только, что на него наденут голубой мундир». Любопытно, что высказано было именно теоретическое суждение о миссии корпуса и ее применении на практике. Конкретных примеров порочного поведения жандармов великий князь не привел.
Реализация благого замысла наталкивалась на человеческий фактор. «Многим из штаб-офицеров, поступивших в жандармскую команду, было любо жить в губернии, совершенно независимыми, без всякого постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества, принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не подлежали никакой за то ответственности. И где было искать защиты против них губернским начальствам, а кольми паче частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым образом поставлен был надсмотрщиком над другими министрами?» — вопрошал Ф. Ф. Вигель[1085].
Интересно, что князь А. Ф. Орлов, сменивший А. Х. Бенкендорфа на посту шефа жандармов, несколько критично относился к наследию своего предшественника. По прошествии лет он рассказывал А. В. Головнину, «что при первоначальном учреждении жандармов весьма основательно было замечено, что если возможно найти 50 человек с теми достоинствами, которые требуются от губернского жандарма, то следовало этих лиц назначить прямо губернаторами…»[1086].
Следует упомянуть негативный пример поведения жандарма уже из хроники крестьянского движения кануна отмены крепостного права в России. В 1857 г. капитан корпуса жандармов Скосырев, исправлявший должность астраханского губернского штаб-офицера, был зарезан в своей квартире находившимися в услужении дворовыми людьми его матери. Как явствовало из поступившего в Третье отделение донесения, «поводом к сему преступлению было жестокое обращение Скосырева с людьми, в чем он и прежде был замечен»[1087].
Начало царствования Александра II пробудило критический взгляд на недавнее историческое прошлое, вызвало стремление к пересмотру многих устоявшихся традиций даже у лиц, далеких от либеральных веяний «оттепели» рубежа 1850–1860-х гг. В недрах Третьего отделения озаботились переработкой старой жандармской инструкции, которая, как полагали, уже не соответствовала реалиям новой эпохи. Жандармский генерал-майор Гильдебрант в своей записке отмечал: «Странно было бы воображать жандармского штаб-офицера, между коими встречаются весьма посредственные личности [против этих слов начальник штаба корпуса жандармов А. Л. Потапов отметил: „И даже хуже“] — какими-то фениксами, соединяющими в себе все возможные совершенства и добродетели, которых в сущности требует от них инструкция»[1088].
Руководителям тайной полиции казалось, что изменить положение возможно, сделав деятельность жандармов гласной. «Это гласное положение поставит жандармских штаб-офицеров на ту точку морального влияния, на которой начальство желает видеть их; и дух времени требует, чтобы в общественном мнении действия жандармских штаб-офицеров не считались какою-то контрабандою, когда все ищут опоры в принципах Законности и Гласности», — писал автор одной из записок. Против этих слов В. А. Долгоруков пометил: «Совершенно согласен»[1089].
Высказанные идеи нашли отражение в новой инструкции, которую составила упоминавшаяся выше комиссия. Эта инструкция, созвучная мыслям А. Х. Бенкендорфа, подлежала оглашению в основных чертах. Так, жандармские офицеры в своих действиях должны были «строго руководствоваться мерами кротости и убеждения, стараясь всякое зло, если возможно, предотвратить добрым советом, предложенным с теплым участием, или устранить его личным влиянием, не выказывая при этом ни под каким видом официального вмешательства или противодействия распоряжениям правительственных мест или отдельных властей»[1090]. Однако приведение инструкции в действие было отложено «до более благоприятного времени»[1091], которое так и не наступило. После покушения Д. В. Каракозова в одобренную В. А. Долгоруковым инструкцию новый шеф жандармов П. А. Шувалов внес существенные коррективы, сокращавшие филантропическое славословие и приспосабливавшие ее к суровым реалиям второй половины 1860-х гг.
Можно сказать, что воплощенный А. Х. Бенкендорфом по прямым указаниям императора Николая I проект надзорно-контролирующей структуры оказался неэффективным. Идиллическую картину охраны спокойствия сословий и благосостояния государства через повсеместную назидательную опеку чиновников с чистой совестью и непоколебимой нравственностью воплотить в жизнь не удалось. Как писал современник: «Люди не ангелы, поэтому-то и постановления должны согласоваться с природою первых, а не с свойствами последних»[1092]. Отдельные примеры подвижничества лишь подтверждали системную ошибку охранителей, делавших ставку на субъективный, а не институциональный механизм контроля.
Источники и литература
Источники
Архивные документы
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
• Ф. 109 Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии.
• Ф. 638 Л. В. Дубельт.
• Ф. 728 Коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца.
Российский государственный исторический архив (РГИА)
• Ф. 780 Цензурная (пятая) экспедиция Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.
• Ф. 1286 Департамент полиции исполнительной Министерства внутренних дел.
• Ф. 1405 Министерство юстиции.
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ)
• Ф. 37 А. И. Артемьев.
• Ф. 831 Цензурные материалы.
• Ф. 859 Н. К. Шильдер.
• Ф. 1000 Cобрание отдельных поступлений.
Официальные документы
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 1–55. СПб., 1830–1884.
Свод законов Российской империи. Т. 1–15. СПб. 1857.
Третье отделение С. Е. И. В. к. о себе самом. Обзор деятельности Третьего отделения собственной вашего императорского величества канцелярии за 50 лет. 1826–1870 гг. // Вестник Европы. 1917. № 3 (март).
Дело петрашевцев. Сб. материалов. М.; Л., 1951. Т. 1–3.
Дело Чернышевского. Саратов, 1968.
Журналы 60-х годов в оценке Третьего отделения. Сообщ. Н. Ф. Бельчиков // Исторический архив. 1957. № 4.
Инструкция гр. А. Х. Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Русский архив. 1889. № 7.
Кирило-Мефодiiвське товариство. В 3-х тт. Киiв, 1990.
Конфиденциальная записка, составленная генерал-адъютантом графом Редигером в августе 1855 г. // Русская старина. 1905. № 6.
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1–2. Сб. док. под ред. Е. А. Мороховца. М.; Л., 1931.
Крестьянское движение в России в 1826–1848 гг. Сб. док. М., 1961.
Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. Сб. документов. М., 1963.
Литература 60-х годов по отчетам Третьего отделения. Сообщ. Бельчиков Н. Ф. // Красный архив. 1925. № 1.
Материалы для истории крепостного права в России. Извлечения из секретных отчетов министерства внутренних дел за 1836–1856 г. Берлин, 1872.
Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в России. М., 2007.
Общественное движение 60-х годов под пером его казенных исследователей. Публ. В. Я. Богучарского // Голос минувшего. 1915. № 4.
Проект гр. А. Х. Бенкедорфа об устройстве высшей полиции // Русская старина. 1900. Т. 104 С. 615–616.
Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. М. 2006.
Россия. Штаб отдельного корпуса жандармов. Приказы за 1827–1866 гг. СПб., 1827–1867.
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862.
Сборник статей недозволенных цензурой. Т. 1–2. СПб., 1862.
Воспоминания, записки, письма
Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. А. Р. Былое Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах // Русская старина. 1901. № 10.
Архив графов Мордвиновых. Т. 8. СПб., 1903.
Бенкендорф А. Х. Воспоминания. 1802–1837. М. 2012.
Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006.
Боборыкин П. Д. Воспоминания. За полвека. М., 2003.
Бунаков Н. Ф. Записки. СПб., 1909.
Валуев П. А. Дневник министра внутренних дел. В 2 т. М., 1961.
Валуев П. А. Дневник. 1847–1860 гг. // Русская старина. 1891. Кн. 11.
Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в Третье отделение. М., 1998.
Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2008.
Воспоминания В. А. Инсарского // Русская старина. 1874. № 10.
Воспоминания О. А. Пржецлавского // Русская старина. 1874. № 11.
Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003.
Гиляровский В. А. Москва и москвичи // Избранное. В 3 т. М., 1961. Т. 3.
Голинищев-Кутузов-Толстой П. М. Из памятных записок // Русский архив. 1883. № 1.
Голицын Н. С. Два события из моей жизни // Русская старина. 1890. Т. 65–68.
Голицын Н. С. Записки // Русская старина. 1880. Т. 29. 1881. Т. 30.
Головин К. Ф. Мои воспоминания. Т. 1. СПб.; М., [1909].
Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988.
Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990.
Два письма кн. А. Ф. Орлова к гр. А. Х. Бенкендорфу // Русский архив. 1889. № 8.
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. T. l–4. М., 1912.
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. 1–2. М.; Л., 1930.
Дивов П. Г. Из дневника (1831–1837) // Русская старина. 1899–1900. Т. 100–104.
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1992.
Долгоруков П. В. Правда о России. Ч. 1–2. Париж, 1861.
Донесение агента Третьего отделения из Москвы. (1848) // Былое. 1906. № 11.
Донесения агентов о духе в Москве 1848 г. // Минувшие годы. 1905. № 5.
Донос на Н. С. Мордвинова, A. A. Закревского и др. // Русская старина. 1881. № 1.
Доносы на Л. В. Дубельта // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. Вып. 14. М., 2005.
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 303.
Дубельт Е. И. Леонтий Васильевич Дубельт. Биографический очерк и его письма // Русская старина. 1888. № 11.
Дубельт Л. B. Заметки // Голос минувшего. 1913. № 3.
Дубельт Л. В. Записки для сведения, 1849 год // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2005. Вып. XIV.
Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. Т. VI.
Дубельт Л. В. Дневник // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. Т. VI.
Дюма А. Путевые впечатления в России. В 3 т. М., 1993.
Жеденев Н. Н. Случай в Петербурге в 1848 г. // Русская старина. 1890. № 8.
Жихарев С. П. Записки современника. Т. 1–2. М., 1934.
Записки В. И. Сафоновича // Русский архив. 1903. № 5.
Записки И. В. Селиванова // Русская старина. 1880. № 6.
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). М., 2002.
Записки Януария Михайловича Неверова. 1810–1826 гг. // Помещичья Россия.
Император Николай I и его сподвижники. Воспоминания гр. Оттона де-Бре. 1849–1852 гг. // Русская старина. 1902. № 1–3.
Кабештов И. М. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, потом двадцать лет крепостным // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006.
Каратыгин П. П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический вестник. 1887. № 10.
Карпинская Ю. Н. Из семейной хроники // Исторический вестник. 1897. № 12.
Карикатурные рисунки Н. А. Степанова. Моды. СПб., 1860.
Кауфман А. Е. День в доме у Цепного моста // Исторический вестник. 1911. № 1.
К истории театральной цензуры (записка П. С. Федорова, 1859 г.) // Русский архив. 1896. № 4.
Кокорев В. Воспоминания давнопрошедшего, вызванные показаниями гр. Закревского // Русский архив. 1885. № 9–10.
Колмаков М. Н. Очерки и воспоминания с 1816 г. // Русская старина. 1891. № 4–6.
Колмаков М. Н. Старый суд // Русская старина. 1896. № 12.
Корф М. А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010.
Корф М. А. Записки. М., 2003.
Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989.
Критический взгляд на г-жу Эльслер, наскоро набросанный Николаем Телепневым. СПб., 1848.
Кюстин А. Россия в 1839 году: В 2 т. Т. 1. М., 1996.
Лебедев К. Н. Из записок сенатора // Русский архив. 1897. № 8–10; 1900. № 9–10; 1910. № 7.
Ломачевский А. И. Записки жандарма // Вестник Европы. 1872. № 3–5.
Любавский А. Русские уголовные процессы. СПб., 1866. Т. 1.
Мартьянов П. К. Дела и люди века. Т. 1–2. СПб., 1893.
Менделеев Д. И. Дневник // Научное наследство. Естественно-научная серия. Т. 2. М., 1951.
Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001.
Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 1. СПб., 1897.
Милютин Д. А. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999.
Михайлов М. Л. Записки // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. Т. 1–2. М., 1967.
Н. Г. Леонтий Васильевич Дубельт. К истории Третьего отделения // Русская старина. 1880. Т. XXIX.
На заре крестьянской свободы // Русская старина. 1897. № 10–12; 1898 № 1–4.
Никитенко A. B. Дневник. Т. 1–3. Л., 1955–1956.
Никитин В. Н. Воспоминания // Русская старина. 1906. № 10.
Николай I: личность и эпоха: новые материалы. СПб., 2007.
Николай I и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. Т. 1–2. М., 2000.
Николай I и его эпоха. М., 2001.
Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. М., 1991.
Оболенский Д. А. Записки. 1855–1879. СПб., 2005.
Обручев В. А. Из пережитого // Вестник Европы. 1907. № 5.
Одоевский Ф. В. Текущая хроника и особые происшествия. Дневник 1859–1869 гг. // Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935.
П. Б. [Бартенев П. И.] Из истории раскрепощения крестьян // Русский архив. 1887. Т. 2.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.
Панаев И. И. Петербургская жизнь. Заметки нового поэта // Современник. 1858. № 10.
Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1986.
Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. Л., 1958.
Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. В 2 т. М., 1963.
Пеликан А. А. Во второй половине XIX в. // Голос минувшего. 1914. № 3.
Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. М., 1994.
Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая // Русская старина. 1881. № 9–11.
Письма Н. И. Греча к Ф. В. Булгарину // Новое литературное обозрение. 2008. № 91.
Полилов Г. Т. Быт петербургского купечества в 1820–1840 годах // Исторический вестник 1901. Т. 85.
Пржецлавский О. А. Воспоминания. Беглые очерки // Русская старина. 1883. № 9–10.
Пушкарев И. И. Николаевский Петербург. СПб., 2000.
Пыляев М. И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 2004.
Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2004.
Решетников Ф. М. Дневник // Литературное наследство. Т. 3. М., 1932.
Русский Эрот не для дам. М., 2005.
Русское общество 40–50-х годов XIX в. Часть I. Записки А. И. Кошелева. М., 1991.
Русское общество 40–50-х годов XIX в. Часть II. Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1991.
Салиас Е. Семь арестов // Исторический вестник. 1898. № 1–3.
Свербеев Д. Н. Записки // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911.
Селиванов И. С. Записки // Русская старина 1880. № 6.
Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л., 1928.
Скальковский К. Воспоминания молодости (по морю житейскому) 1843–1869. СПб., 1906.
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
Соколова А. И. Встречи и знакомства // Исторический вестник. 1911. № 1–4.
Соллогуб В. А. Высший свет // Избранная проза. М., 1983.
Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. М., 1988.
Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М, 2003.
Суворин А. С. Дневник. М., 1992.
Таборовский А. А. И. Лакс // Русская старина. 1890. № 2.
Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 1907.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. М., 2004.
Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы 1848–1896. М., 1991.
Фишер К. И. Записки сенатора. М., 2008.
Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. Т. 114.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. XIV. М., 1949.
Шелгунов Н. В. Воспоминания // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2 т. Т. I. М., 1967.
Шилов А. А. Арест М. И. Михайлова и суд над ним // Русское прошлое. 1923. № 2.
Шилов А. А. Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов Третьего отделения // Красный архив. 1926. Т. 1.
Шилов А. А. П. Л. Лавров в агентурных донесениях сотрудников Третьего отделения // Материалы для биографии П. Л. Лаврова. Вып. 1. Пг., 1921.
Шильдер Н. Два доноса в 1831 г. // Русская старина. 1898. Т. 8.
Шомпулев В. А. Записки старого помещика. М., 2012.
Штакеншнейдер Е. А. Дневник и воспоминания (1854–1886). М.; Л., 1934.
Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни. М., 1895.
Щербина Н. Ф. Избранные произведения. Л. 1970.
Щербинин М. П. Воспоминания. 1843–1860. Б/м. Б/г.
Эйдельман Н. Я. Дневник гимназиста 1860-х гг. // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975.
Юнге Е. Ф. Воспоминания. 1843–1860. Б/м. Б/г.
Литература
Абакумов О. Ю. К истории формирования городской мужской гомосексуальной субкультуры в России // Культурное пространство города. Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2010.
Абакумов О. Ю. «Око земного Бога» (корпус жандармов на рубеже 50–60-х гг. XIX в.: традиции и новации // Освободительное движение в России. Вып. 18. Саратов, 2000.
Абакумов О. Ю. А. Е. Тимашев против литературы // Освободительное движение в России. Вып. 14. Саратов, 1991.
Абакумов О. Ю. Традиционные ценности и риски: охранительный дискурс конца 1840-х годов // Гражданственность и патриотизм в современном обществе. Сб. науч. тр. Саратов, 2015.
Абакумов О. Ю. «…Чтоб нравственная зараза не проникла в наши пределы». Из истории борьбы Третьего отделения с европейским влиянием в России (1830-е — начало 1860-х гг.). Саратов, 2008.
Алексеевский равелин. Секретная государственная тюрьма России в XIX в. Т. 1–2. Л. 1990.
«А се грехи злые, смертные…» Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала ХХ века. Книга 3. М., 2004.
Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011.
Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. М., 2010.
Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006.
Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел. СПб., 1903.
Великие реформы в России. 1856–1874. М., 1992.
Выскочков Л. В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001.
Гернет М. Н. История царской тюрьмы. T. 1–2. М., 1961.
Гусев В. От Черной речки до реки Св. Лаврентия // Катера и яхты. 1990. № 5.
Деревнина Т. Г. Записка о внутреннем положении дореформенной России (по материалам Третьего отделения) // Вопросы истории. 1973. № 3.
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг., 1917.
Дуков Е. В. Бал в культуре России XVIII — первой половине XIX века // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000.
Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия // Литературное наследство. Т. 31–32. М., 1937.
Егоров В. Ф. Петрашевцы. Л., 1988.
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.
Ерошкин Н. П. Российское самодержавие. М., 2006.
Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. СПб., 2002.
Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001.
Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978.
Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.
Зубко О. Подольский Версаль. Часть 1 // Историческая правда URL: /
Измозик В. С. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации XVIII–XIX века. М., 2015.
Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей. М., 2006.
Колганова Е. «На фу-фу я не пойду…» До чего же непросто было развестись сто лет тому назад // Родина. 2006. № 5.
Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М., 1997.
Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия. Социальные и культурные аспекты. М., 2008.
Куприянов А. И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII — первая половина XIX века. М., 2007.
Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М., 2007.
Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. ХХ в.). М., 1994.
Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собственной Е. И. Величества канцелярии. СПб., 1909.
Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904.
Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России в XIX в. М., 1967.
Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). М., 2003.
Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды: Панорама столичной жизни. СПб., 1996.
Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России. 1649–1917. М., 1998.
Макаревич Э. Ф. Секретная агентура. М., 2007.
Макарова Н. В. Российское общество в эпоху правления Николая I: общественная и частная жизнь (по материалам Третьего отделения): диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.02. М., 2013.
Максимова Т. Развод по-русски // Родина. 1998. № 9.
Мельников П. Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах. Нижний Новгород, 1846.
Министерство внутренних дел. Исторический очерк. СПб., 1902.
Министерство юстиции за сто лет. 1802–1902. Исторический очерк. СПб., 1902.
Мироненко C. B. Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990.
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начала XX в.). Т. 1–2. СПб., 2000.
Михневич В. Язвы Петербурга. СПб., М., 2003.
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII — начало XX века. СПб., 2004.
Нифонтов А. С. Россия в 1848 г. М. 1949.
Олейников Д. Бенкендорф. М., 2009.
Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–1880). М., 1982.
Павловский И. Ф. Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители: опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии с половины XVIII в. Полтава, 1914.
Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX — начале ХХ века. СПб., 2013.
Перегудова З. И. Политический сыск России 1880–1917. М., 2000.
Познанский В. В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX века. М., 1975.
Полиевктов М. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918.
Порох И. В. История в человеке. Саратов, 1971.
Порох И. В. Первый пострадавший // Прометей. Т. 3. М., 1967.
Порох И. В. Процесс Чернышевского и общественность России // Дело Чернышевского. Саратов, 1968.
Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990.
Прыжов И. История кабаков в России. М., 1991.
Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001.
Романов В. В. Трансформация органов политической полиции Российской империи в 1826–1860 гг.: историко-правовой анализ. Ульяновск, 2013.
Российские консерваторы. М., 1997.
Российские самодержцы. 1801–1917. М., 1994.
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.
Рууд Ч., Степанов С. А. Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М., 1993.
Сариева Е. А. Кафешантан Шарля Омона // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000.
Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 2.
Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. СПб., 1902. Т. 2–3.
Сидорова М. В. Немцы на службе в Третьем отделении С. Е. И. В. канцелярии (по данным формулярных списков) // Россия — Германия. Пространство общения. Материалы X Царскосельской научной конференции. СПб. 2004.
Слухи в России XIX–XX веков. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории. Челябинск, 2011.
Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1–2. СПб., 1903.
Трефолев Л. Бенкендорфские «шалуны» (Черты из Николаевского времени) // Русский архив. 1896. Кн. 2 № 8.
Троцкий И. Третье отделение при Николае I. Л., 1990.
Уварова Е. Д. Вокзалы, сады, парки // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000.
Уортман Р. С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004.
Устрялов Н. Г. Историческое обозрение царствования государя императора Николая I. СПб., 1847.
Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. М., 1947.
Федоров В. А. Крестьянское трезвенное движение 1858–1860 гг. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1962.
Федоров В. А. Русский крестьянин накануне революционной ситуации 1859–1861 гг. (по материалам центрально-промышленных губерний России) // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1974.
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта XIX века. М., 1999.
Филимонова Л. Ф. Истоки душевной трагедии В. М. Гаршина // Звенья. Т. 9. М., 1951.
Цензоры Российской империи, конец XVIII — начало XX века: биобиблиограф. справ. / [О. Ю. Абакумов и др.; редкол.: В. Р. Фирсов (пред.) и др.]; СПб., 2013.
Человек в кругу семьи. Очерк по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. М. 1996.
Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978.
Чукарев А. Г. Тайная полиция России. 1825–1855 гг. М., 2005.
Шевцов В. В. Карточная игра в России (конец XVI — начало ХХ в.): история игры и история общества. Томск, 2005.
Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001.
Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1903.
Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.
Штрайх С. Я. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М., 2000.
Щебальский П. К. Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862.
Щеголев П. Е. Любовь в равелине (С. В. Трубецкой) // Алексеевский равелин: Секретная государственная тюрьма в России в XIX веке. Кн. I. Л., 1990.
Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1983.
Эйдельман Н. Я. После 14 декабря: Из записной книжки писателя-архивиста // Пути в незнаемое: писатели рассказывают о науке. Сб. 14. М., 1978.
Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России крепостной к России капиталистической. М., 1985.
Эймонтова Р. Г. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. М., 1993.
Экштут С. А. В поисках исторической альтернативы. М., 1994.
Экштут С. А. На службе российскому Левиафану. Историософские опыты. М., 1998.
Экштут С. А. Несчастия соломенной вдовы. Как роман великосветской дамы ускорил отмену крепостного права // Родина. 1998. № 1.
Экштут С. А. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века. М., 2012.
Экштут С. А. Россия перед Голгофой. Эпоха Великих реформ. М., 2010.
Энгельштейн Л. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX веков. М., 1996.
Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007.
Вкладка. Карикатурные рисунки Н. А. Степанова (1807–1877), соиздателя сатирического журнала «Искра»
Бюрократия. СПб., 1860
Бюрократия. СПб., 1860
Бюрократия. СПб., 1860
Бюрократия. СПб., 1860
Бюрократия. СПб., 1860
Бюрократия. СПб., 1860
Санкт-петербургские типы. СПб., 1860
Промышленники. СПб., 1860
Промышленники. СПб., 1860
Промышленники. СПб., 1860
Промышленники. СПб., 1860
С натуры. СПб., 1860
Санкт-петербургские типы. СПб., 1860
Санкт-петербургские типы. СПб., 1860
Промышленники. СПб., 1860
Дачи. СПб., 1860
Примечания
1
Полное собрание законов Российской империи. 2 coбp. Т. 1. № 449.
(обратно)2
Там же.
(обратно)3
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 22.
(обратно)4
Цит. по.: Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–1880). М., 1982. С. 23.
(обратно)5
Обзор деятельности Третьего отделения С. Е. И. В. к. и корпуса жандармов за 25 лет. 1826–1850 // ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. В работе использованы материалы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного исторического архива (РГИА), Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).
(обратно)6
Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1832 г. В 2 ч. Ч. 1. СПб., 1832. С. 22–23; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям империи, и по главным управлениям в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском на 1866–1867 гг. СПб., 1866. С. 83.
(обратно)7
М. Я. Фон Фок (1826–1831), А. Н. Мордвинов (1831–1839), Л. В. Дубельт (1839–1856), А. Е. Тимашев (1856–1861), П. А. Шувалов (апр. — окт. 1861 г.) в 1866–1874 гг. шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения, А. Л. Потапов (1861–1864), Н. В. Мезенцов (1864–1871).
(обратно)8
Оржеховский И. В. Указ. соч. С. 44–45; Абакумов О. Ю. «Око земного Бога» (корпус жандармов на рубеже 50–60-х гг. XIX в.: традиции и новации // Освободительное движение в России. Вып. 18. Саратов, 2000. С. 61.
(обратно)9
Каратыгин П. П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический вестник. 1887. № 10. С. 166.
(обратно)10
Трефолев Л. Бенкендорфские «шалуны» (Черты из Николаевского времени) // Русский архив. 1896. Кн. 2. № 8. С. 583–594.
(обратно)11
Троцкий И. III отделение при Николае I; Жизнь Шервуда-Верного. Л., 1990. Первое издание вышло в 1930 г.
(обратно)12
Троцкий И. Жизнь Шервуда-Верного // Там же. Первое издание вышло в 1931 г.
(обратно)13
Штрайх С. Я. Роман Медокс: русский авантюрист XIX в. М., 2008. Первое издание вышло в 1930 г.
(обратно)14
Макаревич Э. Секретная агентура. М., 2007; Воронцов С. А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации. История и современность. Ростов,1999; Брачев В. С. Мастера политического сыска дореволюционной России. СПб., 1998; Галвазин С. Н. Охранные структуры Российской империи: Формирование аппарата, анализ оперативной практики. М. 2001; Чукарев А. Г. Тайная полиция России 1825–1855 гг. М., 2005.
(обратно)15
Борисов А. Особый отдел империи. СПб, 2001; Головков Г., Бурин С. Канцелярия непроницаемой тьмы. М, 1994.
(обратно)16
Григорьев Б. Н., Колоколов Б. Г. Повседневная жизнь российских жандармов. М., 2007; Кошель П. История Российского сыска. М., 2005; Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М., 1993; Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. СПб., 2002.
(обратно)17
Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М., 1997 и др.
(обратно)18
Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге. М., 1994; «А се грехи злые, смертные…» Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала ХХ века. Книга 3. М., 2004.
(обратно)19
Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М., 2007.
(обратно)20
Пушкарева Н. Л. Русская женщина — история и современность: два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800–2000: материалы к библиографии. М., 2002 и др.; Экштут С. А. Россия перед Голгофой. Эпоха Великих реформ. М., 2010; Экштут С. А. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века. М., 2012; Юркина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007.
(обратно)21
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). М., 2003; Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды: Панорама столичной жизни. СПб., 1996; Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII — начало XX века. СПб., 2004; Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000.
(обратно)22
Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия. Социальные и культурные аспекты. М., 2008; Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. М., 2010; Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей. М., 2006; Куприянов А. И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII — первая половина XIX века. М., 2007.
(обратно)23
Инструкция гр. А. Х. Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Русский архив. 1889. № 7. С. 396–397; Третье отделение С. Е. И. В. к. о себе самом. Обзор деятельности Третьего отделения собственной вашего императорского величества канцелярии за 50 лет. 1826–1870 ГГ. // Вестник Европы. 1917. № 3 (март); Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. М., 2006 и др.
(обратно)24
Бенкендорф А. Х. Воспоминания. 1802–1837. М., 2012. С. 342. Речь идет о выступлении офицеров 14 декабря 1825 г.
(обратно)25
Инструкция графа Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Русский архив. 1889. № 7. С. 396–397.
(обратно)26
Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 53. Оп. 9. Д. 25. Л. 10–10 об.
(обратно)27
Там же.
(обратно)28
ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив (далее: СА). Оп. 3. Д. 533. Л. 4 об.–5.
(обратно)29
Нравственно-политический отчет за 1842 [год] // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. М., 2006. С. 305.
(обратно)30
Дубельт Е. И. Леонтий Васильевич Дубельт. Биографический очерк и его письма // Русская старина. 1888. № 11. С. 501.
(обратно)31
Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003. С. 105.
(обратно)32
Письма великого князя Константина Павловича к графу А. Х. Бенкендорфу // Русский архив. 1885. № 8. С. 21–22.
(обратно)33
Там же. С. 20.
(обратно)34
Братья Булгаковы: переписка. М., 2010. Т. 3: Письма 1827–1834. С. 32.
(обратно)35
Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в Третье отделение. М., 1998. С. 298.
(обратно)36
Жемчужников А. М. Подымовское дело. (1826) // Русский архив. 1881. № 5. С. 141–154.
(обратно)37
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 21 об. — 22.
(обратно)38
Там же. Л. 22.
(обратно)39
Шомпулев В. А. Записки старого помещика. М., 2012. С. 31.
(обратно)40
Приказ № 57. 24 октября 1831 г. // Отдельный корпус жандармов. Приказы за 1831 г.
(обратно)41
Приказ № 107. 11 августа 1845 г. // Там же. Приказы за 1845 г.
(обратно)42
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 94.
(обратно)43
Там же. Л. 82–82 об.
(обратно)44
Там же. Л. 195–195 об.
(обратно)45
Там же. Л. 195 об.
(обратно)46
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 259.
(обратно)47
Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003. Кн. 2. С. 1209.
(обратно)48
Стогов Э. И. Указ. соч. С. 182.
(обратно)49
Краткий обзор общественного мнения в 1827 году // Россия под надзором. С. 21.
(обратно)50
Краткий обзор общественного мнения в 1828 году // Там же. С. 36.
(обратно)51
Картина общественного мнения в 1829 году // Там же. С. 61.
(обратно)52
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Там же. С. 272.
(обратно)53
Отчет о действиях чиновников корпуса жандармов за истекший 1834 год // Крестьянское движение 1827–1869. М.; Л., 1931. Вып. 1. С. 17.
(обратно)54
Из записок сенатора К. Н. Лебедева // Русский архив. 1910. № 8. С. 470.
(обратно)55
Дивов П. Г. Из дневника // Русская старина. 1899. Т. 100. № 10–12. С. 541.
(обратно)56
Фишер К. И. Записки сенатора. М., 2008. С. 128, 263.
(обратно)57
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Россия под надзором. С. 269.
(обратно)58
Там же. С. 272.
(обратно)59
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1835. Т. ХI. Отд. 1. № 9355. См. также: Романов В. В. Трансформация органов политической полиции Российской империи в 1826–1860 гг.: историко-правовой анализ. Ульяновск, 2013. С. 111–146.
(обратно)60
Приказ № 3. 25 марта 1829 г. // Отдельный корпус жандармов. Приказы за 1829 г.
(обратно)61
Приказ № 14. 14 апреля 1830 г. // Там же. Приказы за
1830 г.
(обратно)62
Приказ № 36. 17 декабря 1830 г. // Там же.
(обратно)63
Там же.
(обратно)64
Приказ № 67. 30 ноября 1831 г. // Там же. Приказы за
1831 г.
(обратно)65
Приказ № 58. 28 октября 1836 г. // Там же. Приказы за 1836 г.
(обратно)66
Нравственно-политический отчет за 1843 год // Россия под надзором. С. 338.
(обратно)67
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Там же. С. 269.
(обратно)68
Там же. С. 270.
(обратно)69
Там же. С. 269.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
Там же. С. 270.
(обратно)72
Там же. С. 270–271.
(обратно)73
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 196 об. — 197.
(обратно)74
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Россия под надзором. С. 271.
(обратно)75
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 197 об. — 198.
(обратно)76
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Россия под надзором. С. 271.
(обратно)77
Там же.
(обратно)78
Нравственно-политический отчет за 1839 год // Россия под надзором. С. 202–203.
(обратно)79
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 71–71 об.
(обратно)80
РГИА. Ф. 1180. Оп. 1. Д. 148. Л. 40.
(обратно)81
Там же. Л. 40 об. — 41.
(обратно)82
РГИА. Ф. 1180. Оп. 15. Д. 144. Л. 64–64 об.
(обратно)83
Там же. Л. 65–65 об.
(обратно)84
Материалы для истории крепостного права в России. Извлечения из секретных отчетов Министерства внутренних дел за 1836–1856 гг. Берлин, 1872. С. 18.
(обратно)85
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып 1. М.; Л., 1931. С. 22.
(обратно)86
Там же. С. 57.
(обратно)87
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. 1844. Д. 101. Л. 180–180 об.
(обратно)88
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1. С. 60–61.
(обратно)89
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. 1844. Д. 101. Л. 159 об.
(обратно)90
Там же. Л. 160.
(обратно)91
Там же. Л. 161.
(обратно)92
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып 1. С. 88.
(обратно)93
Там же. С. 62–63.
(обратно)94
Там же. С. 68–69.
(обратно)95
Там же. С. 72.
(обратно)96
Там же. С. 74.
(обратно)97
Материалы для истории крепостного права в России. С. 114.
(обратно)98
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1. С. 94.
(обратно)99
Там же. С. 94–95.
(обратно)100
Император Николай Павлович в его речи к депутатам Санкт-Петербургского дворянства 21 марта 1848 г. // Николай Первый и его время. Т. 1. М., 2000. С. 123–124.
(обратно)101
Записки В. И. Сафоновича // Русский архив. 1903. № 5. С. 113.
(обратно)102
Материалы по судебной реформе в России. СПб., Б/г. Т. 17. С. 19.
(обратно)103
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1. С. 91.
(обратно)104
Там же. С. 126.
(обратно)105
Там же. С. 96.
(обратно)106
Там же. С. 97.
(обратно)107
Там же. С. 123.
(обратно)108
Там же.
(обратно)109
Там же. С. 149.
(обратно)110
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). М., 2002. С. 46.
(обратно)111
Письмо А. П. Плещеева к С. Ф. Дурову (26 марта 1849 г.) // Дело петрашевцев. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 293.
(обратно)112
Вульф А. Н. Дневник // Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1999. С. 138.
(обратно)113
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 303.
(обратно)114
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1. С. 99.
(обратно)115
Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 2. М.; Л., 1931. С. 45.
(обратно)116
Русское общество при восшествии на престол Николая Павловича: донесения М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу, 1826 г. // Русская старина. 1881. № 10. С. 304.
(обратно)117
Там же. С. 316–317.
(обратно)118
Краткий обзор общественного мнения в 1827 году // Россия под надзором. С. 22.
(обратно)119
Там же.
(обратно)120
Там же. С. 23.
(обратно)121
Там же.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Император Николай Павлович в его речи к депутатам Санкт-Петербургского дворянства 21 марта 1848 г. С. 123.
(обратно)124
Егоров Б. Н. Петрашевцы. Л., 1988. С. 177.
(обратно)125
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 135 об.
(обратно)126
Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Выпуск VI. М., 1995. С. 131.
(обратно)127
Там же.
(обратно)128
Там же. С. 128.
(обратно)129
Там же. С. 130.
(обратно)130
Там же. С. 113.
(обратно)131
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1850. Д. 154. Л. 1.
(обратно)132
Там же. Л. 1–1 об.
(обратно)133
Там же. Л. 1 об.
(обратно)134
Там же. Л. 1 об.–2.
(обратно)135
Там же. Л. 2.
(обратно)136
Там же. Л. 2–2 об.
(обратно)137
Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь. С. 122.
(обратно)138
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 114.
(обратно)139
Там же. Д. 3215. Л. 32.
(обратно)140
Там же. Д. 938. Л. 1.
(обратно)141
Там же. Д. 3234. Л. 134.
(обратно)142
Там же.
(обратно)143
Там же. Д. 954. Л. 1.
(обратно)144
Там же. Д. 944. Л. 2.
(обратно)145
Там же. Д. 2997. Л. 5–5 об.
(обратно)146
Там же. Л. 5.
(обратно)147
Там же. Д. 960. Л. 1–1 об.
(обратно)148
Там же. Д. 944. Л. 4.
(обратно)149
А. Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах // Русская старина. 1901. № 10. С. 154. О нравах Смольного института благородных девиц и его начальницы М. П. Леонтьевой сообщалось в агентурном донесении от 18 октября 1864 г.: «Строгая нравственность г-жи Леонтьевой, как говорят, доходит до смешного: из опасения дурного примера, она не допускает держать при институте ни петухов, ни кобелей, дабы не сделать воспитанниц хотя бы случайно свидетельницами сцен, непонятных для их невинности» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3240. Л. 1). Одна из воспитанниц вспоминала, что М. П. Леонтьева требовала от классных дам, чтобы они все свои педагогические способности направляли «на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института» (Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2008. С. 221).
(обратно)150
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3216. Л. 88.
(обратно)151
Там же. Д. 3226. Л. 107.
(обратно)152
Там же. Д. 947. Л. 1–1 об.
(обратно)153
Там же. Л. 136.
(обратно)154
Там же. Д. 3235. Л. 112 об.
(обратно)155
Там же. Д. 3237. Л. 46.
(обратно)156
Там же. Д. 3238. Л. 8 об.
(обратно)157
Там же. Д. 3234. Л. 75.
(обратно)158
Там же. Л. 6.
(обратно)159
Там же. Д. 2996. Л. 1.
(обратно)160
Там же.
(обратно)161
Там же. Л. 1 об.
(обратно)162
Там же.
(обратно)163
Там же. Д. 3236. Л. 66.
(обратно)164
Там же. Д. 3216. Л. 101.
(обратно)165
Отчет Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1869 год // Россия под надзором. С. 685.
(обратно)166
А. Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах. С. 385.
(обратно)167
Решетников Ф. М. Дневник // Литературное наследство. Т. 3. М., 1932. С. 179.
(обратно)168
О нигилизме написано достаточно много, см.: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.
(обратно)169
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1866. Д. 131. Л. 1–1 об.
(обратно)170
Прыжов И. История кабаков в России. М., 1991. С. 233.
(обратно)171
Архив графов Мордвиновых. Т. 8. СПб., 1903. С. 629.
(обратно)172
Там же. С. 630.
(обратно)173
Там же. С. 631.
(обратно)174
Там же.
(обратно)175
Домотканый, из некрашеной темной шерсти. Вид повседневной одежды.
(обратно)176
ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2271. Разд. 11. Т. 1. Л. 62 об.
(обратно)177
Там же.
(обратно)178
Нравственно-политическое обозрение за 1859 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения 1827–1869. М., 2006. С. 497.
(обратно)179
Федоров В. А. Крестьянское трезвенное движение 1858–1860 гг. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1962. С. 116.
(обратно)180
Выписка из частных сведений, полученных частным образом, о крестьянских обществах, условившихся не пить хлебного вина. 1859 г. позднее февраля 5 // Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. Сборник документов. М., 1963. С. 189.
(обратно)181
Мирские приговоры государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской вол. Краснослободского у. о неупотреблении вина // Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. С. 195.
(обратно)182
Там же.
(обратно)183
Там же. С. 196.
(обратно)184
Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова шефу корпуса В. А. Долгорукову об участившихся отказах крестьян употреблять вино // Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. С. 213.
(обратно)185
Там же. С. 213–214.
(обратно)186
Там же. С. 213.
(обратно)187
Выписка из частных сведений, полученных частным образом… С. 189.
(обратно)188
Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова… С. 214.
(обратно)189
Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 498.
(обратно)190
Цит. по: Федоров В. А. Указ. соч. С. 120.
(обратно)191
Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 499.
(обратно)192
Там же. С. 500. В. А. Федоров выявил, что активные трезвенные выступления затронули 15 губерний, в ходе массовых протестных действий разгромлено было более 260 питейных заведений, за участие в трезвенном движении было арестовано около 780 чел. (Федоров В. А. Указ. соч. С. 122–123).
(обратно)193
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3233. Л. 77.
(обратно)194
Там же.
(обратно)195
Там же. Д. 2996. Л. 21–21 об.
(обратно)196
Там же. Д. 3232. Л. 55.
(обратно)197
Там же. Д. 2990. Л. 1.
(обратно)198
Там же.
(обратно)199
Там же. Л. 1 об.
(обратно)200
День совершеннолетия наследника престола Николая Александровича (8.09.1843–11.04.1865).
(обратно)201
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3225. Л. 49 об.
(обратно)202
Там же. Д. 3224. Л. 45.
(обратно)203
Там же. Д. 944. Л. 2.
(обратно)204
Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006. С. 635.
(обратно)205
Там же.
(обратно)206
ГАРФ. Ф. 109. СА. Д. 3239. Л. 1 об.
(обратно)207
Там же. Л. 30.
(обратно)208
Там же. Д. 2999. Л. 5.
(обратно)209
Там же. Д. 3006. Л. 26.
(обратно)210
Там же. Д. 2996. Л. 31.
(обратно)211
Там же. Д. 2998. Л. 6.
(обратно)212
Там же. Д. 2996. Л. 9.
(обратно)213
Там же. Д. 2995. Л. 3.
(обратно)214
Там же. Д. 2942. Л. 10 об. — 11.
(обратно)215
Там же. Д. 2998. Л. 3.
(обратно)216
Там же. Д. 2996. Л. 32.
(обратно)217
Там же. Д. 3230. Л. 37 об.
(обратно)218
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2989. Л. 16.
(обратно)219
Там же. Оп. 221. Д. 1б. Л. 34 об.
(обратно)220
Там же. Л. 35.
(обратно)221
Там же. Л. 35–35 об.
(обратно)222
ГАРФ. Ф. 109. СА. Oп. 3. Д. 3213. Л. 87 об.
(обратно)223
Там же. Д. 3214. Л. 9.
(обратно)224
П. А. Шувалов, генерал-майор, граф, санкт-петербургский обер-полицеймейстер с 3 февраля 1857 г. по 14 июня 1860 г.
(обратно)225
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 9.
(обратно)226
А. П. Галахов, генерал-адъютант, санкт-петербургский обер-полицеймейстер с 1 мая 1847 г. по 25 ноября 1856 г.
(обратно)227
А. В. Паткуль, генерал-адъютант, санкт-петербургский обер-полицеймейстер с 23 ноября 1860 г. по 17 марта 1862 г.
(обратно)228
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3231. Л. 31.
(обратно)229
Будочники — городские стражи, полицейские постовые.
(обратно)230
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 22.
(обратно)231
Там же. Д. 3213. Л. 19 об.
(обратно)232
Там же. Д. 3229. Л. 44.
(обратно)233
Там же. Д. 3230. Л. 55.
(обратно)234
Там же. Д. 3229. Л. 46 об.; Д. 3220. Л. 8 об.
(обратно)235
Там же. Д. 3225. Л. 3 об.
(обратно)236
Там же. Д. 3236. Л. 39 об.
(обратно)237
Там же. Д. 3218. Л. 66–66 об.
(обратно)238
Там же. Д. 3213. Л. 54.
(обратно)239
Там же.
(обратно)240
П. Н. Игнатьев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, граф, санкт-петербургский военный генерал-губернатор (1854–1861 гг.).
(обратно)241
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 54 об.
(обратно)242
Л. Н. Эртель, генерал-майор, санкт-петербургский брант-майор (1847–1858 гг.).
(обратно)243
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 54 об.
(обратно)244
Там же. Л. 55.
(обратно)245
Там же.
(обратно)246
Там же. Л. 55–55 об.
(обратно)247
Там же. Л. 55 об.
(обратно)248
Там же.
(обратно)249
Там же. Д. 3215. Л. 15 об.
(обратно)250
По заключению специалиста-исследователя «Положение с водоснабжением Петербурга было катастрофическим» (Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. М., 1947. С. 185).
(обратно)251
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 42–42 об. См. подробнее: Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. М, 2008. С. 92–95.
(обратно)252
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Д. 42 об. В конце 1850-х гг. длина водопроводной сети в Москве составляла около 47 км с 26 водоразборными фонтанами и бассейнами (Фальковский Н. И. Указ. соч. С. 174).
(обратно)253
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 43.
(обратно)254
15 июля 1858 г. агент Третьего отделения зафиксировал, что «ночью у Екатерининского канала на набережной мужик, привозивший нечистоты из отхожих мест к барке, опускал жидкость из ящиков, по жолобу, не в барку, а через оную в канал». Очевидцы попытались обратить внимание городовых, но те никак не отреагировали. Шеф жандармов распорядился проинформировать об этом столичного обер-полицеймейстера (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3229. Л. 46 об.).
(обратно)255
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 43 об.
(обратно)256
Там же. Л. 44.
(обратно)257
Там же.
(обратно)258
Приятное раньше полезного (фр. яз.). ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 44–44 об.
(обратно)259
Там же. Л. 44 об.
(обратно)260
Очерки истории Ленинграда. Т. 2. Период капитализма. Вторая половина XIX века. М.; Л., 1957. С. 832.
(обратно)261
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Д. 37 об.
(обратно)262
Там же. Д. 37 об. — 38.
(обратно)263
Там же. Д. 38–38 об.
(обратно)264
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 38 об.
(обратно)265
М. С. Щепкин (1788–1863), русский актер.
(обратно)266
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 38 об. — 39.
(обратно)267
Там же. Л. 39–39 об.
(обратно)268
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 39 об. — 40.
(обратно)269
Там же. Л. 40.
(обратно)270
Там же. Л. 40 об.
(обратно)271
Ср.: «Нищий, являющийся на московских улицах, есть большей частью не тот нищий, который олицетворяет собою безусловную идею бедности, страданий и неудовлетворенного аппетита, нет, это чаще промышленник, который иногда чрезвычайно ловко зашибает себе копейку, и который пожалуй не поменяется своей участью ни с кем» (Голицынский А. Уличные типы. М., 1860. С. 7).
(обратно)272
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3 Д. 3214. Л. 40 об. — 41.
(обратно)273
Инструкция графа Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Русский архив. 1889. № 7. С. 396–397.
(обратно)274
Краткий обзор общественного мнения в 1827 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. М., 2006. С. 23.
(обратно)275
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 170. Л. 1.
(обратно)276
Там же. Л. 3.
(обратно)277
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 261.
(обратно)278
Там же. С. 260–261.
(обратно)279
Там же. С. 261.
(обратно)280
Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая. По донесениям М. М. Фока — А. Х. Бенкендорфу // Русская старина. 1881. № 10. С. 314.
(обратно)281
Там же.
(обратно)282
Там же. № 11. С. 525.
(обратно)283
Там же. С. 526
(обратно)284
Там же. С. 553.
(обратно)285
Там же. С. 526.
(обратно)286
Там же. С. 559.
(обратно)287
Там же. С. 536.
(обратно)288
Там же. С. 540.
(обратно)289
Архив графов Мордвиновых. Т. 8. СПб., 1903. С. 114.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Там же. С. 115.
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Там же. С. 115–116.
(обратно)294
Там же. С. 116–117.
(обратно)295
Там же. С. 117.
(обратно)296
Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая. По донесениям М. М. Фока — А. Х. Бенкендорфу // Русская старина. 1881. № 11. С. 536.
(обратно)297
Архив графов Мордвиновых. Т. 8. С. 55.
(обратно)298
Там же. С. 56.
(обратно)299
Там же. С. 57.
(обратно)300
Там же. С. 56.
(обратно)301
Краткий обзор общественного мнения в 1827 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 19, 23.
(обратно)302
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 50. Л. 1–1 об.
(обратно)303
Там же. Л. 2.
(обратно)304
Там же. Л. 3.
(обратно)305
Там же. Л. 6 об.
(обратно)306
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 70. Л. 2.
(обратно)307
Там же. Л. 2 об.
(обратно)308
Там же. Л. 3.
(обратно)309
Там же. Л. 3 об.
(обратно)310
Картина общественного мнения в 1829 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 52.
(обратно)311
Там же. С. 54.
(обратно)312
Там же. С. 59.
(обратно)313
Инструкция графа Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения. С. 396–397.
(обратно)314
Н. В. По поводу инструкции графа Бенкендорфа // Русский архив. 1889. № 8. С. 523–524.
(обратно)315
Краткий обзор общественного мнения в 1828 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 36.
(обратно)316
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 259.
(обратно)317
Там же. С. 261.
(обратно)318
Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 82–83.
(обратно)319
Там же. С. 83.
(обратно)320
Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1832 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 93.
(обратно)321
Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1835 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 135.
(обратно)322
Там же.
(обратно)323
Воспоминания Е. П. Самсонова // Русский архив. 1884. № 3. С. 138.
(обратно)324
Там же. С. 139.
(обратно)325
Там же.
(обратно)326
Там же. С. 140.
(обратно)327
Там же. С. 141–142.
(обратно)328
Там же. С. 142.
(обратно)329
Там же.
(обратно)330
Там же.
(обратно)331
Там же. С. 143.
(обратно)332
Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1837 году // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 169–170.
(обратно)333
Там же. С. 170.
(обратно)334
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 149. Л. 1.
(обратно)335
Там же. Л. 1 об.
(обратно)336
Там же. Л. 3.
(обратно)337
Там же. Л. 4 об.
(обратно)338
Нравственно-политический отчет за 1840 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 239.
(обратно)339
Там же.
(обратно)340
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 170. Л. 1–3.
(обратно)341
Там же. Д. 172. Л. 1–3.
(обратно)342
Там же. Д. 173. Л. 1–3.
(обратно)343
Там же. Д. 174. Л. 1–2.
(обратно)344
Там же. Д. 174. Л. 2.
(обратно)345
Там же. Л. 5.
(обратно)346
Там же. Л. 6.
(обратно)347
Там же. Л. 22.
(обратно)348
Там же. Д. 176. Л. 1–2.
(обратно)349
Там же. Д. 176. Л. 7.
(обратно)350
Там же. Д. 175. Л. 2.
(обратно)351
Там же. Д. 175. Л. 7.
(обратно)352
Там же. Д. 207. Д. 2–3.
(обратно)353
Там же. Л. 7.
(обратно)354
Там же. Д. 216. Л. 1–3.
(обратно)355
Там же. Л. 14.
(обратно)356
Там же. Л. 14–15.
(обратно)357
Там же. Л. 15.
(обратно)358
Нравственно-политический отчет за 1841 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения. 1827–1869. С. 255.
(обратно)359
Там же. С. 264.
(обратно)360
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 255. Л. 1.
(обратно)361
Там же. Л. 2–2 об.
(обратно)362
Там же. Д. 257. Л. 1.
(обратно)363
Там же. Д. 257. Л. 1 об.
(обратно)364
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 429.
(обратно)365
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 208. Л. 2
(обратно)366
Видимо, прав был М. А. Дмитриев, который вопреки блестящей аттестации директора М. М. Карниолин-Пинского составил уже после первой беседы с этим чиновником иное мнение. М. А. Дмитриев писал: «Он при первом же свидании со мною откровенно признался мне, что гражданских законов не знает, но чтобы я не беспокоился и что он узнает их скоро, потому что даже в дороге, едучи в Москву, читал десятый том свода законов. Я посмотрел на него, как на дурака, но незнание его обнаружилось при первом же докладе» (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. C. 429).
(обратно)367
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 208. Л. 3–3 об.
(обратно)368
Там же. Л. 3 об.–4.
(обратно)369
Там же. Д. 320. Л. 1.
(обратно)370
Там же. Л. 21–21 об.
(обратно)371
Там же. Л. 22.
(обратно)372
Там же. Л. 22–22 об.
(обратно)373
Танеев А. С. — главноуправляющий Инспекторским департаментом, председатель Особого комитета по вопросу об удалении со службы неблагонадежных чиновников.
(обратно)374
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 208. Л. 56.
(обратно)375
Там же. Л. 66 об.
(обратно)376
Там же. Л. 67–67 об.
(обратно)377
Там же. Л. 67 об. — 68.
(обратно)378
Там же. Л. 68 об.
(обратно)379
Там же. Л. 68 об. — 69.
(обратно)380
Лебедев К. Н. Из записок сенатора // Русский архив. 1910. № 10. С. 199.
(обратно)381
Там же.
(обратно)382
Там же.
(обратно)383
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 367. Л. 1.
(обратно)384
Там же. Д. 367. Л. 2 об.
(обратно)385
РГИА. Ф. 1405. Оп. 534. Д. 507. Л. 15.
(обратно)386
Там же. Л. 16–16 об.
(обратно)387
Там же. Л. 20–25.
(обратно)388
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 428.
(обратно)389
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1986. М., 1991. С. 273–294.
(обратно)390
Инструкция графа Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Русский архив. 1889. № 7. С. 396–397.
(обратно)391
Там же. С. 272.
(обратно)392
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 258–259.
(обратно)393
Там же. С. 258.
(обратно)394
РГИА. Ф. 1286. Оп. 11. 1848. Д. 789. Л. 1.
(обратно)395
Там же. Л. 5.
(обратно)396
Там же. Оп. 8. 1842. Д. 478. Л. 1.
(обратно)397
Там же. Л. 2.
(обратно)398
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1842. Д. 481. Л. 1–1 об.
(обратно)399
Там же. Л. 13–13 об.
(обратно)400
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3208. Л. 99.
(обратно)401
Обзор деятельности Третьего отделения собственной вашего императорского величества канцелярии за 50 лет. 1826–1870 гг. // Вестник Европы. 1917. Март. С. 99.
(обратно)402
Там же. С. 100.
(обратно)403
Дубельт Л. В. Дневник // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. VI. М., 1995. С. 191.
(обратно)404
Там же. С. 208.
(обратно)405
Там же. С. 214.
(обратно)406
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М. 1912. Т. 1. С. 331.
(обратно)407
Там же. С. 341.
(обратно)408
Там же. С. 342.
(обратно)409
Там же. С. 344–345.
(обратно)410
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 112–112 об.
(обратно)411
Там же. Л. 112 об.
(обратно)412
Зубко О. Подольский Версаль. Часть 1 // Историческая правда URL: /
(обратно)413
Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011. С. 318.
(обратно)414
Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания // Русская старина. 1891. Т. 70. № 4–6. С. 676.
(обратно)415
ОР РНБ. Ф. 859. К. 2. № 13. Л. 1 об. — 2 (повторная нумерация).
(обратно)416
Там же. Л. 2.
(обратно)417
Там же.
(обратно)418
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. 1845. Д. 348 а. Л. 10.
(обратно)419
Там же. Л. 11.
(обратно)420
Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания. С. 676.
(обратно)421
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. 1845. Д. 348 а. Л. 61. Есть сведения, что в апреле 1849 г. сменился очередной управляющий имением. Вместо помещика Гижицкого по высочайшему повелению опекуном над имением М. Потоцкого назначен помещик Ивановский. (Дубельт Л. В. Записки для сведения. 1849 // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2005. Вып. ХIV. С. 162.)
(обратно)422
Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания. С. 676.
(обратно)423
Н. М. Колмаков ошибочно утверждал, что М. Потоцкий собирался освобождать крестьян без земли.
(обратно)424
Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. СПб., 1888. С. 102.
(обратно)425
Там же. С. 103–104.
(обратно)426
В своих воспоминаниях Н. М. Колмаков ошибочно называет супругу М. Потоцкого именем его первой жены — Дельфины.
(обратно)427
Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания. С. 678.
(обратно)428
По словам В. А. Шомпулева, находясь в ссылке, М. Потоцкий, «располагая громадными средствами, жил в Саратове очень скромно и позволял себе только одно удовольствие: вполне гастрономический стол», тяготясь своим положением, он, желая продемонстрировать свою преданность государю… сумел раскрыть заговор. По сути, он стал жертвой розыгрыша дворян-повес, сообщив в Санкт-Петербург о таинственном поведении трех «безукоризненных в политическом отношении» дворян, постоянно удалявшихся в отдельную комнату для карточной игры (Шомпулев В. А. Записки старого помещика. М., 2012. С. 53–54).
(обратно)429
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3205. Л. 17.
(обратно)430
Там же. Л. 42–42 об.
(обратно)431
Там же.
(обратно)432
Писарев Н. Е. — действительный статский советник, правитель канцелярии киевского военного генерал-губернатора.
(обратно)433
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3205. Л. 59.
(обратно)434
Там же. Д. 3208. Л. 41.
(обратно)435
Там же. Л. 59–59 об.
(обратно)436
Дубельт Е. И. Леонтий Васильевич Дубельт. Биографический очерк и его письма // Русская старина. 1888. № 11. С. 493.
(обратно)437
Незадолго до своей отставки Л. В. Дубельт записал в дневнике (15 мая 1856 г.): «Граф Михаил Потоцкий пытался сделать третий подкуп для изменения порядка дел его. В первый раз давал он 600 тысяч рублей серебром, во второй — 400 тысяч, а на этот раз через тайного советника Лерхе предложил мне 100 тысяч рублей серебром» (Дубельт Л. В. Дневник // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII — ХХ вв. М., 1995. Т. VI. С. 301).
(обратно)438
Цит. по: Щеголев П. Е. Любовь в равелине (С. В. Трубецкой) // Алексеевский равелин: Секретная государственная тюрьма в России в XIX веке. Кн. I. Л., 1990. С. 359.
(обратно)439
Там же. С. 363.
(обратно)440
Щеголев П. Е. Любовь в равелине (С. В. Трубецкой). С. 367–375.
(обратно)441
Дубельт Л. В. Дневник. С. 165.
(обратно)442
Корф М. А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010. С. 46.
(обратно)443
Там же.
(обратно)444
В другую эпоху шеф жандармов В. А. Долгоруков передал Александру II просьбу московского генерал-губернатора А. А. Закревского, ходатайствовавшего о расторжении брака его дочери без согласия мужа. Император не счел возможным на это согласиться.
Дело в том, что еще в 1852 г. начался роман 19-летнего князя Д. Друцкого-Соколинского, служившего секретарем у московского генерал-губернатора, с 26-летней дочерью его начальника — Лидией, жившей вдали от своего супруга. Неопределенность формулировки мнения государя, сообщенной шефом жандармов: «Государь изволит находить вмешательство свое невозможным», побудила А. А. Закревского на собственные противозаконные действия ради счастья любимой дочери. Он выдал дочери формальное разрешение на вступление во второй брак. В 1859 г. молодые обвенчались в сельской церкви в Рязанской губернии, после чего по выданным генерал-губернатором паспортам выехали за границу. Император на объяснении А. А. Закревского начертал: «После подобного поступка он не может оставаться на своем месте». Шеф жандармов пояснил отправленному в отставку чиновнику царскую волю: «Вы, в одно время, нарушили священные обязанности Отца и долг Сановника, облеченного полным доверием своего Государя, сановника, которому надлежало пользоваться правом на нелицемерное уважение своих подчиненных строжайшим соблюдением существующих постановлений как Духовных, так и Гражданских» (Экштут С. А. Несчастия соломенной вдовы. Как роман великосветской дамы ускорил отмену крепостного права // Родина. 1998. № 1. С. 53–59). Может быть, сановный отец рассчитывал, что монарх поступит по справедливости или хотя бы на это дело не обратят внимание? Но император поступил по закону.
(обратно)445
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 135. Л. 32 об.
(обратно)446
Дубельт Л. В. Дневник. С. 178.
(обратно)447
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 135. Л. 35.
(обратно)448
Дубельт Л. В. Дневник. С. 160.
(обратно)449
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 1.
(обратно)450
Там же. Л. 1 об.
(обратно)451
Там же. Л. 6.
(обратно)452
Но это подлость (фр.). Там же. Л. 7.
(обратно)453
Если это правда (фр.).
(обратно)454
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 7–7 об.
(обратно)455
Там же. Л. 7 об.
(обратно)456
ГАРФ. Ф. 109. 2 эксп. 1855. Д. 45. Л. 2.
(обратно)457
Там же. Л. 1.
(обратно)458
Там же.
(обратно)459
Там же. Л. 3, 6.
(обратно)460
Там же. Л. 34, 52.
(обратно)461
Там же. Л. 34.
(обратно)462
Там же. Л. 30 об.
(обратно)463
Там же. Л. 8–9.
(обратно)464
Там же. Л. 10–11.
(обратно)465
Дубельт Л. В. Дневник. С. 195.
(обратно)466
Там же. С. 223.
(обратно)467
Там же. С. 230.
(обратно)468
Там же. С. 231.
(обратно)469
Там же. С. 195.
(обратно)470
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2394. Л. 14 об.
(обратно)471
Там же. Д. 3230. Д. 83.
(обратно)472
Там же. Д. 2394. Л. 43.
(обратно)473
Там же. Л. 45.
(обратно)474
Там же. Л. 45 об.
(обратно)475
Там же. Л. 46.
(обратно)476
Там же.
(обратно)477
Там же. Л. 46 об.
(обратно)478
Там же. Л. 47.
(обратно)479
Там же.
(обратно)480
Там же. Д. 47 об.
(обратно)481
Там же.
(обратно)482
ГАРФ. Ф. 109. 2 эксп. 1859. Д. 56. Л. 1.
(обратно)483
Там же. Л. 2.
(обратно)484
По действующим законам за мужчиной закреплялось привилегированное положение в семье. Ему предписывалось «любить свою жену, как собственное свое тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ея недостатки и облегчать ея немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей» (Свод законов гражданских. Кн. 1. «О правах и обязанностях семейственных». СПб., 1911. Ст. 106). Обязательства жены были не материального характера и, по сути, полностью подавляли личную автономию женщины, делали супругу рабой мужа-господина: «Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность, как хозяйка дома» (Там же. Ст. 107). И далее: «Жена обязана преимущественным повиновением воле своего супруга» (Там же. С. 108).
(обратно)485
ГАРФ. Ф. 109. 2 эксп. 1359. Д. 56. Л. 3.
(обратно)486
Там же. Л. 3 об.
(обратно)487
Там же. Л. 4.
(обратно)488
Там же. Л. 4 об.
(обратно)489
Там же. Л. 7–7 об.
(обратно)490
Там же. Л. 9–9 об.
(обратно)491
Там же. Л. 10.
(обратно)492
Там же. Л. 15.
(обратно)493
Там же. Л. 21–24.
(обратно)494
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 213. Л. 2–2 об.
(обратно)495
Там же. Л. 2 об.
(обратно)496
Там же. Л. 6.
(обратно)497
Там же. Л. 9 об.
(обратно)498
Там же. Л. 8 об.
(обратно)499
Там же. Л. 25, 33, 40.
(обратно)500
ГАРФ. Ф. 109. 1849. 2 эксп. Д. 562. Л. 23–23 об.
(обратно)501
Там же. Л. 23 об.
(обратно)502
Там же. Л. 24.
(обратно)503
Там же.
(обратно)504
Там же.
(обратно)505
Там же. Л. 18.
(обратно)506
Там же. Л. 25.
(обратно)507
Дубельт Л. В. Дневник. С. 227.
(обратно)508
Соколова А. И. Встречи и знакомства // Исторический вестник. 1911. Февраль. С. 563.
(обратно)509
Там же. С. 559.
(обратно)510
Там же. С. 563.
(обратно)511
Там же.
(обратно)512
Дубельт Л. В. Дневник. С. 223.
(обратно)513
Цит. по: Филимонова Л. Ф. Истоки душевной трагедии В. М. Гаршина // Звенья. Т. 9. М., 1951. С. 595.
(обратно)514
Потрясенный учительской деятельностью студента, М. Е. Гаршин записал в дневнике признания своего десятилетнего сына: «Жорж сознался, что мамаша и Завадский им все растолковали, рассказали о различии между мужчиною и женщиной, толковали, как производятся дети» (Там же. С. 578).
(обратно)515
Юкина И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007. С. 123–128.
(обратно)516
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3216. Л. 173–173 об.
(обратно)517
Оба «известных лица» агентам были незнакомы, и потому сообщение сопровождалось уточнением: «Оба литераторы».
(обратно)518
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3217. Л. 16.
(обратно)519
Юкина И. Указ. соч. С. 128.
(обратно)520
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 208. Д. 4–4 об. По действующим законам: «Приданое жены, равно как имение, приобретенное ею или на ея имя во время замужества, чрез куплю, дар, наследство или иным законным способом, признается ея отдельною собственностью». См.: Свод законов гражданских. Кн. 1 «О правах и обязанностях семейственных». Ст. 110.
(обратно)521
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 208. Л. 4 об.–5.
(обратно)522
Там же. Л. 5–5 об.
(обратно)523
Там же. Л. 5 об.–6.
(обратно)524
Обзор деятельности Третьего отделения… С. 117.
(обратно)525
ГАРФ. Ф. 109. 2 эксп. 1859. Д. 650. Л. 1–12.
(обратно)526
Там же. Л. 14.
(обратно)527
Там же. 186З. Д. 449. Л. 1–2.
(обратно)528
Там же. Л. 9.
(обратно)529
Там же. Л. 1.
(обратно)530
Обзор деятельности Третьего отделения… С. 116.
(обратно)531
См. напр.: Максимова Т. Развод по-русски // Родина. 1998. № 9. С. 56–60.
(обратно)532
Михневич В. Язвы Петербурга. СПб.; М., 2003. С. 440.
(обратно)533
«Самовольное расторжение брака без суда, по одному взаимному согласию супругов, ни в каком случае не допускается. Равномерно не допускаются и никакие между супругами обязательства или иные акты, заключающие в себе условие жить им в разлучении, или же какие-либо другие, клонящиеся к разрыву супружеского союза. Места и лица гражданского ведомства не должны утверждать или свидетельствовать актов сего рода. Священнослужителям и церковным причетникам также воспрещается, под опасением суда и лишения их сана, писать, под каким бы то ни было видом и кому бы то ни было, разводные письма». См.: Свод законов гражданских. Кн. 1. Ст. 46. Об отношении Третьего отделения к разлучению супругов см. напр.: Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени. М., 2000. С. 564.
(обратно)534
Обзор деятельности Третьего отделения… С. 116. В связи с этим заключением интересно отметить, что в 1907 г. в Особом совещании при Святейшем Синоде в числе обсуждавшихся новых поводов к разводу было предложено: «Покушение одного из супругов на жизнь другого иди жестокое, опасное для жизни и здоровья обращение одного супруга с другим» (См.: Колганова Е. «На фу-фу я не пойду…» До чего же непросто было развестись сто лет тому назад // Родина. 2006. № 5. С. 97).
(обратно)535
Обзор деятельности Третьего отделения… С. 116–117.
(обратно)536
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 208. Л. 56 об.
(обратно)537
Там же. Л. 57.
(обратно)538
Там же. Л. 57–57 об.
(обратно)539
Там же. Л. 57 об. — 58.
(обратно)540
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 1б. Л. 32 об. — 33.
(обратно)541
Там же. Л. 33.
(обратно)542
Всеподданнейший доклад министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, утвержденный Александром II 15 ноября 1880 г., о полном слиянии высшего заведования полицией в государстве в одно учреждение Министерства внутренних дел. 15 ноября 1880 г. // Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в России. М., 2007. С. 194.
(обратно)543
Там же.
(обратно)544
Там же.
(обратно)545
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 2 об.
(обратно)546
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 72–75 об. См. упоминания об этом деле в письме А. А. Закревского. ОР РНБ. Ф. 379.
Д. 795. Л. 41. Эта история подробно (правда, с неточностями и вымыслами) изложена в записках А. И. Соколовой (Соколова А. И. Встречи и знакомства // Исторический вестник. 1911. № 3. С. 925–930).
(обратно)547
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 72–75 об.; ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164; Ф. 109. 2 эксп. 1852. Д. 395.
(обратно)548
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 1 об.
(обратно)549
Там же. Л. 2.
(обратно)550
Там же. Л. 10.
(обратно)551
Там же. Л. 2, 9.
(обратно)552
Там же. Л. 3 об.
(обратно)553
Там же. Л. 12.
(обратно)554
Дубельт Л. В. Дневник // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII — ХХ вв. М., 1995. Т. VI. С. 293–294.
(обратно)555
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 21.
(обратно)556
Там же. Л. 21 об.
(обратно)557
Там же. Л. 22–22 об.
(обратно)558
Там же. Л. 23–23 об.
(обратно)559
Там же. Л. 24.
(обратно)560
Там же.
(обратно)561
Там же. Л. 26.
(обратно)562
Там же. Л. 26 об.
(обратно)563
Там же. Л. 26 об. — 27.
(обратно)564
Там же. Л. 25 об.
(обратно)565
Там же. Л. 29.
(обратно)566
Там же. Л. 84 об.
(обратно)567
Например, слухи о происшествии зафиксировал и К. Н. Лебедев (Из записок К. Н. Лебедева // Русский архив. 1888. № 3. С. 488).
(обратно)568
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 17–17 об.
(обратно)569
Там же. Л. 18.
(обратно)570
Там же. Л. 37 об. — 38.
(обратно)571
Там же. Л. 34 об. — 35.
(обратно)572
Там же. Л. 35 об.
(обратно)573
Там же.
(обратно)574
Там же. Л. 35 об. — 36.
(обратно)575
Там же. Л. 51 об.
(обратно)576
Там же. Л. 52.
(обратно)577
Там же. Л. 55.
(обратно)578
Там же. Л. 89.
(обратно)579
Там же. Л. 88.
(обратно)580
Там же. Л. 92 об.
(обратно)581
Там же. Оп. 221. Д. 143. Л. 74.
(обратно)582
Там же. Л. 74 об.
(обратно)583
Там же.
(обратно)584
Там же. Л. 75.
(обратно)585
Там же.
(обратно)586
Там же. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 3.
(обратно)587
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 75 об.
(обратно)588
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 54.
(обратно)589
Там же. Л. 69 об.
(обратно)590
Там же. Л. 70–71.
(обратно)591
Там же. Л. 73.
(обратно)592
Там же. Л. 73 об.
(обратно)593
Там же. Л. 74.
(обратно)594
Там же. Л. 94.
(обратно)595
Примеры помещичьих хитростей при сдаче крестьян в рекруты см.: Свербеев Д. Н. Записки // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 152–158.
(обратно)596
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 84–84 об. Напротив, А. И. Соколова, хорошо знавшая эту историю со слов калужского губернатора П. А. Булгакова, писала, что Чернова имела репутацию «калужской Мессалины», «новой Клеопатры» (Соколова А. И. Встречи и знакомства. С. 930).
(обратно)597
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 96.
(обратно)598
Там же. Л. 96 об.
(обратно)599
Там же. Л. 97.
(обратно)600
Там же.
(обратно)601
Там же. Л. 97 об.
(обратно)602
Там же. Л. 98 об. — 99.
(обратно)603
Там же. Л. 52.
(обратно)604
Именно это вещество находилось в постоянно упоминаемом «пузырьке с ядом». «Медицинская контора удостоверила, что прием кротонового масла внутрь даже полукапли имеет слабительное действие», а 3–4 капли «могут произвести жестокое воспаление в кишках и даже смерть» (Там же. Л. 111 об.).
(обратно)605
Там же. Л. 73.
(обратно)606
Там же. Л. 95 об.
(обратно)607
Там же. Л. 103.
(обратно)608
Там же. Л. 104.
(обратно)609
Там же. Л. 104 об.
(обратно)610
Там же. Л. 104 об., 106.
(обратно)611
Там же. Л. 105.
(обратно)612
Там же. Л. 107 об.
(обратно)613
Там же. Л. 108.
(обратно)614
Там же. Л. 110.
(обратно)615
Там же. Л. 116.
(обратно)616
Там же. Л. 110.
(обратно)617
Там же. Л. 112 об.
(обратно)618
Там же. Л. 115 об.
(обратно)619
Соколова А. И. Встречи и знакомства. С. 928.
(обратно)620
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 111–111 об., 113.
(обратно)621
Там же. Л. 114 об.
(обратно)622
Там же. Л. 117.
(обратно)623
Там же. Л. 118.
(обратно)624
См. напр.: Шильдер Н. К. Император Николай I. СПб., 1903. Т. 2. С. 637–639.
(обратно)625
Критический взгляд на г-жу Эльслер, наскоро набросанный Николаем Телепневым. СПб., 1848. С. 3.
(обратно)626
Там же. С. 15, 18, 31–32.
(обратно)627
Там же. С. 16.
(обратно)628
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1849. Д. 81. Л. 1.
(обратно)629
Там же. Л. 9.
(обратно)630
Там же. Л. 4.
(обратно)631
Там же.
(обратно)632
Там же. 2 эксп. 1852. Д. 395. Л. 41.
(обратно)633
Там же. Л. 2.
(обратно)634
Там же. 1 эксп. 1849. Д. 81. Л. 7.
(обратно)635
Там же. Л. 7–7 об.
(обратно)636
Там же. Л. 7 об.
(обратно)637
Дембинский Г. — польский генерал, эмигрант, один из руководителей повстанческих сил периода Польского восстания 1830–1831 гг., командовал революционными войсками во время венгерских событий 1849 г.
(обратно)638
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1849. Д. 81. Л. 7 об.
(обратно)639
Там же. Л. 5.
(обратно)640
В своем обращении к императору он просил возложить на него «более деятельные обязанности», так как «по маленькому чину моему, стоять перед взводом в холодном полуусыплении ума и чувства, нет ничего легче и, в то же время, невыносимее для меня» (Там же. Л. 6 об.).
(обратно)641
Там же. Л. 14.
(обратно)642
Там же. Л. 19.
(обратно)643
Там же. Л. 19 об.
(обратно)644
Там же. Л. 19 об. — 20.
(обратно)645
Там же. Л. 20.
(обратно)646
Там же. Л. 20 об.
(обратно)647
Там же. 2 эксп. 1852. Д. 395. Л. 1.
(обратно)648
Там же. Л. 4.
(обратно)649
Там же. Л. 6.
(обратно)650
Записки В. И. Сафоновича // Русский архив. 1903. № 5. С. 113.
(обратно)651
Инструкция гр. А. Х. Бенкендорфа чиновнику Третьего отделения // Там же. 1889. № 7. С. 396.
(обратно)652
ГАРФ. Ф. 109. 2 эксп. 1852. Д. 395. Л. 8–8 об.
(обратно)653
Там же. Л. 9–9 об.
(обратно)654
Там же. Л. 12.
(обратно)655
См. напр.: Записки Януария Михайловича Неверова. 1810–1826 гг. // Помещичья Россия. С. 139–142; Человек в кругу семьи. Очерк по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. М. 1996. С. 197.
(обратно)656
ГАРФ. Ф. 109 2 эксп. 1852. Д. 395. Л. 12–12 об.
(обратно)657
Там же. Л. 9 об.
(обратно)658
Там же. Л. 10.
(обратно)659
Там же.
(обратно)660
Там же. Л. 10 об.
(обратно)661
Там же. Л. 10 об. — 11.
(обратно)662
Там же. Л. 11–11 об.
(обратно)663
Там же. Л. 8 об.
(обратно)664
Там же. Л. 13 об.
(обратно)665
Там же. Л. 17.
(обратно)666
Там же. Л. 19.
(обратно)667
Там же. Л. 20.
(обратно)668
Там же. Л. 32.
(обратно)669
Там же. Л. 53.
(обратно)670
Там же. Л. 11 об.
(обратно)671
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 68.
(обратно)672
Там же. Л. 220.
(обратно)673
Там же. Л. 162.
(обратно)674
Там же. Оп. 221. Д. 143. Л. 74.
(обратно)675
Там же. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 178–178 об.
(обратно)676
Там же. Л. 181.
(обратно)677
Там же. Л. 218.
(обратно)678
Там же. Л. 149. «Осведомленная» мемуаристка А. И. Соколова утверждала, что «число признанных и неопровержимо доказанных ее увлечений дошло до 48, причем во избежание скандала исключены были из составленного списка местный губернский и уездный предводители [дворянства], два или три уездных дружинных начальника, слишком близкий ее родственник и еще несколько лиц, великодушно пощаженных следователем, которому поручено было это интересное дело». «К длинному перечню счастливцев», по словам А. И. Соколовой, «скандальная хроника Калуги» припутывала и самого губернатора (Соколова А. И. Встречи и знакомства. С. 930). Однако в следственных делах Третьего отделения фактов, подтверждающих слухи, не было зафиксировано. Молва, как часто бывает, провела свое следствие и вынесла свой приговор.
(обратно)679
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1855. Д. 164. Л. 174.
(обратно)680
Там же. Л. 189–190.
(обратно)681
Любавский А. Русские уголовные процессы. СПб., 1866. Т. 1. С. 124.
(обратно)682
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 143. Л. 74 об.
(обратно)683
Свод Законов Российской империи, издания 1857 года. В 15 т. СПб., Т. XIV. (Далее СЗРИ). При Петре I «Артикул воинский» достаточно категорично определил запрет на излишне вольное поведение (ст. 177): «От позорных речей и б… песен достойно и надобно всякому под наказанием удержатись» (Артикул воинский // Российское законодательство X–XX веков. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 359).
(обратно)684
СЗРИ. Т. XIV. С. 36–43.
(обратно)685
Примерно в 200 метрах.
(обратно)686
СЗРИ. Т. XII. Ч. II.
(обратно)687
СЗРИ. Т. XIV. Ст. 172.
(обратно)688
Там же. Ст. 204. Конкретные меры ответственности определялись на основании статей 1283, 1300, 1304, 2088 «Уложения о наказаниях» «смотря по роду вины и по мере нанесения вреда».
(обратно)689
Политическое обозрение за 1857 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения 1827–1869. М., 2006. С. 446–447.
(обратно)690
Речь идет об актере-африканце Айре Олдридже, с большим успехом выступавшем в Санкт-Петербурге в то время.
(обратно)691
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3221. Л. 170.
(обратно)692
Шевцов В. В. Карточная игра в России (конец XVI — начало ХХ в.): история игры и история общества. Томск, 2005. С. 113.
(обратно)693
Иванов О. Московские игроки // Московский журнал. 1993. № 6. С. 18.
(обратно)694
Там же. С. 19.
(обратно)695
Там же. С. 18.
(обратно)696
Там же. С. 20.
(обратно)697
Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003. С. 119–120.
(обратно)698
Там же. С. 153.
(обратно)699
Пржецлавский О. А. Воспоминания. Беглые очерки // Русская старина. 1883. № 9. С. 482.
(обратно)700
В 1848 г. И. Г. Клевенский, председатель 1 департамента Санкт-Петербургской управы благочиния истратил на свои нужды 156 тыс. руб. казенных денег, за что по приговору генерал-аудиториата был лишен чинов, орденов, дворянского достоинства, осужден в арестантские роты, а затем сослан в Сибирь на поселение. (Павловский И. Ф. Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители: опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии с половины XVIII в. Полтава, 1914. С. 65–66).
(обратно)701
Воспоминания О. А. Пржецлавского // Русская старина. 1883. Т. 39. № 9. С. 482.
(обратно)702
ОР РНБ. Ф. 859. К. 2. № 13. Л. 4.
(обратно)703
Полковник А. Г. Трубачеев возглавлял 3-й полицейский отдел столичной полиции.
(обратно)704
ОР РНБ. Ф. 859. К. 2. № 13. Л. 4.
(обратно)705
Из записок сенатора К. Н. Лебедева // Русский архив. 1910. № 11. С. 353.
(обратно)706
Там же.
(обратно)707
Н. Г. [Н. С. Голицын] Леонтий Васильевич Дубельт // Русская старина. 1880. № 9. С. 127–128.
(обратно)708
Воспоминания О. А. Пржецлавского // Русская старина. 1883. Т. 39. № 9. С. 516; Воспоминания В. А. Инсарского // Русская старина. 1874. № 10. С. 305.
(обратно)709
Автор уточнял — «общества не против государства, а против чужих карманов». Н. Г. [Н. С. Голицын] Леонтий Васильевич Дубельт. С. 128.
(обратно)710
Там же.
(обратно)711
Русская старина. 1883. Т. 39. № 9. С. 522.
(обратно)712
Н. Г. [Н. С. Голицын] Леонтий Васильевич Дубельт. С. 128.
(обратно)713
Воспоминания В. А. Инсарского // Русская старина. 1874. № 10. С. 305–306.
(обратно)714
Воспоминания О. А. Пржецлавского // Русская старина. 1883. Т. 39. № 9. С. 517.
(обратно)715
Дубельт М. Леонтий Васильевич Дубельт // Русская старина. 1880. № 12. С. 453.
(обратно)716
Там же.
(обратно)717
Дубельт Л. В. Дневник. С. 200.
(обратно)718
Там же.
(обратно)719
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 18.
(обратно)720
Там же. Л. 32.
(обратно)721
Там же. Л. 32–33.
(обратно)722
Там же. Л. 33.
(обратно)723
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2940. Л. 4.
(обратно)724
Там же.
(обратно)725
Там же. Л. 3.
(обратно)726
Там же. Л. 3 об.
(обратно)727
Там же.
(обратно)728
Там же. Д. 2998. Л. 7.
(обратно)729
Там же.
(обратно)730
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2943. Л. 4–5.
(обратно)731
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 20.
(обратно)732
Там же. Л. 33 об.
(обратно)733
Там же. Д. 2942. Л. 1–1 об.
(обратно)734
Там же. Л. 2.
(обратно)735
Там же. Л. 10 об.
(обратно)736
Там же. Л. 16.
(обратно)737
Там же. Л. 19.
(обратно)738
Там же. Л. 19 об.
(обратно)739
Там же. Л. 50 об.
(обратно)740
Bückspiel, или Китайский бильярд. Запущенный кием шар, скатываясь по наклонным желобкам, проходил через многочисленные «воротики» и попадал в лунки с обозначенным количеством очков. Выигрыш зависел исключительно от удачи.
(обратно)741
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 796. Л. 4–4 об.
(обратно)742
Там же.
(обратно)743
Там же. Л. 7.
(обратно)744
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2996. Л. 11.
(обратно)745
Там же. Д. 2987. Л. 31.
(обратно)746
Дуков Е. В. Бал в культуре России XVIII- первой половине XIX века // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000. С. 173.
(обратно)747
Соллогуб В. А. Высший свет // Избранная проза. М., 1983. С. 89.
(обратно)748
Рассказывая о наиболее популярных в начале XIX в. маскарадах и балах у Фельета, на которых «высшее петербургское общество освобождалось от оков этикета и вполне предавалось веселости и даже шалости», М. И. Пыляев тем не менее подчеркивал, что делалось это «конечно, не выходя из пределов приличия» (Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2004. С. 410).
(обратно)749
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 278.
(обратно)750
Там же. С. 363.
(обратно)751
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3233. Л. 115.
(обратно)752
Там же. Д. 2987. Л. 2–2 об.
(обратно)753
Там же. Д. 3237. Л. 32 об.
(обратно)754
Там же. Д. 2989. Л. 6 об.
(обратно)755
Там же.
(обратно)756
Там же. Д. 2989. Л. 4 об.–5.
(обратно)757
Там же. Л. 4–4 об.
(обратно)758
Там же. Л. 4.
(обратно)759
Там же. Д. 2999. Л. 5–5 об.
(обратно)760
Там же. Д. 2942. Л. 10.
(обратно)761
См.: Сариева Е. А. Кафешантан Шарля Омона // Развлекательная культура России… С. 350.
(обратно)762
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3236. Л. 61 об.
(обратно)763
Там же. Л. 78.
(обратно)764
Там же. Д. 32. Л. 57.
(обратно)765
Там же.
(обратно)766
Там же.
(обратно)767
Там же. Л. 10–10 об.
(обратно)768
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2942. Л. 10 об.
(обратно)769
Там же. Д. 2996. Л. 33.
(обратно)770
Дубельт Л. В. «Записки для сведения». 1849 г. С. 171.
(обратно)771
Письмо А. Н. Плещеева к С. Ф. Дурову (26 марта 1849 г.) // Дело петрашевцев. Т. 3. М.; Л., 1951. С. 292.
(обратно)772
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 297.
(обратно)773
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3217. Л. 138–138 об.
(обратно)774
Там же.
(обратно)775
Там же. Д. 3220. Л. 79.
(обратно)776
Там же. Д. 3236. Л. 66.
(обратно)777
Там же. Д. 3235. Л. 74.
(обратно)778
Там же.
(обратно)779
Помещения для балов, концертов, с залами для обедов.
(обратно)780
Широкие юбки на кольцах, надевавшиеся под платье для придания фигуре пышности, были необычайно популярны в это время и неоднократно становились предметом обсуждения и шуток. Третье отделение не оставалось в стороне. В марте 1860 г. в одном из донесений о городских происшествиях сообщалось «о хитрой, нынешнего просвещенного века выдумке, развратных парижских модисток, изобретших бессмертный кринолин — который теперь вовеки веков не выйдет из моды, по той важной причине, что по пышному объему своему он не только может безопасно скрыть беременность до последней минуты, но в критических случаях спрятать и большого человека» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 32275. Л. 29 об. — 30).
(обратно)781
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3236. Л. 75.
(обратно)782
Общественный листок // Сын Отечества. № 33 от 17 августа 1858. С. 960.
(обратно)783
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3215. Л. 32.
(обратно)784
Там же.
(обратно)785
Там же. Д. 3230. Л. 69.
(обратно)786
Речь идет о парке «Воксала искусственных минеральных вод».
(обратно)787
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3231. Л. 1 об.
(обратно)788
Там же.
(обратно)789
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3219. Л. 180.
(обратно)790
Больница Всех Скорбящих была основана в 1832 г. Ее специализация — лечение «умственного расстройства». (Пушкарев И. И. Николаевский Петербург. СПб., 2000. С. 519–520).
(обратно)791
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3230. Л. 95.
(обратно)792
Там же. Д. 3237. Л. 68.
(обратно)793
Там же. Подчеркнуто в оригинале.
(обратно)794
Там же. Л. 68 об.
(обратно)795
См.: Уварова Е. Д. Вокзалы, сады, парки // Развлекательная культура России. С. 323–325; Пыляев М. И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 2004. С. 187.
(обратно)796
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 тт. Т. XIV. М., 1949. С. 154.
(обратно)797
Карманников (от англ. Pick-pocket: pick — воровать, pocket — карман).
(обратно)798
Пржецлавский О. А. Воспоминания. Беглые очерки // Русская старина Т. 39. № 7–9. С. 507.
(обратно)799
Там же. С. 508.
(обратно)800
Дубельт Л. В. Записки для сведения. 1849 г. С. 231.
(обратно)801
Там же.
(обратно)802
Дубельт Л. В. Дневник // Российский архив. Т. VI. М., 1995. С. 217.
(обратно)803
Там же. Д. 3219. Л. 164.
(обратно)804
Там же. Д. 3236. Л. 133.
(обратно)805
Там же. Д. 3237. Л. 68. Подчеркнуто в оригинале.
(обратно)806
Там же. Д. 3238. Л. 57.
(обратно)807
Там же. Л. 57–57 об.
(обратно)808
Там же. Л. 57 об.
(обратно)809
Там же. Л. 57 об. — 58.
(обратно)810
И. С. Кон пишет о русской «низкой», бытовой культуре народных масс, «в которой сексуальности придавалась высокая положительная ценность» (Кон И. С. Указ. соч. С. 15).
(обратно)811
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3242. Л. 23–23 об.
(обратно)812
Полилов Г. Т. Быт петербургского купечества в 1820–1840 годах // Исторический вестник 1901. Т. 85 С. 150.
(обратно)813
Крестовский сад // Квартальный надзиратель. 2005. № 31. ()
(обратно)814
24 июня празднуется день Ивана Купалы. Церковь поминает в этот день Иоана Крестителя.
(обратно)815
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2989. Л. 17.
(обратно)816
Там же. Л. 17–17 об.
(обратно)817
Там же. Л. 17 об.
(обратно)818
Там же. Д. 2996. Л. 15.
(обратно)819
Там же. Л. 15 об.
(обратно)820
Там же. Л. 17.
(обратно)821
Там же. Д. 3009. Л. 1–1 об.
(обратно)822
Там же. Д. 3232. Л 55.
(обратно)823
Там же. Д. 3219, Л. 84.
(обратно)824
Там же. Л. 81.
(обратно)825
Там же. Д. 3213. Л. 53 (курсив мой).
(обратно)826
Там же. Л. 68 об. (курсив мой).
(обратно)827
Там же. Д. 3237. Л. 18.
(обратно)828
Там же. Д. 3214. Л. 8 об.
(обратно)829
Там же. Д. 2996. Л. 19–19 об.
(обратно)830
Уварова Е. Д. Указ. соч. С. 318–319.
(обратно)831
ГАРФ. Ф. 109. СА., Оп. 3. Д. 3231. Л. 30 об.
(обратно)832
Там же.
(обратно)833
Там же. Д. 2989. Л. 1.
(обратно)834
Там же.
(обратно)835
Там же. Л. 7.
(обратно)836
Там же.
(обратно)837
Там же. Л. 9.
(обратно)838
Там же. Д. 3234. Л. 77 об.
(обратно)839
Там же.
(обратно)840
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3215. Л. 174 об. — 175.
(обратно)841
Там же. Д. 3217. Л. 43–43 об.
(обратно)842
Там же. Л. 56.
(обратно)843
Современная хроника // Отечественные записки. 1858. Июнь. С. 67.
(обратно)844
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 6–7 об.
(обратно)845
Там же. Л. 7–7 об.
(обратно)846
Петербургская жизнь. Заметки нового поэта // Современник. 1858. Май. С. 96.
(обратно)847
Современная хроника // Отечественные записки. 1858. Июнь. С. 67–68.
(обратно)848
Смесь // Библиотека для чтения. 1858. Т. 149. Июнь. С. 197.
(обратно)849
ГАРФ. Ф. 109.СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 6–7.
(обратно)850
Там же. Л. 8–9.
(обратно)851
Там же.
(обратно)852
Там же. Л. 32 об.
(обратно)853
Там же. Л. 42.
(обратно)854
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 41–41 об.
(обратно)855
Смесь // Библиотека для чтения. 1858. Т. 149. Июнь. С. 196.
(обратно)856
Современная хроника // Отечественные записки. 1858. Июнь. С. 67.
(обратно)857
Петербургская жизнь // Современник. 1858. Май. С. 96.
(обратно)858
В дневнике П. Д. Дурново встречаем довольно игривую запись от 27 мая 1858 г.: «Был у мисс Джулии Пастрон: эта особа с лицом обезьяны и фигурой хорошенькой женщины. Она приятно поет и танцует. Разговаривает по-английски и по-испански; ей 23 года. Поговаривают, будто кто на нее глянет, тот и ее любовник: это ободряет» (Цит. по: Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды: Панорама столичной жизни. СПб., 1996. С. 317).
(обратно)859
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 7. Для народных низов мексиканское чудо представляли так: «К началу! У нас Юлия Пастраны — двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!..» (Гиляровский В. А. Москва и москвичи // Избранное. В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 74–75).
(обратно)860
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3217. Л. 87 об.
(обратно)861
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг., 1917. С. 28.
(обратно)862
Там же.
(обратно)863
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 240 (запись 20 октября 1853 г.)
(обратно)864
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3205. Л. 43.
(обратно)865
Там же. Л. 72–72 об.
(обратно)866
Дубельт Л. В. Дневник // Российский архив. Т. VI. М., 1995. С. 158.
(обратно)867
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3218. Л. 29.
(обратно)868
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 310.
(обратно)869
Там же.
(обратно)870
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 28. Л. 305.
(обратно)871
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII — начало XX века. СПб., 2004. С. 227.
(обратно)872
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 633. Л. 1.
(обратно)873
Там же. Л. 1 об.
(обратно)874
Артикул воинский // Российское законодательство X–XX веков. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 359.
(обратно)875
Там же.
(обратно)876
Елистратов А. И. Борьба с проституцией в Европе // «А се грехи злые, смертные…» Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала ХХ века. Книга 3. М., 2004. С. 804–807.
(обратно)877
Там же. С. 807.
(обратно)878
Там же. С. 808.
(обратно)879
Правила содержательницам борделей // «А се грехи злые, смертные…» Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала ХХ века. Книга 3. С. 606–608. Два близких Третьему отделению литератора обсуждали это нововведение. Н. И. Греч кратко обрисовал суть принятых мер в письме к Ф. В. Булгарину (28 июня 1844 г.): «Доктора здесь в отчаянии. Plus de chier-pisser! Перовский издал постановление о борделях, своднях и б… Всякого посетителя предварительно осмотреть и по узнании здоровья пропускать. По окончании дела матушку п… мыть холодною водою. За небрежность и заразу положены большие штрафы. б… не могут быть моложе 16 лет, а сводни от 30 до 60. Постараюсь достать экземпляр и переслать к тебе. Шутки в сторону, дело полезное и важное» (Письма Н. И. Греча к Ф. В. Булгарину // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. ).
(обратно)880
Корф М. А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010. С. 272.
(обратно)881
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1842. Д. 125. Л. 1–4.
(обратно)882
Там же. Л. 1.
(обратно)883
Там же.
(обратно)884
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1842. Д. 438. Л. 1.
(обратно)885
Там же. Л. 2.
(обратно)886
Там же. Л. 2–2 об.
(обратно)887
Там же. Л. 6.
(обратно)888
Там же.
(обратно)889
Там же. Л. 6–6 об.
(обратно)890
Там же. Л. 6 об.
(обратно)891
Там же. Л. 4.
(обратно)892
Мельников П. Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах. Нижний Новгород, 1846. С. 1.
(обратно)893
Там же. С. 280.
(обратно)894
Там же.
(обратно)895
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1843. Д. 659. Л. 1–12.
(обратно)896
Там же. Л. 1.
(обратно)897
Там же. Л. 1–1 об.
(обратно)898
Там же. Л. 1 об.
(обратно)899
Там же. Л. 2.
(обратно)900
Там же. Л. 2–2 об.
(обратно)901
Там же. Л. 2 об.
(обратно)902
Там же. Л. 2 об.–3.
(обратно)903
Там же. Л. 3.
(обратно)904
В 1870-х гг. в знаменитом «Малиннике» на Сенной площади в Санкт-Петербурге цена на услуги не превышала 50 коп., а в праздничные дни женщинам приходилось обслуживать по 50 клиентов. В дорогих публичных домах сеанс стоил 3–5 руб., ночь — 5–15 руб., обслуживание вне борделя — 25 руб. (Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. ХХ в.). М., 1994. С. 23–25). 1 сер. рубль равнялся 3,5–4 руб. ассигнациям, бывшим в ходу в 1840-е гг. Для понимания цен: рюмка водки в «гоголевскую» эпоху стоила примерно 20 коп. ассигнациями (Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 1999. С. 56).
(обратно)905
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1843. Д. 659. Л. 3 об.
(обратно)906
Там же. Л. 3–3 об.
(обратно)907
Там же. Л. 3 об.–4.
(обратно)908
Там же. Л. 4.
(обратно)909
Там же. Л. 4–4 об.
(обратно)910
Там же. Л. 10.
(обратно)911
Там же. Л. 5 об.
(обратно)912
Там же. Л. 5 об.–6.
(обратно)913
Там же. Л. 6.
(обратно)914
Там же.
(обратно)915
Там же. Л. 6–6 об.
(обратно)916
Мельников П. Указ. соч. С. 286.
(обратно)917
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1843. Д. 659. Л. 7–7 об.
(обратно)918
Там же. Л. 7 об.
(обратно)919
Островский А. Н. Поездка в Нижний Новгород 1845 г. Дневники // Полн. собр. соч. в 16 т. Т. XIII. М., 1952. С. 175–177.
(обратно)920
РГИА. Ф. 1286. Оп. 8. 1843. Д. 659. Л. 8 об.
(обратно)921
Там же. Л. 8 об.–9.
(обратно)922
Там же. Л. 9–9 об.
(обратно)923
Там же. Л. 9 об.
(обратно)924
Там же.
(обратно)925
Там же. Л. 10.
(обратно)926
Там же. Л. 10–10 об.
(обратно)927
Там же. Л. 10 об.
(обратно)928
Там же. Л. 11.
(обратно)929
Там же. Л. 13–13 об.
(обратно)930
Там же. Л. 42.
(обратно)931
Там же. Л. 26.
(обратно)932
Там же. Л. 27–28.
(обратно)933
Там же. Л. 42.
(обратно)934
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 13 об.
(обратно)935
Там же. Оп. 221. 1844. 4 эксп. Д. 101. Л. 185.
(обратно)936
Дюма А. Путевые впечатления в России. В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 162–163.
(обратно)937
Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988. С. 384.
(обратно)938
Там же. С. 395.
(обратно)939
Карпинская Ю. Н. Из семейной хроники // Исторический вестник. 1897. № 12. С. 858.
(обратно)940
Кабештов И. М. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, потом двадцать лет крепостным // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006. С. 469.
(обратно)941
Там же. С. 470.
(обратно)942
Там же. С. 538.
(обратно)943
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1849. Д. 60. Л. 7.
(обратно)944
Там же. Л. 7 об.–8.
(обратно)945
Там же. Л. 8 об.
(обратно)946
Там же. Л. 48–48 об.
(обратно)947
Там же. Л. 49–49 об.
(обратно)948
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг., 1917. С. 142.
(обратно)949
Там же. Д. 3213. Л. 20.
(обратно)950
Там же. Д. 2997. Л. 2 об.
(обратно)951
Там же.
(обратно)952
А. Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах // Русская старина. 1901. № 12. С. 643.
(обратно)953
Там же. Д. 2996. Л. 15.
(обратно)954
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 2854. Л. 1–2. Подчеркнуто в оригинале.
(обратно)955
Там же. Д. 3231. Л. 21–23.
(обратно)956
Там же. Д. 2995. Л. 6.
(обратно)957
Там же. Л. 6 об.–7.
(обратно)958
Полицейские постовые.
(обратно)959
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 21.
(обратно)960
Там же.
(обратно)961
Там же. Д. 3221. Л. 54 об.
(обратно)962
Там же. Л. 56.
(обратно)963
Там же. Д. 3230. Л. 37–37 об.
(обратно)964
Там же. Л. 9.
(обратно)965
Там же. Д. 3234. Л. 119.
(обратно)966
Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Л., 1955. Т. 2. С. 347.
(обратно)967
Там же. С. 348.
(обратно)968
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3217. Л. 138.
(обратно)969
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 297.
(обратно)970
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3229. Л. 33.
(обратно)971
Там же. Ф. 109. 1 эксп. 1852. Д. 112. Л. 4.
(обратно)972
Там же. Л. 4–4 об.
(обратно)973
Там же. Л. 20.
(обратно)974
Там же. Л. 51.
(обратно)975
Дубельт Л. В. Дневник. С. 168.
(обратно)976
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3217. Л. 45.
(обратно)977
Там же.
(обратно)978
Там же. Д. 3218. Л. 158.
(обратно)979
Там же. Д. 3220. Л. 16 об.
(обратно)980
Там же.
(обратно)981
Там же. Д. 3215. Л. 13.
(обратно)982
Там же. Л. 13 об.
(обратно)983
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1860 год. СПб., 1862. С. 326.
(обратно)984
Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1838 г. Ч. 1. СПб., 1838. С. 30. Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1843 г. Ч. 1. СПб., 1843. С. 13.
(обратно)985
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг., 1917. С. 140.
(обратно)986
Там же. С. 178.
(обратно)987
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 213. Д. 28. Л. 15–15 об.
(обратно)988
Там же. Л. 16–16 об.
(обратно)989
Там же. Л. 17, 35 об.
(обратно)990
Там же. Оп. 221. Д. 91. Л. 61 об.
(обратно)991
Там же. Л. 61–62 об.
(обратно)992
Начальник экспедиции, старший чиновник получал годовой оклад (жалованье и столовые деньги) — 2000 руб., его помощник — 1285, младший чиновник — 730 руб. (Там же. Л. 64).
(обратно)993
Цензоры Российской империи, конец XVIII — начало XX века: биобиблиограф. справ. / [О. Ю. Абакумов и др.; редкол.: В. Р. Фирсов (пред.) и др.]; СПб., 2013. С. 96, 110, 197, 272–273, 277.
(обратно)994
Бурдин Ф. А. Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче // Николай Первый и его время. Т. 2. М., 2000. С. 278.
(обратно)995
Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. М., 2003. С. 178.
(обратно)996
Абакумов О. Ю. А. Е. Тимашев против литературы // Освободительное движение в России. Вып. 14. Саратов, 1991. С. 107–122.
(обратно)997
Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. С. 178.
(обратно)998
Там же.
(обратно)999
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 7–8.
(обратно)1000
Там же. С. 9.
(обратно)1001
РГИА. Ф. 780. Оп. 2. Д. 10. Л. 2. Дризен Н. В. ошибочно приписал авторство этой записки Е. И. Ольдекопу.
(обратно)1002
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 123–124.
(обратно)1003
Там же. С. 124.
(обратно)1004
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 32. Л. 17.
(обратно)1005
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 73 об. — 74.
(обратно)1006
Там же. Оп. 223. Д. 25. Л. 129.
(обратно)1007
К истории театральной цензуры (записка П. С. Федорова, 1859 г.) // Русский архив. 1896. № 4. С. 626.
(обратно)1008
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 194.
(обратно)1009
Там же. С. 307.
(обратно)1010
Там же. С. 166–171.
(обратно)1011
Там же. С. 211–212.
(обратно)1012
Там же. С. 308.
(обратно)1013
Там же. С. 213.
(обратно)1014
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 37. Л. 180.
(обратно)1015
Там же. Д. 38. Л. 318–318 об.
(обратно)1016
Там же. Д. 35. Л. 200.
(обратно)1017
Там же. Д. 36. Л. 49.
(обратно)1018
Там же. Д. 36. Л. 306.
(обратно)1019
Там же. Д. 35. Л. 208.
(обратно)1020
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 251.
(обратно)1021
Там же. С. 209.
(обратно)1022
Там же. С. 116–117.
(обратно)1023
Там же. С. 106–107.
(обратно)1024
Там же. С. 123.
(обратно)1025
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 35. Л. 8–8 об.
(обратно)1026
Там же. Л. 77.
(обратно)1027
Там же. Д. 37. Л. 97 об.
(обратно)1028
Там же. Д. 38. Л. 233–234.
(обратно)1029
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 197–199.
(обратно)1030
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 35. Л. 4.
(обратно)1031
Там же. Л. 113.
(обратно)1032
Там же. Л. 142–142 об.
(обратно)1033
Там же. Д. 36. Л. 74.
(обратно)1034
Там же. Л. 107.
(обратно)1035
Там же. Л. 107 об.
(обратно)1036
Там же. Д. 37. Л. 6–6 об.
(обратно)1037
Там же. Л. 162.
(обратно)1038
Там же. Л. 163.
(обратно)1039
Там же. Л. 174 об.
(обратно)1040
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 198.
(обратно)1041
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 35. Л. 152–152 об.
(обратно)1042
Там же. Л. 147.
(обратно)1043
Скалов, богатый помещик и уездный предводитель дворянства, находится в связи с гувернанткой взрослой дочери своей Матильдою, с которою он прижил двух детей. С своею женой Анною, женщиной 37 лет, Скалов обращается сурово, не скрывая перед ней своей связи, считая ревнивую жену «ненужной мебелью, которую он держит по необходимости и которую следовало бы давно бросить». По сюжету пьесы Матильда вновь беременна, и Скалов решает «купить ей мужа» — находит сына однодворца, гарнизонного офицера, и за 20 тыс. руб. приданого и место управляющего имением с окладом в 3 тыс. руб. Тот соглашается, но отец расстраивает этот брак (Там же. Л. 183).
(обратно)1044
Там же.
(обратно)1045
К истории театральной цензуры (записка П. С. Федорова, 1859 г.). С. 625.
(обратно)1046
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 35. Л. 288.
(обратно)1047
Там же. Д. 38 Л. 63–63 об.
(обратно)1048
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 116.
(обратно)1049
Там же. С. 125.
(обратно)1050
Там же. C. 104–105, 108.
(обратно)1051
Там же. С. 109.
(обратно)1052
Там же. С. 310.
(обратно)1053
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 37. Л. 279 об.
(обратно)1054
Там же. Л. 281–282.
(обратно)1055
Там же. Д. 38. Л. 417.
(обратно)1056
Там же. Л. 353 об.
(обратно)1057
Там же. Д. 37. Л. 339.
(обратно)1058
Там же. Д. 37. Л. 276.
(обратно)1059
Там же. Л. 276 об.
(обратно)1060
Там же. Л. 263.
(обратно)1061
Там же. Д. 35. Л. 303.
(обратно)1062
Там же. Л. 392 об.
(обратно)1063
Там же. Л. 392.
(обратно)1064
Там же.
(обратно)1065
Там же. Л. 293.
(обратно)1066
Там же. Д. 37. Л. 342 об.
(обратно)1067
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 252.
(обратно)1068
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 35. Л. 409.
(обратно)1069
Там же. Л. 410.
(обратно)1070
Там же. Д. 37. Л. 344 об.
(обратно)1071
Там же. Л. 344.
(обратно)1072
Там же. Д. 36. Л. 279 об.
(обратно)1073
Там же. Д. 37. Л. 345–345 об.
(обратно)1074
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 110.
(обратно)1075
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. Д. 38. Л. 83 об.
(обратно)1076
Там же.
(обратно)1077
РГИА. Ф. 780. Оп. 2. Д. 137. Л. 2.
(обратно)1078
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре… С. 313–314.
(обратно)1079
Там же. С. 317–318.
(обратно)1080
Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 125.
(обратно)1081
Там же. С. 129.
(обратно)1082
ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. 3208. Л. 6 об.
(обратно)1083
Состояние государства в 1841 году // Русская старина. 1898. Т. XCV. № 9. С. 529.
(обратно)1084
Письма великого князя Константина Павловича к графу А. Х. Бенкендорфу. С. 21.
(обратно)1085
Там же. С. 1210.
(обратно)1086
Письма А. В. Головнина к Н. В. Ханыкову // Исторический архив. 1950. Т. 5. С. 363.
(обратно)1087
№ 24. 1858 г. Не позднее марта 10. Записка, составленная в департаменте полиции исполнительной, о волнении крестьян в 1857 г. // Крестьянское движение в России в 1857–1861 гг. М., 1963. С. 116.
(обратно)1088
ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 988. Л. 69 об.
(обратно)1089
Там же. Л. 11 об.
(обратно)1090
Там же. Л. 163 об.
(обратно)1091
Там же. Л. 141 об.
(обратно)1092
Состояние государства в 1841 году. С. 529.
(обратно)



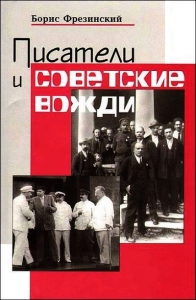
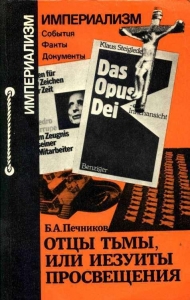


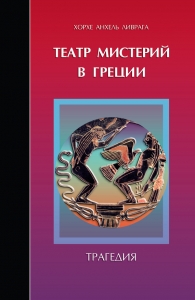
Комментарии к книге «Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.», Олег Юрьевич Абакумов
Всего 0 комментариев