Александр Ласкин
Мой друг Трумпельдор
Документальный роман[1]
Памяти моей мамы
Думаешь о кораблях, а вспоминается ветер...
Из письма И. Трумпельдору
Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского института культуры. Член СП. Автор четырнадцати книг, в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь» (М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2-е изд: Житомир, 2012), «Дягилев и.» (М., 2013), «Дом Дягилевых» (СПб, 2017). Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Ballet Review», «22», «Петербургский театральный журнал» и др. Автор сценария документального фильма «Новый год в конце века» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской премии (1993), премии журнала «Звезда» (2001) и др. Финалист премии «Северная Пальмира» (2001) и премии Шолом-Алейхема (Украина) (2015).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Зачем люди живут долго? Смотря кто, разумеется. Одни — просто так, а другие — потому, что обязанностей много и быстро их не осилить. Я живу для того, чтобы вспоминать.
Дел у меня почти нет, а вспомнить есть о чем. Сколько времени прошло со дня гибели Трумпельдора, а годы, проведенные вместе, для меня по-прежнему главные.
Когда у меня спрашивают: «Как вы пережили его уход?», я развожу руками. Как, как? Да я и не пережил. Он и через двадцать лет ко мне является. Войдет, хлопнет по плечу, произнесет: «Эйн давар». Это значит: нормально. Могло быть лучше, но и так ничего.
Самый трудный для меня месяц — март. Самое непростое число — первое. День смерти Иосифа. Эта дата приближается, а я уже взвинчен. Если становится совсем тошно, могу своего друга поторопить.
Когда долго смотришь в одну точку, она превращается в экран. Дальше на стене появляются картинки. Вот — мы с Иосифом в Порт-Артуре. на Невском. в Иерусалиме. Чего только не произошло за эти годы! Стран пять они вместили, а городов просто не счесть.
Есть у меня дурная привычка — бегу впереди паровоза. Хватайте меня за фалды и тащите назад! Впрочем, строго не судите. Это все оттого, что в гимназии я учился неважно. Бывало, узнаю, что задано, и ищу ответ в конце учебника.
Вот и сейчас я начал рассказывать, но еще не отрекомендовался. Что ж, исправляюсь. Снимаю шляпу, делаю шаг назад. Давид Лейбович Белоцерковский. Если угодно, Давид. Близкие называют меня Додиком. Их, этих близких, не так много: жена, сын и он, Трумпельдор.
Между мной и моей фамилией есть противоречие. Где Белая Церковь, а где я? Иное дело — мой друг. Только вслушайтесь: Трум-пель-дор! Семь согласных и три гласных. Еще прибавьте созвучие со словом «тамплиер». Не представить Иосифа в рыцарских латах, но свои права он отстаивал. А заодно — мои. Да и всех наших. Когда возникали проблемы, мы сразу шли к нему.
Опять тороплюсь. А ведь я еще не сказал, что после ухода Иосифа его архив попал ко мне. Я отнесся к этому спокойно: где еще ему находиться, как не у меня? — но вскоре заволновался. Непросто жить рядом с документами. Уже наизусть знаешь каждую кляксу, а все равно переживаешь: как бы чего не пропустить!
Конечно, дело в бумагах. А еще, как уже сказано, в первом марта. Если эти обстоятельства совпадают — можно не сомневаться, кто ко мне явится. Вот я открываю папку, и свет меркнет. Кажется, я одновременно пребываю в прошлом и настоящем. Чтобы проскользнуть между этими возможностями, требуется немалая ловкость.
Что ж, за эти годы я приноровился. На всякий случай зайду в комнату жены. Кажется, у нас кончились фрукты? — а сам не на рынок, а в кабинет. Чувствую — осталось недолго. Сейчас придет. Даже запертая дверь не помешает.
Жене про эти визиты не говорю. Впрочем, она и так все понимает. Вижу: ей трудно молчать, но она держится. Потом все же взрывается. Лучше бы, кричит, у тебя была любовница. Я бы знала, кому выдирать волосы.
Злюсь на свою Анну, но и горжусь ею. Все же она у меня умная. Понимает, что если назвать Иосифа, то в следующий раз он явится не ко мне, а к ней.
Я уже упоминал, что мой друг любил выяснять отношения. Особенно если речь о правах. Как сейчас было не возмутиться! Разве он не имеет права становиться явью? Это главное, на что претендуют те, кто ушел из жизни.
Однажды в голове мелькнуло: а что если меня готовят? Мол, поживите с потусторонним. Как привыкнете, так и сделаете шаг навстречу. Тогда я решил сменить тон. Разговариваю холодно. Да — да, нет — нет. Извини, приятель. Будет время — поговорим...
Впрочем, долго сохранять дистанцию не получалось. На третьей фразе я становился активней. На десятой мы опять беседовали как друзья.
Ах, если бы месяц начинался вторым марта! Ведь целый год он меня не тревожит. Наконец я принял решение. Если с календарем ничего не поделаешь, то надо избавиться от архива. Думаете, я волновался за себя? Не больше, чем за документы. Мало ли что может произойти! Вдруг чернильница опрокинется. Или, объединившись с папье-маше, вытеснит папки со стола.
Словом, государственное хранилище для этих бумаг — лучшее место. После того как я это понял, оставалось сесть за письмо. Вернее, за меморандум. Можно без преувеличения сказать — Меморандум. Прописная буква ясно указывает, что послание обращено не к кому-то одному, а сразу ко всем.
Это, знаете ли, особый жанр. Тон сдержанный, слова самые необходимые. Никаких «я считаю» и «мне кажется». Если ты решился, то сомнений не должно быть.
Заметьте, государство еще не создано, а уже существует «Национальный комитет страны Израиля». Впрочем, Мессия тоже не снизошел до нас, смертных, но ожидание все напряженней. Сотни тысяч просят о том, чтобы он пришел.
«МЕМОРАНДУМ
Иосиф Трумпельдор оставил нам литературное наследие в разных рукописях:
воспоминания, дневники, записки, путевые заметки, рассказы, письма товарищам и многое, многое другое; кроме этого, после него остались личные вещи, разные пакеты и большая библиотека. Рукописи покойный еще при своей жизни завещал народу.
Кстати, после его смерти прошло уже больше года, но перед моим покойным другом до сих пор стоит вопрос: а есть ли уверенность в сохранности этого наследия?
В свое время сам Трумпельдор обращался в публичном письме к общественности по данному поводу. В том письме он выражает точно такое же сомнение; я полагаю, что Национальный комитет, имеющий мощное влияние на еврейское общество, должен провести разъяснительную работу и заинтересовать его, объясняя, что литературная работа, проделанная покойным, — важная часть его работы вообще...»[2]
Если нет Иосифа, думал я, то государство уже не то, что нам представлялось. Хорошо, люди уходят не совсем. У одних есть дети, у других — счет в банке. Мой друг оставил бумаги и личные вещи. Ничего большего он не нажил.
В Египте покойники продолжали путь вместе с имуществом. В наши времена тело предают земле, а хозяйство странствует. Случается, это путешествие в один конец. Недосмотрел — и ничего нет. Архив разобрали по бумажке, а вещи пополнили чей-нибудь гардероб.
Об этом я не писал, но, судя по всему, был понят. Настал час ознакомиться с хранилищем. Я отправился и был поражен. Два этажа наверху, четыре — под землей. Тишина и сосредоточенность. Думаете, похоже на кладбище? Казалось, именно тут происходит самое главное.
Я сразу ответил: да. Правда, сперва следует попрощаться. Нет, никакого посыпания головы пеплом! План у меня был другой. Мне хотелось вернуться. Пройти тем же путем.
Я — не профессиональный историк. Да, немного злоупотребляю пером, но лишь для себя и по вдохновению. В порядке, так сказать, размышлений о друге — и посильного ему памятника.
Настоящий автор торопится за славой и гонораром, а мне спешить некуда. Денег за это не платят, поклонниц у меня нет. Придет что-то в голову — и сразу запишу. Через полгода опять что-то щелкнет — и я сяду за письменный стол.
Началось это чуть ли не в день знакомства с Иосифом. Я тут же прикинул: кажется, ты хотел заниматься историей? Возможно, твой новый знакомый для этого подойдет.
При этом — никаких обязательств. По мне, рукопись напоминает все, что растет. Стремится ли дерево к законченности? Вряд ли. Появится новый листик — уже хорошо. Вот так и новый листок.
Когда мне ответили согласием, я понял: пора. Посмотри опять на папки, отдели главное от второстепенного. К тому моменту, когда из архива придет машина, жизнь твоего приятеля должна быть рассказана до конца.
Теперь работа пошла быстрее. Кто из нас двоих ею руководил? С одной стороны, я сам себе отдавал распоряжения. С другой — писать об Иосифе значило вновь оказаться под его началом.
На какие-то вопросы мог ответить я один. Что Иосиф понимает в подзаголовках? Правда, это мне далось нелегко. Выбираю между «Свободными размышлениями» и «Набежавшими мыслями». У каждой формулы есть преимущество, но требуется что-то одно.
Понимаете, почему меня не любят таксисты? Если мне предлагают два маршрута, то я наверняка предпочту третий. В еде мне тоже нравятся сочетания. Не сладкое после соленого, а сразу то и другое.
Вот и жанр у нас будет такой. Неопределенный. Полностью соответствующий тому, сколько во мне соединилось.
Сперва надо спросить: кто это пишет? Двадцатилетний юноша, прямо с семейного обеда взятый на фронт? Или немолодой человек, для которого его жизнь — что-то вроде кино? Туда-сюда он перематывает пленку и останавливается на интересных моментах.
Мне кажется, нас разделять не стоит. Это делается общими усилиями. Если юный что-то не поймет, то пожилой поправит. Еще подключится третий, историк. Он взглянет на все описанное и подведет итог.
Так что подзаголовок только запутает. А вот эпиграф, пожалуй, нужен. Тем более есть хороший вариант. Стоит рассказать, как он появился.
Как-то мне попалось письмо. О чем? Ни о чем. При этом страниц много, а почерк отвратный. Медленно двигаюсь от слова к слову и наконец читаю: дважды два будет четыре. Хотел бросить, но подумал: а вдруг Иосиф тоже не осилил? Тогда я сделаю это за него.
Еще немного помучился, и, как оказалось, не зря. На последнем листе меня дожидался подарок. Я прямо глазам не поверил, когда прочел: «Думаешь о кораблях, а вспоминается ветер».
Кажется, кто-то сказал: смотри. Я чуть не всплеснул руками: конечно, конечно! Бывает, сгибаемся, но идем вперед. Жалуемся? Ничуть. Плохую погоду воспринимаем как требование к себе. Ведь если не сопротивляться, то будет хуже. Сами станем как слякоть за окном.
Иосиф говорил: пусть ничего не выйдет, но зато немного поживем с удовольствием. Потом вспомним: было не только ветрено, но и весело. Почему весело? Потому, что все могло закончиться так — и наоборот.
Представьте автора, оглядывающего свои владения. Вот, прикидывает он, эпиграф есть, а названия нет. Сперва ему вспоминается ветер, а потом самое главное. Может, «Приключения неуспевающих»? Вот это о чем. О неудачах и новых попытках. О том, как редко выходит то, к чему стремишься.
Затем возник вариант — «Роман с цитатами». Почему нет? Сначала были долгие отношения с архивом. Я подступался, потом завоевывал. Наконец «чужое» стало «моим».
Я решил, что для заглавия этого мало. Есть понятие более емкое. «Роман с биографией»! Другими словами, история о том, как события выстраивались в цепочку и образовали путь.
Еще роман — это романтические отношения. Con amore, сказали бы итальянцы. В самом деле, что за жизнь без amore? К барышням. К цитатам. К чужой — или своей — истории. Да мало ли к чему! Главное, умножение. Ты вроде как становишься больше на это чувство.
Я выбрал не отстраненное «Роман с.», а личное: «Мой друг Трумпельдор». Сейчас, когда прожита большая часть жизни, я понимаю, что тогда произошло. У меня есть жена, сын и внуки, а друга больше нет. Тот, кого уже никто не заменит, погиб в стычке с бедуинами.
Теперь надо сказать о читателе. Это слово существует во множественном и единственном числе. Так вот, второе — главное. Можно обращаться ко всем, но иметь в виду одного.
Я долго выбирал адресата. Наконец остановился на праправнуке. Пусть на свет он появится не скоро, но больше всего моя рукопись нужна ему.
Что ни говорите, а приятно найти «своего» на коллективном портрете! Да еще узнать, что в этой эпохе родственник был не случайной фигурой.
Вот к кому я обращался в начале предисловия. К единомышленникам в будущем, но прежде всего к нему. Все вместе они и есть мой читатель и мое «вы».
Ясно вижу, как праправнук поднимает брови. Родственник — настоящее ископаемое! Черное у него черное, а белое — белое. В новое время таких людей не осталось и вряд ли предвидится.
Об этом мы еще поговорим, а пока вернемся к письменному столу, горящей лампе, огням за шторами. Название выбрано, жанр просматривается, эпиграф удался. Еще обрисовалась пара гипотетических читателей. Остается сказать: «Чтобы написать, надо писать» — и двинуться вперед.
По правую руку у меня дневник, а по левую — документы. Если мне не хватает времени, то я использую старые записи. Получается что-то вроде коллажа из настоящего и минувшего.
То, что у меня вышло, вы сейчас прочитаете. Пока же скажу о том, как я готовился к передаче бумаг.
Когда все было сложено, присоединился сотрудник архива. Он двигался медленно, смотрел мрачно, говорил мало. С этого момента начинались последние приготовления. Дальше документы ожидали безмолвие и покой.
Помню: внизу стоит грузовик, а я смотрю с балкона. Только мне известно, что за ценный груз он повезет. В его кузове — сражения, подвиги, кровь. Разочарования, впрочем, тоже. Вышло так, что на войне мой друг побеждал, а в мирной жизни больше проигрывал.
Итак, вдыхаю сигаретный дым. На память приходит выбранное для эпиграфа: «Думаю о кораблях, а вспоминается ветер». Так же можно было бы сказать: «Размышляю о времени, а вспоминаю немое кино».
В чем тут дело? В монтаже, который соединяет прошлое с сегодняшним? В том, что нашу юность не представить без Мозжухина и Холодной? Да и цвета — черный и белый — тут имеют значение. Впрочем, самое важное — ветер. Казалось, он дул на улице, в комнате, везде. Поэтому актеры бурно жестикулировали и едва не пытались взлететь.
Похоже на то, что происходит в истории? Как и героев этих фильмов, нас что-то подталкивало вперед. Упомянув наших товарищей, не забудем и киномеханика. Невидимый людям в зале и на экране, он увеличивал скорость, тормошил, подстегивал — и покоя не было никому.
1 марта 1948 года, Иерусалим
ГЛАВА ПЕРВАЯ. САМОЕ НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ
Несколько предварительных слов
Не обессудьте, господа материалисты. Стоит мне поверить в ваши идеи, как происходит такое, что простой логикой не объяснишь. Может, это Бог напоминает о себе? Вы обо мне забыли, улыбается он, а я вот он, тут.
Почему мы с Иосифом всегда находили друг друга? Как-то фантазировали: предположим, ты летишь на Луну, а я уже там. Что, говорю, опаздываешь? Уже третий раз ставлю кофе на огонь.
Если бы мы были похожи, так ведь ничего общего! Иосиф — лидер и деятель, а я вроде как его тень. Даже на поле боя действую с оглядкой. Посмотрю на другого солдата и сделаю, как он. Поэтому на моей груди что-то позвякивает, но все же Георгия нет.
Да и внешность у меня не столь убедительная. Он — высокий и красивый. Если же на поясе сабля, то хоть в бой, хоть на свидание. Причем успех гарантирован. Может ли проиграть тот, у кого на лице написано: я — победитель и герой.
Чем мне гордиться? Не только ростом не вышел, но ношу очки. Перед боем прячу их в карман — и все расплывается. Через много лет я увидел картины импрессионистов и понял, что это про меня. Я тоже вижу мир похожим на разноцветный ковер.
Это не все мои недостатки. Не только подслеповат, но чрезмерно тучен. После фронта мне приходилось голодать, но похудеть не удавалось. Вопреки какой-либо логике, моя фигура настаивала на том, что я сытно ем и вволю сплю.
Может, Бог создает второго по контрасту? Если первый худ и высок, то его спутник должен быть толст и мал ростом. Помните Дон Кихота и Санчо Пансу? Один был единственный в своем роде, а другой — такой, как все.
Так вот, я как все. Не самый смелый, не самый гордый, не самый самостоятельный. И, уж точно, не самый худой. Главное, что меня отличало, — это мой друг. Я глядел на него и думал: когда-нибудь придется о нем написать. Значит, уже тогда я знал о себе сегодняшнем. Поглядывающем то в рукопись, то в окно. Стремящемся уразуметь, что это было, а главное, для чего.
Начало
Начнем с того, с чего начинал он. Все, знавшие его в детстве и юности, говорят о том, что мальчик был непростой. В этом возрасте мало кто догадывается о будущем, а он что-то чувствовал. Понимал, что если не подготовиться, то может быть поздно.
Наверное, это и есть ощущение своего предназначения. Конечно, не всегда подсказка бывает правильной. Иногда ощущение есть, а применения нет. Так вот у него было не так. Он знал, что ему предстоит нечто особенное, и ничуть не обманулся.
Сперва надо закалиться и подкачать мускулы. Мало ли какие предстоят сражения! Пока же Иосиф спит на досках, а утром поднимает камень, привязанный к потолку. Словом, показывает, что воли у него не меньше, чем у героя любимой книги.
Правильно советоваться с Чернышевским, но еще лучше, если рядом есть старший товарищ. Поначалу Иосиф смотрел на отца снизу вверх, а потом они сравнялись. Вы только вообразите: оба видные, сразу обращающие на себя внимание. Один свое отвоевал, а другой прикидывает: как бы ему тоже стать героем?
Вольф Трумпельдор
Родом Вольф Трумпельдор из Парчево. Местечко хоть и маленькое, но для жизни возможное. Кое-какой достаток имелся у всех. Столяр распиливал, молочник торговал, кузнец ковал. Русские с евреями ссорились, но быстро мирились. Ведь что такое вражда? Это когда кому-то чего-то недостает.
Перемены? Какие перемены в Парчево? Если только кто-то умер или родился, но это вроде как круговорот в природе. Тут же настоящее событие. Пришли наборщики, или хаперы, — и давай стучать в двери. Нет ли кого лишнего в возрасте до двенадцати лет? Не хочет ли кто, чтобы за отца и мать им было знамя полка?
Стыдно сказать, наборщикам помогали раввины. Много раз в день они беседовали с Богом, но этой темы вряд ли касались. Во-первых, неудобно. Во-вторых, и так ясно, как поступать.
Пока суд да дело, хаперы жили неплохо. К тому же не за свой счет. Чуть свет жители несли гостинцы. Откушайте, дорогие гости. Лучше питаться рыбой-фиш, чем нашими детьми.
Наконец набрали, сколько требуется. Взрослые едут в телегах, а дети идут пешком. По пути останавливаются — надо накормить лошадей и поесть самим. Что остается — отдают будущим кантонистам. Многие не выдерживают такого внимания, и их пускают в повозку. Что поделаешь — план. Следует доставить столько-то, и ни одним меньше.
Так началась жизнь Вольфа в русской армии. Родился он в тридцатом, а, судя по упоминанию в ростовской газете, в шестьдесят пятом не закончил службу. Общего для всех срока оказалось мало. Такая нужда была в храбрых солдатах.
Однажды Вольфу повезло. На него обратил внимание сам принц Ольденбургский. Вряд ли такое могло случиться в мирной жизни, но война сокращает дистанцию между первыми и последними.
Уж как принц расшаркался. Сделаю то, другое, третье. Правда, не то чтобы сразу. Сперва надо креститься, а уж тогда — вне всякого сомнения.
Представьте, Трумпельдор отказался. Причем повод был странный. Что с того, что Вольф — еврей? Разве это обозначает, что так будет всегда? Да и удовольствие сомнительное. Неужто ему хочется быть первым во всем? Нести амуницию. Мыть сортир. Умирать. Если кого-то жалеют меньше патронов, то этих упрямцев.
Не всегда власть обижает подданных. За хорошую службу Вольф получил право выбрать место жительства. В армии он так прикипел к Кавказу, что решил не покидать эти края. Трумпельдор взглянул на карту, ткнул пальцем в то место, где находится Пятигорск, и не ошибся — тут он встретил свою Фрейду, сыграл свадьбу, дал жизнь пятерым мальчикам и двум девочкам.
Давайте хотя бы назовем их по именам. Это будет вроде как перекличка — глядишь, они услышат и ответят.
Самуил — 1865 год рождения, Герман — 1867-й, Абрам — 1872-й, Соня — 1875-й, Миша — 1877-й, Люба — 1877-й.
21 ноября 1880 года — пятым по счету среди мальчиков — родился Иосиф. Это означало, что семья вроде как поднимается над бытом — и начинает жизнь в истории.
В 1883 году они переселились в Ростов-на-Дону. Так что Пятигорск Иосифу вряд ли запомнился. В этом возрасте мы видим только себя и родителей и лишь потом начинаем познавать мир.
В Ростове Вольф стал работать в Еврейской больнице, а его Фрейда, как всегда, стояла у плиты, кричала на нашаливших мальчишек и время от времени гордо носила круглый живот: переезд в большой город был отмечен тем, что в восемьдесят седьмом году родилась Дора, а в девяносто девятом — Альфред.
Зачем люди женятся? Не всегда можно ответить на этот вопрос, но в случае Вольфа все ясно. Он сделал это для того, чтобы было много детей. Пусть не хватает денег, одежды, пропитания, но зато шума с избытком. Да и хлопот — полон рот. Бывало, устанешь, сядешь отдохнуть, а потом ударишь себя по лбу: это и есть жизнь! Если бы все шло хоть немного спокойней, он бы затосковал!
Вот почему события за пределами дома его не очень интересовали. Слухи доходили, но он их пропускал. Пусть, думает, этим занимаются те, у кого потомства меньше, чем у них с Фрейдой.
Однажды Вольфу пришлось поучаствовать. Правда, в своей, особенной, роли. Он был вроде как отец. Человек, произносящий самое важное — и кардинально меняющий ситуацию.
В это время Ростов стал таким же городом, как прочие. Периодически его сотрясали еврейские погромы.
Чаще всего люди, устраивающие беспорядки, косят под обывателей. Мол, гуляли по городу, а тут видим: в ход идут железные прутья. У нас тоже руки зачесались. Мы вытащили палки из забора — и двинулись на врага.
На сей раз это была не толпа случайных людей, а едва ли не армия. Передвигались они голова к голове. Ну и действовали сообща. Увидели подушку — пустили пух. Потом заинтересовались талесом[3]. Бросили его в лужу, а вместе с ним и владельца.
Так, расшвыривая и растаптывая, подошли к Еврейской больнице. Удивились названию: отчего это у них все свое? Даже болеют они отдельно от прочих!
Вот погромщики стоят у ворот. Грозятся войти. Говорят что-то вроде: давайте решим вопрос кардинально. Тех, кому не помогают лекарства, приведем в чувство с помощью палок.
Тут на крыльцо выходит Вольф. Призывает к тишине. Впрочем, погромщики и так замолчали. На их лицах читается: это кто такой? Почему вместе со всеми не ожидает расправы?
— Как отличить евреев от неевреев? — сказал Трумпельдор. — Хотя наша больница Еврейская, но лечатся в ней все. Еще к нам приходят бедные. Куда им податься, если вы все разгромите?
Спокойно так излагает. Ведь действительно — дважды два. Только вообразите: кто-то заболел, а обратиться некуда. Да почему кто-то? Вы сами захотите лечиться, а вам говорят: недавно приходили ваши и не оставили камня на камне.
Погромщики молчат. Уйти не решаются и поглядывают на своего предводителя. Словно говорят: может, достаточно? Что-то уже не хочется размахивать палками.
Какой вывод напрашивается? Если преодолеть страх, то, возможно, испугаются тебя. Когда-то Вольф объяснил это сыну. Правило вроде простое, но мало кто ему следует.
Иосиф мог стать фельдшером, как отец. Или, как отец, солдатом. Он начал с фельдшера. Пломбы получались на раз. Через пару лет поинтересуется своей работой, а ему отвечают: «Стоят как влитые. Если не высшую власть, то местную точно пересидят».
Иосифа не радовали успехи на медицинском поприще. Больно негероическое это занятие. Как ни хотелось ему сделать что-то особенное, а повода нет. Иногда такая берет тоска, что начинаешь придумывать. Если нельзя совершить настоящих подвигов, то пусть будут воображаемые.
Представит, а потом все же попробует. В фантазиях все выходило отлично, а в реальности — с осложнениями. Однажды уговаривал посетителей корчмы. Мол, не хватит ли, господа хорошие? Есть удовольствие не только в вине.
Почему-то они не дослушали и сразу — в драку. Он растерялся и отступил. Решил еще подкачать мускулы и попробовать снова.
Так что мой друг не только лечил зубы, но хотел сделать пациентов лучше. И над собой трудился. Как говорилось, спал на досках. Поворочается — и идет на кладбище. Считает — сколько раз испугался. Пять, три, два. Вот, думает, хорошо! Если все пойдет так, то он точно станет героем.
ДОКУМЕНТЫ
Ищу в архиве о его жизни в Ростове. Вот же — есть! Письмо говорит о том, что уже тогда Иосиф чувствовал себя учителем. Пусть это называлось «репетитор» и скромно оплачивалось. Главное, он указывал путь и вел за собой.
Конечно, один слушатель — это почти ничего. Но зато он может представить, как обращается к толпе. Объясняет ей не виды эпоса, а кое-что посущественней.
Надо сказать, конкретную задачу Трумпельдор тоже выполнил. На экзамене ученик получил четыре, а Иосиф от ученика — пять. Чувствуете связь между фразой: «Вы мне от себя объяснили» — и словами: «Вы употребили на вразумление меня»? Так все и было — сперва одно, а потом другое.
«Уважаемый И. В.! Наконец я могу сообщить вам результаты моих экзаменов, которые прошли для меня благополучно. По-русски устно я получил 4, письменно 3. Устно меня спрашивали все главные виды эпоса.
Я ответил без запинки все, что не входило в наш учебник и что Вы мне от себя объяснили, все передал в ответе, за что меня учителя похвалили. Экзамены у нас начались не 16, а 18, и мне пришлось три дня ждать. Благодарю Вас, И. В., за Ваши труды, которые Вы употребили на вразумление меня. Занятия у нас начнутся в сентябре, и я успею отдохнуть от экзаменов. Простите за то, что плохо написал, но я так взволнован радостными чувствами, что не могу лучше писать. А пока желаю Вам успеха в Ваших пожеланиях и трудах. Ваш ученик.
12 часов дня 20 августа 1900 года».
Видно, Иосиф был строг к помаркам. Наверное, это послание тоже следовало переписать, но ученик ограничился извинениями. Все же это не диктант, да и он не приготовишка. Все экзамены позади. В том числе и те, что он сдавал репетитору.
Да, вот еще. Что значит «успех» в «пожеланиях и трудах»? Видно, речь о том, что помимо существующей реальности есть реальность гипотетическая. Как они соотносятся? Если пожелания были правильными, то и труды окажутся в радость.
Война
С бормашиной все равно что с винтовкой. Поторопиться и замешкаться равно нехорошо. Так что он не только лечил, но вроде как приноравливался к будущему.
Сражения с гнилыми зубами за здоровые вскоре стали его тяготить. Так что повестка от воинского начальника пришла удивительно вовремя.
Иосиф получил предписание в Тульчин. Этот город ничем не хуже Ростова. Здесь хорошо рожать, торговаться, сидеть на лавочке. Только вряд ли это место подходит для подвигов.
Приходится опять фантазировать. К примеру, воображаешь, что пожар, а пожарные пьяны. Тут на авансцену выходит он. Показывает, что не зря поднимал тяжелый камень.
Кстати, мы с Иосифом познакомились как раз в Тульчине. Момент для него был не лучший. Нашего мечтателя, видящего себя спасителем отечества, обвинили в воровстве.
Да-да. Ты себе кажешься героем, а на тебя смотрят как на торговца краденым. Как доказать свою невиновность, если власть принадлежит им?
История действительно неприятная. Из полка пропало оружие. Стали разбираться. Один из жителей рассказал о том, что около турецкой пекарни видел двух солдат. Они обсуждали число стволов и заплаченные за них суммы.
Ох, и дураки эти солдаты. Все сделали с умом, а одного не учли. Были так разгорячены сделкой, что не заметили свидетеля. Правда, как найти этих двоих? Для человека неслужившего все военные на одно лицо.
Почему-то начальство подумало о Трумпельдоре. Может, это просто подозрительность к людям его национальности? Или недоверие к фельдшерам? Как бы то ни было, Иосиф попал в каземат. Его еще недавно широкие горизонты сузились до окна в камере.
Наутро командование объявляет смотр. Тому самому жителю следовало пройти вдоль рядов и найти этих двоих. Вот он медленно движется. Солдаты смотрят прямо, а он вглядывается в лица. Нет, не этот. И не тот. Встал, будто размышляя, напротив Иосифа, но двинулся дальше.
Казалось бы, вопрос решен, но начальство никак не уймется. Все идут в казармы, а его отправляют на гауптвахту. Так бы он и пропал ни за что, если бы приехавший из Винницы следователь не нашел настоящих воров.
Что я об этом думаю? Чудесное избавление предвещало дальнейшие победы. По крайней мере, первое время будет так. Как бы близко он ни находился рядом с гибелью, все заканчивалось благополучно. Вслед за следователем судьба посылала новых спасителей.
Кто может ответить, почему однажды все закончилось? Наверное, потому же, почему лето сменяет осень, а осень — зима. Ничто не бесконечно и в конце концов приходит к своему завершению.
Пока Трумпельдор пользуется тем, что с ним рядом ангел-хранитель. Другие не защищены от напастей, а его они минуют.
Признаюсь, меня пугала его бравада. Может, и красиво, широко обведя рукой, сказать: «Эта пуля не моя», но от этих слов я съеживался. Уж точно пули так не считают. Если они летят, то потому, что существует мишень.
Что тут поделаешь! Непростой характер! Чаще всего люди идут у ситуации на поводу, а он непременно сделает наоборот.
Когда Россия вступила в войну с Японией, Иосиф понял, что это его шанс. Из заштатного Тульчина прямиком попадаешь на просторы истории. Правда, для этого надо ехать на другой конец страны. Пока доберешься, любая война может закончиться.
Видно, власти не рассчитывали на скорую победу. Да и солдат не хватало. Поэтому их брали везде. Даже тульчинских не обошли вниманием. Особенно ценились такие, как мой друг. Те, кто скромно оценивал свою жизнь и буквально рвался погибнуть.
Дорога
Дорога занимает сорок пять дней. Время от времени поезд останавливается. Присоединяют или переставляют вагоны. Пересаживают солдат. Эти мало кому понятные действия напоминают уловки судьбы. Кажется, сейчас что-то случится — и все пойдет по-другому.
Коротаем время за песнями и картами. Успокоимся ненадолго, а потом опять вмешаются разные мысли. Что впереди? Чем японцы похожи, а чем отличаются от нас?
Мы бы еще долго размышляли на эти темы, если бы не появился Иосиф. Тут мы поняли, что грустить некогда. Да и петь уже не хотелось. Настолько насыщенной стала наша жизнь.
Сперва Иосиф собрал солдат-единоверцев. Сказал примерно так: ах, вы маетесь от безделья? А вот начните что-то делать — и увидите, как время сжимается.
— Сейчас поезд остановится, — говорил он, — и вы отправитесь погулять. Предлагаю двигаться целенаправленно. Ты узнай — есть ли в городе синагога, а ты — разыщи хедер[4]. Так мы выясним, насколько эти места заселены евреями.
Едва мы разобрались с хедерами, а у него уже новая идея: раз мы едем по Сибири, давайте изучим жизнь местных народов. Дальше — больше. Почему бы не поинтересоваться японцами? Сейчас приглядимся, а подробней займемся после победы.
Иосиф проверял, есть ли у нас склонность ко всякого рода завиральности. Не к ближайшей перспективе, а самой что ни есть отдаленной. Так вот, не спорил почти никто. Стоило ему попросить, и мы сразу исполняли.
«Вначале кажется трудным, — как-то сформулировал Иосиф в письме, — а схватишь нужную точку, и после этого все пойдет как по маслу. Как будто дверь, крепко прикрытая, вдруг открылась».
Так у нас с ним было всегда. И точка, и дверь. И ощущение, что если ты этого не сделаешь, то потом будешь жалеть.
Бывает, фронт находится рядом с домом. Солдат обнял близких, а через пару часов уже бьется с врагом. Наша война располагалась далеко. Если смотреть из Ростова или Тульчина, эти края не разглядеть.
Всю дорогу мы старались представить, что нас ждет. Кто-то захватил книжку с картинками. Вот он, Порт-Артур. Устроился между холмов и океаном, как монета в ладони. Лежит себе в ложбине — невзрачный, не освещенный солнцем. Как мы увидели это фото, так сразу поняли, что ничего хорошего не будет.
Правда, до поражения оставалось далеко. Возможно, кто-то не доживет. Впрочем, смерть в бою нам представлялась смутно. Да и жизнь на войне виделась неотчетливо. Думаю, Иосиф тоже догадывался не обо всем. Иначе отчего у него так горели глаза?
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОБЕДНАЯ
Иосиф и командование
Мы с Иосифом часто спорили. Особенно меня смущало то, что он от всех требует подвигов. Зачем столько героев? Тогда храбрость будет столь же обыденной, как завтраки или прогулки.
Вообще указывать легко. Многие из нас размышляли философски. Для чего лезть на рожон? Лучше посмотреть, как это получается у того, кто дает такие советы.
Вот, к примеру, как Иосиф разговаривает с начальством. Казалось бы, какие тут варианты? Стой смирно, молчи, ешь глазами командира. Так сделал бы каждый, а у него выходило что-то вроде спектакля.
Видели бы вы выражение его лица. Мол, я вами не очень доволен. И это кто! Сын Вольфа Трумпельдора! Будто он в нашем полку — самый главный аристократ.
Разумеется, это опасно. Правда, моего друга последствия не интересовали. По крайней мере, он ничего не делал для того, чтобы их избежать.
Я, конечно, его останавливаю. Со дня нашего знакомства говорю ему, что правильней вдохнуть, выдохнуть — и сбавить темп. Потом станет ясно, что так лучше для всех.
Я шумел и ругался, а он нехотя соглашался. Делал он это только потому, что ему надоедало спорить.
Как убедить огонь в том, что гореть неправильно? Что всем было бы удобно, если бы он не горел, а тлел?
Прежде я бы не признался, но сейчас скажу. Все же разговор последний. Вряд ли я еще буду обсуждать эту тему со столькими людьми.
Уже упоминалось, что мы с ним не похожи. Тому, кто родился Белоцерковским, мало что светит. Даже убедить приятеля выходит через раз. Что касается того, чья фамилия едва не рычит от обилия согласных, то он должен соответствовать. Быть не таким, как все.
Вот как это было — все давно угомонились, а он лишь распаляется. Все потому, что мы живем в обыденности, а он — в истории. Ну, а это все равно что баня. Горячей, еще горячей! Наконец пробрало до костей. Чуть передохнул и опять лезешь в пекло.
Раз я упомянул о начальстве, то надо кое-что рассказать. Бывают скандалы — и скандалы. Если кричит полковник, то это нормально. Тут же солдат. Что он может? Только приставлять ладонь к козырьку. Еще проливать кровь. Как противника, так и свою.
Иосиф от этих привилегий не отказывался, но ими не ограничивался. Сделает все, как полагается, а потом обязательно выскажется.
Как-то перед боем командир нас построил. Решил произнести нечто духоподъемное. Вдруг после речи мы воодушевимся и с еще большей готовностью ляжем под пули.
Начал тихо, а потом распалился. Он пытался взбодрить не только нас, но и себя. Ведь ему тоже было не по себе. Зудела мысль о поражении, и хотелось ее перекричать.
«Разве можем мы не победить! — орал он. — Ведь жидов в нашем полку нет».
До этого мой друг слушал спокойно, а тут сделал шаг вперед. Показал, что стоим мы плотно, но каждый существует по отдельности. Вот, к примеру, он. Раз коснулись этой темы, то как ему не высказаться?
«Кажется, вы упомянули меня и моих товарищей? — сказал Трумпельдор. — Зря беспокоитесь. Сражаемся мы не хуже других».
Что удивляло? Спокойствие. Ни вытаращенных глаз, ни бурной жестикуляции. Когда-то его отец так разговаривал с погромщиками.
Надо сказать, черта оседлости существует не только на местности. Главная разделительная линия проходит в голове. Сюда — можно, туда — нельзя. Полковник так мучился этим выбором, что у него на лбу проступили извилины. Они едва ли не спрашивали друг друга: что теперь делать?
Действительно, задачка. Если наказать Иосифа, то это освободит его от участия в бою. Выходит, все жертвовали собой, а один прохлаждался. Поглядывал в окно каземата и ждал, когда принесут обед.
Тут полковнику показалось, что выход есть. Эврика! «Я вас как еврея не воспринимаю», — это было сказано не без гордости. Кажется, он говорил: видите, все в моей власти. Захочу — назначу русским, а нет — оставлю евреем.
Казалось бы, на этом разговор исчерпан, но Трумпельдор решил добавить. Вы же знаете: если он видит цель, его не остановить. Вот и сейчас мой друг двинулся напрямик. Сказал, что если таким его сделал Всевышний, то можно ли выбирать?
После боя мы с ним разговаривали. Я удивлялся: хорошо, что ты не боишься, но зачем шуметь? Иосиф отвечал, что в детстве ему разрешалось все. С тех пор он доверяет только внутреннему голосу. Иногда видит, что перебирает, но тут же слышит: делай вот так.
В полку недолго обсуждали выходки моего приятеля. Вскоре стало не до того. Слишком много времени отнимала война. Стреляем, бежим, умираем. Трумпель-дор воюет лучше всех. Даже полковник уже не против. Бывало, улыбнется, пожмет руку и даже похлопает по плечу.
Радоваться его успехам мне мешала давняя история. Помните тех хаперов, что забрали в армию Вольфа? На сей раз тоже было что-то не так с логикой. Сами
посудите: оторвали от дома, едва не насильно сделали солдатом, а потом навесили медаль на грудь.
Написано на полях, а потом зачеркнуто
Как сказано, Иосифу предшествовал его отец. Если же говорить о связях более далеких, на память приходит кантонист Ходулевич. Отношения тут не родственные, но очевидные. Да и интонация узнаваемая. Когда я наблюдал за своим другом, эта байка мне припоминалась.
Под такие рассказы хорошо выкурить папиросу и наполнить стакан. Начнешь с того, что и прежде встречались смельчаки. Если же есть желание разобраться в отношениях евреев и императоров, то без этой истории не обойтись.
Вообразите, Александр Третий на белом коне. Его адъютант генерал Трескин — на черном. Упомянутый Ходулевич — пешим ходом. В этой пьесе у него одна реплика. Зато какая! Благодаря ей он становится равен царю.
Как известно, у первых лиц времени сколько угодно. Сами задают себе вопросы и сами же отвечают. Причем если бы спрашивали: «Я царь или не царь?» — так ничего подобного. В голову приходит что-то совсем пустяковое.
Как-то Александр Третий предавался фантазиям. Представлял, что принимает парад. Хочет узнать, который час, а карман пустой. Ругает себя за рассеянность, но вдруг понимает: это же покушение с определенными намерениями!
Об этом Александр спорил с Трескиным. Царь утверждал: «Почему нет?», а его подданный: «Ни в коем случае!» Оставалось поставить эксперимент. Позволит ли кто-то сунуться на чужую территорию? Или, говоря проще, в шелковый карман своего Государя?
Что произошло дальше? Не поверите! Едва царь появился на плацу, как брегет украли. Тут из строя вышел Ходулевич. В его глазах светилось: все же не нет, а да.
Потом об этом судачили. Обсуждали, как кантонист держал на весу руку. Для полноты картины следовало произнести: «Скоро время обеда». Значит, потерь две. Мало того, что исчезли часы, но еще был присвоен жест.
Что говорить, риск немалый. Все могло завершиться не наградными, а тюрьмой и позором. Впрочем, Александр бровью не повел. Даже то, что это сделал еврей, его не смутило.
Больше о Ходулевиче ничего не известно. Он остался в истории как автор этой единственной минуты. Что касается Иосифа, то он только приступал. Дальше его ждали не споры с полковником, а схватки с японцами.
Пора на этих страницах появиться врагу. Сначала на горизонте, а потом все ближе. Наконец вы вровень. Точнее, сперва вровень, а потом он оказывается на земле.
Подвиги и прочее
С чего все началось? Почему-то я этого не записал. Трудно быть историком — и солдатом. Перед сном нащупаешь под подушкой тетрадку и думаешь: нет, лучше завтра! Ну а завтра — вновь под пули. Как участвовать и в то же время видеть себя со стороны?
К тому же все его подвиги не перечислить. По сути, сколько было боев, столько раз он становился героем.
На фронте у каждого свой участок. Уж как мне хотелось понаблюдать за Иосифом, но всякий раз я оказывался далеко. После боя расспрошу очевидцев — и иду к нему с поздравлениями. Он в ответ улыбается. Говорит, что увидел меня на другом конце поля и успокоился. Подумал: если придется погибнуть, то глаза закроет не чужой человек.
Моего друга хлебом не корми, а дай поиронизировать. Он и о пороховом складе шутил. Как-то так: да, смерть была близко. Если бы не испугался, вряд ли ее одолел. Когда понял, что терять нечего, выход нашелся сразу.
Так вот, пороховой склад. Если лет через пятьсот вспомнят моего друга, то прежде всего скажут об этом. Одно мгновение вместило его целиком. Вместе с нелюбовью к пафосу. Умением самое трудное делать так, словно это само собой разумеется.
Итак, Иосифа определили в охрану. Возможно, так его проверяли: говоришь, боишься скуки? Это тебе лекарство от уныния. Быстро узнаешь, сколько осталось до конца света.
Представьте, японская бомба у его ног. Такая маленькая и юркая. Подпрыгивает, шипит и едва не плюется.
Кто поблизости, падают на землю. Лучше услышать, чем увидеть. Впрочем, все закончится в один момент. Останется только зияющая воронка.
Как это говорится? Вашему столу — от нашего стола. Иосиф схватил это вместилище смерти за самую глотку и перебросил японцам. Мол, спасибо — не надо. Кажется, смерть от своего оружия у вас называют харакири?
Когда стало ясно, что беда миновала, на солдат что-то нашло. Они уже не впечатывались в землю, а лежали в свободных позах. Не хотелось ничего. Может, только подбрасывать товарища в воздух? Но это только после победы.
Другому этого хватило бы на всю жизнь, а Иосиф входил во вкус. Как-то японцы пошли в атаку и оказались на нашей территории. Мы уже не перекидываемся бомбами, а рубимся напрямую. Вдруг видим: полковое знамя на их стороне. Солдат не поднимает его над головой, а, как ребенка, прижимает к груди.
Мой друг рванул вперед. Как нож сквозь масло прошел через гущу сражающихся. Жаль, древко осталось на поле боя, но полотнище вернулось в полк.
Командование в восхищении. Желает Иосифу самого лучшего. Объясняет, как это сделать поскорей. Прежде всего надо принять православие. Иначе вряд ли получишь заслуженную награду.
Трумпельдор не отвечает. Только шевелит губами. Надеется, что злые духи услышат «Шма, Исраэль» и оставят его в покое.
Как уже сказано, его авторитет вырос. Сам командир не раз демонстрировал расположение. Потом проникся комендант крепости. Или все же первым был комендант? Ведь если начальник рассыпается в благодарностях, то подчиненный сразу присоединится.
В приказе по полку говорилось, что имя Иосифа золотыми буквами впишут в историю. Казалось бы, это дает право передохнуть. Действительно, часа два ничего не было, а потом началось. Это бог войны напоминал: после будете праздновать! Вот наступит мир, тогда и приступайте!
В разведке
Ничего не поделаешь — война. А раз ты герой, то тут вообще нет вариантов. Если где-то особенно трудно, то тебе туда.
Вот почему все пили за Трумпельдора, а он даже не пригубил. Да и мы только чокнемся — и ставим стаканы на стол. Все же идти в разведку лучше на трезвую голову.
Когда Иосиф получил приказ, он взял меня и еще троих. В такой компании мы уже навещали японцев.
Итак, ползем. Становимся ниже травы и тише воды. Может, только птицы о нас знают. Еще собаки — не видят, а чуют. Впрочем, сегодня нам сильно везет. Ветер относит запахи в сторону.
Уже различаем голоса. Возможно, японцы обсуждают, как окажутся дома... Вряд ли это у них получится! Ведь они беседуют, а мы все ближе. Еще немного, и все закончится в этом лесу.
Все шло точно по плану, как вдруг у одного из наших котелок ударился о камень. Разумеется, противник это заметил — и бомбы стали рваться одна за другой.
Иосиф приказывает: отползаем. Развиваем такую скорость, что бежать получится медленнее. Наконец мы в безопасности. Оглядываемся и видим, что с нами нет двоих. Одного солдата и нашего командира.
Тем же маршрутом рыхлим землю обратно. Вдруг слышим: кто-то разговаривает. Уж не Иосиф ли грозится японскому небу? Обещает вернуться и ответить так, что мало не покажется.
Движемся на голос. Да, это он. Рука раздроблена, кровь течет. Рядом едва дышит другой наш товарищ. Укладываем их на шинели и тащим за рукава. Если мы еще интересны птицам, то они, видно, удивляются. Уж очень непросто не выдать себя и спасти других.
Наконец наша территория. Встаем в полный рост. Итоги такие: Иосифу совсем плохо, солдат мертв. Закрываем ему глаза, стоим молча. Прощай, друг! Дело наше такое, что погибнуть несложно. Сегодня — ты, завтра — кто-то из нас.
Трумпельдор уже не стонет, а чертыхается. Едва не разговаривает с раздробленной рукой. Почему, спрашивает, так получилось? Тело и ноги устояли, а ты сдалась врагу!
Потом Иосиф пропал. В смысле — ушел в себя. Мы его тормошим, а он молчит. Наконец открыл глаза и увидел врача. Услышал, что обезболивающих нет. Слишком много горя на одну войну. Столько морфия не бывает.
Трумпельдор не против. Говорит: «Режьте, буду терпеть». Представьте, слово сдержал. Еще дал пару советов. Все же кое-какой опыт у него имелся. Может, ампутаций не делал, но зубы рвал.
Так и завершили операцию — усилиями хирурга и раненого.
Значит, его война закончилась? Что ж, будем продолжать без него. Пусть он накупит тетрадок — и в бой! За право быть одним, другим, третьим. Кем угодно, но не мишенью для японских стрелков.
Я рассуждал так. Это генералу ущерб позволителен, а у младших чинов всего в комплекте. Одной рукой сжимаешь саблю, а другую подносишь к козырьку. Так что истории больше не будет. Если человек едва жив, то это сугубо личное. Посторонние тут ни к чему.
Всегда выходит наоборот. После того как Иосиф лишился руки, на него посыпались подарки. Он получил унтера и еще одного Георгия. Зачем ему это теперь? Только для того, чтобы надеть мундир с орденами и отправиться радовать детей.
Так будет лишь в том случае, если Трумпельдор выживет. А вот это — большой вопрос. Все же вообразим лучшее. Он окреп и уехал в Ростов. Издалека поглядывает: как там Давид? Смог ли он найти себя в мирной жизни?
О чем он будет мне писать? О том, что, как прежде, рвет зубы в Еврейской больнице. Впрочем, работа не спасает от мыслей. Смотришь в рот, а видишь Порт-Артур. Думаешь: все ли наши товарищи дожили до этого дня?
Под конец — что-нибудь умиротворенное. Мол, в целом живу неплохо. Можно сказать, «эйн давар». Все же мои пациенты бодры и здоровы. Значит, лечить правильней, чем воевать.
Как бы я на это ответил? О себе бы сказал мельком. Ведь не во мне дело. Куда важнее, что при Иосифе жизнь шла веселее. Хотелось чего-то большего. Такого, на что сами мы не способны, а с ним получалось легко.
На пути к выздоровлению
Еще долго Иосиф держался на этом свете одной рукой. Да и у этой, единственной, лишь пальцы шевелились. Пытались сказать что-то вроде: только в гробу бывает хуже.
Я так привык, что любой пропадет, а Иосиф выкрутится, что не сразу оценил ситуацию. Потом вижу: нет, что-то не так. Да и врач уж очень явно отводит глаза. Тогда я понял: можно. Говорю нашему полковнику: кажется, скоро. Позвольте похоронить, как положено по обряду.
Даже командир иногда робел перед смертью. Еще оспоришь желание покойного, а потом и тебя проводят не так. Тут же человек практически невоенный. Возможно, он бы отказал служивому, а такому, как Иосиф, почему не разрешить?
Как вы знаете, Трумпельдор все делал по-своему. Ну а насолить начальству — для него вопрос принципа. Если дано согласие на похороны, то он должен поправиться. На войне не бывает лишних. Левой у него нет, но правая есть. Держать пистолет с шашкой не выйдет — так он постреляет, а затем будет рубиться.
ДОКУМЕНТЫ
Всякий раз нахожу в документах что-то новое. Так чувствуешь себя, возвращаясь в родные края. Вроде знаешь каждую кочку, но вот солнце легло иначе — и впечатление меняется.
Пожалуйста, пример. Как я мог это пропустить! Пишет сослуживец Вольфа Трумпельдора. Так и вижу их встречу в Еврейской больнице. Чуть ли не хором они восклицают: если бы Иосиф находился рядом, мы бы лечили его не только хорошими словами!
Вздохи, понятно, риторические. Иосиф далеко, и помочь ему можно только письмами. У этого послания шансов больше всего. Больно правильная интонация. Профессионально-врачебная. Что-то вроде: «Все за вас. Симпатии, молитвы и, возможно, Тот, кто решает наши судьбы. Так что вы обязательно победите».
«Милый Иосиф Владимирович! — пишет врач. — С тех пор, как неприятельские ядра свищут над Вашей головой, я особенно интересуюсь Вами. От души желаю, чтобы Вы вышли целым из этой опасности. Будем верить и надеяться, что общие симпатии, которые Вы пробуждали во всех Ваших знакомых, сольются в одну молитву, которую услышит Бог и сохранит Вашу жизнь. Мы счастливы, что такой светлый еврей смело выставил свою грудь на защиту дорогого Отечества!»
Такое письмо-рецепт. Ингредиенты самые необходимые. Хорошие слова — буквально все. Главная мысль такая: неужели война его проглотит? Не примет во внимание, что таких людей раз-два — и обчелся?
Важнее всего врачу, чтобы больной выжил. А если у пациента на все свое мнение? Он тут не для того, чтобы вернуться на родину, а затем чтобы дойти до победы. Что касается гибели, то почему нет? На войне никто не знает, как повернется.
Оказалось, доктор прав. Его молитвы соединились с молитвами ростовчан и дошли куда надо. Бог услышал и решил: если столько хороших людей просит, то как можно отказать?
Первый бой после ампутации
Противный я человек. Лучше всего у меня получается возражать. В отличие от ростовского доктора, я не верил в выздоровление. А уж планы вернуться на фронт у меня вызывали ухмылку. «Может, хватит? — говорил я. — Свято место пусто не бывает. Без тебя найдутся храбрецы».
Теперь повинюсь еще раз. Мне следовало поселиться в госпитале, но я был на службе. Всякий раз надо отпрашиваться. Однажды командир назвал меня бездельником. Вижу, говорит, твою выгоду. Лучше просиживать штаны рядом с кроватью, чем лежать в окопе.
Все же раз в неделю он проявлял снисхождение. Кивнет издалека, и я сразу лечу. Прямо ног не жалею, чтобы поскорей выяснить: как там мой друг?
Однажды полковник не отпускал меня две недели. Потом вдруг сам говорит: если твой приятель еще жив, то можешь его навестить.
Я рванул. Вхожу в палату, а навстречу идет он. Шаг хоть и не строевой, но бодрый. Про руку не говорю. Сразу видно, что его одна столь же активна, как две.
В ответ на мои восторги Иосиф предложил помериться силой. Ставим наши правые локтями на стол. Пыхтим, но не сдаемся. Потом одна медленно поддается. Много я бы отдал, чтобы это была его, а не моя рука!
Вот такой, думаю, у меня друг! Даже в благодарность за хлопоты не хочет мне подыграть.
Что, вы думаете, сказал Трумпельдор? Больше всего, говорит, хочу воевать. Дальше он хлопнул меня по плечу и произнес: «Эйн давар». На сей раз это значило: позволь отношения с японцами мне строить самому.
Оставалась надежда на начальство. Вдруг все же оно не позволит. Зачем однорукий на войне? Тут я узнаю, что прямо из госпиталя Иосифа возвращают на фронт. Видно, дела были совсем плохи и армии срочно требовались герои.
Действительно, с появлением Трумпельдора сил вроде как прибавилось. Мы кричали громче и бежали быстрей. Особенно нам нравилось, когда он звал в атаку и вскидывал вверх единственную руку. В эту минуту казалось, что его фигура парит.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Время от времени мой телефон звонит. Поздравляю с праздником! Читали ли вы сегодня газету? Я слушаю, но вскоре взрываюсь. Вы когда-нибудь были в моем положении? Жили среди умерших? Впрочем, с теми, кого нет, я чувствую себя спокойней. Они хотя бы не говорят ерунды.
Трубка что-то промямлит и начнет прощаться. Сразу ясно, человек ушел в свои мысли и не хочет возвращаться обратно.
Что ж, так и есть. Сколько лет я не оставляю поста на балконе. Вперед, кресло-качалка! Скоро мы прискачем к истине. Когда начинаешь чувствовать ритм, думается особенно хорошо.
Что за вид открывается отсюда! Перезваниваются церкви. Перекрикиваются муэдзины. Впрочем, этим меня не удивишь. Самые интересные картины обнаруживаются в прошлом.
С чего начинается разговор с собой? Почему так, а не иначе? Отчего эта, а не другая последовательность? В конце концов обнаруживаешь связь между пятым и десятым. Удивляешься: так вот оно что! Петелька — крючок — петелька!
ДОКУМЕНТЫ
Хорошо, что Иосифу пишут сестры. Значит, фронт — это не только кровь, разрывы, крики «ура». Вдруг посреди этого безумия расслышишь родной голос. Хотя бы ненадолго почувствуешь себя рядом с близкими.
Основная тема такая. Какой взрослый наш брат! А мы такие маленькие! Так что не сердись и прости. Можно ли в нашем возрасте видеть далеко? А уж представить Порт-Артур совсем невозможно! Да и желания нет. Без того хватает проблем.
У барышень своя война. Сколько лет Дора нападает на Любу, а Люба на Дору... Если бы рядом был брат, сестры бегали бы к нему пошептаться. Они и сейчас вроде как шепчутся. Почерк у них столь же неразборчивый, как тихие голоса.
«Дорогой Ося! Очень обрадовались мы, когда получили от тебя письмо, и немного опечалились, узнав о твоей ране. Мы получили письмо вчера, 2 апреля, и сегодня все сели написать тебе ответ, даже Люба, заурядная лентяйка. Она, как тебе сообщал Юзя, осталась на второй год в 7-м классе. Я же думаю не остаться, а перейти в 6-й класс без экзамена».
Порой в одном конверте — послания от обеих сестер. Конечно, каждая поинтересовалась, что пишет другая. Так что обращаются они не только к Иосифу, но и друг к другу.
«Что мы рады твоему письму, кажется, писать уже нечего, потому что все тебе об этом писали, но все-таки опять повторю, что мы очень обрадовались. Мама, не получая после первого известия письма, думала, что тебя уже нет в живых, да и теперь еще верит с трудом. Обо мне уже, кажется, постаралась тебе написать Дора, что я и лентяйка, и осталась на второй год, одним словом, все плохое.
Прости, дорогой Ося, что я тебе не писала. Не подумай, что это от моей нелюбви к тебе, как говорит папа, это просто от моей ненависти к письмам, во-первых, а во-вторых, Дора все опишет так, что мне ничего не остается. Ты спрашиваешь, что я делаю и собираюсь делать после окончания гимназии?.. Как тебе сказать? Это будет зависеть от папиных финансов, которые, между прочим, очень плохи. И от беспорядков в России, так что не знаешь, где будешь завтра и будешь ли еще жив. А хотелось бы мне на историко-филологическое. Сейчас же я ничего не делаю. Из гимназии приду, читаю, хотя читать нечего, в библиотеку не записаны, читаю что попало, без всякой системы. Ходить мне некуда, так что сижу дома, в театр хожу редко, папа любит, чтоб мы были в 8-м дома, рукодельничать тоже не рукодельничаю, одним словом, тоска смертная. Но я думаю, с твоим приездом все переменится. Голос у меня переменился далеко к лучшему, окреп, думаю с осени учиться петь. Я тебе буду каждый день петь по приезде в Ростов. Скорее бы уже ты приехал, чтобы выяснилась дальнейшая наша жизнь.
Мама надеется, что тебе дадут тысячу, даже больше. Да! Самое главное, я тебе не сказала о своей наружности. Она всех поражает, да ты меня не узнаешь! Я громадного роста, почти как ты, полная. Широкоплечая, одним словом. Я известна под именем „гренадера“ в Ростове. Привозить ничего не привози, лучше деньги эти дашь нам, кстати, они нам очень нужны.»
Такие несхожие характеры. Младшая держит нос по ветру, у старшей все вызывает тоску. Она и себе не нравится. В театр не ходит, рост чрезмерный, книги читает не те. Да и вокруг ничего хорошего. Сложно жить, когда не знаешь, что будет завтра.
А что если старшая притворяется? Больно вовремя она растеряна — или деловита. Как раз сейчас собрана. Если брат не понял — может повторить. Да еще прибавит, как ей видится его возвращение. Нет, речь не о подарках. Сейчас деньги нужней.
Как видите, у каждой сестры своя роль. Люба по большей части смотрит внутрь, а Дора вовне.
Каждый день у Доры что-то происходит. Скорее по мелочам, но бывает и серьезное. Вот хотя бы холера. Это событие подобно визиту зарубежной знаменитости. Ну а что? Вряд ли Ростов посещали более известные гастролеры.
«Тут. будет, кажется, холера, потому что принимают меры. Градоначальник, например, велел во всех больницах читать лекции, куда, между прочим, записалась Соня, которая живет у нас в Ростове, и Лиза Шерстьян».
Самое правильное встретить холеру лекциями. Только услышал о ней — и спешишь набраться ума. Главное, не только получить советы, но успеть ими воспользоваться.
Эпидемию обсудили? Теперь другие новости. В один абзац их набилось под завязку. Под конец вспомнила Лизу — и свернула в сторону. Во-первых, она «скоро тебе напишет». Во-вторых. Тут не только во-вторых, но в-третьих и в-пятых.
«Она послала твой адрес Моисею, который сбежал от войны в Америку. Поселился он в Нью-Йорке, у своего дяди, который ходатайствовал за него и устроил его хорошо. Он просит твой адрес, но Петр Моисеевич Канн поехал в начале зимы в Харбин, и с ним поехала его жена и Нюня, которая засватана и выходит скоро замуж. Лиза с Гаазе разошлась, и Гаазе женился на нашей Нюре Аксельбандт. Михаил Моисеевич ездил в Харбин, где хорошо заработал, и вернулся в Пятигорск, так как начинается сезон... Напиши подробно о японцах, они меня очень интересуют».
В финале Дора себя одернула: что это я все о себе? Брат на фронте, и у него, наверное, тоже проблемы. Не очень ли ему досаждают враги? Думаю, Иосиф ответил шуткой. Мол, вижу противника через прицел. Да и во время рукопашной разглядеть трудно. Приходится верить тому, что пишут газеты.
Дора продолжает забрасывать Иосифа новостями. Как всегда, их у нее воз и маленькая тележка. Имен столько, что поневоле запутаешься. Приходится перечитывать несколько раз.
«Мы теперь время проводим непраздно, целый день почти что мы шьем, немного читаем, а потом идем гулять в клуб. У нас теперь хороший оркестр играет в коммерческом клубе под дирижерством некоего дирижера Литвинова. Пиши почаще, когда мы получаем твои письма, то у нас праздник, во-первых, весь Ростов знает об этом, и масса народа приходит к нам читать твои письма».
Представьте, Иосиф сидит в окопе, а тут какой-то Литвинов. Сперва удивишься незнакомому имени, а затем едва ли не поприветствуешь. Здравствуйте, любезный! Хорошо, что вы есть. Вообразишь ваши выступления — и успокоишься. Начинаешь верить, что скоро домой.
Кстати, вот ответ на вопрос: чем жить после победы? Да этим самым. Тем, что Литвинов за дирижерским пультом. А еще тем, что жены его братьев исправно рожают. Что ни год, то в семье пополнение.
Больше всего он хотел заглянуть в прошлое. Или, по крайней мере, его представить. Как тогда было хорошо! Сверчок стрекотал, разговор журчал. Возможно, обсуждалось что-то вроде этого.
«Милая Дора! Спасибо тебе, а еще больше твоему вдохновению за письмо. Почаще бы находило на тебя, да и на других наших оно, это твое вдохновение, тогда мне было бы гораздо веселее и легче. За отметки — молодец! Хотя я надеюсь, что м-ль, носящая имя Доры Трумпельдор, в будущем будет иметь еще лучшие отметки. Осмеливаюсь даже, иногда в хорошую погоду, мечтать о том, что ты первая ученица. Впрочем, стой, я похвалил тебя, а тебя стоит и побранить. Зачем на Пасху обыграла Рахиль и Олю в орехи?.. Поздравляю тебя с новым племянником, а маму с внуком.»
Немного странно. Иосиф прошел целую войну, а у его близких все как обычно. Правда, прежде не играли в орехи, а сейчас появилась такая мода. Как вы догадались, побеждает Дора. Взглянет грустно, произнесет что-то скептическое, а затем непременно возьмет верх.
Не скажешь, что это пишется с фронта. Лишь под конец письма война все же вторгается. Впрочем, выглядит это совсем не страшно. Сколько раз бывало такое. «.В ночь на 16 апреля подошла к крепости японская миноноска и сделала несколько выстрелов, метя в прожектор (электрический фонарь), но вреда не причинила».
Как не вспомнить его коронное: «Эйн давар»? Все действительно ничего. Иосиф сражается, Дора учится, Моисей обзавелся должностью... В эту симпатичную картину ненадолго вторглась миноносица, но все обошлось. Так из леса выходит медведь. Побуянит — и что? Остается только неприятное ощущение.
Иногда письма Доры доносили отзвуки семейных споров. Впрочем, сначала — все тот же воз и маленькая тележка. Она так и сыплет событиями. Вновь Лиза. Ее сестра Нюня. Любительские спектакли. Пасха. Когда говоришь без умолку, то главного вроде как нет.
«Тут, в Ростове, был недавно Герман наш, ехал он в Харьков держать экзамен. Тебе Лиза Шерстьян, кажется, послала недавно письмо. Ее сестра Нюня засватана, и, кажется, скоро будет свадьба. Нас в гимназии отпустили на Пасху на 3 недели почти что. Я теперь позанимаюсь за Пасху, чтобы перейти в 6-й класс без экзамена. Мы, ученицы и ученики, устраиваем любительские бесплатные спектакли. Мы теперь даем водевили только, но скоро будем ставить и драмы. Газеты в Пятигорске продавались по рублю, где писалось о тебе, и здесь, в Ростове, нарасхват раскупались. От Миши получили письмо недавно недели две тому назад. Я на эту Пасху, да не только я, а мама, Соня, Люба, Юзя ели хлеб, кроме папы. Ну а как ты, Оська, провел Пасху?.. У нас ожидается холера, но ее, наверное, не будет, так как приняты меры. Хоть бы война скорее кончилась, чтобы ты приехал. Целуем тебя все, все крепко и желаем тебе всего хорошего. Не скучай, скоро увидимся (хоть бы скорей)».
Вот сколько всего! Когда же дошла до основного, стала неразговорчивой. Впрочем, что тут объяснять? Хотя есть хлеб в Пасху не разрешается, они себе не отказывают. Правда, не все к этому относятся спокойно. Отец Вольф смотрит букой и упрямо ест мацу.
Заодно с ней Соня, Люба и Юзя. Что касается брата, то тут полной уверенности нет. Иногда кольнет: «А вдруг Иосиф как отец?» — и Дора спешит дальше. Ведь чтобы не расстраиваться, надо на этом не застревать.
Нет, не второстепенная это проблема. Об этом же говорится в письме его двоюродной сестры. Как хорошо она пишет! Редко так бывает: читаешь и сразу представляешь автора.
Симпатичная эта Анюта. Лет, скорее всего, мало. Или гимназистка, или учится на курсах. На Пасху не пьет вина, а только смотрит, как это делают другие. Правда, вопросы у нее взрослые. Да и ответы. Прямо удивительно, как она все понимает.
«Слава Богу, хотя изредка мы имеем от Вас письмо. Как я рада, что Вы живы и, Бог даст, будем опять видеться. Почему Вы так редко пишете? Чем занимаетесь? О себе Вы очень мало пишете. Я горжусь тем, что у меня есть такой брат. Оля и Рахиль ждут Вас с нетерпением, у нас теперь Пасха, и Оля когда пьет вино, всегда за Ваше здоровье. Как Вы праздновали Пасху? Была ли у Вас маца? Первый седер[5] были у папаши, и темой разговора были только Вы. Вы уже, наверное, говорите по-японски и английски, это было бы недурно. У нас все по-старому. Россия накануне новых раздоров. Ждут весны. У евреев большие надежды на более светлые дни, но пока вроде малорадостно. Вообще я думаю, что к Вашему приезду в России будет не то, что было. Милый Ося! Выздоравливайте и набирайтесь силы, чтобы бороться с жизнью».
Дора осторожно спрашивала: «как ты провел Пасху?..», а Анна прямо задает вопрос: «Была ли у Вас маца?» Если в эти дни ели хлеб, то какой это праздник? Да и о прочем сказано верно. Хотя бы вот это, о знании языков. Больно заторопилось время. Возможно, Иосиф еще не вернется, а Россия будет другой.
Первый конец войны
Ситуация на фронте плохая. Снаряды кончаются, есть нечего. О поражении говорят в полный голос. Кажется, сделать ничего нельзя. Если только оставить память. Что ж, мы себе в этом не отказали. Превратили треклятый город в столб из огня и дыма.
Знаете, как ведут себя рассерженные дети? Ломают игрушки. Вот и мы крушили все, что попадалось под руку. Недавно мечтали о выпивке, а сейчас проливали вино, как воду. С радостью наблюдали, как слякоть пожирает все.
Дальше случилось то, что каждый хоть раз видел во сне. Русская армия сдалась. Теперь мы все — измученные, взвинченные, плохо соображающие — попали в руки врагу. Каждому из нас хотелось погибнуть в бою, но судьба предложила плен.
Что еще придумали противники! С офицеров взяли расписку, что они не будут воевать. Не только на Дальнем Востоке, но вообще нигде. Пусть разводят цветы в палисаднике! Представляю, как наш полковник обращается к растениям: выправка военная, смотрим на солнце, растем вверх!
Смешно, конечно. Офицеры умеют только командовать и стрелять. Впрочем, теперь они нас мало интересовали. Мы остались в плену без начальства.
Испытывали ли вы что-то подобное? Начальства нет! Конечно, есть японцы, но это другое. А вот наше родное командование испарилось так резво, что не оставило последних распоряжений.
Если вы этого не пережили, я объясню на примере. По большей части солдат чувствует зависимость. Лишь в бою он раскрепощается. Кажется даже, прибавляет в росте. Да и в голове стучит: я сам по себе! Не только выполняю задание, но действую по ситуации! Поэтому выходов у меня два. Могу погибнуть, но могу и победить.
Скоро я расскажу про нашу жизнь под японцами, а пока удивимся. Вот в какие кошки-мышки играет судьба! Предлагает: выдержишь? Лишишься руки — и пойдешь на фронт? Или не удостоишься офицерского чина — и окажешься в японском плену.
Наверное, это и есть «эйн давар». В короткой перспективе — ничего хорошего, а в долгой — все ничего. Такое везение человеку с биографией! Сто раз оступится, но все же придет куда надо.
Правда, на каждом этапе свои скорости. В юности перепрыгиваешь через ступеньки, а в старости не пропустишь ни одной. Да и устаешь сильно. Поэтому хоть раз остановишься. Посидишь, вытянув ноги, а потом опять в путь.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Перечитал то, что тут написано, и подумал: а как же мой адресат? Да, он, мой дорогой праправнук. Вряд ли ему известно об этих событиях. Наверное, не догадывается, где находится Порт-Артур. Уж так мы устроены: довольствуемся тем, что вблизи. У нас есть свои города и, конечно, свои войны.
Ах, если бы моего праправнука назвали Давидом! Это значило бы, что и через сто лет обо мне помнят. Предположим, так и есть.
«Дорогой Давид! — говорю я. — Извини меня, неуспевающего. Самое важное всегда делаешь в последний момент. Вот и сейчас почти все рассказано, а еще ничего не объяснено.
Надо сказать, из тех войн, в которых я участвовал, эта самая непонятная. Конечно, на фронте мы старались об этом не говорить. Во-первых, все ясно и так. Во-вторых, тут ничего не поделаешь. Раз судьба привела в эти края, то будем биться до последнего.
Другое дело, когда Порт-Артур давно позади. Да и старость наступила. Для того нам дано это время жизни, чтобы задаваться вопросами. Лет до тридцати мы отвечаем, а после восьмидесяти вопрошаем.
Вот если бы мы победили, то тогда бы в этой истории появился смысл. Нет, проиграли вчистую. Причем не один раз. Порт-Артур, Цусима, Мукден. Все это не названия городов, а имена беды. Сколько здесь полегло русских и японцев! Так и вижу их рядом — с застрявшим в горле криком «ура!», с винтовкой, сжатой в руках, около невыстрелившей пушки.
Поначалу мы были уверены, что долго воевать не придется. Да и может ли быть иначе? Неужто мы не справимся с этими недомерками! Вскоре стало ясно, что рост ни при чем. Для храбрости и напора это не помеха.
Мы уже не называли противников „япошками“ и „макаками“. Да и разговоры о победе оставили генералам. Ведь их задача — заговаривать зубы, а наша — держаться до конца.
Знаешь, что мы поняли еще? Сражающиеся непримиримы друг к другу, но когда они погибают, то становятся едва не товарищами. Видно, смерть справедливей, чем жизнь. Для нее нет чужих. Все свои, каждого жалко, всех ждет одно. Вместе они отправятся на небеса и там обретут прощение.
Удивлен, Давид? В твои времена случалось, чтобы вроде бы здравые люди затеяли авантюру? Да еще вовлекли в нее стольких сограждан. Ну что, говорят они, пробил ваш час. Вот винтовка и сабля, чтобы биться с врагом. Если вы сейчас не проявите инициативы, то вас опередят.
Самое интересное, что прежде мы были не нужны. Они даже отгораживались от нас чертой оседлости. На жительство в столице или место в университете требовалось разрешение. Еще надлежало не превысить норму. Евреев должно быть столько — и ни одним больше.
Что касается войны и геройства, то тут иной подсчет. У русских раз в два года берут семь рекрутов на тысячу человек, а у евреев десять и каждый год. Спасибо, конечно, что вы в нас верите, но лучше бы пораньше. Не тогда, когда следует умирать, а когда предстоит жить.
Мы бы запутались в этих обстоятельствах, если бы не Трумпельдор. Как у него получалось вносить ясность? Бывало, посмотрит строго — и нехорошие мысли исчезают. Только что мучили, буквально — атаковали, а вот уже — выветрились из головы».
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Через много лет я повторяю за ним: «Эйн давар». В общем-то, на что жаловаться? У каждого время что-то отняло, но кое-что и прибавило. Вот и моя качалка с этим согласна. Кивок в одну сторону, кивок в другую. Вроде как установилась золотая середина.
О чем переживать человеку, находящемуся в самом конце жизни? Да еще в такой прекрасный день? Нет, никак не расслабиться. Мыслей в голове не меньше, чем пороха в пороховнице. Кажется, еще немного, и вместе с ними взлетишь на воздух.
Одни города раскрашены, как декорация, а другие сложены из камней. Таков Иерусалим. Казалось бы, чего еще — сиди на балконе, радуйся этой подлинности. Вслушивайся в гомон улицы, начинающейся где-то во тьме веков. Можно, не вставая с кресла, мысленно по ней пройтись.
Радость этого путешествия заключается в том, что ничего нового не будет. Все как всегда. Сейчас, за поворотом, я увижу знакомого нищего. Который год он сидит здесь и читает Тору.
Видно, для него нет пространства (а потому он вроде как слился с этим местом), но зато есть бесконечный колодец времени.
Почему я о нем вспомнил? Потому что без этого нищего не представить город. А еще потому, что он как я. Хотя я вглядываюсь не в столь далекое прошлое, оно меня тоже не отпускает.
Чему нас учил Иосиф? Сказать «жизни» — выйдет туманно, так что верней сказать — «биографии». Он внушал, что человеку нужна цель. Чем точнее она сформулирована, тем скорее будет осуществлена.
Вновь спрашиваю себя: почему мы спешили выполнить то, что он требует? Мало ли кому чего хочется! Отчего бы не сказать: сперва получи для этого полномочия и тогда проси!
Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Прошли все те же сакральные сорок лет. Хотя я блуждал не по пустыне, но прямых путей у меня не было. Да и солнце палило. Особенно сильно в палестинский период моей истории.
Наконец все стало понятно. Я не только знал о ключе, но буквально его видел. Вот он поблескивает из глубины! Тот, кто им воспользуется, об этом не пожалеет.
Откроем Вечную книгу там, где лежит закладка. Прочитаем вслух или про себя. Удивимся, что совпадает все, кроме слов о первинках винограда.
«И осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий на ней, крепок он или слаб, мал он или велик числом. И какова земля, на которой он обитает, хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, в открытых ли станах или в крепостях. И какова земля, тучна она или тоща, есть на ней древо или нет; крепитесь (духом) и возьмите от плодов земли. Пора же была порой первинок винограда».
Кстати, о винограде. Все же мы его вкусили. А заодно нам вдоволь досталось апельсинов и гранатов. Да мало ли какие еще встречались плоды! Вкус помню, а названий не знаю.
Значит, дело только в том, чтобы уметь ждать. «Ах, это вы мучились и терпели? — скажет Тот, Кто Нам Дает Все. — Тогда осмотрите землю. крепитесь. возьмите от плодов земли.»
— Спасибо, — говорю я своему креслу-качалке, — умеешь ты успокоить! Я раскачиваюсь на твоих волнах и вижу перед собой город. Впрочем, и на мою жизнь отсюда отличный вид. Чем дольше вглядываюсь, тем ярче картина. Прежде в глаза бросалось то, как разметались линии, а теперь угадывается узор.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЛЕН И МЫ
Хамадера
Итак, мы в плену. В бараки набилось под завязку. Зато поднимешь голову — и лицезреешь бесконечность. Каких только тут нет икебан! Облако — цветок или букет. Вот она, Япония. В этой стране всего немного, и все рождается из ничего.
Плен — не Россия, но и не война. На войне японцы — это мишень. Навел винтовку и — бах! Когда маленькая фигурка взмахнет руками, про себя ставишь плюс.
Сейчас мы разглядывали наших врагов. Оказывается, смеются они не всем ртом, а уголками губ. Да и благодарят так же. Еще, правда, склонят голову и приложат руку к груди.
Думаю, они тоже увидели нас иначе. Через прицел картина смазанная. А тут вблизи! Выходит, русские не только бросают бомбы! С ними хочется не сражаться, а выпить вина.
Опять тороплюсь? Что ж, притормаживаю. Возвращаюсь к сдаче Порт-Артура. Двадцать три тысячи человек строят в колонны и сажают на корабли. Настроение у всех разное. Одни не подают виду, а другие едва не плачут. Больно удивительна перемена обстоятельств.
У нас с Иосифом руки так и чешутся — помахать пистолетом и саблей. Еще хотелось бы покричать наше любимое: «Ура!» и «За победу!» Нет, не размахиваем и не кричим. Опустили голову и не смотрим по сторонам.
Казалось бы, японцам пора надувать щеки, но они едва ли не смущены. Видно, такое окончание войны и для них неожиданность. Слишком много вопросов. Что такое — быть пленным? Как это — пленных охранять?
Мы спускаемся с трапов и пересаживаемся в поезд. Останавливаемся в поле и строимся вновь. Пару часов идем. Видим территорию за колючей проволокой. Здесь нам предстоит поселиться.
Для большей ясности лагерь разбили на дворы. Наш, еврейский, — номер четыре. Рядом дворы русские, украинские, татарские. Огорожено немного места, но хватило всем.
Каждый двор-народ получал продукты, а к плите становились пленные. Так что автономия существовала и по части еды. Что за запахи гуляли по лагерю! Здесь готовят щи, а там плов. Мы тоже не отставали. Фарфелех, или бульон с клецками, получался не хуже, чем дома.
Словом, событий много. Обо всем хочется рассказать домашним, но не каждый справится. Тогда за дело взялся Иосиф. Выслушает пожелания — и перекладывает на бумагу. Получалось отлично. Сразу было ясно, от чьего имени это написано.
Вот уже из желающих выстраиваются очереди. Тогда он решает создать школу. Пусть эти бородатые и усатые сядут за парты. Начнут, как и положено, с буквы «алеф» — и дойдут до конца алфавита.
Начальник лагеря улыбается: мы не против. Кладет руку на сердце: не возражаем еще раз. Затем он предложил под школу сарай, и все повторилось снова. Улыбка — рука — поклон. Что наша благодарность в сравнении с этим балетом? Все равно что танец медведей — и танец лебедей.
Мы продолжали с удивлением разглядывать японцев. Вот они какие — танцующие. Если бы столь же неспешны они были на фронте! Тогда бы победа досталась нам.
Затем переходишь к чему-то более важному. Сейчас мы думали о сарае. О топоре и наструганных досках. О том, что если ты неплохо чувствуешь себя у плиты, то парты точно должны получиться.
Когда закончили столярничать, приступили к занятиям. Слава богу, не впервой. Кое-кто, как я, уже читает и пишет. Впрочем, даже нам интересно. Иосиф изобразит букву — и что-то расскажет. Или нарисует карту звездного неба. Чуть ли не о каждой планете у него своя история.
Учебников не было, и Трумпельдору приходилось их сочинять. Вспомнит, что знает из программы хедера, и вот вам параграф. Утром мы это проходим, а вечером он опять корпит за столом. Прикидывает, чем заняться на другой день.
Школа постоянно пополнялась. Приходили как с нашего, так и с других дворов. В еде мы разделились, а в учебе чувствовали себя заодно. Условие было такое: если ты тут не для того, чтобы протирать штаны, то тебе будут рады.
Сложно вести занятия, писать учебники — и руководить. У Иосифа появились помощники, и он стал вроде как директор. Слово неточное, но лучшего нет. Как еще назвать того человека, который один знает, что нужно ученикам.
Кстати, Трумпельдор учился не меньше нас. Ведь все для него в первый раз. Сами посудите. Командовать такой оравой. Заниматься японским. Быть связным между пленными и лагерным начальством.
Да, какой-то не такой наш лагерь. Вряд ли Иосифу удалось бы открыть свою школу в России, но тут все получилось. Впрочем, он на этом не остановился. Когда понял, что ему не чинят препоны, смог этим воспользоваться.
Помню, обсуждаем наши планы. «Представь, — говорил он, — что ты Робинзон. Сперва тоскливо и одиноко, но что-то медленно вырисовывается. Сам не заметишь, как остров становится обитаемым».
Однажды он поинтересовался, нет ли среди нас фотографа, парикмахера и сапожника. Оказалось, есть. Причем на выбор. Хотите пять светленьких? Шесть черненьких? Семь усатых? Столько не надо, и он выбрал по одному.
Потом задумались об инструментах. Оказалось, среди нас есть запасливые, и они кое-что привезли из России. То, чего не хватало, мы попросили у японцев.
Вскоре в лагере было почти все, что нужно для жизни. Парикмахерская, обувная мастерская, фотоателье. Последнее — для того, чтобы потешить тщеславие. Прежде чем сесть за письмо домой, мы шли фотографироваться.
Если еще назвать театр с газетой, то вы замашете руками. Скажете, что этого просто не может быть.
Помните его советы по пути в Порт-Артур? Сделай то, другое, пятое, десятое. Главное, разберись, что для тебя важнее. Жить по-своему или так, как все.
Вот уже к солдатам присоединились японцы. Что ж, пожалуйста. Хотите — стригитесь, хотите — фотографируйтесь. Это даже хорошо, что на снимках противники выглядят не хуже пленных.
Мы же на фото смотрелись как на свадьбах. Низкий за это поклон парикмахеру! Сапожника тоже надо поблагодарить. Если бы в объектив попали ботинки! Вы бы увидели, что с этой обувью не стыдно носить такой пробор.
Теперь вы удивитесь еще раз. Нам давали деньги! Выглядело это солидно. В барак заходил пожилой японец и отсчитывал монеты. По пятьдесят сэнов солдатам и три йены унтерам. Впрочем, дело не в суммах. Главное, они приравняли нас к себе! Даже кассир был тот же, что выдавал жалованье лагерной обслуге.
Это я так, для красного словца. Не про японца, про суммы. Если у кого из пленных заведутся деньги, то они сразу заканчиваются. Купил папиросы — ожидай следующей получки. Даже не знаю, как бы мы жили, не предложи Иосиф каждому внести по копеечке. Это будет что-то вроде общей заначки. Одалживать придется не у кого-то конкретно, а сразу у всех.
Потом появилась библиотека. Мы кинули клич солдатам, а они принесли все, что взяли из России. Всего томов пятьсот. Затем выбрали библиотекаря. Как мы накричались! Многие хотели находиться среди книг, но нам требовался один человек.
Вот, думаем, живем! Почти ни в чем себе не отказываем. Стрижемся, фотографируемся, чиним сапоги. Наконец, читаем. После всего этого хорошо бы куда-то пойти. Тем более что в кармане звенит. Не зря мы обзавелись кассой взаимопомощи.
Долго выбирали, чем заняться еще. Остановились на театре. Конечно, пользы от него никакой. Чистое удовольствие. Впрочем, для людей, мечтающих порвать с этой реальностью, ничего лучше не придумаешь.
Главное в театре то, что к персонажу прибавляется исполнитель. Эти двое вроде как беседуют друг с другом: что ты думаешь по тому или иному поводу? Как бы ты поступил на моем месте?
Еще на сцене что-то происходит со временем. В обычной жизни его не чувствуешь, а тут оно вроде как уплотняется. Преодолеваешь это препятствие не без труда. Иногда кажется, что плывешь через реку.
Не все знали, что такое театр. Когда же увидели, то потеряли покой. Дело не в том, какая у тебя роль. Пусть ты стоишь за сценой и переживаешь: все ли идет так, как надо? Главное, ты рядом и приобщен.
Представьте воскресенье в Хамадере. Декорация установлена, грим наложен, публика собирается. Играем «Продажу Иосифа». История эта древняя, но актуальная. Для тех, кто живет в четвертом дворе, это едва ли не воспоминание.
Да что говорить! Каждого из нас забирали дважды. Наборщики — в армию, а японцы — в плен.
Насколько это можно назвать игрой, сказать трудно. Перед нами представал не другой человек, а тот же, отлично знакомый. Да и интонации были его. Примерно так, как со сцены, он разговаривал за ее пределами.
Видно, в этом и был смысл. Кажется, мой друг говорил: «Эйн давар». Все ничего! Получилось в Египте, должно выйти и в Хамадере. Если Господь наградил его тем же именем, то ему следует соответствовать.
Двоились не только Иосифы, но и страны. Упоминался Египет, но вокруг простиралась Япония. Так что место действия было неотчетливое.
Впрочем, важно не то, где это происходило, а каков результат. Хорошо, что неволя не стала убеждением! Той единственной жизнью, помимо которой ничего нет.
Не помню, говорилось ли со сцены об исходе. А если и нет? Зачем подчеркивать то, что без того ясно? Вот так следует обращаться со словом «люблю». Не растрачивать попусту. Беречь для каких-то особенных минут.
Как мы хлопали! Как орали! Каждый настолько выкладывался, будто кричал: «Россия!» и «Домой!»
Забыл сказать, что играли на идиш, а публика приходила со всех дворов. Иосиф велел перевести либретто на несколько языков. Зритель посмотрит на сцену, а потом сверится с листочками. Может, и неудобно, но зато кое-что понимаешь и примерно столько же видишь.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Говорят, следует посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Насчет деревьев не знаю, но ни домом, ни сыном Иосиф не обзавелся. Когда ему было думать о себе? Ведь это он решал, что нам есть и во что одеваться. Что делать сегодня, а что перенести на завтра. Даже о том, какие книжки читать, мы спрашивали у него.
Так и должно быть. Повар готовит, кузнец кует. Иосиф, как уже сказано, создавал государство. То есть делал не что-то одно, а почти все. Казалось бы, плен для того, чтобы ощутить свою малость, а вышло наоборот. Театр! Газета! Фотоателье! Ни о чем таком никто из нас не мечтал.
Написано на оборотной стороне листа, а потом зачеркнуто
Как уже сказано, я — человек второстепенный. В спектакле я тоже был не на первых ролях. Что такое стражник? Только и надо, что стоять и смотреть. Поручи это дереву, и оно справится. Однако занятие небесполезное. Есть время поразмышлять.
Представляете, до чего я додумался! Прямо как тот раввин, что всю жизнь читал одну книгу. Как-то он ее открыл — и понял, что пропустил. То есть знал, конечно, но не придал значения. Теперь стало ясно, что это главное.
Сколько раз я наблюдал встречу Иосифа с братьями. Слышал: «Вот он идет, этот сновидец». Наконец понял, почему они его не назвали по имени. Это значило бы вступить в разговор. Тогда весь план насмарку! Ничего не останется, как обняться и пойти в кабак.
Кстати, почему «сновидец»? Не почувствовали ли они в нем мечтателя? Или это намек на то, что именно он расшифрует фараонов сон? Да еще увидит в этом сне то, что сам спящий не разобрал.
Словом, хочешь отстраниться — не переходи черты. Ну а желаешь, чтобы было по-настоящему, обращайся напрямую. Так и поступил бывший пленный. Встретив братьев в Египте, он сказал: «Я, Иосиф» — и этим отменил дистанцию.
Вот что такое эта история. Путь от неузнавания к узнаванию. Произнося: «Я, Иосиф», — ты соглашаешься с тем, что существуют: «Я, Рувим» и «Я, Вениамин».
Почему я об этом вспомнил? Потому, что сейчас я читаю его переписку. Бывают послания формальные, не претендующие на общение, а случается вроде как беседа двух «я». Например, «Я, Антонина» обращается к «Я, Иосифу» и ищет у него понимания.
Антонина — жена брата Германа. Если Иосиф был удачлив на военных фронтах, то брату подфартило на личном. С такой супругой как не задрать нос! Читая ее письма, я лезу за платком. Вот, думаю, молодец! Редко человек другой веры становится ближе, чем свой.
«Милый, дорогой Ося! Уже год и четыре месяца находимся мы в близком родстве. Какое счастье быть гордостью семьи, города, нации! О, Ваша пролитая кровь не пропала задаром. Мы все гордимся Вами, считаем Вас мучеником идеи, соколом самого высокого полета, помните Сокола Горького, писатель с Вас мог бы писать свою повесть. Молю Бога дать возможность всем нам дожить до этого счастливого дня, когда приедете Вы, наша гордость и слава, наш герой. Будьте же здоровы — желает Вам того преклоняющаяся перед вами Тоня. Герман Вам сам напишет. Саня и Витя чтут Вас.
О себе напишу немного. Что о себе писать? Мы с Германом очень счастливы в браке, и, смею надеяться, счастливы наши дети».
Как видите, все непросто. Дети давно взрослые, а поженились родители недавно. Значит, Саня и Витя — незаконнорожденные. Как тут быть? Следовало жить так, чтобы никто не почувствовал себя обделенным.
Видно, дело в вероисповедании. В конце концов верх взяла Антонина. Впрочем, тут нет ни ощущения победы, ни чувства обиды. Есть внутреннее равенство и отсутствие амбиций. Как это хорошо и правильно: «Будьте же здоровы — желает Вам того преклоняющаяся перед вами Тоня. Герман Вам сам напишет. Саня и Витя чтут Вас».
Пасха
Что-то я давно не вспоминал своего адресата. Что ж, дорогой праправнук, пора тебе выходить из тени. Уж очень не хочется, чтобы дальнейшие события прошли мимо тебя.
Ты уже понял, что в лагере есть жизнь. Впрочем, находясь в плену, о доме не забываешь. Смотришь вдаль и видишь то, чего там нет. Померещится мамина улыбка — и сразу растворится. Улыбнешься видению, смахнешь слезу и возвращаешься к своим делам.
Нам очень не хватало праздников. Особенно мы расстраивались из-за того, что не можем отметить Пасху. Ведь это событие есть не что иное, как день рождения. Столько-то лет идее свободы.
Если у нас есть парикмахерская и театр, то и Пасха должна быть. Причем безо всяких скидок на обстоятельства. Все как положено — мясо, крутое яйцо, зелень. Именно так все и произошло.
Нам очень хотелось, чтобы это был праздник не только для пленных, но как это сделать? Спасибо японцам — они пригласили евреев из соседнего Кобе, а те взяли раввина. Да-да, настоящего раввина! Это был не переодетый солдат, а носитель данного свыше права.
Представьте, больше всех старался начальник лагеря. Иосиф так ему все объяснил, что он сразу откликнулся. Вложил свои деньги в будущий молельный дом. Мы благодарили, но про себя думали: неужели столько ждать? Здешняя парикмахерская лучше, чем дома, но вряд ли что заменит родную синагогу.
Впрочем, я сейчас о Пасхе. Как мы слушали эти истории! Вокруг нет песка и оазисов, но зато есть Моисей. Выдержим ли мы сорок лет его настойчивости? Не захотим ли чего попроще? Это, конечно, вопросы будущего. Что касается настоящего, то мы говорили о свободе и чуть ли не дышали ее воздухом.
Все ясно, дорогой праправнук? Впрочем, я совсем не уверен, что обращаюсь не в пустоту. Еще неизвестно, кто из тебя вырастет. Вдруг тебя не заинтересуют печатные буковки? Ты вяло перелистаешь мою рукопись и закроешь ее навсегда. «Для чего это мне? — так и слышу скуку в голосе. — Это же все равно что какие-нибудь исландские саги».
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Уже не в первый раз повторяю: долго живу! За это время мне стало ясно, что прошлое никуда не исчезает. Так случилось и в этот раз. Почему-то я забыл о нашем празднике, но однажды все вспомнилось.
Правда, повод был непрямой. На фото заключенные Варшавского гетто собрались на седер*. Главное на этом снимке — взгляд. Казалось, они видят не бутылку вина и яйца на тарелке, а свою судьбу.
* - Седер — ритуальная трапеза во время еврейской Пасхи (Песаха).
Еще мне почудилось, что эти люди произносят не молитву, а клятву. Впрочем, молитва — клятва и есть. Не изменю. Всегда буду верен. В следующем году в Иерусалиме.
В Хамадере мы тоже молились. В смысле — клялись. Были в эти мгновения очень серьезны. Понимали, что еще немного — и нас ждет то же, что предков. Часть пути — в неведении и растерянности, а потом — в ясном ощущении цели.
ДОКУМЕНТЫ
Передо мной письмо от брата Иосифа — Михаила.
Видно, любопытный был человек. Все в семье куда-то устремлялись, а он искал больше всех. Ради этого ездил по России и за границей. Возвратится домой, расскажет о своих неудачах и — опять в путь. Вдруг сейчас повезет! Ах, если бы с неба упал миллион! Он бы знал, как им распорядиться.
Если письмо написано отцу, а попало в архив Иосифа, значит, отец его ему переслал. Мол, посмотри на шебутного брата. Может, что придумаешь? У меня, по крайней мере, ничего не выходит. Мы с матерью дали пятьсот советов, а результата нет.
«Дорогой папаша! .Два года как я не имел от Вас никаких известий, и я так счастлив, что Вы здоровы. Я страшно виноват перед вами за всю мою прошедшую жизнь и теперь думаю только об одном, чтобы заслужить прощение. Работаю я очень много — перестрадал за последнее время, и это мне помогло. Я мечтаю о том, чтобы вернуться домой, найти работу. К моему сожалению, я не могу определенно выехать отсюда, и приходится ждать еще дней 12—14, иначе я выехал бы немедленно, во всяком случае, я вас предупрежу телеграммой.
Самоша мне написал главные новости, и я им очень рад, и потом, для вас утешение — это Ося, я хотел бы его видеть (нрзб.), и поэтому я телеграфировал, чтобы мне выслали его фотографию, я имею еще время ее получить до моего отъезда отсюда. Бог мой, как я буду доволен наконец быть с вами. Только чтоб я нашел по приезде работу, я не хотел бы оставаться ни одного дня без работы. Я хотел бы еще многое Вам написать, но я совсем разучился думать по-русски, да и лучше будет при свидании переговорить обо всем».
Странные люди. Иванушка три года сидел на печи, и наконец его прорвало. Вот так же и Михаил. Подайте ему фотографию брата! Не в силах терпеть! Хочу в пути держать снимок перед собой!
Что-то тут мерещится подпольно-достоевское. Да и вся судьба такая. В каких только переделках он не побывал! А вы посмотрите, какие он выбирает слова! Одно опасней другого. «Жизненная борьба», невозможность существовать открыто, «план». Значит, все же план был. Видно, Михаил на что-то рассчитывал, но ничего не вышло.
«Дорогой папа! Ради Бога, прости меня за то, что я собираюсь сделать, а также за то, что я наделал разновременно в Ростове.
Наше дело в Марселе не удалось, да я еще в Ростове знал, что оно расклеится, но все-таки поехал потому, что у меня уже давно мысль уехать из России надолго, чтобы закалить себя к жизненной борьбе, а также научиться за границей, как нужно жить и работать. Я буду не один, со мной будет еще один пожилой поляк, не раз изъездивший свет, на год, на два жизни я обеспечен, так что бояться за меня нечего. Относительно моего плана я тебе писал. Вот уже два дня мы живем в Берлине, и я заканчиваю одно дело, сегодня вечером или завтра я уезжаю, куда — этого я тебе не скажу, так как не хочу, чтоб кто-нибудь знал, где и что я делаю».
Раз Достоевский, то никакой середины. Только до предела и наотмашь. Если бы при этом что-то у него получалось! Недавно хотел в Ростов, а уже рвется назад. Опять поиски неизвестно чего! Что потом? Уход на дно? Хорошо бы, это был не финал.
«Еще раз прошу Вас, чтобы Вы не беспокоились обо мне, — предупреждает он близких, — если не будете получать известий, то это будет означать, что я жив и здоров, если же со мной что-то случится, то вы будете это знать, вас об этом известят».
Что это безумие обозначало? Контрабанду? Шпионаж? Революционную деятельность? Трудно сказать. Пусть выясняют настоящие историки. Для меня важнее то, что сближало братьев. Тяга к чему-то большему. Стремление все разом решить. Неспособность различить желаемое и действительное.
Еще раз извините, что отвлекаюсь от главного. Уж такой мы народ. Не очень ценим последовательность. Не случайно в нашей любимой песне поется про два шага налево, шаг вперед и шаг назад... Впрочем, если вы не бросили чтение, то уже привыкли.
Прежде чем попрощаться с Михаилом, надо объяснить, почему он вспомнился. Хотелось сказать, что есть люди прямые и — кривые. Так вот, Иосиф был прямой. Все, что надо ему найти, он отыскал сразу. Михаил же искал — и запутался. Наверное, про себя завидовал: вот бы жить как брат! Если рисковать, то на глазах у всех.
Обратите внимание на проскользнувшее у Михаила: «.закалить себя к жизненной борьбе». Так мог бы сказать Иосиф! В юности он растирался снегом, поднимал тяжелый камень, спал на досках. Словом, готовился. Дальше, как мы помним, начались испытания. Не игра в войну, а сама война.
Как мы стали издателями
Вот сколько всего! Прежде всего, школа. Да и мастерская с фотоателье. Казалось бы, что еще? Успокойся и жди освобождения. Все бы так и происходило, если бы не Трумпельдор. Он же у нас неугомонный. Когда видит, что мы успокоились, сразу выдвигает новые идеи.
На сей раз он придумал такое, что дух захватывало. Все же газета — не фотоателье. В сравнении с ней даже театр кажется чем-то второстепенным.
С чем бы это сравнить? Только он сказал: «Почему бы нам не стать издателями?» — и мы полетели. Стали сочинять рубрики и писать статьи.
Не первый раз вывожу слово «свобода» — а ведь это лагерь. Представьте, мы ничего не боялись. Или почти ничего. Если что, нас защитит язык, которого тут не понимают. Да и Иосиф рядом. Уже упоминалось, что, когда ему что-то надо, японцы кланяются и прижимают руку к груди.
Говорят, эта война бесславная. Действительно, флот погиб, армия попала в плен. Формально успехов никаких. Зато есть кое-какие открытия. Например, стала ясна разница между армейским командованием и народным героем. Между тем, кто вменен в обязанность, и тем, кого выбрал ты сам.
Даже японцы с этим согласились. Почему? Читайте их сказки и все поймете. В них побеждают не богатеи и хозяева жизни, а такие, как мой друг. Чтобы все получилось, особые права не нужны. Да и устроиться можно всюду. Хоть на кончике иглы.
Кстати, наше пространство в Хамадере не намного больше кончика иглы, а что тут только не разместилось! К сапожной мастерской, фотоателье и театру прибавилось вышеупомянутое издание.
Сперва это была доска с приколотыми листочками.
Вообразите день выхода номера. Во дворе — толпа. Первые ряды читают сами, а остальные довольствуются пересказом. Могли бы подождать своей очереди, но им хочется поскорей. Вдруг о них написано в рубрике «Говорят.», а они об этом не знают.
Я еще упомяну этот раздел, а пока скажу в общем. Тут были тексты на любой вкус. Для беглого взгляда — заметки, для внимательного — статьи. Наш основной автор — а это, как вы догадываетесь, был Иосиф — отчитывал неумелых и поощрял лучших. Когда я думаю о газете, то представляю его решительный жест.
Доска — не лучшее пристанище для мыслей и недоумений. К тому же, как говорилось, мы были из породы неуспевающих. Услышим что-то, поймем не так и пустим гулять по лагерю. Когда мысль вернется к автору, он ее не узнает. Совсем иное, если газета вышла из типографии. Разложишь на столе — и точно ничего не упустишь. Прочитаешь медленно и до конца.
Особым успехом пользовалась упомянутая рубрика «Говорят.». В ней Иосиф в пух и прах разбивал сплетников. Особо ретивых мог назвать по фамилии. Чтобы в другой раз было неповадно.
Наконец, газета приобрела солидный вид. Она не писалась от руки, а печаталась на гектографе. Несмотря на эти достижения прогресса, мало что изменилось. Прямо с утра в пятницу народ толпился, вскипал, хотел быть в первых рядах. Зато если кому-то достался номер, то на лицах читалось: мы приобщились, а у вас это впереди.
Ко всему привыкаешь. К тому, что у нас свое издание. Даже к тому, что оно печатается на специальной машине. Единственное, чему и сейчас я удивляюсь — как быстро текущие новости превращались в черные буковки! Обнаруживая в газете знакомое имя, мы едва ли не протирали глаза.
Такое не испытаешь в парикмахерской и в фотоателье. Может, только в театре. Я уже говорил, что мы смотрели на сцену, а видели себя. Не себя — так нашего общего друга. Он размахивал единственной рукой и буквально рвался из плена.
К этим радостям прибавьте качество бумаги. Она была белая и гладкая. Настоящая японская. Ни «Речь», ни «Петербургские ведомости» о такой не мечтали. Правда, тираж скромный. Экземпляров двести-двести пятьдесят. Из расчета — один номер на двух-трех читателей.
Четыре номера стоили пять сэнов. Рядовые, как вы помните, получали пятьдесят. Хватало на газету, театр и кое-что еще. Самые экономные хоть немного откладывали на черный день.
Я сейчас рассказываю, а у самого мурашки по коже. Уж очень хочется вновь ощутить холодок белого листа. Прочитать заголовки — и улыбнуться прошлому. Так достаешь письмо из почтового ящика и сразу видишь, от кого оно пришло.
Мечтай, мечтай! Все экземпляры уничтожили по пути в Россию. Кто захочет, чтобы местный чиновник тебя отловил и тобой же закусил? Довел до полного несуществования своими вопросами: где разрешение? Что за плен такой, если позволено то, что на родине запрещено?
Понимаете, почему газеты сжигали, а пепел закапывали в землю? Иногда, правда, кто-нибудь не выдержит — и припрячет осьмушку листа. Как-никак свидетельство. Скептики ухмыльнутся, а мы вытащим этот обрывок: теперь верите, что все было так?
ДОКУМЕНТЫ
Обычно люди ничего не боятся, кроме цензоров. Сочинят что-то, а потом думают: зачем дразнить? Ну и на всякий случай вычеркнут. Наш Иосиф не такой. К непрошеным читателям своих писем он снисходителен. И, уж точно, не делает вид, будто о них не догадывается. Если что — обращается напрямую.
«Хотя японские переводчики сильно заняты и просили поэтому нас писать письма по возможности кратче, но я уверен, что ради особенного случая они сделают исключение и будут любезны пропустить мое письмо, несмотря на его длину».
Как видите, Трумпельдор едва не сочувствует. Дел у цензоров много, а тут еще он. Может, им лучше передохнуть? Тем более что лукавство не в его характере. Да и зачем что-то скрывать от отца? Это как раз тот случай, когда «писать. кратче» неправильно.
Следующий абзац начинается с вопроса. Да, с того самого. Сколько раз он его задавал! Спросишь отца: «Помнишь.» — и разольешь по стаканам. И — давай вспоминать. Чем меньше вина в бутылке, тем больше ситуация проясняется.
«Помнишь, как-то в письме ты выражал уверенность, что на поле брани, так же как и в личной жизни, я не посрамлю ни твоего имени, ни имени еврейства, ни имени русской армии. Между прочим, ты высказал как-то желание, чтобы я удостоился награды — Знака Отличия Военного Ордена и производства в унтер-офицеры. Хотя для получения награды в большинстве случаев надо столько же недостойной настойчивости, сколько и положительных духовных качеств, а я настолько горд, что никогда не унизился до напоминаний и тонких намеков, — однако я унтер-офицер, имею Знак Отличия Воен. Ордена 4-й степени и, кроме того, представлен еще к 3-й и 2-й степеням.
С гордостью могу сказать, что я добился этого как честный человек, исключительно на поле брани. Я исполнил свой долг, и моя совесть спокойна. Теперь я желаю только одного, чтобы вы все там — особенно мамаша и ты — не особенно печалились, что при этом я потерял левую руку. Еще раз прошу не печалиться о руке; во-первых, печалью делу не поможешь, а во-вторых, есть много таких, которые потеряли правые и даже обе руки, да и то живут. Я же со своей правой, которой, между прочим, пишу это письмо, надеюсь устроиться так, что и двурукие будут, пожалуй, завидовать.
Обращаются с нами японцы отлично. Погода наша апрельская. Дешевизна удивительная. Скучно, правда, но... дождемся лучших дней».
Как видите, Иосиф рад бы повоевать, но за таких, как он, все решено. В его силах только оценить японцев по справедливости. Да, они могли стать мишенью, но оказались покровителями. Впрочем, оставаться здесь он не собирается. Спасибо за участие, но дома ему не заменит ничто.
Что, заволновались, мои будущие читатели? Выходит, плен располагает к искренности? Вот хотя бы это письмо. Или любая статья нашей газеты. В каждом тексте узнаешь интонацию. Легкую и немного колющую. Наткнешься на что-то эдакое и что-то начинаешь понимать.
Уже говорилось, что от газеты осталась сущая ерунда. Причем если бы о школе или хотя бы о фотоателье! Почему-то повезло лагерному псу Бедняге. Сохранился обрывок с его некрологом. Правда, все в целости-сохранности. Не только сам текст, но подписи друзей по собачьему племени.
Зато вы можете оценить юмор. Знаете, как бывает? Веселишься, чтобы не расплакаться. Уж очень все любили этого пса. Никакое лагерное событие не обходилось без его вздернутого хвоста и чутких ушей.
Нигде больше был бы невозможен некролог псу. Что он — статский советник или чиновник по особым поручениям? Да и позволено ли обращать к собаке то же, что к людям? Представляю, как цензор нацеливает красный карандаш. Вычеркивает «с глубоким прискорбием» и «безутешные». Затем понимает, что не в словах дело, — и на всей странице ставит крест.
Наше крохотное издание не подчинялось никому. Ни цензору, ни даже начальнику лагеря. Если нам хотелось излить чувства по поводу этой утраты, мы так и писали: «В. от сильных зимних морозов умер Бедняга (не хотел с нами жить), о чем с глубоким прискорбием извещают потрясенные горем ближайшие друзья его
Флигель и Щелкан с их супругами. О дне похорон будет извещено особо. Там же требуется хороший сосновый гроб для умершего бедняги».
Все же без комментариев нельзя. Расскажу так, как помнится. Жила-была псина. Как уже сказано, уши чуткие, хвост наверх. Когда-то у нее было японское имя, но у нас она стала Беднягой. Видно, это ей не понравилось. Смотрим, не откликается, в нашу сторону не глядит. Потом вообще поселилась на улице.
Затем наступила зима, а собака не идет в дом. Те же Щелкан с Флигелем пригрелись в бараке, а эта — ни в какую. Хочет жить со своими, с японцами. А раз не вышло, то лучше харакири. У местных жителей чуть что — вынимаем саблю. Конечно, можно и так, как Бедняга. Просто ложишься на холодную землю и ждешь своей смерти.
От этого ухода нам было не по себе. Мы чувствовали, что пес особенный. Со своими притязаниями. Даже, не побоюсь сказать, судьбой. Когда он понял, что его путь ведет не туда, он не стал гнуться, а свел счеты с жизнью.
Вы заметили, как написано слово «бедняга»? В начале — с большой буквы, а в конце — с маленькой. Жил пес, громко лаял, вилял хвостом, и в этом проявлялась его неповторимость. Еще неповторимость проявлялась в имени. Он был не какой-то бедняга, каких тысячи, а именно Бедняга. Стоило ему умереть — и он опять стал таким, как все. Присоединился к сонму своих безымянных родственников.
Жизнь в лагере продолжается. Как могли и умели, проводили пса — даже удостоили его некролога! — и занялись текущими делами. На том же куске газеты помещено объявление о болезни библиотекаря. Это для того, чтобы знали, а еще для того, чтобы не волновались. Не обессудьте, друзья! — вроде как призывал этот текст. Если будет невмоготу, перечитайте то, что вы не вернули, или возьмите что-нибудь у приятеля.
Удивительный этот обрывок газеты. Словно кусок янтаря со спрятанным в нем муравьем. Здесь же мы видим собаку, библиотекаря, книги — и всех нас. Мы замерли, как на групповом снимке, и смотрим туда, где стоит фотограф с треногой, где наше будущее и где, возможно, никого из нас уже нет.
Написано на оборотной стороне листа, а потом зачеркнуто:
В двадцать лет не подводят итоги. Не до того, знаете ли. Для человека, которому к семидесяти, это основное занятие. Да и как иначе? Будущего у него немного, а зато прошлого с лихвой.
Я сейчас думаю о том, что Порт-Артур мы проиграли, а Хамадеру выиграли. Показали, что даже за колючей проволокой можно оставаться собой.
На что похоже это ощущение? Как-то мне на глаза попалась газета времен Февральской революции. «Испытывали ли вы когда-либо такое? — писал автор. — Нет ни цензора, ни редактора. Я точно знаю — все, что выйдет из-под моего пера, будет опубликовано».
Так чувствовали себя мы все. Только представьте: едва о чем-то подумаешь, а это уже напечатано. Вот эта мысль — черным по белому. Доступна всякому, кто умеет читать. Впрочем, безграмотные тоже не обойдены. Если прислушаются, то будут в курсе. Когда выходил новый номер, сразу начинались обсуждения.
Если газета — это праздник, то как его не отметить? Дома мы бы выпили и закусили, а здесь почистил ботинки — и идешь в фотографию. Чувствуешь себя трижды богатым. Во-первых, автором. Во-вторых, франтом. В-третьих, человеком, которого фото перенесет в родной город. Уж как там обрадуются! Вытащат снимок из конверта и скажут: вот это да!
Как все повернулось. Столько лет не было повода для гордости, а тут расправили плечи. Хоть и не чувствуем себя свободными, но уже начинаем что-то в этом понимать.
Уж как мы разговорились благодаря газете и театру, но все же оставалась область неразглашаемого. Зачем, к примеру, говорить о снах? В том и есть смысл видений, что ты их видишь, а больше никто.
Через столько лет можно открыться. Тем более что рассказывается это негромко, словно на ушко Главному читателю. Не хочешь ли знать, дорогой праправнук, что воображают воины? Думаешь, накрытые столы? Нет, тихие фигуры матери и отца. Вот они вышли встречать сына. Вглядываются подслеповато: руки и ноги на месте, медали во всю грудь. Теряются от счастья и спрашивают: «Как, сынок, ты прожил эти годы?»
Что на это сказать? Нас призывали: «Бейтесь насмерть!» — и мы себя не жалели. Потребовали: «Сдавайтесь!» — и отправились в плен. Ну и я как все. Сперва бился, а потом оказался в Хамадере.
«А вы чем занимались?» — спрашивает солдат. Отвечают: «Ничего особенного. Наши знакомые ждали своих сыновей, а мы ждали тебя».
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Никак не думал, что застану шестидесятые годы, а вот они наступили. Говорят, на моей бывшей родине стариков принимают в пионеры. Мол, приобщитесь к жизни нового поколения. Снова почувствуйте себя вступающим в жизнь.
В той стране, где живу я, тоже происходит что-то такое. Я часто выступаю перед новой порослью, участвую в военных построениях около могилы Иосифа. На правах старейшины говорю что-то бодрящее. Кажется, молодые не особенно верят. Уж больно в своем нынешнем состоянии я не похож на воина и первопроходца.
То, чего мы так хотели, произошло. Государство создано. Правда, шесть миллионов моих соплеменников развеяны как дым. Или, вернее, вместе с дымом, который шел из труб крематориев. Возможна ли такая цена? Ответ на этот вопрос может дать только тот, кто не препятствовал этому ужасу.
Что еще произошло в Стране? Возведено здание парламента. Открыт музей Израиля. Иерусалим разделен. Вместо старых зданий университета на горе Скопус, которая перешла к арабам, построены новые. Еще состоялся суд над Эйхманом. Весы, где на одной чаше шесть миллионов, вздрогнули и немного заколебалась.
В России тоже перемены. Сперва были заморозки, а теперь оттепель. Поначалу население пачками шло в лагеря, а сейчас кое-кто возвращается. В тюрьмах становится просторней, а на свободе многолюдней. Как-то я видел хронику обычного ленинградского дня и удивился толпам на улице.
На таком историческом фоне я сижу и перечитываю свои записки. Думаю о том, что все же у отдельного человека есть кое-какие права. Особенно если он Трумпель-дор. Может, Иосиф не изменил историю, но некоторые уточнения внес.
Словом, есть Иосиф — и время. И не просто время, а его движение. Для того чтобы ощутить плотность прожитого, я поделил записки на главки. Специально выделил раздел под названием «Документы». Вот еще задумал писать «Дополнения».
Мне хотелось этим сказать, что история не стоит на месте, один ее пласт наслаивается на другой. Она, история, не песок, не воздух, а вроде как здание со множеством этажей.
ДОКУМЕНТЫ
Лагерь большой, дел у Иосифа хватает. Встречаешь его часто в разных местах, а поговорить не получается. Тогда те, кто не может обойтись без его советов, пишут ему письма.
«Хамадера, 10 августа. Г-н Трумпельдор! Зная, что Вы состоите председателем Общества военнопленных евреев гор., обращаюсь к Вам с просьбой, в которой прошу не оказать. В августе 1904 года я передал в г. Артур моему товарищу, ныне покойному Гершу Вайсенману на хранение двадцать восемь рублей (28), которые не успел получить обратно, так как он был убит спустя 2 дня. Я прошу Вас как председателя вашего общества оказать на них свое воздействие, чтобы вышеупомянутые господа выслали мне деньги. Все вышеописанное может подтвердить находящийся в вашем приюте г-н Крайтман. Заранее приношу Вам свою благодарность, готовый к услугам Шмуэль Штейнберг».
Текст вроде обычный, но одно слово особое. Барак, где мы жили, назван приютом! Надо ли объяснять почему? Где мой друг, там и укрытие. А где укрытие — там надежды.
Не помню, пересекался ли я с этим Штейнбергом. Впрочем, все понятно из этого письма. Видно, человек деликатный. Не спешит записываться в приятели. Мог действовать напрямую, но предпочел окольный путь. Написал письмо в соседний барак.
Еще я думаю, этот Шмуэль не умел драться. Или умел, но не хотел. Все же справедливость — это не победа сильнейшего. Тут нужны иные аргументы. Пусть не суд, но хотя бы показания свидетеля. Ну и участие адвоката, каким Иосиф был для всех нас.
ДОКУМЕНТЫ
Хотя война на другом конце страны, но от японцев и в тылу не спрятаться. Повсюду они — маленькие, стремительные. Пролезут не только в любую щель, но уместятся в строке. Причем не по одному, а по несколько человек.
Нужны подтверждения? Вот документ. Посчитайте, сколько японцев на пару абзацев. Причем всякий раз они упомянуты без особого повода.
«Мы все надеемся, что Вы будете жить у японцев хорошо, тем более что они тоже чтут героев, а Вы ведь „самурай"... Сын наш маленький Эдуард парень хоть куда и грозит стать вторым Камимурой, тем более что он очень любит купаться. Ему уже один год и 3 недели. Вот так!!! Люба уже осталась на второй год в 7 классе и вообще. впрочем, не буду ничего говорить, приедете — увидите. Но на Вас она очень похожа. ростом и сложением. Она уже переросла маму, а силой может справиться с двумя японцами.»
Вот их сколько. Рядом с безымянными японцами — знаменитый Камимура. Уж без него-то можно было обойтись. Все же адмирал положил наших без счета. Да и сравнение с самураем сомнительное. Ведь это из-за них Иосиф остался без руки.
Дело, как видно, в общей нервозности. Когда думаешь об одном, то именно это выходит из-под пера.
Читаешь — и вроде как проникаешь в сознание обывателя. Убеждается, что его голова забита страхами. Надо сказать, в Хамадере мы боялись меньше. Слишком много было дел. Чертыхнемся: «Как можно было проиграть войну!» — и переходим к чему-то более насущному. К театру. Газете. Сапожной мастерской.
ДОКУМЕНТЫ
Казалось бы, архив настолько изучен, что в нем уже ничего не найти. Вдруг я едва не подпрыгиваю. Лишь одна страница, но какая! Приветствие сионистскому конгрессу от солдат в плену.
Не верите? Сейчас мне тоже это странно. Только подумайте: ничего не знаем о завтрашнем дне, а думаем о послезавтрашнем! Желаем успехов тем, кому придется в нем жить.
«Президенту 8-го сионистского конгресса
Уважаемый господин Президент!
Кружок. образовавшийся из пленных русских солдат-евреев в Японии, узнав об устраивающемся 8-м конгрессе сионистов, шлет ему глубокий сердечный привет.
Уважаемые вожди и дорогие товарищи! Еврейский народ с надеждой смотрит на Вас и с нетерпением ждет, когда настанет его время работать. А пока сердца наши с Вами, и пусть наше сочувствие поможет Вам разобраться в славной, но трудной работе.
8 июля 1905 года
И. Трумпельдор, Леон Ройзман и 46 остальных членов».
Еще раз повторю — не замечаем колючую проволоку, а уносимся далеко. Как это говорится? Пойди туда — не знаю куда, возьми то — не знаю что. Еще отправь горячий привет. Чего другого, а пожеланий у нас хватает. Понадобятся еще — обращайтесь.
Наконец мы почувствовали себя взрослыми. Одно то, что мы приветствовали конгресс, чего стоит!
Кроме того, написали в Одесское общество вспомоществования евреям-земле-дельцам. Значит, были уверены, что плен скоро закончится, и прикидывали, чем заняться потом.
«Милостивый Государь, господин председатель!
Мы, нижеподписавшиеся пленные артурцы, решили объединиться с целью устроить в Палестине колонию.
Большинство из нас — ремесленники, один помощник провизора и один — дантист. Пока нас 11 человек, но, весьма возможно, мы найдем еще несколько подходящих товарищей; если же не найдем, устроимся сами. Мы хотим устроить колонию на широких товарищеских началах, то есть по мере возможностей иметь всеобщественную, а не частную собственность. Зная цель Общества, в котором вы состоите Председателем, мы обращаемся к Вам за содействием. Советы и сведения просим присылать по адресу: Ростов-на-Дону, Еврейская больница, Иосифу Трумпельдору.
Искренне уважающие Вас: И. Трумпельдор, Д. Белоцерковский, Ф. Рябухин, Я. Кац».
В обратном адресе указаны Хамадера и Ростов. Первый вариант — пессимистичный, а второй — оптимистичный. В худшем случае застрянем в Японии, а в лучшем вернемся домой. Судя по всему, Иосиф думал ехать в Ростов. Пока туда дойдет ответ из Одессы, он начнет работать дантистом.
Все как и раньше — сверлишь зубы, но при этом воспаряешь. Думаешь не о том, что есть, а о том, что может быть. Уж насколько в общем нам представлялась Палестина, но все же кое-что виделось ясно. Например, было понятно, что со свадьбами придется подождать. До каких пор? До самой победы мы будем любить только эту землю.
«Милые папа и мама! Как я писал вам в открытке, мы сгруппировались здесь в числе 11 человек с целью устроить в Палестине колонию. Приедем в Россию, постараемся средства достать (рублей по 100—200 на человека) и поедем в Палестину работать. Все мы холостые люди и такими же поедем в колонию, а жениться после успеем. Может быть, найдем мы еще несколько честных, хороших и с подходящими характерами товарищей, которые согласятся жить с нами как „коммунисты". А там, может быть, и Вы, и другие „наши" переедут к нам».
Покороблены словом «коммунисты»? Маркс и его последователи тут ни при чем. Это значило — жить коммуной. Отставить в сторону все личное, пока не защищены наши права в Палестине.
Кстати, мы ошиблись с посланием в Базель. Оказалось, конгресс не восьмой, а седьмой. Что ж, у нас всегда так. Перепрыгиваем через ступеньки, думаем наперед. Наши расчеты на Палестину тоже оказались преждевременными. Вышло не хуже и не лучше, а немного иначе.
Впрочем, кто не спешит — никогда не успеет. Да и Иосиф не даст спуску тому, кто не торопится. Как он сердился! Глаза сверкают, голос громкий, ладонь рубит воздух. Бывало, искрошит пространство, но все же добьется своего.
Завистники-последователи
Мы обзавелись не только последователями, но и завистниками. Чаще всего это были одни и те же люди. Если у них что-то получалось, они реагировали неадекватно. Иногда так загордятся, что дорогу лишний раз не перейдут. Если нужно о чем-то договориться, непременно затеют переписку.
Так мы оказались в России. Вернее, живем в Хамадере, но по российским правилам. У нас ведь как? Всякий шаг сопровождает бумага. Извольте разрешить. Будьте любезны. После этих поклонов чиновник снисходит. Хорошо, если соглашается, но скорее говорит «нет».
Слишком много общего у нас, оказавшихся в Японии. Одно поражение. Один фронт. Ну и лагерь, конечно. Тем странней официальный тон. Автор письма сразу устанавливает дистанцию.
«Мне сегодня сообщили, что в Ваше распоряжение для нужд школы поступили некоторые учебные пособия. Кроме того, у меня есть письмо Николая (нрзб. фамилия), в котором он извещает, что послал книги, учебные пособия и азбуки для неграмотных. В некоторых отношениях и наш двор причастен к этим пожертвованиям. Я обращался несколько раз в нашу канцелярию за разъяснениями, и сегодня мне сообщили, что все это находится в 4-м дворе. Если это факт, то, без сомнения, эти принадлежности находятся у Вас как главного организатора школьного дела. Теперь я обращаюсь к Вам с просьбой оказать содействие. У нас во дворе учредилась школа и уже функционирует несколько дней. Будьте столь любезны и ссудите хотя бы на время несколько пособий.
Учебник арифметики.
Русскую грамматику.
Какую-нибудь книгу по истории русской.
Несколько книжек азбуки (у нас безграмотных учеников в общей сложности до 500 человек).
Примите уверения в искреннем почтении.
19 июня 1905 года».
Особенно меня восхищает: «в искреннем почтении». Так о Бедняге писали: «с глубоким прискорбием.» Вот что мы привезли из России. Долгое время эти выражения были не востребованы, но вдруг оказались кстати.
А как вам это: «находятся у вас как главного организатора школьного дела»? Это надо же сказать так строго и в то же время уважительно! В любом департаменте этот оборот мог рассчитывать на успех.
Дело в том, что кое-кто захватил из России учебники. Думали, разобьем японцев и — займемся премудростями. Углубиться пришлось только в плену. Как видите, пример заразителен. После того как мы создали школу, у нас появились конкуренты.
Бог с ними, с конкурентами. Лучше сказать, с каким удовольствием мы решали задачки. Математика интересовала нас прежде всего потому, что складывалось известное с известным. Мы не просто считали, а вспоминали прошлое. Сами посудите: «Торговец А. купил у торговца Б. три земледельческие машины по 1000 рублей каждая. По договору покупщик должен был уплатить при передаче ему машин 500 рублей, потом ежемесячно по 100 рублей. В случае неуплаты ему в срок одного из этих взносов продавец имеет право требовать назад машины и платы за пользование ими по 30 рублей в месяц, причем уплаченная покупателем часть покупной цены в расчет не идет, а целиком удерживается продавцом в виде неустойки. Впоследствии помещик А. заложил свое имение со всем хозяйственным инвентарем, обозначенным в особой описи, в которой между прочим значились купленные у Б. машины. Сделав 12 взносов по 100 рублей, помещик А. помер.» Дома я не раз слышал о чем-то подобном. Правда, на моей памяти никто не умер. Все происходило как нельзя более скучно: машины доставлялись по адресу, а потом исправно работали.
Тут же не осложнение, а тупик! Обычно условия ведут от одного к другому, а здесь полная перемена обстоятельств. Интересно, от чего скончался помещик? Если это была пуля, голод или эпидемия, то так бы и написали. Значит, старость или болезнь. В наши времена такие смерти редкость.
Впрочем, дело не столько в помещике, сколько в общей картине. В том, что ее не только видишь, а узнаешь. Сразу вспоминаются другие сюжеты.
Я представлял, как вернусь домой, а там ничего не изменилось. Торговцы, машины, покупные цены. И, конечно, штрафы. Нам ли, солдатам и героям, бояться штрафов! Главное, ты тут родился, жил до войны и собираешься пожить еще.
Вероятность погрома
Сколько раз казалось: еще немного, и он даст слабину. Лишь однажды Иосиф показался мне растерянным. Тогда я ему сказал: что, задумался? Давно ты не радовал нас своим: «Эйн давар!»
Опасность явилась изнутри. От тех, с кем мы вместе сражались. Ели из одного котелка, спали на соседних нарах. При случае могли упокоиться в одной могиле.
Я говорил, что мы ладили с соседями. Еще больше подружились после сапожной мастерской и фотоателье. Когда же появились театр и газета, в их глазах засветилась почтительность. А как они благодарили за школу! Мол, не мечтали писать письма. Теперь такие узоры накручиваем на странице, что сами дивимся.
Иосиф радовался, а я, как всегда, обещал неприятности. Мол, скоро начнется движение обратно. Хуже, еще хуже, совсем плохо. Доказательства? Говорят, на родине появилось развлечение. Этим и раньше баловались, но в меньших масштабах.
Заинтересовался? То-то же. Правила хорошо известные. По главной улице идут человек двадцать. Увидят еврейскую лавку — и хрясь по стеклу. В качестве трофея забирают все, чего душа ни попросит.
Есть еще присказка. Якобы порт-артурцам царь дарит по сто десятин и тысяче рублей. Правда, к евреям это не относится. Глядишь, будут еще войны, и им тоже перепадет.
По этому поводу было много разговоров. Понимаете, спрашивают соседи, отчего грустит однорукий. Знает, что ничего не обломится, — и мутит воду. Отвлекает себя и соплеменников историями о звездах и растениях.
Слухи — это так, для сугреву. Когда закипело, стало не до обсуждений. Железные прутья в руки и — вперед! Где здесь парикмахерская? Добьемся равенства в том, что все станут лохматыми. Затем сапожная мастерская. Сделаем так, чтобы дыр хватило на всех.
Среди энтузиастов не только двоечники. Кто-то учился неплохо, но уважал принципы. У других руки чешутся. С японцами уже не повоюешь, так хотя бы с евреями. Кое-кто оказался здесь за компанию. Если всем это надо, то он будет как все.
Потом эти последние стали размышлять. Оглянулись, сопоставили и видят: это же о нашем учителе! О том, кто нам столько объяснил! Если бы не он, то как бы мы называли буквы и звезды?
Ученики Иосифа рассказали о погроме. Так что подготовиться хватило времени. Дальнейшее нетрудно вообразить. Когда соседи подошли близко, мы посыпались на них как из мешка.
Обидно? До слез. В страшном сне не представить битву у четвертого барака. Помнится, тогда я подумал: неужели это и есть настоящий конец войны? Мы опять не вместе, а врозь.
Наутро иду взглянуть: как там наши противники? Что ж, зрелище впечатляющее. Синяков и шишек в избытке. На лицах читается что-то вроде: да как же так — хотели показать силу, а едва спаслись!
Один синяк был моей работы. Я не художник, а так бы расписался в углу картины. Еще бы что-то добавил от себя. Например: «С глубоким почтением.», «Тут был я» или «Всегда к вашим услугам».
Я не отказал себе в праве спросить: где это вас угораздило? Перелезали через забор — и накостыляла охрана? Или не поделили обед? Они помалкивали и косили в сторону. Так же растерянно мы глядели, когда нас вели в плен.
А ведь как хорошо складывалось! Стриглись у нас. Ходили на спектакли. Иногда мы садились вместе повспоминать войну. Теперь стало ясно, что ничего этого не будет.
Иосиф сказал: старайся не сосредотачиваться. Хочешь — на спор? Ляг на кровать, повернись к стенке, два дня не вставай. Когда поднимешься, ситуация изменится. То, что казалось непреодолимым, останется позади.
«Да, мы создали что-то вроде государства, — продолжал он. — Пусть не сеем рожь, а только учим, стрижем, фотографируем. Не даем в обиду своих. Разве удивительно, что они хотят нас проучить?
Говоришь, сегодня ходят как в воду опущенные? Поделом. Кого-то из них я вызову к доске. Поинтересуюсь: как вам эта задачка? Посложнее той, о которую на днях вы сломали зубы?»
Как видите, Иосиф бодрился, но ситуация оставалась сложной. Сложней некуда. Встретишь соседа с повязкой на голове и понимаешь, что мы знакомы. Не он ли недавно размахивал палкой и выкрикивал что-то нечленораздельное?
Долго с обеих сторон наблюдалось бурление. Особенно переживали наши. Если в плену могло случиться такое, то отчего бы этому не повториться на родине? Правда, там народа прибавится. Его будет столько, что победят они. Нам же останется вытирать слезы и хоронить убитых.
По этому поводу мы иногда высказывались. Причем с подковыркой. Мол, не спешите с новым погромом. Дождитесь возвращения. Как говорится, дома и стены помогают. Да и с кольями не будет проблем. Все березовые рощи в вашем распоряжении.
Удача
Как вы знаете, я часто не соглашался с Иосифом. Особенно меня злила его уверенность, что черное не навсегда. Потом обязательно будет белое.
Даже если это и правда, то сколько ждать? Сперва поседеешь и потеряешь половину волос.
Конечно, бывают исключения. Только приготовишься стоять в очереди, а тут она подошла. Как это получилось? Тебя не спрашивали, так что и ты лучше не задавай вопросов.
С раннего утра Иосиф в школе. Пишет формулы и рисует буквы на доске. Бородатые и усатые морщат лбы. Удивляются, насколько это трудней, чем размахивать шашкой.
Однажды Иосиф ведет урок, и вдруг стучат. Звук не решительный, а вопросительный. Мол, могу ли я войти? Не будет ли обременительным мое присутствие?
Все великовозрастные, но шумят почище детей. Бросили записи, смотрят на дверь. Вдруг действительно случилось что-то такое, что затмит карту звездного неба?
Оказалось, офицер. Обычно японские лица настолько спокойные, что кажутся одинаковыми, но это явно отличалось. На нем прочитывалось: знаю что-то важное, но рассказать пока не могу.
Вот уже несколько дней по лагерю ходили слухи. Вернее, летали. Или даже скакали. Знаете, на что похож слух? На белку. Ясно вижу, как это маленькое животное таращит глаза и вертит головой.
Правда, было неясно, чем его наградят. Оказалось, не первое, не второе, а третье. В том смысле, что третье — это сладкое. Не суп, не жаркое, а компот. Значит, не только набиваешь желудок, но и воспаряешь.
Вы уже спешите узнать, что это было? А вот не получится. Мы же договорились ничего не пропускать.
Офицер привел Иосифа в дом лагерного начальства. Оказывается, его ждут. На сопровождающего — никакого внимания, а моего друга сажают в кресло. Напротив сел главный из японцев. Остальные стоят. Словно они не офицеры, а официанты. Когда что-то нужно, сразу бросаются исполнять.
Наконец главный заговорил. Трумпельдор кое-что понимает, но переводчик переводит. Все честь по чести. Словно Иосиф не пленный, а заморский гость.
Начал японец с того, что они с Иосифом давно знакомы. Зря, что ли, агентам платят жалованье? Сколько раз нам сообщали о смелом русском солдате. Кто не знает историю с гранатой! Хоть и жаль тех, кто погиб, но это было красиво.
Улыбка была не короткая, а длинная. Словно японец ее надел и забыл снять. Так, улыбаясь, он взял со стола ящик. В его синих бархатных глубинах лежало нечто в желтом замшевом одеянии. Что это такое? Даже произнести странно. Успехи противника император отметил протезом из каучука.
В мечтах Иосиф не представил бы ничего подобного. Легко сгибались локоть и пальцы. Пустоты не чувствовалось совсем. Пристегнул, а кажется, так было всегда.
На серебряной дощечке написали, что это «подарок храброму в бою и справедливому в мирной жизни». Мол, благодарим, уважаемый враг, за ваши подвиги. В войнах мы особенно ценим красоту. Пусть и на стороне противника, но вы ей послужили.
Теперь улыбались все. Правда, по-своему, по-японски. Русские переполняются радостью, а эти лишь намекнут. Линия губ удлиняется, глаза поблескивают, а ладонь прижата к груди.
Не хочется терять время, а то бы мы поговорили о разнице между нашими вениками и японскими икебанами. Нам нужно все, а им почти ничего. Вернее, им требуется столько, сколько необходимо.
Наверное, так проявляется стремление к гармонии. В этом смысле протез все равно что букет. Он не только облегчал жизнь, но восстанавливал равновесие. Благодаря этой скромной вещице в мире становилось больше порядка.
Мы радовались за Иосифа и за себя. Если они делают подарки, то ожидай главного сюрприза. Оставалось понять, когда это произойдет. Тогда мы стали вести себя вызывающе. Интересно было посмотреть: насколько им это интересно?
Что ж, нарушать правила — не то что их выполнять. Удовольствие несравнимое. Разговариваем громко, но они не обращают на это внимания. Тогда мы обнаглели вконец и уже не глядим в их сторону. И что, вы думаете, наши противники? Пожимают плечами и ускоряют шаги.
Интуиция все подсказала верно. Вскоре началась конференция в американском Портленде. Почему так далеко? Потому что три страны — это вроде как треугольник. Как ни поворачивай эту фигуру, она сохранит устойчивость.
О, эти переговоры жидкого и твердого, горячего и холодного! Даже со стороны видно, насколько участники разные. Например, русские выдвигают требования, а японцы кланяются в ответ. Или японцы поднимают брови, а наши теребят скатерть. Когда ситуация заходит в тупик, встревают американцы. И так по несколько раз в день.
Когда решили первый десяток вопросов, японцы предложили сперва отправить инвалидов. Идея вроде хорошая, но что-то мешает согласиться. Вы только представьте эту картинку. Три руки и пять ног на целый вагон. При этом набито как сельдей в бочке. Такую компанию надо встречать крынками молока. Мол, пейте, сердешные. Хоть ненадолго забудете о потерях.
На войне Иосиф привык быть сильным. Самым сильным. Здесь же его выделяли как слабого. Главное, впрочем, то, что он был не последний. Провожал его лагерь в полном составе.
Каждый принес письмо или поделку. Еще был общий подарок — два альбома с фотографиями. Впервые мы все делали сами. Уж как хотелось с ним посоветоваться, но какой тогда это сюрприз?
От Иосифа ничего не скроешь. Это рука у него одна, а глаз много. Как-то он увидел, что мы спешим, и спрашивает: куда? Мы смущались и смотрели в землю. Так ведут себя дети, которых поймали на том, что у них есть тайны от взрослых.
Переплет альбомов перламутровый, обложка инкрустирована цветами. Надо ли повторять, что у японцев всего в меру? Достаточно что-то добавить, и красота пропадет.
Фотограф несколько дней не смыкал глаз. Снимал, потом проявлял. Затем мы подписывали карточки. Искали самые лучшие слова. Если не получалось — просили о помощи. Кстати, не вижу в этом ничего зазорного. Ведь мы не только писали, но думали примерно одно.
При первой же возможности я мчался к Иосифу. Мой друг складывал чемодан, гладил белье и заваривал чай. Как ловко он управлялся единственной рукой! Вещи с посудой чуть ли не летали по воздуху.
Наконец пришло время отъезда. Как тут не заволноваться! Во-первых, он покидает Хамадеру. К тому же мы впервые без конвоя за пределами лагеря. Можем делать все, что захочется, и никто нам этого не запретит.
Вы не представляете эту толпу! Идем, кричим, бурно жестикулируем. Уж по этой части у нас точно нет конкурентов. Даже когда мы торгуемся, то делаем это руками.
Вряд ли на родине кто-то позволит так заполонить улицу, а значит, это в последний раз. Редкая минута. Надо так ею насытиться, чтобы потом было что вспомнить.
Вот еще одно отличие японцев. Они любят преувеличить. Цветок у них — Цветок, животное — Животное. Мы, кстати, им подыграли. На вопрос: «Куда направляетесь?» — отвечали: «Провожаем Человека». Они сразу нас поняли. По обе стороны фронта таких солдат — по пальцам пересчитать.
Что мой друг? Думаете, улыбался довольно? Как бы не так. Мы его несем, а он приговаривает: «Эх, шельмы, шельмы.» — «Это ты о ком? — спрашиваю я. — Если о нас, то пожалуйста. А вдруг об императорской чете? Это же будет скандал».
Наконец прислушиваюсь — не бурчит. Смирился. Пусть сидеть на скрещенных руках нескромно, но идти пешком тоже не хочется. Да и не так просто от нас отделаться. Уж очень крепко мы его держим.
Входим в вагон, а там — такое! Повсюду цветы. Я посмотрел на Иосифа: куда подевались его ухмылка и «эйн давар»? Да и про «шельмы» не слышно. Потом гляжу — плачет! Прямо размазывает слезы по лицу.
Мы отвлекаем его громко и невпопад. Почему в такие минуты на языке всегда оказывается не то? Сейчас я бы точно нашел слова. «Как неожиданно все повернулось, — вот что следовало сказать. — Выходит, плен — не самое худшее место».
Ничего этого я не произнес. Что поделаешь — соображаю медленно. Иногда мне нужны не минуты и часы, а годы и десятилетия. Половину из того, о чем написано на этих страницах, я понял только сейчас.
Может, дело в том, кому сколько отмерено? Если дожил до моих лет, то размышляешь долго. Тот, кому сужден короткий век, реагирует на десятую реплику. Ты еще не подумал, а он уже знает ответ.
Мой друг предложил встретиться в Петербурге. Ты не против? Эйн давар. Ах, как здорово он это сказал! Будто отбил мяч. Ударил раз, а потом еще.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Что к этому добавить? Может, только то, что после Японии мы были не совсем мы. Мы плюс война. Плюс плен. Минус иллюзии. Вот почему на наших лицах была не улыбка, а ухмылка. Мол, знаем, знаем. Если вы не воевали, то вряд ли это поймете.
Правда, стоило заговорить об Иосифе — и ухмылку сменяло удивление. «Все-то ему удается! — восхищались мы. — Даже потеря руки стала не катастрофой, а вроде как одним из подвигов».
Если бы это были все его достижения, он бы вошел в историю как легкий человек. Везунчик. Тот, кто просто не может проиграть. Мало кому эта война принесла славу, но у него получилось.
Конечно, все относительно. Во Вторую мировую смог бы он сделать то же, что в Хамадере? Вряд ли. Уж очень планомерно нас убивали. По трубам газовых камер мы переходили туда, где еще оставались свобода и простор.
Значит, до настоящего ужаса лет тридцать пять. Это выпало не Иосифу, а мне. Впрочем, кое-что он застал. Казалось бы, после плена его должны ждать только успехи, но вышло иначе.
Ты видишь себя героем и победителем, — словно говорили ему, — а теперь за это получи наградные. Недоедай, живи на копейки, постоянно чувствуй свое бесправие. Словом, набери полную ложку и хлебай. Если не надоест, дойдешь до самого дна.
Существовала еще одна сложность. Хотя он в семье старший, но положение у него не лучше, чем у Любы. Ему тоже предстоит остаться на второй год. Сможет
ли он наверстать упущенное? Все же одно дело одной рукой звать в атаку, а другое — в той же руке носить портфель.
Наверное, другой бы возмущался и негодовал, но Иосиф спокоен. Это его особое качество — не различать славу и бесславие. По этому поводу мой друг придумал теорию. «После вершины, — говорил он, — будет спуск. Придется пережить уход родителей. Это самое грустное. Что еще? Надену халат и стану дантистом. Буду орудовать бормашиной — и думать: в плену это был бы не четвертый зуб справа, а театр и газета».
Думаете, он жаловался? Просто сообщал, какие есть варианты. Потом, возможно, будет иначе, а затем опять так. Это как принято. Если однажды тебя одарили, то и цену возьмут соответствующую. Придут и скажут: помните о наших подарках? Говорите, нет денег? Тогда поделитесь счастьем. Своей жизнью, наконец.
ДОКУМЕНТЫ
Сколько писем принесли к поезду? Десятки. Сотни. Чаще всего это были благодарности. Чистое, незамутненное заверение. Если ему приятно, то ничего больше не требуется.
Потому послания похожи. Спасибо, что вы были в нашей жизни и будете в чьей-то другой. Жаль, уезжаете, но зато многие поверили в то, что тоже вернутся.
Следует читать в этих письмах не только предложения в целом, но отдельные слова. Тогда станет ясно различие между авторами.
Вот, к примеру, этот. Мог написать о себе, но разве в нем одном дело? Благодарить надо не за меньшее, а за большее. За то, что есть люди, наделенные даром любить всех. Если кому-то нужна их помощь, то они ее точно получат.
«Дорогому сослуживцу Иосифу Вольфовичу г-ну Трумпельдору. В день Вашего отъезда приношу Вам свою сердечную благодарность и признательность за Вашу беспредельную любовь к ближнему. Желаю Вам счастливого пути, Ваш однополчанин, у которого память о Вас останется на всю жизнь, Вас искренне любящий Давид Ронзон. 8 августа 1905 года».
Вот еще одно спасибо. Этого солдата Иосиф обучил грамоте. Кстати, вот результат. Пока строчки неровные, но это только проба. Надо постараться еще, и буквы будут стоять голова к голове. Не хуже солдат на параде.
«Дорогой Иосиф Владимирович, прошу Вас принять мой адрес. Я чувствительно Вам благодарен за Ваши старания, которые Вы к нам приложили и познакомили с грамотой. Адрес мой: в Александровский завод. Максиму Осиповичу Вострецову».
В другом письме одно слово тоже стоит особняком. «Наставления». Иосиф младше автора, но старший он. Да и определение «любящий» подчеркивает иерархию. Напоминает «любующийся». На предмет обожания смотрящий снизу вверх.
«Дорогому сослуживцу и однополчанину Иосифу Владимировичу г-ну Трумпельдору. По случаю Вашего отъезда спешу засвидетельствовать свою признательность и благодарность. Вы как герой нашего полка и борец за еврейство оставили во мне самую наилучшую память о себе, которая не изгладится до конца моей жизни. Благодарю еще раз за наставления, которые неоднократно Вы давали мне. Вас любящий друг. Соломон. ».
Да и в следующем письме есть ключевое слово — «удар». Казалось бы, конец плену, но автор не рад. Скорей, озабочен. Хорошо, что скоро на родину, но больно велика цена.
Сможет ли он пережить разлуку? Да, именно так. Немолодой человек, весь в орденах и медалях, а ведет себя как ребенок. Больше всего боится остаться одни.
«Милостивый государь г-н Трумпельдор! Благодарю Вас за Ваше благодеяние и труды, за которые Вы вполне заслужили. Но Ваш отъезд для меня неожиданный удар. Но надеюсь, что Вы не забудете про нас. Но вместе с тем желаю Вам счастливого пути и доброго здоровья. Ваш преданный ученик Бенцион Иосиф Грузмарк».
Кстати, письмам без ошибок я предпочитаю письма с ошибками. Ведь неправильность дает интонацию. Возникает ощущение, что ты с автором знаком. Что это от него слышал: «Благодару я Вам» и «второпях неудачно было писать».
Норма принадлежит всем, а ошибка тому, кто ее допустил. Вот этому самому Давиду Яковлевичу. Видно, годы его не изменили. Как он говорил у себя в Лодзи, так и теперь верен себе.
«Многоуважаемому Иосифу Владимировичу г-ну Трумпельдору! В кратких словах хочу высказать мою благодарность, которая давно у меня лежит на сердце. Жалко нам, что Вы так скоро от нас уезжаете, но вместе с тем мы радуемся, что Вы имеете это счастье вырваться из этого тюремного замка и жить вместе со свободным народом. Я уверен, что Вы нас не забудете, но, вместе с тем, нам жалко. Благодару я Вам господин Трумпельдор ко мне, а также ко всем за Ваши труды и старания. Желаю Вам счастливу пути и приехать в полном здоровье домой, и примите, пожалуйста, от нас на память наши фотографические карты. . Извините за мое . письмо, так что второпях неудачно было писать. Я Ваш ученик Давид Яковлевич Цалецкий, гор. Лодзь».
Случаются такие письма, в которых каждое слово наособицу. Да еще между ними — непростые отношения. Обычно фраза образует ряд, а тут выходит узор.
«Письмо многоуважаемому Иосифу Владимировичу, то есть не Иосифу Владимировичу, а любимому брату, о боже мой, что у меня на сердце, дорогой Иосиф Владимирович к Вам, я даже не могу выразить своих чувств. Здравствуйте, дорогой и незабвенный Иосиф Владимирович. Посылаю Вам свое нижайшее почтение и с чувством из глубин моего сердца; низкий и почтительный поклон.».
В этом письме мне особенно нравится: то есть. а. о. даже. Все это не ради уточнения, а для чего-то большего. Может, для того же, для чего узор? Слова стоят в таком порядке, что невольно залюбуешься.
Кое-кто утверждал, что Иосиф сочувствует только своим. Так вот это пишет Назар Тимофеевич Лапшин. Можно ли найти большего русского? Не только по рождению, но и по тому, как смачно он разговаривает.
Проживает Лапшин в Лебедяни Тамбовской губернии или, как он сам написал, в «Тамбове». Да, именно так. Масштаб губернского центра подчеркнут кавычками. Мол, знаете нашу дыру? Отсюда ближайший город видится важной цитатой.
Лебедянь запечатлел лапшинский земляк Евгений Иванович Замятин. Практически все местные чудаки перебывали на его страницах. Только Назара Тимофеевича тут нет. Что ж, сейчас мы это исправим. Процитируем писателя, а затем присовокупим автора письма.
«Я до сих пор помню неповторимых чудаков, которые выросли из этого чернозема: полковника, кулинарного Рафаэля, который собственноручно стряпал гениальные кушанья; священника, который писал трактат о домашнем быте дьяволов; почтмейстера, который обучал всех языку эсперанто и был уверен, что на Венере — жители Венеры — тоже говорят на эсперанто.»
В такой компании Назар Тимофеевич выглядит как влитой. Это в столицах чудаки редки, а тут других не встретишь. Если появится нормальный, на него смотрят косо. Ждут, когда он что-нибудь эдакое учудит.
А что за финал в письме! Вроде как еще одна фигура танца. «Затем до свидания, дорогой Иосиф Владимирович, — пишет Лапшин, — остаюсь жив и здоров и того
и Вам желаю от Бога». Какого именно бога, не сказано. Может, и лучше, что их несколько? Когда чего-то не сделает русский, на подмогу придет еврейский.
Примите, дорогой Назар Тимофеевич, запоздалое «спасибо». Мало кто умеет так, как вы. С такими талантами можно было стать писателем, но не привелось. Жизнь пошла в другую сторону. Обязанностей всегда хватало, а тут война. Тот, кому довелось увидеть море крови, скорее предпочтет молчание.
Не насытились? Тогда это письмо. «Многоуважаемый дорогой сослуживец и товарищ плена г-н Иосиф Трумпельдор. Наконец желанный час ударил для Вас! И в коротком будущем с помощью Бога радостно станет на родной земле. Но каково нам? Ведь мы теряем из нашего круга гордость нашу. Да, жаль проститься, но доброжелания побеждают жаль. Поэтому примите мои искренние пожелания на добрую и счастливую дорогу. Прошу Вас не поминать лихом, и, что было между нами, пусть будет забыто навсегда, а вместо того в сердцах наших вкоренится до-брожелание».
Как это легло мне на сердце! Особенно два слова — «доброжелание» и «жаль». Уже тогда они прочитывались как привет от Хераскова и Сумарокова. Кстати, лапшинское «о» тоже пришло из эпохи, когда к грамматике относились без пиетета. Куда важнее считалось богатство чувств.
Еще примеры? «Пусть же разгорается пламя в Вашей душе. Знайте, что это пламя теперь необходимо по меньшей мере не только Вашей, но и моей душе. До свидания, славный мой друг, добрый товарищ. До встречи буду искать Ваш образ, при встрече. нет, я не знаю, что будет при встрече, но если бы Вы знали, с каким нетерпением буду ждать ее. До свидания, до скорого свидания, товарищ». Подписано: «Пламенеющий друг Ваш».
Как видите, война не на всех действовала одинаково. Оставались люди взволнованные. Даже пламенеющие. Порой они говорили такое, что не всякая барышня скажет вслух.
Впрочем, мужские компании переменчивы. Если что не по тебе — пошлешь по матушке и по батюшке. Потом опять — «О!», «доброжелание», «славный мой друг». Слова вроде туманные, а ощущения конкретные. Мы тут для того, — вот что слышится, — чтобы защитить честь. Свою. Армии. Страны.
Я читаю письма и, кажется, вижу всех. Вот они, наши однополчане. Прошедшие войну и плен. Потерявшие многих товарищей, но выжившие. Сейчас они провожают Иосифа. Сквозь шум слышно его тихое: «Спасибо». Сказал, потом повторил. Сперва это означало: «Прощайте, дорогие!», а затем: «Ах, если бы собраться еще раз!»
Иосиф едет в Россию
Поезд едет в глубь России. На многие версты поля. Мы разглядываем их, а они нас. Извините, дорогие пейзажи, за то, что нас стало меньше. Зато мы — те, кто жив, и те, кто погиб, — сделали, что могли. Что касается сдачи крепости, то это от нас не зависело.
Из поезда путь в Порт-Артур прочитывался справа налево, а обратно — слева направо. Первый раз — по-русски, а второй — по-еврейски. Впрочем, смысл не изменился. За нашими плечами война и плен, а дорога та же. Когда поля — то сплошной белый, если деревни — немного коричневого.
Наглядимся на давно не виденную нами страну — и опять спорим. Почему проиграли? Была ли возможность наступать? Больше всего доставалось нашим командирам. Как уже сказано, они вернулись в Россию, так что им, как видно, икалось.
Пока действовал запал Хамадеры и мы говорили свободно. Да не только говорили, но показывали. Так сделаем физиономией, руками и ногами, что сразу ясно: да, вот этот. Нос вверх. Или вниз. Усы двумя крючками. Или узкой полоской.
Словом, не повезло нам с начальством. Если бы все эти должности можно было бы передать Иосифу, то мы бы наверняка победили.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, как вдруг поезд остановился. Дверь открылась, и вошел один из только что обсуждавшихся генералов. Он словно говорит: вот и я! К тем историям, что вы привезете с войны, можете прибавить еще одну.
Почему генерал решил напомнить о себе? Причин, по крайней мере, две. Хотелось спросить: «Очень ли вы без меня соскучились?» Еще — пришло время вернуть долги. Война закончилась так быстро, что не все получили награды.
Уж как солдаты любят присочинить, а такое не приходило в голову. Чтобы на столь высоком уровне, да еще прямо в пути! Жаль, не подготовились! Не почистили одежду и не навесили ордена.
Словом, порадовало начальство инвалидов. Это тебе, контуженный. А это — безногому. Иосиф получил Георгия и произнес короткую речь. Сперва сказал, что полагается, а затем прибавил от себя.
Генерал уже не улыбался, а смотрел в окно. Тут мой друг разошелся не на шутку. «Ах, если бы нам позволили довоевать! — говорил он. — Поверьте, мы бы не пожалели сил».
Присутствующие всячески показывали, что согласны. У кого сохранилась правая, высоко тянули ее вверх. Если есть левая, поднимали эту руку. Когда нельзя было сделать ни того, ни другого, улыбались во весь рот.
Наверное, генерала удивила готовность этих несчастных к новым сражениям, но он промолчал. Да и что сказать? В скором времени вряд ли будет война. Если же это случится, то обойдутся без инвалидов. Все, что возможно, они проиграли.
Солдаты не то чтобы рвались на фронт. Прежде всего им хотелось поддержать Иосифа. Да и возразить начальству приятно. После того как генерал ушел, они вновь стали гадать: как их встретят дома? Так же, как здоровых, или с некоторыми сомнениями?
Если ты прибыл на костылях или на тележке, то точно не скажешь, что на фронте ничего не произошло. Еще как произошло! Вот уж не думал начинать жизнь сначала, а пришлось.
Об этом они скажут близким. Не пугайтесь, родные. Сердце, что вас любит, у меня есть. Голова, что о вас думает, тоже на месте. Со всем остальным дела хуже. Вроде как был цветущим деревом, а вернулся пнем.
Они на это ответят: теперь мы знаем, что главное — не ноги и не руки. Самое важное — сердце и голова. Если они в целости-сохранности, то все нормально.
Если бы они прочли письмо Иосифа, то еще больше утвердились бы в своей правоте. Впрочем, думаю, он им говорил, что дело в желании. Если его нет, то ничто не поможет.
«Еще раз прошу не печалиться о руке, — как вы помните, писал он. — .Я .со своей правой, которой между прочим пишу это письмо, надеюсь устроиться так, что и двурукие будут, пожалуй, завидовать».
Иосиф всегда так взглянет на ситуацию, что выйдет «эйн давар». Ну а что? Всевышний согласился с потерей левой, но сохранил правую. Что только не сделаешь с ее помощью! И пишешь, и перемешиваешь суп, и рубишь дрова. А главное, зовешь вперед. Он еще не знал, куда будет указывать, но ясно видел этот жест — решительный и неотвратимый.
Парад в честь моего друга
Перед отъездом на родину Трумпельдора позвали к японскому начальству. Вручили конверт для генерала Линевича. Строго наказали передать лично в руки.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы противники давали советы друг другу? Представьте, японцы просили беречь Трумпельдора. Такими солдатами, утверждали они, может гордиться любая армия. Даже та, с которой он воевал.
Это послание лежало в кармане у Иосифа. Еще немного, и он его передаст адресату. Жаль, правда, что момент исторический, а историк в пути. Что ж, дело поправимое. Один поезд (в нем находился я) увеличил скорость, а другой (в нем ехал мой приятель) немного задержался. Вскоре мы обнимались и повторяли: «Что, брат, жив?»
О том, что Николай Петрович Линевич — настоящий генерал, говорило буквально все. Один взгляд чего стоил! Бывало, так посмотрит, что редко кто выдержит. Сразу начнешь виниться и едва не проситься на гауптвахту.
При этом он ко всем относился ровно. Случалось, солдата похлопает по плечу, а офицеру поставит на вид. Начальству не перечил, но и не льнул. Все сделает как положено, а выражения лица не изменит. Как смотрел строго, так и будет смотреть.
Была бы его воля, он бы жил сам по себе. Иногда так и получается. По крайней мере, пока он думает, его никто не интересует. Наконец решение принято. Подчиненным остается только его исполнять.
Откуда у Линевича ощущение правоты? Во-первых, боевой генерал. Когда надевает награды, то стоять уже трудно. К тому же сколько ему лет! Это в сорок можно пойти на попятную, а в семьдесят — никогда.
Терпение начальства не безгранично. Ко многим капризам они отнеслись снисходительно, но тут не выдержали. Когда он не воспротивился против наказания забастовщиков, ему припомнили все.
История с забастовщиками хорошая, но случай с Иосифом мне нравится больше. Может, потому, что тут есть момент сочинительства? Что ни говорите, а получилось эффектно.
Считается, что его фантазия была ответом на письмо японцев. Не могу согласиться. Как уже сказано, генерал был самодостаточен и не нуждался ни в чьей подсказке.
Скорее всего, он хотел изменить правила. Сделать не так, как обычно бывает, а так, как должно быть. Самое верное — отблагодарить Иосифа своими силами. Своими и вверенных ему войск.
Я даже так скажу. Вдруг стало ясно, что у войны несколько финалов. Первый, понятно, Порт-Артур. Второй — плен. Это был еще один. Иосиф стоит, а мы идем. Ать-два, ать-два. Ладони у козырька, головы в сторону, ружья на плечо.
Словом, Иосифу позволялось не только совершать подвиги на фронте, но принимать парад. Обычно это забота императоров или командующих армиями, но, оказывается, солдат справляется с этим не хуже.
Ах, как мы радовались! В центре внимания был он, но наши тоже показали себя. Идем так ровно, что хоть прикладывай аршин. Не сомневаюсь, все бы сошлось. Словно мера спрятана у нас внутри.
Линевич стоял справа от Трумпельдора. Всем своим видом показывал, что эти ать-два и ладони у козырька не имеют к нему отношения.
Когда наша колонна проходила мимо, я пересекся взглядом с генералом. Он был бледен и взволнован. А что вы хотите! Не каждый день переворачиваешь иерархическую лестницу! Нужно ли объяснять, что ощущали мы? «Не рано ли, — думал я, — последние стали первыми?»
Кстати, это не так трудно — размышлять на ходу. Руки и ноги делают то же, что руки и ноги соседа, и вроде как мне не принадлежат. Зато глаза точно мои! Слезы льются, но вытащить платок невозможно.
Вот, повернув головы, мы проходим мимо. Это обозначает: наши кокарды и лезвия ружей горят в твою честь! Тут нам приказывают остановиться. Линевич решил выйти из тени и произнести речь.
О чем он говорил? О том, что на войне каждый делал все, что возможно, но Трумпельдор успел больше. Должны мы его отблагодарить? Впрочем, что такое наша признательность? Есть сведения, что наш герой — в числе других георгиевских кавалеров — будет принят во дворце.
Как тут сохранить спокойствие? Мы кричали «ура» не три раза, а столько, сколько хватило сил. Все же Иосиф — наш товарищ по каше из котелка, по нарам в казарме, по разговорам на завалинке. И вдруг — такое! После возвращения нам вряд ли что-то светит, кроме рюмки водки, а его ждет сам государь.
Тут Линевич пожал руку Иосифу и крепко его обнял. Мы смотрели и ахали. Значит, действительно нет солдат и генералов, а есть близкие люди. Или так: если речь о близких людях, то чины и звания отменяются.
Вас посещало чувство, что справедливость существует? Что победа принадлежит не самому проворному, а тому, кто заслужил? Честно скажу — редко. Может быть, даже — никогда. Если нас и просили выйти из строя, то лишь по случаю провинности.
После парада я интересуюсь: ну как? Лучше бы промолчал! Тем более что ответ известен заранее. Эйн давар. На сей раз это значило: не сосредотачивайся. Помни, что есть кое-что поважнее.
Нет, моего друга так просто не проймешь. Хотя на плацу он тоже всплакнул, — сам видел! — но быстро пришел в себя. Рука в кармане. Улыбка во весь рот. Такой не остановится. Никто не смеет возразить помазаннику, а он воспользуется удачей и скажет: все же не так!
ДОКУМЕНТЫ
Решишь никуда не сворачивать, а тут что-то интересное. Пусть с нашей историей это прямо не связано, но как пройти мимо?
Автора этого письма я представляю высоким, с закрученными усами. Если на голове фуражка, то непременно набекрень.
Словом, бывалый человек. Потому-то он имеет право забыть о формальностях. Даже головной убор на нем сидит не как полагается, а как интересней.
Иосифу захотелось списаться с боевыми друзьями, и он обратился к знакомому. А тот — фамилия его Чекунов — оказывается, недавно попал в передрягу. Сам, слава богу, спасся, но бумаги не уберег.
О чем это письмо? О том, что всегда есть возможность погибнуть. Ты, к примеру, ушел от японцев, а тут китайцы. Правда, пока ему везло. Выходил из ситуации пусть не сухим, но хотя бы живым. Он и сейчас промок до нитки, но все же уцелел.
«Как бы хотелось теперь завести переписку с товарищами Артура, но, к величайшему сожалению, я утопил все адреса. Это было так. Служа в Харбине десятником. меня назначили для изыскания лесных материалов по реке Сунгари в 350 к. Хабаровску нас было назначено 10 человек — 5 десятников и 5 конторщиков для составления планов. В мою инструкцию вошло исследовать три речки, впадающих в Сунгари около Самсина, китайского города, в 19 дней кончил разведку первых двух
речек, у меня заболел конторщик, я решил кончить исследование третьей речки один, заехав в 125 верст по Ермохе, мне нужно было переехать речку по другую сторону, поехал прямо, но не успел проплыть половину, как моя лошадь начала садиться задом в воду, а передние ноги выбрасывать вверх. Я первое время растерялся. В это время конь опрокинулся на спину. В это время я заметил, что нога коня каким-то образом попала под подпругу седла, тогда я переделал подпруги и освободил коня от седла, но было поздно, конь пошел ко дну. А остальное все я вынужден был топить сам в одном сапоге и брюках выбрался на берег утопил книжки, планы, револьвер винчестер, кинжал и платье и полунагой и босый пешком, подгоняемый комарами, кое-как добрался домой. Десятник и конторщик, поехавшие по Бояну, убиты хунхузами. Через год на этих речках работало до 5-ти тысяч человек».
Сперва Чекунов был вместо конторщика, а потом конторщик вместо него. А ведь могло быть наоборот! Тогда бы он на своем коне въехал в Царствие небесное.
Потом они с Иосифом переписывались. Причем всякий раз обсуждалось нечто историческое. Вот как в этом письме. Бывший главнокомандующий тут не назван, но это о нем.
Сейчас только студенты-историки знают Стесселя. Для остальных генерал — пустой звук. Уже не представить, что когда-то от него зависел исход войны.
Выглядел Стессель достойно своей должности и положения. Если не знать о том, что он сдал крепость и всех нас, можно принять за победителя.
Сперва были разговоры, что так просто это не пройдет. Потом, смотрим, вспоминать перестали. Видно, генерал решил, что спасен. Японцы ему уже не страшны, а от своих он отбился.
Значит, навоевался. Его новый наблюдательный пункт будет в кресле. Все видят тебя — и ты видишь всех. Вокруг молодежь. Они спрашивают: «Как побеждать?» и даже «Как жить?», а ты подробно им отвечаешь.
Продолжалось это недолго. Кто-то стукнул по столу, и он пошел под суд. Беседы с молодежью отменялись. Впереди его ждали не почитатели, а смерть с косой. А уж она непременно поинтересуется: отчего ты пожалел только себя и десяток подчиненных?
Лишь в России такое бывает. Приговорили к расстрелу, а оказалось, есть еще варианты. Все же — барон и бывший комендант Порт-Артура. Еще не забывайте о роскошных усах. Не для того он заводил это хозяйство, чтобы умереть на тюремном дворе.
Расстрел заменили на жизнь в имении. Не знаю, ходила ли к нему молодежь, но прислуги хватало. Было для кого раскатать голос. Когда он отдавал распоряжения, то грохотал так же, как когда-то на фронте.
Вы интересуетесь капитаном Садыковым? — спрашивал адресат Иосифа. Как же! Служил в Сретенске, в 16-м полку. Недавно уехал в Петербург. Вернется через четыре месяца. Пошел свидетелем по делу Стесселя, которое будет слушаться 27 ноября.
Опять смотрю на фото генерала и удивляюсь: зачем такому плен? Да и на фронте ему вряд ли было комфортно. Иное дело — Петербург! Поскользнуться можно и на паркете, но тут он не растеряется. Встанет, отряхнется и приставит ладонь к козырьку.
Еще знаете что? В письмах Чекунова почти нет запятых. Не только потому, что автор не сильно грамотный. Прежде всего, сказалось время. Знаки препинания есть что-то вроде передышки, а ему было не остановиться. Речь взволнованная, булькающая, забивающая рот.
Азбука Трумпельдора
По мне, так грамотность не имеет значения. Куда важней не ошибаться в жизни. Вот человек входит в комнату — и сразу все появляется. Запятые, точки, тире.
Как Иосифу удавалось повсюду вносить пунктуацию? Чаще всего правила висят на стене в раме, а у него они находились внутри. Он не только сам ими руководствовался, но того же требовал от других.
Кстати, этих правил не намного больше, чем заповедей. Да и по части содержания тут есть совпадения.
Когда мой друг умер, я попытался уяснить, какой он был. Для этого надлежало определить его главные качества. Вскоре я исписал целую тетрадку. Много раз думал, что заканчиваю, а потом вспомню: вот еще очень важное!
Все же точка была поставлена. Вдруг узнаю, что практически то же Иосиф проделал сам. Долгое время наблюдал за собой, а результаты записывал. Так что если у меня попытка портрета, то у него автопортрет.
Как не расстроиться? Во-первых, я всегда избегал соревнований. Тем более таких, в которых заранее ясно, кто победит. Во-вторых, неприятно, что он был не до конца откровенен. Что мы с ним только не обсуждали, а, выходит, о главном не поговорили.
Все же сравнить наши усилия интересно. Начну с того, что получилось у меня.
На первое место я поставил его почтительность к родителям. Сразу повинюсь за то, как это изложено. Конечно, Иосиф сказал бы иначе. Поэтому вы не столько читайте, сколько представляйте. Когда он вспоминал мать и отца, его лицо начинало светиться.
«Уважай родителей своих. Не забудь, что они дали тебе жизнь, отказывая себе во многом. Они поддерживают тебя, пока ты сам не можешь себя поддержать, пока не становишься на „свои собственные ноги“».
Когда я сформулировал это, самое главное, работа пошла быстрей. Правда, слова меня опять не устраивали. То, что возникало в голове, и то, что появлялось на бумаге, явно не совпадало.
Еще я пытался отличить главное и второстепенное. Наконец мне стала ясна последовательность. Я воспринимал записи как ступеньки. Сделал шаг, сделаешь и другой. Так подойдешь к цели. Станешь тем, кем себя представлял.
«Будь вежлив, но не разрешай другому садиться на голову, вежливо, но твердо укажи ему место.
Если обращаешься к кому-либо — обращайся вежливо; если тебе отвечают грубостью, — укажи вежливо на это, но если и это не помогает, следуй завету Моисея: „Око за око, зуб за зуб“. В этом случае не позволяй никому даже на ногу себе наступить. Не лги. Ложь — оружие трусов. Неужели и ты хочешь быть трусом? Если ты поступил неправильно, ошибся, имей мужество сознаться в своей ошибке.
Держи свое слово. Если ты обещал что-либо, то должен это исполнить и точно в то время, которое ты указал, и даже скорее раньше, чем позже. Если ты не уверен, что сможешь исполнить, то не обещай.
Не обижай более слабого — это только доказывает твою трусость.
Если ты сидишь где-нибудь в общественном месте и видишь, что старшие или женщины стоят, — уступи им место. Помни, что в таком положении могут находиться твоя мать, отец, дедушка или бабушка и, беря пример с тебя, другие так же уступят им место. Ты — молодой и сильный, а они старше и слабее тебя; кроме того, не забудь, что и ты будешь в их возрасте в их положении.
Когда ходишь по улице — не занимай ее всю, другие так же хотят пройти. Уступая им дорогу, ты становишься лучше, благороднее в глазах других.
Если ты учишься, старайся быть лучшим учеником, знать больше. Но не хвались этим перед другими, а помоги тому, кто слабее тебя, знай, что кто хвалится, что он знает больше и лучше, тот знает меньше других. Он — как пустая бочка, когда она катится с горы, то шумит и гремит, полная же катится не очень шумя, ровно. Не уподобляйся пустой бочке.
Не вымещай на других свое плохое настроение — они ни в чем не виноваты. Если ты злишься, злись про себя, а лучше всего — закрой на минутку свои глаза и, если возможно, посвисти, но только тихонько. Только человек научился себя сдерживать, животное не научилось. Не уподобляйся ему».
Кое-что из этого я от него слышал, но все же позволил себе дополнить. В жизни он мог сказать: «Не хвались, а помоги!» или «Не вымещай плохое настроение!», а про себя думал подробней. Это вообще его свойство — быть доказательным. Я пытался ему в этом не уступать.
Уже говорилось, что Иосиф тоже вел записи. Правда, в отличие от меня, не подводил итоги, а определял направление. Вроде как думал наперед. Если возникнет соответствующая ситуация, он возьмет тетрадку и отыщет нужный ответ.
Теперь положим обе тетрадки рядом. Сейчас вы убедитесь, что победа за ним. Мои слова такие, которыми разговаривают. Его же словами думают и чувствуют. Может, это и не слова вовсе? В голове что-то промелькнуло, а кто скажет — что?
«У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего. У него есть настоящее. „Не день, а мгновение", сказал чудный Тургенев. Как ни гениален художник, он не способен создать ничего великого, не найдя и не познав себя самого в страдании и любви.
Сияет у того лицо, у кого сердце чистое.
Очисти свою ниву от сорных трав, пусть душистые цветки сами разрастутся.
Чем чище и светлее предмет, тем легче замечаются на нем светлые пятнышки.
Человек по своей воле зряч, но по своей же воле слеп; по своей воле свободен; по своей воле раб; по своей воле честен; по своей же воле изверг.
Сила воли без благородства воли образует самые дурные характеры. Отчего так трудно бывает хотеть, между тем как желать чрезвычайно легко? Оттого, что желание выражает свою немочь, хотение же силу воли.
Человек представляет собой сумму своих родителей и нянек, места и времени, воздуха и погоды, звука и света, питания и одеянья; воля его есть необходимые последствия всех этих причин.
Если люди не достойны, чтобы им сделать добро, то личное мое достоинство меня к этому взывает.
Иметь и не давать хуже в известных случаях, чем воровать.
Не только знанье и уменье, — для дела нужно и терпенье. Терпенье всякому».
Можно долго обсуждать каждую запись. Вот хотя бы последняя. Начало обычное, а затем сбой. Фраза задрожала, едва не выгнулась. Финальные слова писались в раздумье. Почему «всякому»? Терпят те, кто не научился, и те, кто умеют всё. Сразу не выходит ни у кого.
Эта тетрадка была для Иосифа чем-то вроде субботы. Как известно, шесть дней следует заниматься текущим, а один посвящать вечному. Скорее всего, со своими записями он справлялся за несколько часов. Отвлечется, вдохнет чистого горнего воздуха, и жить становится легче.
Казалось бы, задача почти арифметическая, а получилось сложно. С одной стороны, много действительно важного. С другой — прямо-таки волны нежности. Как это может соединяться в одном тексте? Наверное, так бывает в хороших стихах.
Еще история напоследок. Мы ведь не можем без историй! Даже главная наша книга написана так, чтобы было что рассказать. Так вот эта байка в его духе. Тут и событие, и мораль.
Представьте мудреца. Всем от него что-то надо, но он не раздражается, а для каждого находит разгадку. Говорит: ты сделай это, а ты поступи так. Наконец получает заковыристый вопрос. Крякнул, подумал минуту, но справился. Вышло это так лихо, что история не забылась.
Мудреца спросили: очень хочется поумнеть, а как — непонятно. Он, по нашей давней традиции, ответил вопросом на вопрос: «А как вы учили азбуку? Тут что-то вроде этого. Если хватит времени, может быть, дойдете до буквы „я“».
Так и его записи. Здесь не столько то, что есть, сколько то, что должно быть. Как это у него сказано? «Если люди не достойны, чтобы им сделать добро, то личное мое достоинство меня к этому взывает». Слово-то какое: «взывает»! Старинное. В нынешнем языке ничего подобного нет.
Послесловие к погрому
Наверное, следовало сказать об этом раньше, но после приведенных записок многое прояснилось. Еще раз прочитайте: «Человек по своей воле зряч, но по своей же воле слеп; по своей воле свободен.» В конце главки вы убедитесь, что рассказанное и процитированное сошлось.
Иосиф уехал в числе первых, я немного позже. Те, кто остался, готовились к отъезду. Казалось бы, все хорошо, скоро на родину, но четвертый барак не успокоился. Опять обсуждалась попытка погрома. Иногда разговоры заходили слишком далеко. Утверждалось, что обещанные царским манифестом права могут привести к свободе железных прутьев.
Кстати, на противоположной стороне тоже было неспокойно. Там с раздражением вспоминали шишки и синяки. Мол, за что они нас? Мы едва приблизились, показали головы, а они сразу врукопашную.
Прежде ясности не было, а теперь они точно знали, чем мы виноваты. Да хотя бы тем, что их план не осуществился. Что это не они нас разгромили, а мы их.
Если бы рядом был Иосиф, то он бы вмешался. Напомнил, что недавно фронт проходил не между бараками, а между русскими и японцами. Мы же чувствовали себя целым. Понимали, что если кулак разожмется, то пропадем все.
Да и ружья, державшие нас на мушке, не различали, кто есть кто. Стреляли во все, что выше прямой линии. Почему же сейчас важно несходство? Причем по ту и другую сторону. Они неодобрительно смотрят на нас, а мы на них.
Иосиф был далеко, так что ситуация развивалась без него. Разрешилась она после письма Петра Булгакова. То есть сперва напряглась, стала почти невыносимой, а потом напряжение спало.
Когда я вспомнил об этом послании, то сразу бросился искать. Все перерыл — нет. Тогда я подумал: может, и правильно? История и без того непростая, так зачем ее усложнять?
Через пару дней смотрю — вот оно в папке. Мне показалось, я слышу: ты обо мне забыл, а я тебя помню. Да и не одного тебя. Если будешь рассказывать, я тебе помогу.
Что ж, отказываться не стану. Раз письмо попросилось в помощники, то так тому и быть. К тому же прошло столько лет, что на эти события смотришь без гнева. Не возмущаясь, а пытаясь понять.
В дни дарования конституции в четвертый двор явилась делегация от соседей. Были ли тут те, кто собирался нас громить? Очевидцы говорят, что разбираться не хотелось. После железных прутьев невозможно было смотреть на принесенный ими хлеб-соль.
Закончилось пререкательством. Они предлагают: «Давайте забудем.», а наши: «Вы все равно напомните». Они: «Может, не надо о плохом?» Мы: «Отмечать праздник с теми, кто шел нас убивать?.. » Ну и все в таком духе. Нет чтобы пригласить за стол. Они бы сказали: «Простите нас, грешных», а мы: «Вот за это поднимем стакан».
«Моим добрым друзьям и землякам в 4-м дворе в Хамадере» — так начиналось письмо. В первых же строках утверждалось, что мы — такие же, как они. Русские люди и герои. Все то, что нас разделяет, сейчас не имеет значения.
«Я и мои товарищи поспешили первыми приехать к вам и объявить великую радость русского народа, и что же? Как вы, русские люди и герои, приняли эту радость и нас? Вы подумали, что мы изменники, подкупленные японцами, и стали писать на нас доносы. Вы распускаете слухи о том, что я повешен. Так вы приняли известие о манифесте. Так вы отличаете ваших друзей? Вы угрожаете мне смертью? Не смерть страшна, а страшна ваша неправда.
Все мы должны любить друг друга, а вы на мои добрые чувства отвечаете лишь ненавистью и злобной клеветой. Что же! Это ваше дело. А мне дело всегда и везде говорит, что люди должны быть людьми, а не зверьми. И я очень жалею, что в ваших русских христианских сердцах столько озлобления. С ненавистью вы идете друга на друга и убиваете тех, у кого жены и матери ждут своих кормильцев. Вместо того, чтобы радоваться великой радостью и благодарить Бога за то, что Он помогает нам устроить нашу жизнь по разуму и совести, вы кровью обагряете землю и злобой, и клеветой, и доносами платите людям за их добрые чувства и добрые слова. Бог с вами, опомнитесь! Вот приедете в Россию, узнаете правду. Братцы, учитесь по заповеди Христа любить друг друга, даже врагов своих, а вы друзей своих встречаете злом. Нехорошо это, но Бог с вами. Будьте здоровы. Готовьтесь к новой жизни в России. Петр Булгаков».
Про то, что между нами нет разницы, все ясно, но остальное объяснить сложней. Какие доносы? Что за кровь? Видно, дело в перевозбуждении. В подобных случаях надо разговаривать тихо и стараться больше шутить. Только так победишь нетерпимость.
Наши так и поступили. Пришли к Булгакову не выяснять отношения, а попробовать начать сначала. Все же столько лет вместе — и лишь один день порознь. Может, лучше считать, что его не было? Что после пятнадцатого сразу наступило семнадцатое?
Булгаков мрачнел и только слушал. Затем в ответ на приглашение в парикмахерскую сказал: «Давно ли вас угощали самогоном? Ах, только на фронте? Тогда не хотите ли трапезу разделить?»
Самогон задобрит всякого. Без стакана такого не скажешь, а со стаканом — сколько угодно. Видно, для вас мир не настал, объясняли гости, если вы пришли с погромом. Впрочем, и для нас все впереди — раз мы не проявили великодушия. Да и вы сами, дорогой Петр, с мерой не в ладу. Непременно станете настаивать, что если одно, то ни в коем случае не другое.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОСЛЕ ПЛЕНА Иосиф и император
До приема во дворце оставалось несколько часов. Иосиф погулял в парке. Холодно. тепло. горячо. Наконец часы показали: пора. Еще немного, и он войдет в Большой зал Екатерининского дворца.
Не припомнить, когда такое случалось. Еврей из черты оседлости жмет руку императору. Затем они беседуют. Значит, дело не в новом чине, а в разговоре. Впрочем, погоны прилагались. Они лежали на небольшом столике и были готовы прыгнуть в руки своему владельцу.
Вот опять! Никто не торопит, а я спешу. Из-за этой дурной привычки что-то пропущу, а потом приходится возвращаться назад. Вы уже знаете о встрече с императором, а еще не сказано о наших первых днях в столице.
Настроение у нас было — о-го-го! Никто не верил, что светлая полоса скоро закончится. Если возникали проблемы, то они решались легко. Например, мы спорили: лучше протез или пустой рукав? Наконец согласились, что без протеза патриотичней. Зачем хвалиться японским подарком?
Дальше занавес закрывается. Я остался дома, а Трумпельдор отправился в Царское. Что ж, он участник этой пьесы, а я только зритель. Впрочем, правильней — слушатель. Правда, Иосиф рассказывал так, что я сразу все представил: это государь. бывший зубной фельдшер. наконец, георгиевские кавалеры.
Большой зал вытянутый. Видно, его строили для подобных событий. Лучшие наши воины стоят в ряд. Николай медленно идет вдоль строя. Одного похлопал по плечу, с другим перебросился словечком. Как они смотрели на царя! Каждый уже погибал за него и был не прочь умереть еще. Лишь бы он улыбнулся и сказал: «Благодарю».
В тот вечер император выглядел грустным. Он словно говорил: вот ведь сколько героев, а армия разгромлена! Правда, рядом с Трумпельдором он повеселел. Возможно, вспомнилась та граната, которую мой друг вернул японцам. На его лице читалось: может, новая война будет удачнее? Все же есть с кем побеждать.
Как уже сказано, на маленьком столике лежали погоны. А еще протез от русского императора. Так что наш расчет был правильный. Появись Иосиф в японском подарке, могла выйти неловкость.
Новый протез был не каучуковый, легкогнущийся, а деревянный, с шурупами на месте локтя. Что ж, ничего удивительного. Японцы мастера на что-то особенное, но по части прочности мы впереди всех.
Беседа длилась пять минут. Только это — большая честь, но все же важней интонация. Государь разговаривал нежно и требовательно. Пытался разобраться, чем может помочь. За это время они успели поспорить, а потом примириться.
Николай поинтересовался: не хотел бы юноша учиться? Если желаете стать врачом — для вас сделают исключение. Вы будете поступать не со своими соплеменниками, а в числе георгиевских кавалеров.
Хорошо, император — не наш командир. Тут бы Иосиф точно не выдержал. Впрочем, он и не согласился. Сказал, что у него планы немного другие. Ему хотелось бы на юридический.
Кстати, я много думал — почему не медицинский? Все же несколько лет рядом с зубоврачебным креслом! Если бы не фронт, он бы еще долго ставил пломбы.
Сейчас, пожалуй, я бы ответил. Врач должен любить всех, а у юриста этой задачи нет. Для него главное — победить. Почему не представить судебный процесс как поле боя? Судья наступает, адвокат обороняется, прокурор готовится к решающему сражению.
Дело не только в том, кем Иосиф хочет стать. Главное, кто он на этот момент. Явно не тот, кем был на войне.
На фронте никто не говорил: перебрось бомбу противнику. Он просто брал ее в руки, а дальше раздавался взрыв. Теперь даже поступить в университет мой друг не
может. По крайней мере, самостоятельно. Вот если царь кивнет одобрительно, тогда он точно — студент.
Иосиф сдает экзамены
Интересно складывалась его судьба. По нарастающей. Сперва стояли простые задачи. Попробуй себя в качестве фельдшера. Поборись за право сверлить зубы. Затем требования усложнились. Стань героем. Сделай выносимой жизнь в плену. Теперь ему предстояло посоревноваться с сестрами и показать, что ничуть им не уступает.
Опять удивляешься. Всякий раз Иосиф на своем месте. И тогда, когда был дантистом. И, конечно, на фронте. И сейчас. Раз судьба так велела, он сделает все, что возможно.
Стать учеником значило вернуться в те годы, когда не было войны. Впрочем, и сегодня ему не избежать сражений. Один на один он выйдет против экзаменаторов. Покажет этим умникам и всезнайкам, что тоже чего-то стоит.
Если Иосиф одержал столько побед на фронте, то неужто он отступит? Слава богу, обошлось. Впрочем, Георгия давать не за что. Результаты битвы при гимназии имени императора Александра I оказались скромными.
Странные эти экзаменаторы! Казалось бы, могли принять во внимание личное знакомство с императором, но они этим не заинтересовались. На лицах было написано: из всего, что вы знаете, нам важно лишь то, как пишется слово «корова».
По праву близкого друга я был допущен до аттестата. Что тут скажешь? По русскому и законоведению — четыре, а по другим предметам — три. Хоть и немного, но для начала достаточно. Затем в действие вступала протекция.
Честно говоря, удивляюсь его выдержке. Недавно он был Учителем, и ему внимали десятки взрослых людей. Вдруг ситуация переменилась. Он сам стал учеником. Притом далеко не лучшим.
Конечно, мне было проще. Я ни на что не претендовал. Да и оснований для этого не было. Из начальства я знал только урядника. Какой для меня университет? А Сельскохозяйственные курсы — в самый раз.
Так что и в этом мы разделились. Агроном все время копается в земле. Даже поднять глаза у него нет времени. Юрист же смотрит вдаль. Его орудие — слово и жест, а мое — лопата и грабли.
Петербург. Первые впечатления
Куда больше учебы нас интересовал Петербург. Ради этого города стоило ходить на лекции. Да ради него можно было стать вечным студентом! Только бы каждый день дорога пролегала мимо любимых зданий.
Как к этому привыкнуть? Крутим головой: красота! И на следующий день: красота! И через неделю. Сколько ни смотришь — удивляешься. Иногда толкнешь спутника под руку. Пусть и он порадуется тому, чего ты прежде не замечал.
Каждый дом здесь говорит: я — особенный! Так что простому смертному лучше вести себя тихо. Иначе тебе напомнят, кто ты на этой картине. Хорошо, если фигура на заднем плане, а скорее — случайный мазок.
Сейчас я бы согласился сразу, а тогда пытался спорить. Да как же так! Я, прошедший огонь и дым, не хочу быть последним. Про своего приятеля и не говорю. Что ж, город не из ленивых. Если потребуется, объяснит опять.
Как это произойдет? Да очень просто. К примеру, вы идете ночью, но вдруг останавливаетесь. Дело в том, что две половинки моста поднялись на дыбы. Будто одна другой говорят: не хочу и не буду.
Это не только развод моста, но развод в самом что ни есть прямом смысле. Может, и неловко присутствовать, но куда денешься? Сидишь на скамейке и ждешь. В шесть наступает примирение, и два превращаются в одно.
Город не только странный, но и хитрый. Преодолел мост, а тут новое препятствие. Вошел во двор на одной улице, а вышел на другой. Если захотите раствориться в этих пространствах, то у вас это получится.
Столица империи кое-что объясняет про империю. Говорит, что человек здесь прилагается к величию. Вернее, величие с людьми никак не связано. Ходишь по городу и удивляешься: а при чем тут я?
Люди черты оседлости спотыкаются об ограничительные линии. Этих линий здесь столько, что кажется — запрещено все. Наверное, поэтому наши интонации ползут вверх. Словно мы постоянно спрашиваем: завтра — четверг? Что еще, кроме календаря и здравого смысла, это подтверждает?
Как говорилось, черта оседлости существует и в головах. Это когда размышляешь от сих до сих. Добрался до какого-то поворота и остановился как вкопанный. Ни полшага вперед! Если я это позволю, то мне не избежать неприятностей.
Это еще один повод вспомнить Хамадеру. Там тоже хватало ограничительных линий. Включая те, что окружали лагерь со всех сторон. При этом мы старались переиграть обстоятельства. Да что говорить! Иногда удавалось самим устанавливать правила.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Сколько раз мы воображали, как вернемся домой. Думаю, всем представлялась одна картина. Поцелуи, объятия, водка на столе. Праздник! Каждую минуту кто-то заглядывает: к вам тоже вернулся солдат?..
Было еще одно видение. Пусть не у всех, но точно у тех, кто издавал газету. Вот мы предстаем перед чиновником. Вопросы об одном, другом и, наконец, главном. Это значит: все. Теперь не отвертишься. Придется признать: да, выходили за границы учебника. О конституции не упоминалось, но о том, что надо отстаивать свои права, говорилось не раз.
Вы, конечно, знаете, как полицейские смотрят. Подцепят взглядом, а ты трепыхаешься, как на крючке. А как они слушают! Вполуха. Показывают, что разглагольствовать мы можем сколько угодно, но это ничего не изменит.
На расстоянии нам казалось, что мы возьмем количеством. Они — два слова, а мы — сто. Что за речи я произносил в воображении! Заканчивались они по-разному, но начинались с Робинзона.
«Вы читали о том, как Робинзон в одиночку обживал остров? — приступал я. — Как обзаводится всем необходимым, включая лучшего друга? Так и в плену. Сперва мы впали в тоску. Потом поняли, что надо что-то делать. Когда стали издавать газету, уже не спрашивали: зачем? Все и без того было ясно».
Мне представлялось, что полицейский смотрит так, что от его взгляда я сжимался. «Тише! — обращаюсь к себе. — В таких кабинетах следует быть осторожней».
«Это тогда мы на что-то претендовали, — продолжал я. — Теперь у нас нет амбиций. Понимаем, что надо стать покладистей. Театром не заниматься, газет не выпускать. Хватит того, что позволено быть зрителями и читателями. Ну а что нам читать и смотреть — это лучше знаете вы».
Вряд ли возможна такая сцена. Скорее всего, уже на второй фразе попросят не отвлекаться. Я опущу плечи и глазами уткнусь в ботинки. Вид у меня будет такой, что впору спросить: если сейчас выставить грудь колесом, не будет ли это слишком дерзко?
Значит, монолог отменяется. А заодно все остальное. Нельзя не только произносить речи, но выпускать газету. Даже громкие голоса не поощряются. Ведь если кто-то шумит, то, возможно, так он выражает недовольство.
Вот что нам представлялось. После Манифеста от 17 октября мы в эти картины еще верили, но уже усомнились. Осторожно так спрашивали себя: выходит, все же возможно? Ведь если отменена предварительная цензура, то запретить стало сложней.
Когда же мы прибыли в Петербург, это чувство укрепилось. Теперь не оставалось сомнений: издателем мог стать кто угодно. Если даже это пришло в голову бывшему солдату, то почему нет? Пожелай он выпускать газету на идиш, ему тоже не будет препятствий.
Уж так у нас принято. Если запрещено, то желающие вряд ли найдутся. Стоит появиться лазейке, сразу образуется очередь. Вот и сейчас многие ринулись. Появилось столько изданий, что, если их разложить все, они займут целый прилавок.
Мы ахали, цокали языками, пожимали плечами. Вспоминали, как ждали в плену нового номера. Как, бывало, возьмешь пахнущий краской листок и думаешь: это же доказательство существования Бога! Если может выходить эта газета, то не обошлось без Его участия.
Казалось бы, плен создан для разочарования и тоски. В нашем случае вышло иначе. Видно, дело в том, с какой стороны посмотреть. Появляется слабый — и упирается в стену. Потом сильный обнаруживает дверь.
После манифеста нечем стало гордиться. Сейчас это было под силу не только отчаянному, но и безвольному. Может, полицейский не порадуется, но уже не откажет. Что он против бумаги? Одной ее тяжестью он будет превращен в прах.
Я еще вот что скажу. Зря мы уничтожали газеты. Даже если бы нас вызвали куда следует, то, скорее всего, похвалили. Как вам удалось опередить события! Хотя мы и ближе к власти, но ничего этого не предполагали!
Сейчас я вижу нас с Иосифом в Петербурге. Разносчик выкрикивает названия еврейских газет. Вроде бы надо радоваться, но нам грустно. Вспоминается наше издание ценой в несколько сэнов. Мы думали о нем так же тепло, как о наших товарищах. Про себя обращались к ним и к нему: что, дорогие? У тебя нет руки, у тебя — ноги, а от тебя, газета, не осталось почти ничего. Четвертинка четвертинки и восьмушка восьмушки.
Вам, конечно, интересно: удалось ли ответить так, как хотели? Если нам и пришлось с ними говорить, то по другому поводу. Пока же полицейские нас не замечали. Оторвут головы от бумаг и скажут: если вам подпись или печать, то это другая дверь.
Что ж, мы настойчивые. В конце концов добились их внимания. Теперь они не только слушали, но за нами записывали. При этом не особенно себе доверяли. Закончат — и говорят: «Нельзя ли попросить автограф? Мол, с моих слов записано и мной прочитано. Да-да, на каждой странице. Говорите, страниц много? Так и грехов у вас не меньше».
Впрочем, это еще не скоро. Пока нам досаждает только бедность. Обедаем в столовой Общества трезвости. Утром и вечером чай без сахара. Еще раз в неделю прачка. На все про все в месяц выходит рублей пять.
Обосновались мы в комнате на Петербургской стороне. Впрочем, для комнаты это жилище слишком маленькое. Правда, стол помещался. Когда мы занимались, Иосиф сидел по одну его сторону, а я — по другую.
Не только стол, но и кровать у нас была одна. Спим по очереди. Вряд ли это способствует самоуважению. Вспомнишь, что сегодня надо перебираться на пол, и вся спесь пропадает. Зато на другой день берешь верх. Смотришь с высоты своего положения: как там мой друг?
Многие годы меня мучила эта квадратура круга. Прямо не умещалось в голове: да он же герой! Знакомый двух императоров! Каково ему в этой комнате? Да такому и дворца окажется мало!
Такой я был наивный. Видел только то, что мне хотелось. На самом деле сложности только начинались. Пока же нас предупреждали: осторожней, господа! Впереди негероическая эпоха! Раскинуть крылья будет можно, но взлететь — никак.
ДОКУМЕНТЫ
Сами знаете, что такое экзамены. Трясешься от ужаса. Просишь высшую силу: если можно, вопросы не с первого по десятый, а с одиннадцатого по двадцать первый. Слава богу, это длилось недолго. Вскоре Иосифа приняли в университет, а меня на Сельскохозяйственные курсы.
После зачисления — опять экзамен. Извольте показать, насколько вы готовы жить в бюрократическом государстве. Обойдите множество кабинетов и соберите необходимые подписи. Если это получится, вам позволят стать студентом.
У меня, знаете ли, есть слабость к казенным бумагам. Как увижу такую цидулю — сразу тянет пририсовать рожицу. Эта же мысль у меня возникает и при виде лысины. Вот, думаю, пустое место. Сколько тут разместится всего!
В канцелярии Иосифу показали образец. Один пункт. второй. третий. Это вся его жизнь. Правда, за вычетом огня и дыма. Впрочем, одна строка об этом есть: «.выданное из того же Управления удостоверение за № 18 121 об отбытии воинской повинности.» Вот оно как — «отбытие»! Словно он просиживал штаны в Порт-Артуре, а сейчас решил заняться делом.
Как видите, в университете почти как в армии. Может, отдавать честь не требуется, но ощущать свою малость положено. Насколько Иосиф несговорчивый, а все сделал как надо. Уж очень не хотелось подводить государя. Все же в истории его поступления он не последнее лицо.
Если это признательность, тогда дело другое. Сам себе позволяешь войти в университет не с прямой спиной, а немного склонившись.
Кстати, сразу возник вопрос о благонадежности. По этому поводу тоже имеется бумага. Возможно, ей предшествовала переписка. Сперва запросили: нет ли чего порочащего на такого-то? На это отвечали: в Управлении градоначальника неблагоприятных для вас сведений нет.
Так с нами разговаривают. Успокоят — и предупредят. Кто знает, как повернется. Ведь это только первое впечатление. Дальше включатся осведомители. Да и доброхоты помогут. Те, для кого это не служба, а чуть ли не увлечение.
Между прочим отдадим должное этому сословию. Кто-то собирает марки, а они — всякую болтовню. Услышал что-то — и сыт, пьян, одет. Да и жена не нарадуется. Тридцать сребреников — скромная сумма, но точно не лишняя.
Больше всего Иосифа раздражало то, что в университете нельзя почувствовать себя первым. Поднимешь голову и сразу получаешь шпильку. Преподаватель взглянет ехидно и скажет: «Опять вы не знаете урок».
Если здесь нельзя выделиться, значит, надо попробовать в другом месте. Лучше всего подойдет кружок. Какой именно? Да хотя бы литературный. Ведь главное не предмет занятий, а возможность видеться со своими.
Хорошо среди единомышленников. Ты если не главный, то, по крайней мере, старший. Да еще герой. К тому же автор устава. Хотя кружок — это не государство и не лагерь пленных, но как без понимания, что можно, а что нельзя.
Кстати, приведенные нами его заметки — это тоже устав. Или конституция. Правда, личная. Если угодно, советы и требования к самому себе.
В архиве сохранилось два экземпляра устава Литературного кружка — один от руки, другой напечатан типографским способом. Значит, все началось с предложения. Затем оно было принято и получило официальный статус.
В самом тексте ничего особенного. Все как всегда в таких случаях: сперва декларация, потом конкретика. Уточняется, что «члены имеют право: а) проводить совместные чтения, обсуждения рефератов и литературных произведений. б) выпускать сборники». Это можно понимать так. Ах, объединились? Значит, коготок увяз. Начнем чтениями, продолжим сборниками и так дойдем до собственных книг.
Писатель Трумпельдор
Опять разогнался? Остановись и передохни. Объясни тем, кто не в курсе, что Трумпельдор ненадолго стал автором. Будучи человеком, во всем за ним следующим, я тоже этого увлечения не избежал. Правда, писать без вдохновения у меня не получалось. Иосиф же успевал к каждому заседанию кружка.
Бывало, приду поздно, а он с порога меня радует. Что я тебе приготовил! Может, суп с картошкой? Вот и нет! Сочинил новый рассказ и хочу его прочитать.
Желудок бурчит, глаза слипаются, но я соглашаюсь. Уговариваю себя, что хороший рассказ лучше дурного обеда. Да у нас по-другому не бывает. Прозы и пьес сколько угодно, а еды никогда нет.
Кстати, для него это тоже вроде как обед. А обсуждение на третье. Случается, так насытимся спором, что хочется только упасть в кровать. Если во сне мы увидим накрытый стол, то удача нас не оставила.
Впрочем, что такое наши разговоры? Во-первых, клюешь носом. Во-вторых, стараешься не расстроить друга. Вот в кружке все по-настоящему. И обиды, и похвалы. Кто-то скептически хмыкнет, а другой раскроет объятия. Первый скажет: это тебе не поле боя! Второй возразит: молодец, растешь!
Почему все его тексты канули, а этот сохранился? Трудно сказать. Может, дело в самой истории? Так бывает: написано плохо, а смысл золотой. Для того чтобы понять Иосифа, вряд ли найдется что-то лучше.
Если даже это не о нем, но он этим мучился. Одна его половина думала: зачем напрягаться? Послал вместо себя другого — и получил диплом. Другая не соглашалась. Прямо вопила, что неправильно начинать жизнь с подлога.
Что это, если не орфография? Запятые и тире на месте, но главное — точка в конце. Возможно, другой поставил бы запятую, но он решительно подвел черту: «По-вашему, это просто и допустимо, а по-моему, недопустимо.»
Это произнесено в финале, а потому вернемся к началу. Расскажем о том, как «в дверь вошел здоровенный малый с щетинистыми, лихо вздернутыми вверх унтер-офицерскими усами». Гость говорил сипло, а это все равно что фуражка набекрень. Так узнаешь бывалых людей: или по хрипотце, или по лихо надетому головному убору.
«— Я к вам, заняться хочу. Собственно, я уже занимался у одного учителя и даже экзамены выдержал, вот только по русскому один остался.
— Вы какой же экзамен держите? На что?
— А на классный чин. Я, значит, в артиллерии служил, был унтер-офицером; теперь решил в околоточные пойти, да вот без экзамена не принимают.
— А когда у вас экзамен по русскому?
— В том-то и беда, что скоро, через три дня. Только срежусь, это как пить дать. Помогите, господин студент, сделайте милость.
— Я с удовольствием помогу, но, право, не знаю, успеем ли мы, если вы действительно по диктовке плохи.
— Плохи, плохи, господин студент. Тут без штуки никак не обойтись, я и придумал штуку, мы, военные, на этот счет хваты. Придумал я, значит, чтобы нам с вами вместе на экзамен отправиться. Я буду писать диктовку, и вы будете писать. Потом я у вас спишу. Просто и ловко! Верно я говорю, господин студент?
— Да, это просто и ловко, — согласился Зарубин, — только я на такую штуку не согласен.
— Почему?
— Некрасивое это дело, не. — Зарубин хотел сказать: нечестное, но подумал, что это может прозвучать оскорбительно, и удержался. Подыскать другого выражения он не смог и потому повторил: — Нет, на такую штуку я не согласен».
Какое-то время они препираются, а потом студент говорит: «Не столкуемся мы с вами. С вашей точки зрения, это просто и допустимо, а по-моему, так нельзя.»
Это о многих из нашего поколения. Сперва смело бьешься в Порт-Артуре, а вернувшись домой, действуешь в обход. Не все справились с этим соблазном, но у Иосифа получилось.
Теперь о словах. Они бывают яркие и блеклые. В этом тексте яркого ни одного. Лишь в последней фразе слышен его голос. Сколько раз я такое наблюдал! Несогласие долго накапливается, а затем он говорит: нет.
Ох, и строг был Иосиф. Строг и справедлив. Как-то я посетовал на бедность, а он замахал руками. «Лучше выпячивать не живот, а грудь. И не от количества съеденного, а от внутреннего ощущения: это — плохо, а это — хорошо.»
Вот этим мы спасались. Комната крохотная, едим через день, а ощущения правоты сколько угодно. Так что сутулость нам не угрожала. Спина прямая, плечи развернуты. Нет — нет, да — да. Вы считаете это допустимым, а по-моему, так нельзя.
ДОКУМЕНТЫ
Мы считали, что портартурец — это навсегда. Да и наши обязательства навсегда. Пусть нас связывает не победа, а поражение, но и это немало. Есть о чем поплакаться друг другу в жилетку.
Еще у нас был Трумпельдор. Если даже помочь он не сможет, но совет даст обязательно. Постарается объяснить — почему и зачем.
Самое главное в письмах Иосифу — лица. Читаю — и вижу всех. Вот они какие, наши солдаты. Этот черный и бородатый. Тот лысый и бритый. Возможно, наоборот, но отчего не пофантазировать? Не попытаться вместе с темой из текста вытащить автора.
Вот этот солдат мысли выражает с трудом. Поэтому его фразы жестки, как военный ремень. Правда, воюет он отлично. Да и о благодарности помнит. Знает, что надо не только пожелать здоровья, но и приписать: «С почтением».
«Присоединяюсь к просьбе товарища Дубовского к Вам и прошу Вас ответить нам совет и написать, где Вы теперь живете. У меня находится опись имущества, пропавшего в Порт-Артуре, с подписью командира полка. Могу ли я вытребовать эти деньги? Будьте здоровы, ожидаю Ваш ответ. С совершенным почтением. Киев. М. Васильковская, 32».
Другой автор явно переживает. Как отнесутся к его просьбе? Не будет ли сложностей с ответом? Представьте, кое-что он продумал заранее. По крайней мере, по поводу марок адресат точно может не переживать.
«Многоуважаемый Иосиф Владимирович Трумпельдор! В минуту тяжелую я вспомнил Иосифа Владимировича. Прибегаю к Вам с просьбой, а так же за советом, дело в следующем: до настоящего времени я жил в Киеве, не имея удостоверение с полка, а теперь требуют от меня удостоверение с полка и о беспорочной службе. Три года назад я посылал в полк, чтобы мне выслали удостоверение, так мне ответили, что тех начальствующих лиц, которые были при мне, которые могли бы удостоверить мою личность, уже нет. Так вот, дорогой Иосиф Владимирович, покорнейше Вас прошу уделить мне немного времени и посоветовать, как мне вытребовать такое удостоверение, иначе я теряю права. Прилагаю при сем две марки по семь копеек и прошу Вас при получении сего написать мне ответ заказным письмом по нижеследующему адресу. К Вам с совершенным почтением М. А. Дубровис».
Что можно сделать на таком расстоянии? Если только вселить уверенность. Видно, Дубровису этого недостает. Наверное, он надеется на то, что «удостоверение с полка» придаст ему веса.
Опять спрашиваю себя: в чем причина его влияния? Со мной все ясно, а что сказать о других? Вот еще одно письмо, где прямо говорится: вы тот, «кто создал для евреев автономное государство». Это о ком? Даже произнести страшно. Зато автор смело говорит: Мессия.
Конечно, с Мессией — это чересчур. Другое дело — миссия. О ней Иосиф не догадывался — знал. Как это понять иначе, если действительно живешь по-крупному? Причем не только на войне. Казалось бы, что такое потерянные деньги и удостоверения? А ведь они тоже история.
Жаль, Иосиф только студент. Как было бы неплохо представляться: «Трумпельдор, юрист»! Впрочем, если сказать просто «Трумпельдор», то это тоже немало.
Еще один кружок
Как уже говорилось, Иосиф учился неважно. Так что самое время вспомнить о его почерке. Тут все обстояло ни шатко ни валко. Вроде вот она, прямая линия, но буквы с ней не считаются.
Не только я чувствовал себя буквой, упавшей с линейки. Иосиф тоже не совпадал.
Не то чтобы нам это сложно. Просто у нас за плечами война. Вы сами вообразите: недавно удачи измерялись орденами, а теперь отметками. А еще представьте, что мы учим! Нужна ли история тем, кто в ней участвовал? А география — разве предмет, а не дороги и испытания? Что ж говорить о юриспруденции! У солдат свои законы. Тот же, кто совершает подвиги, прав всегда и во всем.
В университете иерархия почище, чем в армии. А то бы Иосиф много чего рассказал преподавателям! Например, о том, как вести себя во время атаки. Или тогда, когда наступает противник. Тут есть много тонкостей, которые из аудитории не разглядишь.
Я, как вы знаете, не из борцов. Немного попереживаю, а потом соглашусь. Ну, а мой друг упертый. Чем невозможней, тем он настойчивей. Вижу: хочется ему чего-то большего. Такого, как победа. Или в крайнем случае достойная смерть.
Конечно, университет тут ни при чем. Получишь «отлично», но какое это свершение? Да и «неуд» — это не смерть. Как сказано, он стал искать в других местах. Сперва это был литературный кружок, а потом кружок любителей Палестины.
Да, скромность — не про нас. Втайне мы вдохновляемся сходством Иосифа с творцом Петербурга. Если Петр на болоте создал город, то, может, и у нас получится? По крайней мере, рука моего друга на этом настаивает. Она говорит: прямо, все время прямо. Главное, не разочароваться и идти вперед.
Учебники нас интересовали лишь во время экзаменов, но сейчас мы припали к книгам. Находим в них не только разные сведения. Если долго читаешь, то можно увидеть Палестину. Чуть ли не москиты начинают кружить по комнате на Петербургской стороне.
Заседают палестинофилы по четвергам. В углу сидит стенографистка, а мы стараемся — фантазируем. Делаем это друг для друга, а еще для будущего. Как, думаю, удивятся потомки! В кармане ни рубля, а видений на миллион! Впрочем, кому в юности интересен результат? Хватает удовольствия от идеи и самих себя.
В этой истории важна ниточка. Ее прочные стежки. Если следовать этим путем, то увидишь, что Иосиф всегда создавал сообщества. Сперва нас объединяла литература, а потом он предпочел Палестину.
Жизнь коммуной
Когда мы поняли, что пора объединиться, мы сняли квартиру. С этих пор дело пошло веселей. Ведь это была не столько квартира, сколько коммуна. Здесь все делалось сообща: подметали, готовили, накрывали на стол. Во всем прочем держались независимо. Представьте, в трех комнатах расположилось примерно четыре партии.
Скучно летом в Петербурге. Иосиф предложил не разбивать лбы в спорах на кухне, а перенести обсуждение на природу. В городе Ромны (это недалеко от Полтавы) есть все, что требуется. Главное, лес и река. Что касается стульев в зале и стола на сцене, то за этим дело не станет.
Все так и сделали. Помнится, Иосиф сидел на председательском месте, а депутатов еще нет. Они решили искупаться, а уже потом витать в облаках. Вскоре приходят довольные. Извини, дорогой учитель. Хоть ты и показывал прямо, но мы свернули в сторону.
Странная была поездка. Во-первых, участников — кот наплакал. Да и все лица знакомые. Уж не говоря о разговорах. Когда? Сейчас или позже? Пора действовать — или еще не все прочитано? Как вы понимаете, вопросы — не ответы. Для того чтобы сказать последнее слово, следует перестать спорить.
Так мы купались и загорали с перерывами на выяснение позиций. Даже мысли не возникало, что эти легкие дни могут аукнуться. Что у нас станут допытываться: говорите, это был не съезд, а выезд на природу? Почему же тогда вы приняли резолюцию и разослали наказы на места?
Как объяснить этим серьезным людям, что одно не противоречит другому? В восемьдесят мы бы сидели в президиуме и там же отсыпались. А если тебе нет тридцати? Наши заседания продолжались после купания. Сидим на берегу — и бурно жестикулируем. Причем делаем это не по очереди, а одновременно.
Охолонись, Давид! — вновь обращаюсь я к себе. — Вечно ты перепрыгиваешь с пятого на десятое! Сперва расскажи, как Иосиф влюбился. Причем если бы в барышню! В писателя. Впрочем, в это время Толстой был на языке у всех. Бывало, назовешь имя — и глаза загораются. Мол, любим, перечитываем, считаем первым автором.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ТОЛСТОЙ И МЫ Уход, смерть, прощание
Толстой больше чем автор. Ведь сочинители только пишут, а он еще наставлял на истинный путь. Объяснял нам, несмышленым, как отличить правильное от неправильного. Кажется, водил перед носом пальцем. Мол, если вы не послушаете, то будете об этом жалеть.
Догадывался ли писатель о нас, своих сторонниках? Если только в общем. Зачем королю знать подданных в лицо? Хватит того, что мы не забывали о нем. Когда возникали вопросы, ответы находили в его книгах.
Толстой был такой же величиной, как, к примеру, Александровская колонна. Вы можете представить, чтобы эта питерская достопримечательность стронулась с места? Так мы восприняли весть о том, что он покинул Ясную Поляну.
Всю жизнь Толстой вносил ясность. Думал и понимал за всех. Тем удивительней, что он оделся в затрапезу и превратился в калику перехожего. Сколько таких бродит по Руси! Каждый хочет найти истину, но не знает дороги. Надеется, что ноги сами приведут его куда надо.
Мы чувствовали страх за него. В то же время радовались сходству. Ведь неизвестно куда — это про нас. Хотя бы раз в неделю наша компания покидала родной дом. Вернее, комната, стулья, самовар и стаканы оставались на месте, а мы путешествовали.
Солнце сжигало спины, москиты не отступали, но мы держались уверенно. Конечно, вспоминали Толстого. Ведь это он призывал жить на земле. Помнить о том, что все, в нее вложенное, после вернется сторицей.
У каждого свой Лев Николаевич. Для нас он был еще и соратник. Человек, делавший то же, что мы. Пусть он не издавал газету, но зато выпускал журнал. Да и школа работала. Даже азбука была не та, что у всех, а написанная им самим.
Как это связывалось? С одной стороны — имение, а с другой — литературное хозяйство. Модные авторы любят поговорить о «жизнетворчестве». Ничего не имею против этих всклокоченных и сладкоголосых, но не с них все началось. Толстой двигал сюжет и — управлял имением. Отвечал даже за сенокос. Можно сказать, был его автором.
Вслед за первой новостью приходит известие, что в дороге Толстой заболел. Казалось бы, что такое простуда в сравнении с его поступком! Так вот простуда оказалась сильней. Тот, кто хотел побороть все зло этого мира, не одолел эту малость.
Затем темень сгустилась до мрака. Все газеты как выдохнули: Толстой скончался. Так и вижу большие черные буквы вверху газетного листа. Главное, впрочем, читалось на лицах. Казалось, мы стоим у развилки дорог и не знаем, какую выбрать.
Мы бы, конечно, растерялись, ушли в себя, если бы не Иосиф. Он буквально требовал, чтобы в эти дни мы держались вместе. Чем больше людей придет помянуть Толстого, тем очевидней будет потеря.
Когда Лев Николаевич объединяется с Трумпельдором, то возражений не может быть. Люди шли и шли. Кажется, тут находились все. Причем не только университетские. Например, были представлены Сельскохозяйственные курсы. Это я объяснил своим товарищам, что их место здесь.
Опять мой друг был впереди. Его единственная рука долго болталась без дела, но наконец сосредоточилась. И не только сосредоточилась, но перешла в наступление. Кажется, мы слышали: «Ура!» и «Защитим Порт-Артур!» Сейчас ему под силу был не только митинг, но даже сражение.
Что я? Находился рядом с ним — и со всеми. Меня захватила волна общего горя, но я не забыл о своем долге историка.
Мне даже кое-что стало понятнее. Я подумал, что историк — это, прежде всего, нюх. Вот так ведет себя гончая. Уши поднимаются, ноздри прощупывают воздух. Чувствует псина, что настал ее час.
ДОКУМЕНТЫ
Откуда у меня эти бумаги? Я их получил во время Февральской революции. В эти дни все было наоборот. Какой-нибудь мастер делать бомбы и взрывать губернаторов вдруг становился лицом публичным. Недавно его жизнь проходила в прятках с полицией, а сейчас он сам власть. Возможно, министр Временного правительства.
Как-то сижу у нашего приятеля Савинкова. Беседуем, удивляемся. Вот оно как бывает! Всю жизнь действовал из-за угла, боялся провала, а вдруг — кабинет в Зимнем дворце. Нажимает на звонок — и является секретарша. Хотите чая? А может, время отдавать приказы и нужна моя помощь?
«Тебя это не заинтересует?» — улыбается бывший бомбист и протягивает десяток мелко исписанных листков.
Революция подобна взрыву гранаты в болоте. Всплывает все, что лежало на дне. Вот и эти бумаги подняло на поверхность. Все прошли мимо, а один подумал, что это заинтересует знакомого. Он участвовал и сможет по достоинству оценить.
Документ действительно любопытный. Ректор Петербургского университета Иван Иванович Боргман объясняется перед управляющим учебным округом. Задача у него сложная. Надо все рассказать так, чтобы никто не пострадал.
Слышал ли Боргман наши фамилии? Наверное, кто-то постарался и сообщил. Да и прочие имена ему были доложены. Впрочем, ректор не назвал никого. Хватит того, что он сам известен адресату. Он и будет отвечать за всех.
Итак, тон ровный, голос не повышается. Кажется, он описывает химический эксперимент. Выводов не делает, но последовательность передает точно. В данном случае это важнее всего. Если реакция пошла так, а не иначе, то это и есть итог.
Прежде чем перейти к моим выпискам, надо сказать, что мы с Боргманом знакомы. Конечно, кто — он, а кто — я? Тем существенней эта искорка. Проскользнула она стремительно, но все же оставила след.
Как-то захожу за Иосифом, а тут — ректор собственной персоной. Улыбается не куда-то в пространство, а лично мне. Тогда я осмелел и улыбнулся ему. Так, не познакомившись, мы обменялись приветствиями.
Потом я узнал, что это не просто так. Правда, сам Иван Иванович на эту тему не распространялся. Ведь после крещения он сменил отчество «Абрамович» и вроде как к нашему племени не принадлежал.
Как уже сказано, события из ряда вон выходящие, а температура отчета тридцать шесть и семь. Что ж, так и должно быть. Исследователю ни жарко, ни холодно. Он опускает очки на нос и записывает то, что видит через стекло.
Вот начало этой истории: «Известие о смерти Л. Н. Толстого, полученное в С. Петербургском Университете в воскресенье 7 ноября, заставило в тот же день созвать Светскую комиссию, которая в знак траура по почетном члене Университета решило чтение лекций 8 ноября отменить. В то же время, предусматривая возможность
обращения со стороны студентов с просьбой о сходке, Комиссия полагала таковую разрешить. Такое разрешение и дано было проректором, причем предъявляемая программа сходки намечала обсуждение вопросов о посылке студенческой делегации в Ясную Поляну, о месте для выставления портрета Толстого, подаренного студентам с его собственноручной подписью, и о телеграмме. Начавшись в 12 часов, сходка закончилась через час с небольшим и, несмотря на большое число участников — до 4000 человек, прошла спокойно. При выходе из зала студенты запели „Вечную память“. Это пение продолжалось и на улице».
Текст вроде как констатирующий, но читать без волнения невозможно. Я сразу нахожу Иосифа в толпе. Он размахивает рукой и что-то кричит. Рядом с ним — я. Тоже срываю голос. Как обычно, развиваю мысли своего друга.
Кстати, насчет его отстраненности я немного преувеличил. Все же эксперимент не совсем чистый. Иногда он участвовал и даже пытался влиять. «Ректор, поднятый студентами на руки, — говорится в докладной, — убеждал их вернуться». Вот такой сложный состав. В то же время вместе и порознь. Сидит на скрещенных руках подопечных, но с ними не соглашается.
«Компактной массой студенты двинулись к набережной, а затем вдоль ее по направлению к Николаевскому мосту. Ректор и проректор, а также многие студенты во многих местах уговаривали толпу разойтись. Однако толпа, хотя и не всегда решительно, продолжала двигаться вперед. У здания Академии художеств толпа временно остановилась ввиду полиции, преградившей вход на Николаевский мост. Толпа заколебалась. Конные городовые разделили ее на две части и направили одну к Университету, а другую по четвертой линии. До Университета студентов дошло немного, и они скоро разошлись».
Тон, как уже сказано, спокойный, но мысль постоянно уточняется. Движется к самой сути. Вот он объясняет, что это — университет. Своим тут все ясно, а посторонним нужен комментарий. К примеру, почему в коридоре народ? Это студенты пришли узнать об экзаменах, как вдруг тема поменялась.
«Вообще следует сказать, что в этот и последующие дни положение дела осложнялось производством записи на экзамены (в декабре) студентов самого многочисленного — юридического факультета. В частности, 8 ноября студенты-юристы 4 курса, с трех часов, с разрешения Проректора и Декана, устроили совещание касательно экзаменов. Это совещание привлекало все больше студентов по мере приближения к 6 часам, когда была назначена выдача билетиков юристам. Тем временем оказалось, что часть студентов-манифестантов, человек 600—700, оттесненная полицией по 4-й линии, не разошлась, а направилась к Среднему проспекту и по нему к Университету мимо здания студенческой столовой. Здесь студенты были встречены конной полицией, которая отделила человек двести и рассеяла их с Биржевой площади по переулкам. Человек 400—500 вошло в Университет. Здесь были и посторонние. Эта толпа шумно явилась в коридор, направилась в 9 аудиторию, где совещались студенты-юристы, а затем вошла в актовый зал. Сюда стали стягиваться и юристы, пришедшие на запись. Началась шумная сходка, настроение которой подогревалось ложным известием, что двести человек, отрезанных полицией на Биржевой площади и в действительности только рассеянных, арестованы. Назревало решение идти освобождать их силою. В то же время в коридоре около деканской Юридического факультета происходили бурные сцены вследствие недоразумений с записями. По получении точных справок, что арестован никто не был, Проректор отправился в актовый зал и заявил об этом».
Вы не забыли, что речь о записи на экзамены? Значит, жизнь продолжается. Митинг митингом, а учебу никто не отменял. Да и январь наступит в срок. А уж тогда за учебники сядут все. Те, кто пел «Вечную память», и те, кто в это время находился дома.
«9 ноября. В этот день была назначена панихида по Толстому в Армянской церкви, стянувшая на Невский массу учащейся молодежи. После того, как эти массы были рассеяны полицией, они в значительной части своей направились к Университету. Так как входы охранялись полицией, то средоточие приходивших произошло на Биржевой площади, около столовой. Толпа делала попытки проникнуть в Университет и сняла с петель ворота со стороны Биржевой площади. Полиция, однако, помешала вторжению и удалила со двора тех студентов, которые успели проникнуть через заборы со стороны Филологического Института и столовой. На площади полиция старалась разъединить столпившихся и не допустить речей. Студенты разошлись без дальнейших инцидентов.»
Снова представляю ученого химика за его привычным занятием. Он хочет понять: что там — по ту сторону стекла? Да и по эту есть много вопросов. К примеру, ему нужно знать, что такое — пощечина? Много это или ровно то, что необходимо?
Как обычно, Иван Иванович не говорит прямо, но рассказанный им случай не оставляет вариантов. Пощечина — это точка. Тот самый решающий жест, который должен ситуацию прояснить.
За несколько дней студенчество раскололось на почитателей Толстого — и любителей сообщать куда надо. Понятно, что вторые косят под первых. Правда, если они выдают себя, то получают по полной.
«.Во время заседания Правления, в 2 часа, Проректор был вызван одним приват-доцентом, заявившим, что на коридоре избили студента, принадлежащего к Союзу русского народа или академиста. Проректор немедленно отправился на коридор и установил, что столкновение произошло у актового зала в группе студентов, рассуждавшей о сходке 3 декабря. Один из участников беседы, приняв другого за члена академического союза, вдруг заявил, что видел его и его товарища во время сходки у телефона сообщающим сведения полиции. За это студент от собеседника получил пощечину. Дальнейшее развитие сцены было замято самими студентами».
Вряд ли пощечина была последней в череде событий, но Боргман ею закончил отчет. Ведь это мораль и итог. Подтверждение, что мы не только чтили Толстого, но ему следовали. Черное называли черным, а белое белым. Если же видели, что слова не помогают, переходили к прямым действиям.
Думаю, что Боргман и себя имел в виду. Тон он избрал верный, но ситуация неприятная. Хоть он и ректор, а все равно что этот студент. Да и обращаются они по одному адресу. Или почти одному. В конце концов, все полученные сведения будут собраны в одной папке.
К сожалению, вариантов тут нет. Был бы он не ректором, а просто ученым, то тогда конечно. Если захочешь, можешь скривить лицо. Встать в позу, наконец. Сказать, что думаешь только об опытах — и ни о чем больше.
Пожалеем бедного Ивана Ивановича. Как-никак человек старался. Мало кто в его положении хочет сохранить достоинство. При этом Боргман не перебарщивал. Благодаря этому вышла ему не отставка с волчьим билетом, а только поднятые брови и несколько сердитых галочек на полях.
И все-таки Боргман не выдержал. В конце 1910 года подал прошение. Можно было уйти по состоянию здоровья или в связи с научными занятиями, но он решил, что достаточно. Если дело в нарушении прав студентов, то так надо и говорить.
ДОКУМЕНТЫ
Многие из тех, из-за кого ректор покинул свою должность, были ему неприятны. При посторонних он бы не стал выяснять отношения, а в личном разговоре мог спросить: что важней, чем смерть гения? Говорите — правда и справедливость? Так ведь умерший — то самое и есть.
Хотя в дни прощания мне мешали слезы, но кое-что я разглядел. Кто только не пытался воспользоваться этим уходом! Причем поводы были так далеки от Толстого, что прямо дивишься.
За пару дней университет превратился в революционный штаб. Наверное, где-то висели расписания занятий, но теперь это мало кого интересовало. Другое дело — листовки. За, против, ни за, ни против. От этой разноголосицы голова шла кругом.
Подписи в основном обобщенные. Не Иван Иванов, а «группа с.-р.». Пусть те, кому это положено, разгадывают аббревиатуры, а меня волнуют предпочтения. Мне это показалось настолько важным, что кое-какие листовки я снял со стены.
Бумаги могли всплыть вместе с отчетом Боргмана, но кто же знал, что откроются архивы? Детский опыт потрошителя яблоневых садов подсказывал мне: возьми. Лучше это сделаешь ты, чем полиция. Еще хуже, если эти листовки пропадут в куче мусора.
Возможно, я так поступил из-за газеты, которую мы выпускали в плену. Уже говорилось, что от нее не осталось почти ничего. Конечно, можно было припрятать в кармане или подкладке, но я не решился. Себя довез в целости-сохранности, а наше издание не уберег.
Зато с листовками не оплошал. Вот они, в папочке. Читаю — и сразу возвращается все, что связано с этими днями.
Значит, не так уж ошибался Савинков, когда передавал мне докладную. Да и Плюшкин со свечными огарками был по-своему прав. Уж не говоря о коллекционерах бабочек. Каждый из них способствовал не умалению, а прибавлению.
Вот как создается история. Документ к документу. Если свечной огарок к ней имел отношение, он тоже не будет лишним. Ну и бабочку приколем иглой. Пусть напоминает о том, как летала вблизи важных событий.
Впрочем, сейчас мы о листовках. Достаю их со всей возможной бережностью. Это почтение не к конкретной бумаге, а к тому целому, в которое они входят одной из частей.
Как все перемешалось! Были мы, скорбевшие о потере почти отца, но существовали другие, кто просто воспользовался скоплением народа. Вот так же мелкие воришки. Их никто не видит, но зато они замечают все.
«Группа С-Р доводит до сведения товарищей, что общегородской комитет в присутствии представителей от 17 высших учебных заведений постановил: 1) предложить студенчеству объявить демонстративную забастовку протеста против современного государственного уклада на весь семестр; 2) предложить студенчеству дни — понедельник и вторник — посвятить обсуждению этого вопроса, а в один из следующих трех дней (среда 26-го, четверг 27-го, пятница 28-го) собраться на сходку для голосования резолюции о забастовке».
Как видите, для них нет ничего, кроме борьбы за правду. Даже смерть гения не мешает им решать свои проблемы. Раз они недовольны режимом, то зачем ходить на занятия? Даем властям семестр на проведение реформ. Ведь если пропустить больше, то с университетом придется расстаться.
Вот еще одна листовка. Опять же Толстой не называется. Дело куда серьезнее. Да и не до прошлого тем, кого волнует будущее. То, чего нет и, возможно, не будет.
«К землячествам
Тт. Цикл завершен.
Землячества, начавши подпольное существование, прошли через стадию открытой легальной деятельности и, наконец, теперь снова загнаны в подполье. Многолетняя самоотверженная работа пошла насмарку.
Новая борьба начинается, и лозунгами ее могут быть лишь требования самой широкой свободы.
Группа с.-р., подчеркивая политическое значение настоящих выступлений, обращается к землячеством с предложением агитировать среди своих членов за новое студенческое выступление».
Все же здравый голос прозвучал. Уймитесь! — говорил он. Ничто не должно быть поводом! Представьте, что умер не Толстой, а вы. Как бы он пришел на вашу могилу? Как бы склонил голову? Уж точно обошлось бы без лишних слов.
«Товарищи! Гениальный писатель при жизни был поборником тишины и порядка. Умирая, он в последней своей воле завещал миру то же самое —блюсти тишину и порядок.
Так ли, товарищи, истолковали волю покойного вашего Вождя?
Неужели вы не видите их ясного желания использовать минуту всемирной скорби для своих мелких политических, по сравнению с моментом, интересов.
Мы полагаем, что все теперь происходящее — величайшее оскорбление памяти покойного и его свежей могилы.
Опомнитесь вовремя, пока не поздно, и не позорьте памяти покойного».
Под текстом написано: «беспартийное студенчество». Вот-вот — беспартийное. Значит, имеющее право на свое мнение и свои, особенные, слова. Все вместе никогда не скажут: «блюсти тишину и порядок». Это можно произнести только от своего имени.
Многие наши не соглашались с «с.-р.», но и не разделяли мыслей о «тишине и порядке». Как-то не приходило в голову, что иногда лучше помолчать. Подумать: это — я, а это — смерть. Насколько все мельчает в ее присутствии!
Толстой знал, что смерть — это тишина. Ведь уйти из Ясной Поляны значило раствориться. Из человека в центре внимания стать одним из многих.
Впрочем, тогда мы думали о другом. Даже мизерность Астапова нас не смущала. Представлялось что-то вроде Березова. Помните суриковское полотно? Низкие потолки, стены из бревен, маленькое окошко — и тот, кто этому противостоит.
Словом, мы совсем не могли без героики. Уж раз мы решили его помянуть, то пусть это будет коллективный акт. Как-то не приходило в голову, что лучше это делать по одному.
Еще долго эта история напоминала о себе. Там, где умер Иосиф, о Толстом говорили нечасто, но это был именно такой случай. Во-первых, на его похоронах пели. Правда, не «Вечную память», а «Хатикву». К тому же два эти события связывал памятник, изображающий рычащего льва.
Говорите, я это придумал? Что ж, возможно. Это мои воспоминания, и у меня есть право на любую догадку.
Мне кажется, что монумент в Тель-Хае посвящен еще и Толстому. Все же тут и там — Лев. Да и октябрь сразу вспоминается. Вот мы шумим, поем, перебрасываемся цитатами. Нас здесь столько, что голоса перелетают через Неву.
ДОКУМЕНТЫ
Как вы помните, ректор никого не назвал. Зато в газетных сообщениях нас поминали все время. Правда, без имен и фамилий. Таковы правила газетного жанра — бьем сильно, но исподтишка. Пишем не о ком-то конкретно, а сразу обо всех.
Чтобы отличить черносотенные издания, особые таланты не нужны. Достаточно нюха. Чувствуете запах? Теперь вам следует зажать нос и смело нырять.
Вот передо мной такая газета. Это о чем тут речь? О нашей попытке достойно проститься с писателем? Разве этот митингующий — Иосиф, а рядом — кто-то из нас? Кое-что похоже, а в целом узнать невозможно.
«Какой-то жидочек из крайне левых вносит предложение: „Студенчество Петербургского университета считает, что лучшим способом увековечить память Л. Н. Толстого является неотложная отмена смертной казни“. Затем почти без прений принимаются: .2) Отпечатать портрет и продавать среди студентов университета, вырученные же деньги употребить на увековечивание памяти Толстого в университете, т. е. обратить на нужды революции добавим мы от себя. 3) Обложить студентов Университета обязательной взносом и из собранных денег образовать стипендию имени Толстого (которая будет выдаваться только жиду или известнейшему революционеру; это неписаная часть резолюции) или употребить их как-нибудь иначе (например, пропить)».
Если ректор тщательно выбирал слова, то этим все равно. Ругаются с удовольствием. Как начнут, так не остановятся. Скажут слово, а на языке набухают еще три.
Это надо же! Жить рядом с прекрасными зданиями — и жевать грязь! Впрочем, нас этим не удивишь. Очень даже понимаем, что если газета проявит благоразумие, то жанр будет другой.
Журналисты все почуяли правильно. Поэтому дальнейшие события нас не удивили. Мы думали не «за что?», а «наконец». Нас выслали в Финляндию, а потом пришли с обыском. Вряд ли добивались чего-то конкретного. Скорее предупреждали. Мол, раскиньте мозгами. Может, поймете, что в университете учатся, а не устраивают митинги. Если вы настаиваете на своем, то придется разговаривать под стенографистку. Чтобы после не переспрашивать: это ваше последнее слово или вы хотели бы показания изменить?
ГЛАВА ШЕСТАЯ. КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ И МЫ
Написано на оборотной стороне листа
Не по себе Трумпельдору-студенту. Больно скромные задачи перед ним стоят. Прочитай, вызубри, расскажи. Особенно не развернешься. Что ж, понимаю. Ему привычней сидеть в окопе или выступать перед толпой. В такие минуты он чувствует ветерок. Некое дуновение опасности.
Какое дуновение, если Иосифу угрожают только строгие преподаватели? Впрочем, вскоре ему представился повод сорвать голос. Хотя людей вокруг находилось мало, но он, как обычно, себя не жалел. Уж размахивать так размахивать. Кричать так кричать.
Что полагается за «организацию студенческих беспорядков»? Тюрьма — это слишком, а поселение — в самый раз. Слава богу, путь близкий. В Финляндию. В этих местах можно не только отбывать срок, но отдыхать. Особенно если грибная пора.
Хоть и жалко отрываться от дел в столице, но тут ничего не попишешь. Насладимся природой впрок. Когда еще представится такая возможность?
Итак, собралось тринадцать человек. У всех свои причины для ссылки. Единственное, что нас объединяет, это любовь к Толстому. Каждый поучаствовал в прощании с ним.
Что нас здесь привлекало, кроме леса и грибов? Об этом мы говорили не прямо, а намеками. Заговорщицки спрашиваешь: «Ты понимаешь?», а в ответ слышишь: «Как не понять!»
Казалось бы, что с того, что нас тринадцать? А ведь это двенадцать плюс один. Догадываетесь, к чему я? Кстати, Иосифа это веселило. «Да хоть Моисей! — говорил он. — Впрочем, Моисеем я уже был».
Новый поворот
Там, где Иосиф, всегда грандиозные планы. На сей раз он решил помочь финнам. А что? В судьбе России мы поучаствовали, а тут случай не такой сложный.
Что мы могли сделать? Даже произнести неловко, но все же рискну. Тем более что идея не моя. Так что подозрение в мании величия отметаю с порога.
Иосиф говорил, что финны стали задумываться о суверенитете и нам следует их поддержать. Хотя бы рассказами о Хамадере. О том, как мы захотели — и сделали. Как, несмотря на лагерь, ощутили себя свободными людьми.
Про парламент им объяснят другие, а вот в том, что такое достоинство, мы понимаем. Спина прямая, глаза глядят вдаль. Это не гордыня, а уверенность в своей отдельности. В том, что мы — это мы и вряд ли станем другими.
Так мы себя тешили. Обустроимся, а затем приступим. Будем объяснять, что свобода лучше, чем несвобода.
Сперва осмотрелись, сняли комнаты. Посмотришь со стороны — настоящие дачники. Что с того, что идут дожди? Мы здесь все равно как Репин или Андреев. В поисках скуки и тишины. Вот успокоим нервы — и что-нибудь талантливое создадим.
Вот какие были мечты. Очень скоро нам напомнили, что мы живем на земле. Да еще под приглядом полиции. Каждую неделю отмечаемся в участке. Повторяем: все хорошо. Бежать не собираемся. Жалоб нет. Если понадобится, готовы всю жизнь провести в ссылке.
Зато выйдем из кабинета — и настроение как в Петербурге или Хамадере. Устраиваем чуть ли не митинги. Голоса, правда, стараемся не повышать. Понимаем, что в любом шкафу или самоваре могут быть спрятаны уши.
Правда, полицейские к нам редко захаживают. Предпочитают встречаться по месту службы. Тут они как в раме — письменный стол, портрет государя над головой. Стоит оторваться от стула, и композиция распадется. Так что лучше сидеть и не двигаться.
Однажды единство полицейского со столом было нарушено. Больно дело срочное! Смотрим в окно, а там гость! Мало того, что лично сподобился, но еще какой-то не такой. Смотрит не поверх и мимо, а вроде как насквозь.
В статье, которую мне еще придется цитировать, Иосиф назвал полицмейстера «пожилым откормленным финном». Вооружен он был не только взглядом. Существовало нечто столь же острое. Прислушиваюсь: стук-стук. Вроде звучит не грозно, но это только пока. Если что не так, сабля будет предъявлена как аргумент.
Зря он переполошился. А уж со стула можно было вообще не вставать. Если посмотреть в наши документы, то там все написано.
Полицмейстер спросил: «Нет ли среди вас евреев?» Вместо того чтобы на вопрос ответить вопросом: «А кто в плену издавал газету на идиш?», мы с Иосифом сделали шаг вперед.
Оказалось, эти сведения нужны не для отчета или еще какой чиновничьей блажи. Дело в том, что с восемьсот шестого года евреям запрещен въезд в Финляндию. Так что вообще непонятно, как мы тут оказались.
Словом, ошибочка вышла. Придется исправлять. Одиннадцать человек остаются тут, а мы отправляемся по месту жительства.
Как вам это? Даже наказать нас они не смогли. Пришлось порадовать. Если нахождение в княжестве нам заказано, то придется жить на берегах Невы.
Ничего не имею против леса и ягод, но Петербург — это другое. Я прямо зажмурился, когда представил, что нас ждет. Лучшие друзья и лучшие из дворцов.
Значит, прощайте, финны! Не удалось нам вас вразумить. Если нельзя к вам, то разговор о свободе и достоинстве придется перенести в столицу.
Новость была бы вполне переносимой, если бы не одно обстоятельство. Мы не имели права ехать в поезде. За нарушение столь важного закона полагался этап. Это, по меньшей мере, дней семь.
Вздыхаю, развожу руками, всячески показываю, что недоволен. Наконец соглашаюсь. Что поделать? Их много, а нас двое. Если ботинки по пути не развалятся, то, может, и обойдется.
Нет, Иосиф против. «Все же, — возмущается он, — мы политические. Да и ордена за Порт-Артур позвякивают в нашу честь. Это уголовники пусть прогуляются, а мы заслужили поезд».
Вечером мой друг организовал что-то вроде собрания. Он стоял на небольшой возвышенности и обращался к городу и миру. Заодно и к нам, сосланным. А еще к полицейским. Они перетаптывались невдалеке и вяло поглядывали на нас.
Я знал, что Иосиф — упрямец. Все давно успокоятся, а мой друг будет кипеть. Если кто и помешает нам попасть в столицу, то это он. Больше всего полиция не любит нервных. Даже к мыслящим криво, не так, как положено, она относится лучше.
«Это убийцы, — не унимался Иосиф, — общаются только с охранниками, а мы можем обратиться хоть к царю. Впрочем, сперва поговорим с губернатором. Отчего в его вотчине такие правила? Всем позволено отбывать наказание, а только нам запрещено».
«Ну-ну», — ухмыляюсь я и, как вы догадались, попадаю впросак. Это становится ясно уже наутро. Просыпаюсь, а он бреется перед зеркалом. Интересуюсь: ты не к барышне? У Иосифа нет оружия, но есть глаза. Он как выстрелит! Я сдаюсь и мысленно прошу о пощаде.
Представьте, выборгский губернатор (к сожалению, забыл его фамилию) принял Иосифа. Был доброжелателен и даже пригласил разделить трапезу. Правда, когда мой друг перешел к делу, сразу погрустнел. Это значило, что он не всемогущ. Хороший завтрак — в его силах, а остальное от него не зависит.
«Кто такой я? — сказал он. — Исполнитель указаний сверху. В этом смысле — рядовой гражданин».
Губернатор знал, что Иосиф — герой. Так что время было потрачено не впустую. Впрочем, он не перетрудился. Поулыбался, вспомнил о Порт-Артуре и выбросил из головы вон.
Оставалось написать питерскому градоначальнику Драчевскому. Кстати, мы обращались к нему не впервые. Недавно по тому же адресу было отправлено требование об отмене смертной казни. Толстой в петиции не назывался, но это делалось в память о нем. Мы вроде как спрашивали: не забыли, к чему призывал гений? Так вспомните и устыдитесь.
Вряд ли наша цидуля дошла до Самого, но в его канцелярии ее точно обсуждали. Наверное, удивлялись: вот до чего студенты додумались! Это не они должны нас просить, а мы от них требовать! Учитесь, посещайте занятия — и, может, тогда вам воздастся.
Как видно, после телеграммы из Финляндии в канцелярии о нас вспомнили. Как же, как же. Совсем распустилась молодежь. Что ж, пусть привыкают. Прогуляться до столицы — это вам не то же, что прогуливать лекции.
Стоило это представить, и я опять скис. Теперь, думаю, не отвертеться. Придется померзнуть в тонких пальтишках... Тем удивительней то, что случилось потом.
Телеграмма не только дошла до адресата, но получила благожелательную резолюцию. Правда, билеты предлагалось купить за свой счет. Все же казна не бездонная. Тут только дай повод — и все захотят попользоваться..
Я рад-радешенек. Все же сыты и в тепле. Что касается того, кто платит, то разве это важно? Иосиф вроде тоже не возражает, но талдычит свое: «Нельзя во всем искать середины. Середина — это не то и не другое, по сути — ничто. Ты хочешь объективности, а на самом деле — закрываешь глаза. Да, с одной стороны, нам позволили, а с другой — указали наше место».
На самом деле середины я хотел от него. Правда, все усилия были напрасны. Это, знаете ли, все равно что волнующееся море. Вряд ли уговорами добьешься штиля.
«Что за дурак! — говорю я. — Это же глупо — все время настаивать на своем. Нельзя же так: хочу все и сразу. Может, сейчас покажешь слабость, а потом наверстаешь?
Мы с тобой пессимист и оптимист, — я все никак не унимаюсь. — Один думает — стакан наполовину пуст, а другой — наполовину полон. Все зависит от того, кто внимательней. Может, стоит приглядеться? Наша ситуация скорее смешная. Даже не наша, а их. Они напридумывали столько законов, что запутались. Даже сослать как следует не умеют».
Когда я чем-то обеспокоен, то становлюсь ворчуном. Если же взволнован Иосиф, то слышно каждое слово. Их очень мало, этих слов. Буквально десять-пятнадцать. Да. Нет. Почему? Если я дурак, то ты трус и предатель.
По всем этим поводам мой друг решил обратиться в независимую инстанцию. Написал статью. Пусть читатели «Речи» примут соломоново решение. Все же неправильно, когда одни законы для нас, а другие для остальных.
«Путь не дальний и не трудный, — писал Иосиф. — До Порт-Артура было дальше; в Порт-Артуре труднее. Чести меньше? Но это как посмотреть. Чести меньше, может, не тому, кто идет, а тому, кто отправляет».
Опять мы повздорили. Я сказал, что статью не опубликуют, а он был уверен, что в газете его примут как родного. Прав оказался я. В редакции его попросили поблагодарить градоначальника. Все же есть за что. Если бы не его милость, вам бы пришлось идти пешком.
Иосиф доказывал уже не мне, а редактору, что вряд ли это победа. Городской глава по должности обязан почитать норму. Можно только посетовать, что так происходит не всегда.
Это было не первое его поражение и, уж точно, не последнее. Теперь все так и пойдет. Он был народным героем, можно сказать — народным избранником, а стал таким, как все.
Словом, чудеса отменялись. Я вижу в этом не прихоть, а план. Кажется, тот, кто управляет нами, говорил: вот человек, подброшенный удачей и едва не летящий, а это другой, рассчитывающий только на свои силы. Первого остановить невозможно, а второй слаб перед всякой напастью.
В новом его положении не помогала даже храбрость. Он был такой, как я, как вы, как кто угодно. Конечно, случались удачи вроде привета от Драчевского, но все же это не то, что удавалось во время войны.
Мы опять с ним ругались. Вернее, ругался в основном я. Иосиф почти не отвечал. Возможно, мои аргументы его уже не интересовали. Он был — как бы сказать поточнее? — вроде как паровоз на пару. Сейчас раздастся свисток и — вперед! Дальше мы увидим исчезающий хвост и дымок на горизонте.
ДОКУМЕНТЫ
Что такое обыск? Сложно дать точный ответ. Как уже ясно, результат достигается не во всех случаях. Да он порой и не обязателен.
Конечно, все начинается с топтуна. С того, что он не просто прохлаждался на улице, а держал ухо востро. В департамент вернулся с уловом. Как вам, дорогой начальник, эта фраза? Да это же форменный подкоп!
Начальник натянул очки на нос и почесал лысину. Молодец, друг. Не зря промерз. Теперь уже никаких сомнений. Имеем полное право отправиться к клиенту домой.
Итак, 15 января 1912 года, чуть больше чем через год после студенческих волнений и через полгода после высылки в Финляндию, к нам пришли с обыском.
Представляете? Город еще не пришел в себя после Рождества, а тут они. Видно, за время праздников истосковались по работе. Прямо руки чешутся что-то перетряхнуть, а затем начать по новой.
Ах, это наше родимое «раззудись, плечо»! Сил не жалели, но в подробности не вдавались. В описи сказано: «собраны не имеющие значения для дела вещи, переписка и документы». Значит, мели все подряд. Даже фикусу досталось. Раскинув корни и листья, он лежал на полу. Казалось, уж он-то как связан с политикой? Если, конечно, не иметь в виду его дальнего родства с пальмой и лимонным деревом.
Мы решили, что в охранке отчитывались за фунты. К примеру, за телегу с трофеями получаешь чин. Со временем так набиваешь руку на этом занятии, что можешь претендовать на орден.
Словом, нагрузили до самого верха, но сами не понимают зачем. Больно все бесполезное. Для чего, к примеру, печать? Или конверты с марками? Лучше бы взяли горшки с цветами. Нет, разбили, но оставили. Чтобы этот погром еще долго не забывался.
За восклицательные знаки на полях досталось Льву Николаевичу. Его тома перетрясли так, словно искали между строк. Потом взялись за Этьена Кабе и его «Путешествие в Икарию». Эту книгу быстро вернули в состояние бумаги.
С Толстым все понятно, а про Кабе следует объяснить. Иосиф перечитывал его постоянно. Протянет руку, откроет в любом месте — и вновь вдохновляется.
Жил этот Кабе в начале прошлого века. Кажется, ни в каких утопиях не участвовал, а все представлял верно. Утверждаю это как человек, прошедший Хамадеру. Больше года мы провели в его романе.
Отличие, правда, есть. Нашу свободу ограничивала колючая проволока. Впрочем, главное не в этом. Если нет полиции и начальства, то даже лагерь для пленных не так страшен.
Кстати, если нет начальства, то нет и бюрократии. Это, пожалуй, самое удивительное. Ведь даже обыск — это не только погружение в хаос, но и процедура. По итогам разгрома составили протокол. Учли каждую мелочь. Показали, что ничто не застряло в кармане и подшито к делу.
«1). У Клебанова и проживающей совместно с ним его сестры Эстер Клебановой — четыре записные книжки с адресами, три талонных книжки для сбора денег, из которых одна с оттиском мастичной сионистской печати для сбора пожертвований в пользу национального фонда, чековые книжки с еврейским текстом, черновики статей, подготовленных, по-видимому, для печатания, квитанционная книжка
для приема денег от подписчиков на газету „Рассвет“, небольшой железный ящик с 59 коп., 36 чистых бланков повесток о собраниях, несколько заполненных бланков о состоявшихся уже собраниях и большая переписка по сионистским делам. У них же на квартире собраны не имеющие значения для дела вещи, переписка и документы слушательницы фельдшерских курсов Товы Берковой Хаскиной.
2). У И. Файна — черновики извещений, начинающиеся словом: „Товарищ", в котором изложен результат первого общего собрания С.- Петербургской студенческой фракции, черновики циркулярного письма с кратким изложением современного течения сионизма и с предложением сплотиться в организации и присоединиться к центральному бюро студентов — сионистов в Берне, тетрадь в синей бумажной обложке, на первых двух страницах которой изложены пожелания, выработанные на конференциях общего союза (вероятно, в Берне) и на русской конференции; далее следуют адреса членов С.-Петербургской фракции и адреса для сношений с другими городами, почтовый листок бумаги с рукописным разъяснением к университетскому уставу кружка „Маккавеев" циркуляр № 1 ЦК Сионистских организаций в России, датированный 11 сентябрем 1911 года, написанный карандашом конспект доклада о крещении и многое другое.
4) У Трумпельдора — деревянная печать для мастичных оттисков сионистского кружка русских военнопленных. денежный журнал этого кружка, несколько экземпляров выпущенной там газеты „Дос юдишер лебен“[6], единичные экземпляры брошюр по анархической, сионистской и социал-демократической литературе и большое количество партийной переписки».
Как видите, даже извещения прихватили на всякий случай. Возможно, заинтересовались обращением: «товарищ». Больно удивительна такая доброжелательность в отношении незнакомых людей.
Еще, конечно, их сердили буковки на деревянной печати. Что они обозначают, было неясно, но гонор чувствовался. Кажется, они говорили: мы сами по себе! Раскрываемся только перед своими, а вас, полицейских, не желаем знать.
Каково жить после обыска? Со временем привыкаешь к вырванным половицам и горшкам без цветов. Затем начинаешь размышлять. Сколько можно делить страну с полицейскими? Не правильней совершить обмен? Холод на жару, сквозняки на ветер с пустыни? Еще наших служивых на служивых турецких? Может, они не будут тягать по пустякам?
Приписка на полях 1961 года
Теперь заглянем в сегодняшний день. Несмотря на все утраты, он все же настал.
Знали бы те, кто приходил с обыском, что когда-нибудь опись окажется у меня. Мы читали и умирали от смеха. Особенно веселились по поводу ящика с 59 копейками. Интересно, что с ним стало? Скорее всего, деньги потратили, а ящик приспособили для себя. Да теперь его было не узнать. Все же одно дело, если он принадлежит нашему единомышленнику, а другое — охранке.
Кстати, недавно, в уже наступившем будущем, мне попалась книга Этьена Кабе. Решил перечитать, но не продвинулся дальше десятой страницы. Вот такой стал привереда! Не могу пропустить фразу, если она плохо написана.
Наверное, дело в том, что тогда я был юноша, а сейчас старик. Да и прочитанные книги имеют значение. Есть с чем сравнивать. Раньше я не замечал разницы между Кабе и Толстым, а сейчас это кажется главным.
Еще — прежде было достаточно идеи. Даже написанная на заборе, она воодушевляла. Прочитаешь: «Долой!» — и глаза загораются. Впрочем, хватило бы восклицательного знака. Все остальное я бы досочинил.
Теперь не так. Юность — это когда играешь на сцене, а старость — когда перемещаешься в зрительный зал. Отсюда на свою жизнь — и самого себя — смотришь со стороны.
Я уже писал, что мой зрительный зал — это балкон иерусалимской квартиры. Вместо зрительского кресла у меня качалка. Вперед-назад, вперед-назад. Пожалуй, в мои годы эти скачки подходят лучше всего. Далеко не уедешь, а всех мыслей не передумаешь. Да и передохнуть можно. Утомишься от размышлений и немного вздремнешь.
Некоторые итоги
Для того чтобы оставаться последовательным, надо автору успокоиться. Иными словами, это должен быть не я. Совсем не могу усидеть на месте. Только начну один сюжет, а меня уже тянет в сторону.
Впрочем, это произошло в 1913 году. Так что из времени мы не выпадаем. С обыском пришли 15 января 1912 года, а надзор за нами установили через год.
Почему так получилось, можно только гадать. Не потому ли, что те, кто за это отвечает, работают неспешно? Есть еще одна причина, и она связана с первой. Этих людей столько, что им не договориться. После Финляндии мы оказались в поле зрения петербургской охранки, а те зазевались. Благодаря этому Иосиф сел в поезд — и ту-ту! Когда о нем вспомнили, он был в Палестине.
Вот оно как. Выходит, можно забыть не только перо или книжку, но и человека. Что поделаешь — бюрократическое государство. Как видите, мы этим пользовались. Думали: вот бы потеряться! Спрятаться за какой-нибудь чиновничьей кляксой и так прожить жизнь.
Вот документ, из которого видно, как это бывает. Сперва в графе «Сведения о виновности и данные обвиняемым объяснения» сказано: «. объяснил, что съезда в Ромнах не было, а было лишь совещание случайно съехавшихся единомышленников». Ясно, что это Иосиф отвечает охранке. Ну а в следующем пункте его нет. Только что был — и исчез. На вопрос «Где и когда находится под стражей в порядке положения об охране» дан ответ: «Арестован не был. В настоящее время. в Палестине».
Дальше следует неожиданный вираж. Сказано, что надзор за Иосифом установлен «вне столиц и столичных губерний ». Где это «вне столиц.»? В Палестине или, скажем, во Пскове? Скорее, во Пскове, то есть на территории русской полиции. Правда, уверенности у меня нет. Почему бы им не распространить влияние на другой континент? Если тут есть русский посол, отчего не быть русской охранке?
Казалось бы, зачем? Вряд ли уместны такие вопросы. Хотя бы для того, чтобы показать мускулы. Чтобы было ясно, что эти люди везде. Ты от них убежал, а они тут как тут. Уже не рядятся кучерами, а борются с москитами.
Скорее всего, это фантазии. Достоверно известно, что об Иосифе вспомнили еще раз. В чиновничьем мозгу вдруг мелькнуло: а если из Палестины он вернулся на Кавказ? Вариант совсем невозможный, но чем бы охранка ни тешилась. Главное, чтобы не уменьшался расход бумаги. Если написано много писем и получено ответов, это и есть результат.
Впрочем, выяснение этих обстоятельств заняло не так много времени. Обратились к терскому губернатору, а тот, как видно, не хотел затягивать. Уже 17 мая 1913 года дело закрыли: «Переписку о названных выше лицах в порядке, указанном ст. 34 Положения о государственной охране, прекратить.» В переводе с чиновничьего это значит: постарались, и хватит. В связи с неопределенностью местонахождения дальнейшее наблюдение невозможно.
Так всегда. Сперва машина работает целенаправленно, а потом шестеренки крутятся на холостом ходу. Через пару лет власти оставили Иосифа в покое. Решили не рыскать по свету, а поискать у себя под носом. Не скажу о прочих, но я их точно заинтересовал. Скорее всего, имели значение старые связи. Приятель Трумпельдора, участник кружка палестинофилов. Чем не клиент охранного отделения?
Опять хватаю себя за руку и умоляю не спешить. Читатель еще не знает о причине, а ты о последствиях! Извините — это нервы. Кажется, я уже цитировал: «Два шага направо, два шага налево, шаг вперед и два назад». Так вот теперь — два назад. Как-то мы обсуждали с Иосифом наше будущее. С этого места и продолжим.
1 + 1 = 3
Вы знаете, что мы с Иосифом часто спорили. Обычно я оборонялся, а тут перешел в наступление. Помнишь, ты хотел, чтобы я научился готовить? Теперь я дам тебе такой совет. Да не только совет, но урок. Могу объяснить, как делают щи.
Нет, его это не привлекает. Тогда у меня другое предложение. Как насчет того, чтобы влюбиться? Ах, это не вписывается в твои планы? Тогда позволь так поступить мне.
В это время я был уже влюблен. Ни в чем глобальном участвовать не хотелось. Ведь это могло помешать видеть ее.
Наверное, надо представить Анну. Ведь это из-за нее ситуация изменилась. Сразу не поймешь, откуда у нее такая власть. Сама маленькая, говорит мало. Впрочем, лишнего никогда не скажет. Да и роста вполне достаточно. По крайней мере, высоченный Иосиф рядом с ней оказывался в тени.
Сперва я хотел показать другу, что не только война может вызвать сердцебиение. В результате так втрескался, что видел только ее. Любое глобальное событие был готов поменять на одно тихое. Хотя бы на поцелуй. Пока он длился, я чувствовал себя победителем. Помните, как Иосиф вернул бомбу японцам? Время для меня тоже вроде как разжималось.
Можно ли удивить человека, вернувшегося с войны? У нас, фронтовиков, на лицах было написано: все важное в нашей жизни случилось. Оказывается, это не так. Первая влюбленность — это, знаете ли, впечатление. Кажется, стоишь на отколовшейся льдине, и она мчится в море.
Сейчас я не годился ни для чего. Если только для того, чтобы сидеть рядом с Анной на диване. Сто раз спрашиваю: «Ты меня любишь?», а она смотрит в сторону и улыбается. Наконец слышу: «Да». В эту минуту я взмываю вверх, как воздушный шар.
Сколько раз я повторял, что эта книга не обо мне. Впрочем, совсем забыть о себе не выходит. Ведь мы с ним вроде как сообщающиеся сосуды. Хотя каждый жил своей жизнью, но постоянно поглядывал: как там мой друг?
Единственное, что могу обещать, — долго не застревать на своей персоне. Правда, и коротко не получится. Все же тут есть своя последовательность. Стоит что-то пропустить, как в повествовании возникнет прореха.
Меня переполняла гордость оттого, что нас двое. Значит, наша жизнь была укором ему. Он не любил находиться дома, а нас постоянно тянуло остаться наедине.
Хорошо, уютно у себя в комнате. Выпьем чайку, взглянем в окно и улыбнемся приятелю — сейчас он, наверное, далеко. Опять ищет приключений на свою голову.
Мне казалось, что я его разгадал. Дело не только в преданности истории, но в том, что он никогда не любил. Барышень хватало, но это все не то. Иосиф вроде как позволял собой восхищаться. Когда же ему надоедало, сразу просил на выход. Мол, извини, подруга! У нас мужчины не справляются, а тебе будет совсем нелегко.
У меня же все очень серьезно. Точнее, у нас. Теперь мы все делали сообща. Сперва я высказывал свои пожелания, а потом Анна мой план одобряла.
Так мы выбрали Петербург. Исходили из того, что здесь пули не гуляют свободно, а москитов просто нет. Что касается болот, то с ними справились при основании города.
Вскоре выяснилось, что мы ошиблись, но в начале десятых столица казалась провинцией. Основные события происходили далеко отсюда.
Перед его отъездом мы крупно поговорили. Он был так напряжен и взволнован, что не похлопал меня по плечу, а про «эйн давар» вспомнил только один раз.
«Самое важное — это независимость», — сказал Иосиф и посмотрел пристально. Мол, это у нас с тобой было когда-то, но теперь вряд ли повторится.
«Я буду жить, как белка и лось, — продолжал он. — Уж им-то известно, что такое свобода! Если есть вода в реке и кора на деревьях, то ничего больше не надо.
Ох, и трудно объяснять, что черное — это черное, а белое — белое. Иосиф то сверкал глазами, то мрачно смотрел в стену. Да и я то сверкал, то отворачивался. В конце концов он сказал: хорошо. Зачем такой в Палестине? Да еще со своей бабой. Мы будем сражаться, а ты качать люльку? Согласись, это несправедливо.
Я подумал: не утруждай себя, сирена. Ты прав, но и я прав. Ты творишь большую историю, а я всего лишь историю семейства. Ты любишь все человечество, а я только своих родных. Эта задача хоть и скромная, но выполнимая.
Оказывается, стать мужем не менее хлопотно, чем стать студентом. По крайней мере, тут тоже есть бюрократия. Целыми днями ходишь по кабинетам и по глазам угадываешь желания. Вариантов, правда, немного. Одни берут борзыми щенками, а другие предпочитают купюры.
Вот одно из моих прошений. Все прочие разметало ветрами истории, а этой бумаге повезло. Должно же что-то напоминать о том, как я носился по городу и думал: не только справку — луну с неба достану! — лишь бы мы были вместе.
«ПРОСЬБА
Имею честь покорнейше просить Комитет курсов выдать мне мой паспорт и метрическое свидетельство на предмет венчания. Причем обязуюсь, что, когда минует надобность, я их верну обратно в Канцелярию курсов.
СПБ, Гороховая, 23, кв. 9 апреля 1914 год».
Буквально слышу, как читатель крякнул. Уж не лукавит ли автор? Соглашусь — немного есть. О венчании сказано для того, чтобы чиновник не озаботился словом «хупа». Еще на полях поставит галочку и потребует подтверждения: в самом ли деле мы евреи? правда ли, что у людей нашего племени это происходит так?
Наконец все случилось. Еще через девять месяцев родился первенец. Тут стало совсем ни до чего глобального. Больно много времени отнимал он — крохотный, красный, все время орущий. Выходило, все не по нему. Впрочем, мы не сдавались. Прямо места себе не находили, только бы его порадовать.
Когда семейная жизнь стала привычной, я опять потянулся к чему-то действительно важному. Ах, если бы соединить одно с другим! Чтобы не общее вместо личного, а то и другое. Тут меня осенило: а почему нет? Попробуй поучаствовать в истории не в одиночку, а вместе со своими близкими!
К сожалению, с маленьким ребенком далеко не уедешь. Остается компромиссный вариант. Это будет вроде как репетиция Палестины. Под Минском недавно построили Еврейскую ферму, а значит, нам нужно туда.
Еврейская ферма
Это название ферма получила из-за того, что здесь готовились к Палестине. Сажали картошку, а представляли, что выращивают лимоны. Впрочем, картошка в новых местах тоже пригодится. Особенно выходцам из России. Вряд ли они изменят привычке вспоминать под горячее.
Хотя я сделал не совсем так, как хотел Иосиф, но наша с ним переписка стала активней. Казалось, совсем близко до хлопка по плечу. И, конечно, до присказки. До улыбки, обозначающей: жаль, что не вместе, но хотя бы не врозь.
У тех, кто работал под Минском, о Палестине были разноречивые сведения. Я, к примеру, большие надежды возлагал на турнепс. Если он так разросся под моим руководством, то и на новой родине его ожидает удача. Тамошние коровы останутся довольны и отблагодарят ведрами молока.
Чтобы отправиться в Минск, следовало взять отпуск в академии. Меня поругали за несданные «хвосты», но отпустили. Все же предстояла работа на земле. Следовало на деле показать, что учеба пошла впрок.
Каждый месяц я отчитывался перед курсами. Писал о том, на какую длину вымахал лук. Ну и о нем, о любимом турнепсе. Его было столько, что одного урожая хватило бы для всей Палестины. Впрочем, минские тоже ели с удовольствием. Что люди, что крупный скот.
Кроме того, я писал «заявления». В них я отчитывался о своих подопечных. Какие они зеленые, рослые, налитые! Наверное, наши преподаватели читали и говорили: отчего ему так везет? Что ни посадит — прямо-таки рвется из земли!
«ЗАЯВЛЕНИЕ
Имею честь сообщить, что летом 1912 г. я был послан Еврейским Колонизационным обществом на Минскую с.-хоз. учебную ферму, принадлежащую ему же, для практического ознакомления с.-х. работами. На Ферме принимал я участие в постановке опытов культуры огурцов, самостоятельно заведовал полем под турнепс.
Сл. Д. Л. Белоцерковский».
Я скромно написал «слушатель», а мог подписаться: «заведующий полем турнепса». Или — «ответственный за величину огурцов». Результаты говорили о том, что главное — это желание. Если трудишься с удовольствием, то растения подтягиваются. Стараются быть с тобою в рост.
Еще обратите внимание на «принимал. участие в постановке опытов». Это почти то же, что «был на фронте» и однажды «отличился». Как говорилось, обычно мое место в массовке, но сейчас я был едва ли не первым.
Вот почему мы чувствовали себя уверенно. Почти как в Хамадере, но там рядом находились японцы. Здесь же на много километров никого. Будто все это пространство принадлежит нам.
Поднимаются злаки, а вместе с ними растет наш сын. Он уже выше турнепса, но еще ниже ржи.
Как видите, опыт свободы, полученный в плену, не прошел даром. Только одно грустно. Уж как радовали нас успехи, но денег все равно нет. Вот и крутишься, чтобы отдать долги. Едва мелкая купюра осядет в кармане — и сразу пишешь в Петербург.
«Комитет С.-Х. курсов
Уезжая из Петербурга, я отправил по почте свой вид на жительство в Канцелярию курсов и просил Комитет о высылке мне в город Минск отпускного свидетельства, до сих пор я его еще не получил; по сему покорнейше прошу Комитет курсов распорядиться, чтобы мне выслали его по адресу: г. Минск, Еврейская сельскохозяйственная учебная ферма. Д. Белоцерковскому.
Недоимки за слушание лекций — три руб. постараюсь к 15 июня прислать, сейчас не имею их.
Слушатель 3 кур. Д. Белоцерковский».
Порой мы обменивались впечатлениями с Трумпельдором. Я писал, что турнепс конкурирует с огурцами, но огурцы пока проигрывают. Неповоротливые толстячки недовольно выглядывают из земли. Так и слышится: листьев много, а ума нет! Да и ограничений никаких! Сколько ни старайся, за ними не угонишься.
Иосиф комментировал скупо, но одобрение чувствовалось. Такие урожаи нам нужны. Если так пойдет дело, в Палестине потечет молоко с привкусом минских полей.
Знаете, как Иосиф ссорился? Не накричит, а замолчит. Когда мы жили в Петербурге, он ложился на диван и отворачивался к стене. Мол, меня нет. Бревно, к которому ты обращаешься, вряд ли тебе ответит.
Моих близких он не называл, но это было хуже любого упоминания. Впрочем, мы старались не реагировать. У него своя жизнь, а у нас своя. Это, кстати, не мешало нам позаимствовать у него «эйн давар». Стоило произнести эти два слова, и грустные мысли отступали.
Не зря я учился на Сельскохозяйственных курсах. Жизнь на земле укрепляет руки и дух. Расстаешься с городскими привычками — и становишься почти крестьянином. Прежде мы спали, сколько хотели, а теперь сколько возможно. Поднимались вместе с солнцем. Когда оно клонилось к закату, мы отправлялись домой.
Не забыли, как мой друг определил счастье? Как настоящее без примеси прошлого и будущего. Мы жили так. Не отвлекались от текущих дел. Если только мелькает: «Как там Иосиф?» — и вдали возникнет его фигура. В эту минуту поле становилось бесконечным. Соединялось на горизонте с кибуцем Дгания.
Оставалось уговорить жену. Объяснить ей, что Трумпельдор для меня — персонаж. Можно ли разлучать героя и автора? Еще я утверждал, что его жизнь — вроде как произведение. Имею ли я право пропустить кульминацию? Тот самый момент, когда сюжет подошел к горячей точке.
Анна терпела ровно до этого объяснения. Затем она не выдержала.
— Больше всего ты любишь не меня и не его, — говорила она, — а то, что ты хочешь написать. Если не будет этих страниц, читатель ничего не заметит. Кстати, надо еще, чтобы он был, этот читатель. Может случиться, что твои труды залягут в стол.
Так можно лишиться всего, — мучила она меня. — Нет, Иосиф никуда не денется, а мы с сыном исчезнем. Предположим, узнал ты о его достижениях, а возвращаться некуда. У нас своя жизнь, и в ней для тебя нет места.
Зря она так. Знает, куда ударить больней. К этому времени наш сын стал совсем большой. Болтал не хуже депутата Думы. Может, не все буквы выговаривал, но эти тоже не стараются. Лучше всего он произносил «папа». Казалось бы, мне следует развить успех, но я его обманул. Обещал скоро вернуться, а приехал через год.
Палестина, Иосиф и я
Чтобы не отвлекаться, пропущу дорогу и первую встречу. Это уж очень личное. Поговорим о впечатлении в целом. О том, что Палестина — желтая, серая и зеленая. В эту палитру отлично вписывался мой друг. Когда я вспоминаю эти края, то сначала вижу его.
В Дгании не потерпели бы праздного гостя, и я сразу включился. Что ж, не привыкать. После Минска ничто не страшно. Правда, здесь немного иначе. Буквально все начинается с разговоров.
Когда я захотел посадить турнепс, то по этому поводу собрался кибуц в полном составе. Помню, самый расположенный спрашивает: это что за чудо такое? Думаете, наши коровы будут довольны?
Больше всего мне помогал не фермерский, а порт-артурский опыт. Ведь тут тоже шла война — правда, совсем не такая, как с японцами. В Палестине убивали исподтишка. Увидят поселянина за плугом — и возьмут на мушку. Затем смотрят из-за деревьев, как тот оседает на землю.
Наш Однорукий ничуть не изменился. Как на прошлой, так и на этой войне к пулям он относится несерьезно. Почти как к осам. Мол, жужжите, жужжите! Немного неприятно, но при чем тут я? Я его просил быть осторожней, а он говорил: еще когда придет моя очередь, а пока можно об этом не думать.
Палестина — такое же лекарство от амбиций, как ферма под Минском. Поднимаешься рано и трудишься допоздна. Как вы понимаете, никакого пафоса. Вообразите, мы смеялись. На сон времени не было, а на шутки его хватало всегда.
В Дгании выходил юмористический журнал. Его читали те, кто работал в поле, и те, кто отвечал за оборону. Нельзя постоянно пахать землю или ходить строем. Что ж, это поправимо. Набиваешь рот смехом, и всякое занятие становится в радость.
Начнем с названия. Больно оно удивительное. Не «Родина», не «Звезда», а «Идиот». Другие издания характеризуют себя наилучшим образом, а это не выбирает выражений.
Вообще-то следовало писать «Едиот», что значит «Вести», но редакция чуть уточнила. Получилось ближе к сути. Помните Дон Кихота? Глаза горят, впереди не то великаны, не то ветряные мельницы. Кстати, выглядело издание соответственно. Ни большого тиража, ни красивой обложки. Бумага только самой себе казалась белой. Сразу вспоминался таз вместо щита и палка вместо копья.
Известно, что за скромным видом порой скрыта гордыня. Под названием было написано: «Мы не молчим». Это значило: ничто не мешает нам чувствовать себя свободными. Обмениваться мнениями. Ехидничать. Брать на мушку не только противника, но и друг друга.
Многие «идиотские» шуточки сейчас не смешат. Слишком много прошло лет, и забылся повод. А смех без причины — сами знаете что. Впрочем, главный посыл помнится. Свобода! Ругай кого хочешь — хоть товарищей, хоть начальство! Если прежде нам все запрещалось, то от новых возможностей могла закружиться голова.
«От редакции
Хавей-р-р-им[7], мы не молчим. Мы не молчим, мы не молчим, мы не молчим. Мы долго молчали, но больше мы не можем. И вот теперь наконец наподобие того, как после 3-й чашки кофе мы облегченно приступаем к 4-й, мы с облегчением приступили к изданию сего органа, ибо получили возможность высказаться».
Это мы насмешничали. Мол, разве это критика? Критика — это когда дубинкой по голове, а мы действуем мягко. Вроде как автор похлопывает по плечу читателя и весело произносит: «Эйн давар».
Возможно, это писал не Иосиф, но идея его. Легче, еще легче! Больше всего мы боялись пафоса. На собраниях не внимали оратору, а шумели. Хотя бы потому, что в тишине и сосредоточенности есть нечто больно серьезное.
Все это описано в пьеске: «Моцарт и Сальери, или Хасин и Гальперин». Не буду обременять вас рассказом о том, кто такие Хасин и Гальперин, а первых двух представлять не надо. Главная фраза в тексте: «Знаменитый чемпион города Феодосии одной рукой выжимает мокрое полотенце». Это значит, что все относительно. Вроде чемпион, а результата столько, сколько от наших собраний.
«Участвующие лица
Хасин
Гальперин без бороды
Действие происходит в Палестине в наши дни.
Занавес поднимается. Сцена представляет собой столовую во время обеда. За столом земства сидит подрывная команда в полном составе. На столе земские кружки.
Гальперин (издали): Товарищи.
Хор: Долой. У. у. у.
Хасин: Товарищи.
Хор: Просим Хасина, просим, браво.
Гальперин: Товарищи, мы не можем.
Хор: Э-э-э. Долой! (Свист, стук.)
Хасин: Товарищи, мы не можем.
Хор: Браво, Хасин! О-о-о.
Гальперин (в голосе слышны слезы): Знаменитый чемпион.
Хор: М-м-м-м! Молчи, долой!
Хасин: Знаменитый чемпион города Феодосии одной рукой выжимает мокрое полотенце.
Хор: Браво! А-а-а. Хасин, браво! (Довольный смех и радостные восклицания.)
Гальперин пытается что-то сказать, но ему не дают дружным криком: „Э-э-э“, и он, плача, замолкает.
Занавес падает».
Чтобы что-то понять в этой пьесе, надо стать участником нашей компании. Тогда не надо будет объяснять, кто такой «Гальперин без бороды». Помню, он пришел чисто выбритым, а мы прямо опешили. Совсем другой человек! С тем можно было разговаривать запросто, а этого хотелось называть на «вы».
В журнале, как когда-то в хамадерской газете, печатались объявления. Чаще всего новостью было не событие, а набежавшая мысль.
«Утерян аппетит. Нашедшему 33 % просят доставить по адресу: Набережная, 4, Анберсону.
Известный гастроном Беллер-Ицек заметил, что в мире и его окрестностях развивается сильное. движение. Многие кометы даже обзавелись хвостами.
Нам сообщают из достоверного источника. Вследствие наступления ноябрьских холодов в стране нельзя выходить без панамы — можно получить солнечный удар».
Да еще сто подобных шуток разной степени остроты. Казалось бы, зачем? Целый день проводить в поле, а потом еще шутить! Видно, людям требуется не только необходимое, но и лишнее. Ведь жизнь без лишнего сводится к минимуму, а с лишним становится ярче.
Помните, как написано в подзаголовке? «Мы не молчим». Именно так — нас мало кто слышит, но это не повод останавливаться. Говорите, такое упорство достойно психически больных? Что ж, спорить не стану. Не зря наш журнал назывался тем словом, что у вас на языке.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА, ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ И МЫ
Лучше бы я стал историком Рима! Там все случилось. Тут же перемены каждый день. Не успеваешь не только записывать, но что-либо понимать. Начнешь разбираться, а уже поздно. Обстоятельства снова переменились.
Помню, как я узнал о том, что предстоит еще одна война. Занимаюсь своими насаждениями, а тут — крик. Что такое? Оказывается, Первая мировая дошла до Палестины. Турция вступила в союз с Германией и Австро-Венгрией против Англии, Франции и России.
Про Англию с Францией ничего не скажу, но Россия — это мы. Семьсот человек наших турки выслали в Египет. За ними добровольно последовали еще одиннадцать тысяч.
Я был среди тех, кто не успел. Задержали все те же турнепс и огурцы. Война войною, а урожай надо снимать. Так я дождался ультиматума местных властей. Или мы принимаем турецкое гражданство, или едем назад в Россию.
Стать турецкоподданным значило оказаться среди противников жены и сына. Разумеется, я выбрал Петроград. Тем более что к этому времени я совсем потерял друга. Разными ветрами мне приносило вести о том, что он то в Египте, то в Англии. Словом, там, куда его приводили хлопоты по созданию Еврейского легиона.
Трумпельдор решил, что неправильно приходить на готовое. Прежде надо помочь англичанам победить турок. Англичане, как известно, культурный народ. Если им помогают, то они не останутся в долгу.
Зря Иосиф всех мерил своей логикой. Это наше родимое — поменять-купить-про-дать. Мы и государство хотели создать так. Приобрести такое количество участков, чтобы на них разместился весь народ.
Как вы знаете, этот план оказался не таким безумным. Арабы с удовольствием продавали землю, а мы все дальше переставляли флажки на карте. Наконец огляделись: да это же страна! Остается прибавить театр, газету и все прочее, что необходимо для нормальной жизни.
Со страной получилось, а с войной не очень. Уж Иосиф мог бы рассчитать наперед. Чтобы не настаивать, надо было просто связать одно с другим. Помните ту задачку, что мы решали в плену? Чаще всего так и бывает: вроде все должно разрешиться удачно, а вдруг умирает продавец. Англичане удивили не меньше. После победы над турками им расхотелось делать подарки.
Как вы знаете, похожие ошибки в расчетах привели меня в Петербург. Опять — все по новой. В руке — портфель, в голове — злаки и растения. Дело не в том, что так уж хотелось учиться. Главное было после Палестины успокоить нервы. Попытаться вернуться в те времена, когда мы начинали жизнь в столице.
Еще, конечно, хотелось порадовать жену. При виде новенького портфеля она чуть не заплакала. Ей сразу представилось, как я получаю диплом, а затем мы заводим хозяйство. «Ты займешься турнепсом, — говорила она. — Он будет еще вкуснее, чем на ферме под Минском».
Наверное, так бы и случилось, если бы год был поспокойней. Хотя бы пятнадцатый, а не шестнадцатый. Хорошо еще, роли у меня скромные. Человек в очереди. Муж. Отец. Такие, как я, создают фон. Своей незаметностью оттеняют чужие победы и поражения.
Вроде вырвался из пекла — и опять в пекло попал. Правда, я ни в чем не участвовал. Следил за событиями косящим в сторону взглядом прохожего, который ускоряет шаги... Иногда, конечно, остановишься. О чем говорит этот оратор? В общем-то, много говорливых, но соглашаться не хотелось ни с кем. Почешешь затылок и думаешь: нет, тут что-то не так.
В главном Петербург напоминал Палестину. Казалось, поверх раскаленного воздуха написано: «Здесь совершается история». В этой атмосфере такие люди, как мой приятель, чувствуют себя лучше всего.
Может, это называется дальнозоркостью? Плохо видишь вблизи и отлично далеко. Исходишь из того, что история творится в огне и дыму. Что в качестве места действия она не изберет кафе или летнюю веранду.
Уже говорилось, что тихая жизнь выводила его из себя. Даже в Палестине мой друг иногда скучал. Он тут для того, чтобы сражаться и погибать, а ему приходится сеять и бороться с москитами. Это так же несерьезно, как под Питером пахать землю и отбиваться от комаров.
Когда он узнал, что в России революция, его сразу потянуло туда. Все же температура повыше. Не в смысле погоды, а в смысле общего состояния. Такие моменты как болезнь. Надо успеть, пока держится жар.
Неправильно о российских известиях узнавать из газеты. Отхлебнул чайку — и прочел о том, что русский император отрекся от престола... Нет, он должен находиться недалеко. Пусть не рядом с помазанником, но хотя бы в поле общего напряжения.
Еще было бы неплохо покомандовать. Возможно, повести за собой. На худой конец показать направление пути.
Я узнал, что Иосиф скоро окажется в Петербурге, и забеспокоился. Интересно, думаю, удостоюсь ли я хлопка по плечу? Потреплет ли он по щеке моего сына или прямо от дверей заладит: почему ты тут?
Написано на оборотной стороне листа:
Прежде я устремлялся за своим героем, но сейчас он приехал туда, где находился я. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
Опять автор заслужил порицания? Что за привычка — начинать не с первого, а с десятого! Сперва надо сказать о том, чем за это время стал Петроград.
Я уже писал, что когда-то столица была высокомерной и неприступной. Сейчас гордости поубавилось. Не до красоты, знаете ли. Встаешь в очередь и семенишь вместе с ней. За час делаешь шаг — и опять ждешь.
Прежде еда была для того, чтобы набить рот. Ничего поэтического. Теперь она стала удачей и победой. Сравнение с первой публикацией или внезапной любовью не будет преувеличением.
Еще прибавьте погоду. Солнце сюда редко заглядывает, а снег с дождем часто. Впрочем, мы живем не тем, что происходит за окном, а тем, чем полон дом. Главное, у нас есть мальчик, а у нашего мальчика есть мы.
Не скрою, я побаивался Иосифа. Сейчас он войдет, достанет дудочку, начнет играть. Я сразу забуду жену и сына. Опять потянет участвовать в истории. Причем не в ближней, а где-нибудь на другой стороне земного шара.
Однажды в дверь позвонили, и я сразу решил: это он. Наверное, наш мальчик тоже так подумал и громко заплакал. Звонок был уверенный и не допускающий сомнений. Когда я шел открывать, то уже знал, что дальше произойдет.
На этот раз пронесло. На пороге стоял сосед. Значит, еще недолго удастся пожить без волнений. Через несколько дней — опять звонок. Тоже длинный и требовательный. Это уже мой друг. Жене: «Здравствуй!», сыну: «Привет!», и — сразу греметь и ругаться. Что, приятель, пережидаешь? Тогда не стоило ехать в Артур. Зачем осложнять себе жизнь?
Анна смотрит испуганно, но моего приятеля это не интересует. Он сейчас вроде как на коне. Едва ли не впереди войска. Его единственная рука требует: пойди туда — не знаю куда, возьми то — не знаю что. Впрочем, я не спорю. Вот только поругаюсь с женой и сразу присоединюсь.
Слава богу, он не требовал отправиться в Палестину, но в Петрограде я занимался только им. Весь день как друг, а ближе к ночи как историк. Устанешь, хочется спать, но все равно садишься за стол. Пытаешься сообразить: что сегодня случилось такого, что будет интересно всем?
Иосиф в Петрограде
Я люблю это фото 1918 года. Правда, никак не могу вспомнить, где именно это снято. Да и не всех на карточке помню по именам. Впрочем, это не так важно. Главное, в центре Иосиф в форме офицера Еврейского легиона. Поверх его фигуры написано: «№ 1».
Он подтянут, хорошо подстрижен, губы сдвинуты улыбкой. Ни дать ни взять — римский воин! Если бы даже не было надписи, никто бы не усомнился в его первенстве. Это, впрочем, не значит, что так будет всегда. Случается, сегодня ты первый, а завтра тридцать шестой.
Вот он хочет достойно помянуть Толстого, а каков результат? Или создает кружок по изучению Палестины — и приманивает охранку. Еще отправляется на Ближний Восток. Сколько было надежд, а на поверку вышли жара и москиты. Кстати, и сейчас не все удалось. Сперва атмосфера наполнилась электричеством и едва не искрила, а потом напряжение спало.
В Россию Иосиф ехал не наобум. Я уже упоминал, что в революции участвовал кое-кто из наших знакомых. Некоторые даже оказались в правительстве. У каждого в предбаннике сидела барышня и стрекотала, как пулемет. Продовольствия не было, но приказов хватало. Тонким слоем они покрывали территорию страны.
Трумпельдор решил убедиться: каково приятелям на новом месте? Не очень ли мягко? Или, напротив, чересчур жестко? Если они все делают верно, то почему не составить компанию? Все же он старый солдат. Кричать «ура» и вести за собой для него привычное дело.
Как-то он сидит у Виктора Чернова, недавно ставшего министром земледелия. Вдруг Чернов спрашивает: «Не мог бы ты нам помочь?» Сошлись на том, что Иосифу выделят роту. В прошлых сражениях под его началом было не больше людей, но кое-что получилось.
В шесть утра Трумпельдор со товарищи выступил против Корнилова. Заняло это часа два. К двенадцати освободился. Вернулся, умылся, переоделся в домашнее. До вечера оставалось много времени. Его переполняли разные мысли, и он решил их записать.
Видно, Иосиф считал, что одного участия мало. Только что ты размахивал шашкой, а теперь хорошенько подумай. Додумал? Молодец. Теперь преврати идеи в статью.
Все его соображения сводились к одному. Самому главному. По праву воина и первопроходца палестинских земель он объяснял, что надо сделать для того, чтобы революция победила.
Излагал мой друг не так вдохновенно, как воевал. Все же шашка ему привычней. Да и может ли быть по-другому? Ладонь у него большая, а перо крохотное! Когда он держал его в руке, оно так и норовило выскользнуть.
Кстати, на его столе всегда лежал пистолет. Видно, для общего ощущения. Чтобы ни на минуту не забывать о том, что происходит.
Если возможен разговор на повышенных тонах, то почему не быть монологу на повышенных тонах? Вот как на митингах. Рот распахнут, голос охрип, глаза горят. На таком градусе и в таком тоне Иосиф писал:
«Недавно на одном Петроградском митинге один старый социалист-революционер сказал:
— Когда над Россией слишком сгущались тучи и слишком тяжело становилось дышать, мы брали свои браунинги и бомбы и выходили в бой. Тверды были руки, бросавшие бомбы и стрелявшие из браунингов. Взрывы и выстрелы разрывали непроницаемые завесы, разряжали воздух, и дышать становилось легче. Теперь, как никогда, быть может, небо над Россией застлано мрачными тучами. Граждане задыхаются. Надо порвать завесу. Бомбы и браунинги лежат и ждут своих твердых рук».
Не был ли Иосиф этим эсером? Или человеком в толпе? Как бы то ни было, он знал, что говорил. Когда такие, как он, берутся за дело, озона хватает на всех.
Правда, считал я, без передышек невозможно. Пострелял, а теперь пройдись по городу. Убедись в том, что смотреть можно не только прямо, но и по сторонам.
Трумпельдор опять со мной не соглашался. Когда я его спрашивал: «Почему ты взвинчен?», он отвечал, что мы на войне. Книгу можно отложить, а на фронте это называется дезертирством. В эту минуту он внимательно посмотрел на меня. Впрочем, мне и без того все было понятно.
«Конечно, у тебя свои битвы, — продолжал он, — ты воюешь за чистоту пеленок. Не правильнее ли перепоручить ребенка жене? Хотя бы до тех пор, пока мы не победили».
Я обижался, но его понимал. Когда живешь в несовершенном мире, непременно захочешь ему противостоять. Правда, зачем перебарщивать? Нельзя постоянно жить в истории. Это все равно что подняться на гору и остаться там навсегда.
«Посмотри на свои красные от недосыпа глаза, — говорил я. — Может, поймешь, что иногда лучше уходить в тень? Порой необходимо не большее, а меньшее. Какая-нибудь сущая ерунда. Полежишь в гамаке — и все напасти отступают. На какое-то время кажется, что ничего больше не надо».
В такие минуты я думал: да он же игрок! Картежник день не поиграет, а уже хандрит. Зато если сядет за стол — в глазах появляются чертики. Может, ему неважно, за кого воевать? Пострелял здесь и там. Заодно воспользовался знакомством — поучаствовал в революции. Впрочем, победы не вкусил, а вернулся в Палестину.
Успокоюсь после своих внутренних монологов и понимаю: все же не все равно. Всякий раз он на стороне справедливости. Только ради этого мечется по свету. Повсюду спрашивает: достаточно ли вам подвигов? Если нет — можете обращаться.
Главное, не споткнуться, не устать, не разочароваться. Попросту говоря, выдержать. Поэтому я от него не отставал. Может, тебе жениться? — опять советовал я. — Сразу поймешь, что прежде всего ты в ответе за близких. Насморк у сына станет событием столь же важным, как кораблекрушение.
Словом, что-то бормочу, а Иосиф ухмыляется. Тогда я думал, что это его упрямство, а сейчас понимаю — мое неведение. Больно долго мы жили далеко друг от друга. Это теперь мне известно, что в его словаре солдата появились новые слова. Мог ли он прежде обратиться: «Дорогая моя.»? Сейчас все его письма начиналось так.
У меня перед глазами ее фотография. Вот вы какая, Фира-Эстер! Смотрю в ваши глаза и соглашаюсь со своим другом. Да и вас как не понять. Такой один на всю Палестину. Высокий, стройный, отчаянный. К тому же человек с прошлым. Пустой рукав ясно говорит, что он старше сверстников на одну войну.
Иногда Иосиф называл ее не Эстер, а Эстерика. Больно непростая барышня. Непременно зарыдает или разобьет чашку, прежде чем добьется своего.
Почему женщины так себя ведут? Они защищаются. Да и ругают себя по той же причине. Мол, вот я какая плохая! Да еще некрасивая! «Глаза у меня карие, — писала Фира. — Когда я смеюсь, они становятся похожими на свиные. Нос у меня как у утки, губы как у негра.» В общем, оставь меня в покое. Сам ничего не получишь, да и я не обогащусь.
С ощущением независимости у Фиры все в порядке. Почти так же, как у целого государства. Даже сдав позиции, она не теряет суверенитета. Правда, теперь поступает наоборот. Не сердится и не отнекивается, а радуется тому, что их двое. Что можно попросить — и получить все, что захочешь.
Именно такая спутница ему требовалась. Ни на кого не похожая. С которой постоянно находишься в состоянии войны. Зато если одолеешь, то чувствуешь себя на седьмом небе. Вот это да! Не только японцы мне сдаются, но и такие упрямицы. Конечно, окончательной победы тут не может быть. День ходишь в победителях, а другой — в проигравших.
ДОКУМЕНТЫ
Все зависело не только от них. Уж очень все непросто. То он в Петербурге или в Лондоне, то она в Палестине или Египте. Получается не прямая линия, а штрих-пунктир. Встретились — расстались — встретились. Остается каждый день писать письма. Больно трудно дается разлука.
Можете ругать меня за то, что сую нос в замочную скважину. Поверьте, это не праздное любопытство, а желание понять.
Тут важно все. Прежде всего то, что он писал. А также знаки препинания и длина строк. Уж не говоря о том, что говорилось в первую и во вторую очередь.
Вот пример. Казалось бы, можно сказать все сразу, но он главное помещает отдельно. Сперва: «Желаю тебе здоровья, счастья и скорого возвращения домой в Пал.», а потом: «Конечно, я хочу быть там с тобою». Точка и вводное слово говорят о том, что уверенности у него нет. Оттого в утверждении слышно сомнение. Что-то вроде: думаешь ли ты так же, как я?
Последующее говорится как бы вдогонку. Мол, если мы будем вместе, то знай, что «шансы на удачу растут». Доказательства? Хотя бы то, что «сегодня с Вл. Евг. (Жаботинским. — Д. Б.) мы были приглашены к лорду Дарби (воен. министр), и он говорил с нами о Еврейском легионе для Палестины. Он за легион и обещал написать доклад Ллойд Джорджу».
Иосиф так распалился от этих планов, что под конец написал не смущенное: «Я хочу быть там с тобою», а убежденное: «Крепко целую тебя».
Еще одно послание из Петрограда на бланке Союза евреев-воинов Петроградского гарнизона. Читаю это письмо — и вспоминаю, как перечисляла Дора. Одно. Другое. Десятое. Все-то ей было интересно. Вот так и ее брат погружен в обстоятельства.
С Дорой все ясно — все-таки женщина. А Иосиф явно находится под влиянием Фиры. Вот откуда этот тон человека семейного. Не испытывающего высокомерия к мелочам. Буквально все считающего частью своей жизни.
Он начинает с того, что его товарищ «ожидает сионистской работы. Скоро. едет в Палестину». Затем — о том, что его родственники «в настоящее время живут в Финляндии», куда они отправились в надежде, «что там будет тише, чем в России». Под конец радуется отметкам сына приятеля. Как видите, малое и большое близко. Кажется, одно без другого не существуют.
Поначалу с Еврейским легионом все было непросто. Пришлось уговаривать англичан и своих. С кем это обсудить, как не с ней? Она не только поймет, но скажет нечто такое, что сейчас ему нужно больше всего.
«На всякий случай повторяю, чтобы об отряде никому ничего не рассказывала. Все, что я буду писать о нем, только для тебя: другим можешь говорить только, что „отряда еще нет и когда будет — неизвестно“... О соблюдении таинственности просил меня Вл. Евг. Просил — значит, нужно уважать. А дела с отрядом скверны. митинг прошел неудачно. Его, собственно, не было, так как с открытия заседания поднялся свист и крики. Зал трещал от криков и ломаемой мебели. Один молодец вскочил на стул и выкрикивал в зал самые гнусные русские ругательства. Одна женщина встала против трибуны, вперилась глазами. и произнесла с расстановкой: „Сволочь, собацие глаза, продазная скура“».
Что ответила Фира? К сожалению, ее письма у меня нет. Впрочем, легко предположить, что в таких случаях скажет любящая женщина. Уж, конечно, попросит стоять на своем. Главное, чтобы вы с Жаботинским не останавливались! Тогда все обязательно получится.
Странная у Иосифа получилась любовь. Так долго существовать на расстоянии письма! Если бы они находились рядом, то скорей бы поняли друг друга. Он бы сказал: «Видишь, сколько проблем?», а она бы ответила: «Кажется, ты разучился побеждать?»
Иногда появлялась надежда на то, что они скоро увидятся, но всякий раз свидание откладывалось. В конце концов Иосиф дождался своей пули. Так Фира, не побывав женой, стала вдовой. Когда, вся в черном, она шла к памятнику разъяренному льву, за ее спиной шептались: «Это она».
Сейчас можно сказать, что это действительно она. Правда, настоящего счастья у них не вышло. Ни своего дома, ни детей. Осталось только несколько пачек с письмами. Еще прибавьте каменного льва, разинувшего пасть и вроде как спрашивающего: «За что?»
Еще одна революция
Только оправились от Февральской революции, а тут еще одна. Ничего общего с прежней. Даже одеваются новые вожди иначе. Преобладают не пиджаки и пальто, а гимнастерки и шинели. Да и лица другие. Те знали о своей «временности», а эти уверены, что пришли навсегда.
За что «октябрьские» невзлюбили Иосифа? За то, что он помог «февральским» отбить Корнилова? Скорее всего, дело в будущем. Больно он неугомонный! От такого неясно, что ожидать.
Не странно, что Иосиф оказался в тюрьме. Где еще можно осознать, что надеяться не на что? Если только на тесноту камер. Вдруг при такой скученности именно ты окажешься лишним.
Это при прежнем режиме сообщали причину ареста, а эти не церемонятся. Сидишь — значит, не просто так. Через пару дней его выпустили и тоже не унизились до объяснений.
От Иосифа потребовали бросить политику и стать таким, как все. Почему опять не пойти в дантисты? Тогда вы будете полезны не всем без разбора, а только страдающим зубной болью.
Что Трумпельдору эти советы? Да и Советы с большой буквы его не интересовали. Он сориентировался, нашел щель в границе, и его только и видели. Дело не в страхе, а в недоверии. С первой революцией у него был короткий роман, а с этой не получилось.
Опять, автор, спешишь! Еще не сказано о том, как мы прощались. Хлопаем друг друга по плечу, но неуверенно. Да и привычное «эйн давар» кажется расплывчатым. В эту минуту хотелось бы чего поконкретней.
Все испортил я. Иосиф еще держался, а я уже вытираю слезы. Сам думаю: кто о тебе будет заботиться? Говоришь, у каждой пули свой адрес? А как быть с тем, что пуля — дура? Что она не разбирает, куда летит?
Гибель Трумпельдора
Видно, Фира чему-то его научила. Он стал внимательней к барышням. В Тель-Хае их было две. Причем обе красавицы. Таким бы не защищать крепость, а только ее украшать.
Что поделать, если бедуины восстали, а солдат не хватало? Пришлось Саре с Дворой нарядиться в куртку и брюки. Может, им хотелось походить на мужчин, но получилось еще более женственно.
При виде амазонок в хаки поневоле заволнуешься. Скажешь сам себе: ах, если бы нам встретиться в мирное время!
Недостает не только солдат, но винтовок и патронов. Поэтому Иосиф решил договариваться. Для этого открыли ворота и двум бедуинам разрешили войти.
Почему-то получилось не одновременно. Они заходят, а Иосиф еще не спустился со второго этажа. Вдруг вопль — не грубый и сиплый от курева, а совсем детский. Так кричат не «У меня отобрали пистолет», а «Отдайте игрушку».
Трумпельдор бросился защищать Двору, а вместе с ней Фиру и всех женщин на свете.
Словом, мой друг повел себя как джентльмен. А что это значит в таких ситуациях? Ты вылетаешь во двор, даешь команду: «Огонь!» — и все вокруг начинает полыхать.
Думаю, он чувствовал то же, что спасало его в Порт-Артуре. Что отгоняло от него пули и долгое время делало неуязвимым.
Без этого ощущения нельзя победить. Если ты заранее не знаешь, что сможешь вернуть бомбу противнику, то вряд ли у тебя это получится.
Впрочем, на этот раз ощущение не спасло. Не помогло даже то, что у порохового склада в его распоряжении были секунды, а сейчас почти минута. Может, он слишком долго прицеливался, а бедуинская пуля, не размышляя, летела к цели. Она не сбилась с пути, не просвистела рядом, а вошла прямо в него.
Когда Иосифа принесли в дом, он собрался с силами и вновь почувствовал себя Трумпельдором. Требовалась перевязка, но только никто этому не научен. С оружием управляемся, а с бинтами нет. Тогда мой друг сказал: «Вымойте руку — я покажу, что делать».
Знали ли те, кто был с ним в Тель-Хае, что он произносит это не в первый раз? Как бы то ни было, эти слова возвращали его в прошлое. Он вроде как говорил: если еще можешь давать указания, то ничего, по сути, не изменилось.
Позволю себе передохнуть, а потом продолжу. Непросто делать два дела сразу. Пишу этот текст, но слез не остановить. Тогда я представил, что он ко мне обращается: не застревай, приятель! Переключись, и тебе станет легче.
Раз приказ, то конечно. Правда, как его выполнить? Говорю от его имени: «Может, хватит?», но успокоиться не могу.
Перейдем к тому, как Тель-Хай сдался. Все же наши испортили настроение врагу. Крепость горела так, что видно было издалека. Так что победу бедуины праздновали на пепелище. В наследство от нас им достались головешки и камни.
Повозка с Иосифом в это время находилась в пути. Рядом сидел английский доктор, прибывший в Тель-Хай с подкреплением. Впрочем, что он мог, этот врач? Только сделать еще одну перевязку. Остальное от него не зависело.
Как вы знаете, Трумпельдор всегда первый. Не только скажет, как лучше, но покажет пример. Сейчас он вроде как отстранился. Может, впервые согласился с тем, что итоги подведет не он.
Есть легенда, что перед смертью Иосиф сказал: «Хорошо умереть за Израиль». Хотите мое мнение? Не верю. Последние слова не бывают такими пафосными. Во-первых, не до того. К тому же боязно. Произнесешь нечто окончательное, а это и будет финал.
Что, впрочем, мое мнение? Главное, что врач не знал русского и иврита, а Иосиф — английского. Как это выразить языком жестов? Да и по смыслу что-то не то. Умирать всегда неправильно. А ему просто нельзя. Слишком многим без него будет плохо.
Может, Трумпельдор выругался, а врач не понял? На такие постройки Иосиф был горазд. Иногда выходило в два и даже в три этажа. Где поднабрался? В Порт-Артуре. Так наши солдаты отгоняли смерть.
Потом над этой фразой поработали еще. Получилось: «Хорошо умереть за нашу страну». Так это и выбили на памятнике в Тель-Хае.
Наконец мы добрались до памятника. Вот он, на фото над моим столом. Сто раз за день пересекаюсь с каменным львом. Так не зевают, а требуют: не приближайся! Если сделаешь шаг, пеняй на себя!
Обычно надгробия говорят о покое, а эта могила рычит. Выражает неудовольствие возможным противником. Кажется, восемь погибших оставили после себя льва. Вдруг он сможет то, что не вышло у них.
Будь моя воля, я бы выбил на памятнике другие слова. Недавно я нашел их в одной книге и подумал: как хорошо! Даже о том, что мы были художниками, тут сказано. Ну а что вы хотите? Только человек искусства вместо болот увидит цветущую землю.
«Мне кажется, смерть художника, — говорится в этой цитате, — следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено».
Читал ли автор этой фразы наших мудрецов? По крайней мере, он с ними совпал. В последнее мгновение все проясняется. Невидимые весы взвешивают то, что удалось умершему, и то, что он не успел.
Как мы узнали о смерти Трумпельдора
А что мы, российские друзья Трумпельдора? В наших разговорах он всегда присутствовал. Иосиф — то, другое, третье. Жаль, он этого не слышал! То, что прежде понимали немногие, теперь стало очевидно для всех.
26 мая 1920 года наши единомышленники собрались в Москве. Следовало уточнить аргументы. Да и повидаться. Пожать руку и похлопать друг друга по плечу. Сказать: хорошо, что мы есть.
Больше всего волновалась молодежь. Многие надели белые рубашки, а кто-то обзавелся портфелями. Вид самый солидный! Показывают, что они взрослые и вскоре заменят нас.
Продолжался съезд недолго. Как только мы приступили к гаданиям на кофейной гуще, все и закончилось. В зал вошел военный отряд. Нас попросили поднять руки и двигаться к выходу.
У нас еще не было привычки к арестам. Так что это появление мы встретили не без юмора. Поинтересовались: кто это — все? Кот — тоже? Нет, говорят, только делегаты. Все прочие остаются на месте.
На допросах мы чувствовали себя как во время заседаний. Даже глубокомысленное выражение не покинуло наших лиц. Многие пускались в рассуждения и просили кое-что уточнить.
Человек свободен до тех пор, пока спорит. Если же замолчит и замкнется в себе, тогда пиши пропало.
Нас хватило на первую неделю. Потом мы погрустнели. Уж очень это напоминало вокзальное ожидание. Такая же скученность. Да и перспектива не просматривается.
Тут с воли приходит весть: Трумпельдор погиб. Все сразу ощутили себя не просто товарищами по идее, а родственниками. Знаете, есть братья по матери или отцу. Мы были братья по только что погибшему другу.
Первая мысль: сколько раз я клялся в нашей дружбе — и сам его бросил. Вторая была воспоминанием. Однажды мы спорили всю ночь. Под утро заснули, а через час он меня будит. Поговорили еще. Пока не решили что-то важное, не сомкнули глаз.
Как говорилось, пафоса он не любил. Значит, и сейчас следовало избежать чрезмерной насупленности. Мои товарищи рвались произносить речи, но мне показалось, что это лишнее. «Хатиква», — предложил я, и тридцать голосов сотрясли стены Бутырки.
Сколько раз мы пели с Иосифом. Впрочем, и теперь нам казалось, что он вместе с нами.
Не время объяснять, как печальная бессарабская песня стала нашим гимном. Что касается истории о том, как фельдшер из Ростова превратился в Трумпельдора, то тут что-то прояснилось. Для того чтобы завершить это повествование, осталось всего ничего.
Уже упоминалось, что после своей гибели Иосиф ко мне зачастил. Хотя тень, как и идея, не имеет ни веса, ни цвета, наши встречи заканчивались бурно. Представьте: вошел, сел, нога на ногу. Говорит: разве можно писать о Тель-Хае, если тебя там не было? Да и Еврейский легион лучше пропусти. Ведь то, что говорят другие, совсем не то, что пережил сам.
Я нервничал, но держался. Пытался объяснить, что наука история искупает вину за пропущенное. К примеру, ты мог бы метать стрелы на Калке, но с этим событием не совпал. Восполняешь утрату тем, что корпишь над документами. Наконец, проникаешься. Почти не сомневаешься в том, что это случилось в твоей жизни.
Всякое сочинительство похоже на перетягивание каната. Ты приближаешься, а объект удаляется. В свое оправдание могу сказать, что никогда не лукавил. Сердце стучало, в глазах стояли слезы. Что получилось — не мне судить. Человек тоже рождается для чего-то прекрасного, а проживает то, что ему суждено.
Был Иосиф — и его обстоятельства. Сначала все было неплохо, а потом наоборот. Может, это национальное — не справа налево, а слева направо? Или это было сделано для того, чтобы мы еще долго скучали по нашей газете. А еще печалились при виде сапожных мастерских. Ведь тут просто чинили обувь — и ничего больше.
Правда, как уже сказано, Иосифа щадили пули. Их было не меньше, чем пчел в улье, но они облетали его стороной. Только в Тель-Хае он понял, что уязвим. Может, ангел-хранитель от него отвернулся? Или засмотрелся на своего любимчика — и зевнул?
Вряд ли я когда-нибудь получу ответ на этот вопрос. Впрочем, некоторые вопросы существуют не для ответов, а для того, чтобы с ними жить.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Как складывалась моя судьба после его смерти? Только я собрался обойтись без истории, как этой истории стало слишком много. Что только не происходило! Так трясет и подташнивает на корабле в шторм.
Год, кстати, двадцать второй. Надо сказать, в нашей жизни не самый страшный. Еще недавно выйдешь за папиросами — и не факт, что вернешься. Скорее всего,
попадешь в морг. Теперь: кури — не хочу! Да и гуляй сколько угодно! Правда, арестовывать стали чаще. Взяли всех — левых, правых, тех, кто в центре. Оглянешься, а вокруг все больше людей без прошлого.
Вот что теперь в цене. Прошлого — с гулькин нос, а будущего — с избытком. Трудней всего таким, как я. У меня столько было всякого, что хватит на десять дел. Хочешь — арестовывай как приятеля Трумпельдора, а хочешь — как эсера. Если пороешься, то обнаружишь что-то еще.
В этом месяце брали эсеров. Что ж, открещиваться не привык. Эта компания для меня не чужая. Так что соглашаюсь без споров. Было — значит, надо платить.
Вскоре я и мои товарищи по партии переместились в Сибирь. Живем, особенно не тужим. Говорим о наших ошибках. Что следовало сделать для того, чтобы здесь оказались не мы, а наши противники?
Думаю, эти разговоры позволялись для того, чтобы однажды всех упечь. Каждому досталось место в камере и отрезок неба в клеточку. Кстати, того, кто нас заложил, поместили в одиночку. Вдруг кто захочет выяснять отношения и распустит руки?..
Каждый день из камеры кого-то выдергивали. Судя по всему, это была очередь — раз потом никто не возвращался. Следующий я — или через одного. Вот, думаю, вскоре расскажу другу, что делал в его отсутствии.
Как видите, не привелось. А ведь и кроме этого случая возможностей хватало. Со мной это могло случиться раз семь. Четыре — в войну и революцию, еще три — в Палестине. Тем удивительней, что я жив. Наверное, кому-то понадобилось, чтобы оставался свидетель. Чтобы он смотрел на догорающее небо и вспоминал свою жизнь.
Дополнение 1961 года.Написано на оборотной стороне листа
Вы знаете, я не люблю высовываться. Помню, в гимназии проштудирую учебник, но руку на уроке не тяну. Выжидаю. Наконец меня вызывают к доске. Тут я встаю из-за парты — голос тихий, руки по швам, улыбка смущенная — и получаю «отлично».
Вот и сейчас мне не хочется опережать события. Когда-нибудь спросят: а не оставил ли он мемуаров? Тут и выяснится, что к этому вопросу я подготовился. Вот они, мои записки. Лежат, есть не просят, места не занимают. Зато когда ими заинтересуются, они откроются в самом главном.
Во времена Иосифа свой дневник я держал в тайнике. Быстро что-то набросаю и сразу спрячу. Больно много любопытных. Отвлечешься, и твои откровения станут известны всем.
Правда, конспиратор из меня никакой. Недостает хладнокровия. Надо быть собранным, а я, когда пишу, улетаю. Однажды увлекся — и вдруг слышу его голос. Оказывается, все это время он стоял за спиной.
Можно догадаться, что мне досталось. Не жалко, говорит, сил на глупости? Не лучше ли подумать о том, что мы обедаем в кабаках? Может, с этого и начнем? А то писателем ты стал, а взрослым человеком — нет.
Еще он сказал: не боишься накаркать? Как бы не раздразнить будущее! Тех, кто много о себе думает, оно ставит на место.
«Представь муравейник, — продолжал Иосиф. — Все что-то тащат наверх — и мчатся вниз. Вообрази, выходит приказ: назначаем главного. Это же конец всему! Теперь все будут бегать, оглядываясь. Куда он, туда и они».
Вот такое сочетание убежденности, смущения, постоянного вслушивания в то, что еще не случилось. Ну и я ему под стать. Правда, без его уверенности. Наверное, потому мы нуждались друг в друге. Случалось, я чувствовал себя Иосифом, а Иосиф мною.
Прежде я обращал внимание на внешнее. На то, какой рост ему дала природа. Какое положение он занимает. Потом я понял, что есть нечто более важное. Во-первых, упомянутое неприятие «ячества». Во-вторых, отношения с законом. Не с уголовным или гражданским, а всеобщим. Я не сразу понял, что такой есть. Еще позже нашел его формулу.
Вы будете смеяться, когда узнаете, что это было за издание. Не Тора, не Библия, а старый театральный журнал. Здесь печатались воспоминания одного актера. Ему повезло: перед самым закатом Мастера он участвовал в возобновлении «Дон Жуана».
Итак, 1938 год. Репетировал помощник, а Мейерхольд часто наезжал из Москвы. Актеры на сцене что-то делают, а тут раздается рев. Значит, режиссер в зале, и сейчас мало никому не покажется.
Идет сцена двух нищих. Идет — и идет. Все задачи ясны, а к тому же — картина маленькая. Если даже сыграть ее плохо, ничего особенно не испортишь.
Вдруг Мейерхольд спрашивает: «Вас сколько?» От этого вопроса все впадают в ступор. Какой чудак! Были бы посмелее, попросили бы пересчитать, но все же ответили: «Двое». В знак согласия режиссер поднял палец и сказал: «Вот и играйте, что двое, а не один и один».
Казалось бы, при чем тут мы, а вот поди ж ты, это и про нас. Мне даже показалось, что он к нам обращается. «Одни люди самодостаточны, — его палец опять метил в потолок, — а другие томятся в одиночестве. Зато стоит появиться компании — и ситуация меняется».
Так — в переполохе и нервотрепке репетиции — было сделано это открытие. Речь о том, что каждый живет-играет не только за себя. Я, к примеру, жил за Трумпельдора. И еще за многих. Если и был кому-то интересен, то потому, что рядом были они.
Хотя историк я доморощенный, так сказать — историк для себя, но кое-что в этом деле понимаю. Историк только и думает: что этот? как тот? почему эти? Уж он точно несамодостаточен. Что-то понять он может, только объединившись со многими людьми.
Что касается того, чем интересен Иосиф, говорилось не раз. Он просто не мог не стать первым. Значит, остальные были вторыми, третьими, сороковыми. Первый оглянется назад: все на месте. Вот второй. Третий. Сороковой. С такими соратниками можно победить.
Дополнение 1961 года. Написано на оборотной стороне листа
Уж раз я вспомнил Мейерхольда и его открытие, то эту мысль можно развить. Например, подумать о том, что общего между актером и храбрецом. Представьте, тут существует сходство.
Артист всегда что-то доказывает. К примеру, десять спектаклей ему удались, а один он сыграл плохо. Можно сказать, проиграл. То же самое и герой. Вроде бы пора жить на дивиденды с прежних заслуг, но он вновь их подтверждает.
Это я к чему? К тому, что если в жизни были только отдельные поступки, то этого мало. Хорошо, если все это складывается в биографию. Если даже в ошибках и неудачах человек оказывается равен себе.
Вот Иосиф был, безусловно, равен. Хотя бы тем, что он не успокаивался. Многие уходили в сторону, выбирали более комфортные варианты, а он «просил бури»! Ах ты, мой дорогой «одинокий парус»! Бывало, оглянется, а вокруг никого. Даже самые преданные не спешат его поддержать.
Грешен, иногда я думал: может, после Порт-Артура он стал неудачником? Силы и желание остались, а шансы израсходованы на войне. Ну еще на пути в Петербург. Поэтому за все ему надо бороться. Самое простое удается с пятой попытки.
Кстати, и после смерти ему не особенно везло. Казалось бы, все ничего — во многих городах есть улицы его имени, но это ведь только вывеска. Для нас, стариков, куда важней ощущение присутствия. Вот с этим не заладилось. Пять лет было нормально, а потом о нем вспоминали все реже.
Конечно, бывали всплески. Например, очередной юбилей. Изобразят, что всегда о нем думали, а теперь можно в этом признаться. В углу газетной страницы поместят статью. Посетуют на нынешние обстоятельства и сделают вывод, что все было бы иначе, если бы он был жив.
Если у Иосифа после смерти ситуация неопределенная, то что ждет меня? Впрочем, уже сейчас можно кое о чем догадаться. Вот уже пару лет как я замечаю, что умерших рядом куда больше, чем живых. Да и внешне я к ним приближаюсь. Причем если бы жил тихо и думал только о болячках! Так нет же, продолжаю делать открытия. Правда, не в настоящем, а в прошлом и будущем.
Уже говорилось, что я определился с адресатом. На эту роль я прочу того, кто еще не родился. Да и появившись на свет, он долго не проникнется. Только лет через тридцать придет мой черед. Представляю впечатление! Так коллекционер ходит вокруг старинной вазы, поднимает палец и произносит: «О!»
В это время я буду старожилом колумбария и действительно приму форму вазы. На ней затейливыми буквами выведут: «Давид Белоцерковский». Все знают участника Порт-Артура, агронома, друга Трумпельдора! Пока не поздно, к этим характеристикам я бы прибавил еще одну.
Ах, если бы мы с моим потомком могли посидеть и выпить чего покрепче. К сожалению, это невозможно, так что я ограничусь тем, что расскажу анекдот. Если ты, дорогой родственник, дочитаешь до этого места, то для тебя кое-что прояснится.
Я уже упоминал, что не люблю зазнаек. Считаю, что куда правильней ощущать принадлежность к фону. Это, впрочем, не значит, что надо забыть о своей миссии. О том, что всякий поступок есть шаг в направлении к цели.
Анекдот будет характерный. Да не просто характерный, а из известной серии. Честно сказать, когда в очередной раз упоминают Рабиновича, мне хочется его защитить. Это же наш еврейский Петрушка! Дойдет до края, но все равно выпутается. Или сделает вид, что ничего не случилось.
На сей раз не просто край, а последняя черта. Рабинович перед престолом Самого. «Ради чего я жил?» — спрашивает вновь прибывший и, как бывает с людьми нашего племени, сам себе отвечает. Ради того. другого. третьего. Собеседник на это пожимает плечами и говорит: «Помнишь, вагон-ресторан поезда Москва— Ростов? Тебя еще просили передать соль? Вот это и было то самое».
Я — тот, кто передал соль. На фразу: «Не будете ли вы так любезны.» — отвечал: «Пожалуйста». Вставал, улыбался, протягивал. Радовался тому, что в этом месте мог быть разрыв, а получилась связь.
ЭПИЛОГ
Сперва я хотел написать эпилог длинно, но потом решил, что лучше коротко. Следует, не размазывая, сказать главное. Да еще на высокой ноте. Так, словно где-то рядом звучит музыка.
Кажется, я ее слышу. Пусть это будут барабаны и пушечные залпы — как в финале «Гамлета». Да, именно так. Тому, кто видит моего друга иначе, вспомнится другая пьеса.
Кстати, у Шекспира убитых — пятеро, а в нашей истории — восемь. Зато Фортинбрас является и тут, и там. К тому же рядом с Гамлетом-Трумпельдором мы видим Горация. Это, как вы понимаете, я. Друг, летописец. Человек, считающий своим долгом обо всем рассказать.
Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших Виновников. Вот что имею я Поведать вам.
Вслушайтесь, это же клятва. Клятва историка. Так начинается каждый мой день. Мол, ничего не утаю. Ни того, что помню сам, ни того, о чем говорят документы. Если что-то пропущу, то лишь потому, что эта работа не для одного. Тот, кто захочет ее продолжить, сделает это лучше.
Как вы помните, я обещал поставить точку после того, как из архива придет машина. Так вот машина скоро придет, а дел невпроворот. Надо соединить главки. Включить в текст записанное на полях. К сожалению, я опять не успел. Впрочем, может, не надо? Есть своя правда в незаконченности. Когда я думаю об этой истории, то мне представляются фрагменты.
Тогда я решил: пусть остается как есть. С набежавшими мыслями и не до конца переваренными документами. Тут нужен не портрет в духе Репина, а нестыковки и зияния Пикассо. Мне кажется, так ближе к реальности.
Что еще? Это уже давно ясно, но на всякий случай скажу. Хотя я человек практический — других агрономов не бывает! — но иногда меня тянет обобщить.
Обычно люди живут в реальности, а мой друг существовал вроде как в книге. Да и сам был едва ли не персонаж. Правда, как-то один текст кончился и начался другой. Он — весь такой вдохновенный! — оказался в обыденности. Огляделся по сторонам — да это же что-то вроде пьесы Чехова!
Не то чтобы Иосиф был к этому не готов. Он ведь начинал как зубной фельдшер. Чем не чеховский герой? Голову и спину все время приходилось держать склоненными. Правда, длилось это недолго. Едва началась война, он сразу расправил плечи.
Первую часть его жизни можно назвать «Путешествием в Икарию». Я уже говорил, что это роман о нас. О том, что есть люди, не считающиеся с обстоятельствами. Жизнь им удается потому, что они сочиняют ее сами.
О дальнейшем вы знаете. Что, побывали в утопии? — вроде как спрашивали нас. — Теперь будет реалистический жанр. Тут уже все по-настоящему. Это прежде поднимало на волне, а теперь за все придется бороться.
Принимать судьбу как должное? Это был бы не Иосиф. Он никогда не терял куража. Ах, сюда нельзя? И сюда — тоже? Может, дело в географии? Следует попробовать с другой стороны земного шара!
Пожалуй, это в нем главное. Он не хотел идти у обстоятельств на поводу. Если он родился для чего-то особенного, то и жить следует так.
И еще одно, немаловажное. Как вы помните, я не считаю себя историком. Так, развлекаюсь по мере сил. Ну и совмещаю это с некоторой пользой. Все же кое-что мне удалось зафиксировать.
Под конец этой книги я могу сказать, что все же знаток из меня получился. Можно ли дожить до моих лет — и не стать профессионалом! Войны и революции не проходят без следа. В конце концов начинаешь что-то понимать.
Имею право читать лекции и принимать экзамены! Тем более что со строгим голосом и выражением лица не будет проблем. «Если вы не знаете о параде в честь Трумпельдора, — скажу я, — то получите два».
Конечно, историком я заделался не ради этого. Главное, те экзамены, что я сдаю себе. Чаще всего это происходит по ночам. Просыпаюсь и не смыкаю глаз до тех пор, пока не сформулирую хотя бы один ответ.
Пожалуй, я сказал все, что хотел. Теперь можно вернуться к машине из архива. Скоро она заурчит, как обиженный кот, и тронется с места. Прощай, книга! До скорой встречи, друг, учитель и персонаж!
Дополнение 1961 года.
Написано на оборотной стороне листа
Пока архив находился у меня дома, я знал, чем заняться. Теперь дел поубавилось. По сути, осталось два. Додумать то, что я не успел, и подготовиться к своему уходу.
По поводу последнего скажу несколько слов. Не хочу нагонять тоску, так что пусть лучше будет история.
В городе Петербурге—Ленинграде, на нашей бывшей родине, один пожилой драматург купил собрание сочинений Диккенса. Если бы это было томов десять, то куда ни шло. А тут тридцать! Знакомый интересуется: собираетесь прочесть все? — Нет, — отвечает, — хочу знать, на каком томе это случится. — Что именно? — Как «что»? Инсульт, а потом — ку-ку. Так сказать, встреча с вечностью.
Признаюсь, меня это тоже интересует. До или после третьего тома? В час пик? Ночью в своей комнате, без надежды докричаться до домашних? Впрочем, зачем гадания? Ясно, что скоро. Ну, а как и когда — пусть в этой задачке что-то останется неизвестным.
Недавно я прочел, что умер Огюст Люмьер. Да, тот самый. Это же надо — настолько пережить свое открытие! Увидеть не только хорошие, но и отвратные фильмы! Понять, что монтаж — дело хитрое. С его помощью легко доказать все что угодно.
Вот бы Люмьер изобрел кино в старости! Он бы ушел с ощущением, что все хорошо. Нет, придумал эту игрушку молодым, а потом стал присматриваться. Когда перед смертью произносил: «Моя пленка кончилась.» — иллюзий уже не оставалось.
В каком-то смысле я тоже Огюст Люмьер. Живу в стране, которую мы сочинили, и каждый день сравниваю замысел с воплощением. Иногда горжусь, а порой ужасаюсь. Всякий раз думаю: любое сходство сомнительно! Не стоит путать фантазии и реальность!
Что остается? Ждать почтальона. Он позвонит в дверь, попросит расписаться за очередной том. Я все пойму и начну собираться. Куда? Сперва на кладбище. Потом. Как это говорит водитель трамвая? «Следующая остановка — архив».
Вы уже знаете, как я прощался с его документами. Теперь по тому же адресу — рядом с Дворцом конгрессов и городской автобусной станцией — отправятся папки с моими бумагами.
Я произнесу: «Хамадера» — и он откликается. Это будет полный и окончательный «эйн давар»! Успокоение на волнах вечности. Потом начнутся вопросы. Как дела? Есть ли новости? Чем занимаются друзья?
Словом, всегдашний наш разговор. Как воевали — и не победили. Как создали государство в плену — и начали эту работу в Палестине. Да мало ли еще тем! Хватит надолго. Да что надолго — навсегда.
P. S.
Биография Иосифа прояснилась, а теперь вспомним его братьев и сестер. Вы ждете катастрофических событий? Ничего такого не будет. В других семьях арестовывали через одного, а тут однажды, да и то ненадолго. В блокаду тоже было как у всех. Буквально никто не избежал того, что выпало на их долю.
Откуда знаю? Что-то узнал от знакомых, а кое с кем по этому поводу переписывался. Начну все же с плотно исписанного небольшого листа. В сороковые годы Альфред, младший брат Иосифа, набросал свой список потерь.
«УМЕРЛИ
Отец — 1915 г. (в Ростове-на-Дону или Пятигорске)
Мать — 1920 г. (в Закавказье)
Абраша — 1888 г. (утонул в реке Дон около Ростова)
Соня — ?
Миша — 1931 г. (в Париже)
Люба — ?
Ося — 1920 г. (Тель-Хай)
Дора — 1923 г. (?)».
В общем-то, это о близости жизни и смерти. Не заметил — и перешел черту. Причем в ту и в другую сторону. Записал среди умерших, а потом засомневался. Сколько раз так бывало. Человека спишут, а, оказывается, он жив.
Как это возможно? А запросто. Случается, письма пропадают. Не одно или два — все. События вокруг громадные, а конверты маленькие. Вот они и теряются по пути.
Поэтому рядом с именами Доры, Любы, Миши и Сони Альфред ставит вопрос. Вроде как спрашивает: эй, вы, там, высоко! Если вы все знаете, то скажите, что с моими близкими?
Кстати, я и сам вроде был, а вроде и нет. После уже упомянутого ареста многие были уверены, что умер. Этот слух дошел до Берлина, где издали мою первую книгу о Трумпельдоре. В ней поместили фото, а под ним написали, что меня не стало в 1922 году.
Представляете, каково было это увидеть! Я смотрел вроде как с того света и думал: если умереть — значит встретиться с моим приятелем, то так, пожалуй, и лучше.
Конечно, бывают совпадения. Вслед за Дон Кихотом уходит Санчо Панса. Впрочем, меня опередила его мать Фрейда. Она покинула нас в том же году, который забрал Иосифа.
Так что мне ничего не оставалось, как жить дальше. Причем жить не только ради себя и своих близких, но и ради друга. Стараться все делать для того, чтобы его не забыли.
Что касается вопросительных знаков на полях упомянутого листочка, то я вижу в них надежду. Так не хочется определенности. Лучше не знать, что в возрасте шестнадцати лет Абраша утонул, а Фрейда никогда не напишет сыну в Палестину.
Знаете, что меня печалит еще? Что не у всех есть могилы. А если и есть, то они не посещаются. Живых и умерших родственников разделяют моря и океаны.
Хорошо, Иосиф был холост. Зато его братья и сестры — при женах и мужьях. Впрочем, это только осложняло им жизнь. Едва обстоятельства начнут налаживаться — как обязательно что-то случится. Такие бывали повороты, что только разводишь руками.
Кто первый? Хотя бы Виктор, сын Германа и Тони. Когда мы о нем вспоминали в первый раз, он учился в гимназии. Потом стал хорунжим в Добровольческой армии. В графе «вероисповедание» в «опросном листе» значится как «лютеранин». Что ж, дело обычное. Его отец тоже изменил своей вере.
Год не восемнадцатый, а двадцатый. Дела у его армии плохи. Швыряло с места на место — и вот наконец из Константинополя он попадает в Сербию. Живет в городе Панчеве, на Церковной, 71. Больше «опросный лист» не сообщает ничего. У других могила, а у него адрес. Словно прямо отсюда он попал на небо.
У прочих членов семейства дела не лучше. Все поучаствовали в истории. Уж на что Дора человек тихий, вечно погруженный в готовку и дочкины уроки, но и ее захватил этот вихрь. Как в двадцать третьем у нее начались проблемы, так долго не отпускали.
Дора никак не могла взять в толк: почему расстреляли ее мужа? Будто сама не знала, что он пошел не в Красную, а в Белую армию. Да и к дальнейшим его шагам имелись претензии. Мало того, что не уехал, но еще вписался в мирную жизнь.
Что делают с непонимающими? Сперва объясняют по-хорошему, а потом переходят к вопросам. Почему не отреклась? Отчего личное поставила выше общего? Тут Дора совсем скисла и уже подумывала о новой встрече с мужем.
Оказалось все не так страшно. Всего-навсего ссылка в Мари-Билямор. Место это в Марийской области не очень гостеприимное, но фельдшера нужны везде. Памятуя об опыте отца и брата, Дора пошла в медицину. Как умела, лечила людей и животных.
Правда, покоя не было. Вплоть до сорок первого года она чувствовала себя чужой. Зато с началом войны ситуация изменилась.
Еще раз вспомним: если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Раз ей нельзя в Ленинград, то в эти края двинулись ленинградцы. Сейчас сюда не ссылали, а эвакуировались. Вскоре приехали племянники — дочь сестры Софьи с детьми.
Прежде она улыбалась редко, а теперь как захохочет! Гости тоже себе в этом не отказывали. Бывало, набьются в ее комнатку — и давай смеяться. Так же тесно и весело было в ростовском доме.
Хоть это и правда, но не вся. Нужно помнить, какой ценой это получилось. Свое место в машине через Ладогу сестра Софья отдала дочери и внукам. Поэтому они здесь, а она в братской могиле.
Лежит ее сестра в тесноте и холоде, без имени и фамилии. Правда, многим ленинградцам и этого не досталось. Их зарыли по дороге за водой, во дворе дома. Да мало ли таких мест! Почти не осталось в городе улиц, где бы кого-нибудь не похоронили.
Значит, в этой семье жертвовали собой все. Кому труднее — можно не объяснять. То, что мужчину лишь взбодрит — женщине оказывается непосильно. Дору и Любу потрепало так, что их не узнавали. Всмотрятся — и спрашивают: это действительно ты?
Еще не забыл, дорогой праправнук, как одна сестра осталась на второй год, а другая так и норовила ее уколоть? Сейчас стало не до соперничества. Правда, быть внимательным тоже не получалось. Слишком большое расстояние их разделяло.
Для финала этой главки сорока кое-что принесла на хвосте, и я сейчас этим поделюсь.
После ссылки Дора получила «минус». «Минус» Москва, Ленинград, еще городов двадцать. Она выбрала Петрозаводск. Все же не так далеко до Питера, где жила Люба. Хотя бы раз в полгода можно увидеться. Сестры закроются в кухне — и давай шептаться. Говорили о прошлом. О том, что им доступно и куда прочим путь закрыт.
Имеет право автор на блажь? Закончим эти воспоминания на кухне питерской хрущевки. Свет тусклый, но иного не надо, ведь глаза горят ярко. Две пожилые женщины обсуждают мировую историю. Говорят, что все бы так и шло, если бы не их брат. Пусть это не помогло ни им, ни ему, но кое-что прояснилось. Многие уже не сомневаются в том, что дважды два не четыре, а семь.
КОММЕНТАРИЙ ПУБЛИКАТОРА
Считается, что публикатор — человек скучный. Сидит такой Акакий Акакиевич и к каждой неясности старается прибавить хоть одну сноску. Иногда примечания оказываются больше текста. Как этому не порадоваться! Обычно скрюченной спине не выпрямиться, а глазам не поглядеть вдаль!
Не имею возможности приложить фото, но, поверьте, это не я. Трумпельдор для меня не повод для уточнений, а едва не знакомый. Человек, о котором думаешь в сослагательном наклонении: а если не так, а иначе? А если даже и так, то, может, тут есть другой смысл?
В связи с прочими участниками у меня тоже имелись предположения. Как-то меня осенило, что Белоцерковский не мог не оставить записки. Доказательства? Почти никаких. Называл себя историком — раз. Столько лет держал у себя архив — два. Кому еще этим заняться — три.
Я чуть ли не представлял эту рукопись. Впрочем, кто поверит моим фантазиям? Скорее всего, бумаги Белоцерковского находятся там же, где документы его приятеля. Так что вариант у меня был один. Следовало оправиться в иерусалимский архив.
Не сразу дело делается. Образовались нити, завилась веревочка. Наконец я получил ответ. Да, все так, как вам померещилось. Недавно поступила рукопись от вдовы. Честно говоря, еще не читали. Вот вы и скажете, надо ли торопиться.
Все люди разные. Одни любят откладывать на потом, а другие постоянно спешат. Кто прав? Это смотря кто интересуется. Мне ближе два приятеля. Если что-то им удавалось, то потому, что они все время не успевали.
Правда, иногда размеренность тоже полезна. Вот как в этом случае. Говорю себе: не забывай о последовательности! Начни с того, как ты пришел к теме.
Ах, если бы я помнил, а сочинять не хочется! Ограничимся тем, что без повода не обошлось. Вскоре я не отделял себя от него. Существовал только ради того, чтобы что-то выяснить. Причем всякий раз было мало. Сразу хотелось узнать еще.
Доходили кое-какие новости. Оказывается, друзья почти не расставались. Прямо как Дон Кихот и Санчо Панса. Кстати, тут тоже не обошлось без желания победить великанов и обзавестись островом. Так что аналогия не натянутая.
Где искать Белоцерковского? Конечно, в «Энциклопедии пионеров и первопоселенцев страны Израиля». Представьте, всю эту работу проделал один Давид Тидхар. Вот кто действительно жил с пользой! Его издание прервалось на девятнадцатом томе. Не потому, что тема была исчерпана, а из-за того, что составитель умер.
Так вот Белоцерковского здесь нет. Правда, во втором томе на странице девятьсот шестьдесят восемь есть статья о Тове Хаскиной. Это та самая фельдшерица, что упомянута в протоколе обыска, проведенного у питерских палестинофилов. Тут говорится, что она приехала вместе с Давидом, но он вскоре вернулся.
Затем мне попалась берлинская книга Белоцерковского 1924 года. На обложке значилось: «ACHIJOSEF» или «Мой брат Иосиф». Вот каким было самоощущение автора и, возможно, жанр. Правильно определить его так: «брат о брате» или «остающийся об ушедшем».
В издании помещено фото Давида. Вот, оказывается, он какой. Много округлого: лицо, уши, очки. В шевелюре тоже есть изгиб: волосы не спадают на лоб, а зачесаны назад. На нем форма студента Сельскохозяйственных курсов, а значит, ему около тридцати.
Книга Белоцерковского рассказывает о том, другом, третьем, десятом, а карточка только о его юности. Правда, снимок оказался с секретом — кажется, он вместил и вторые тридцать лет. Настолько старше он выглядит.
Только я порадовался настоящему Белоцерковскому — и сразу скис. Вижу — год рождения не указан, а зато есть дата смерти. Якобы случилось это 14 апреля 1922 года.
Как говорится: если молва тебя похоронила, то ты будешь жить долго. Не знаю, что произошло в этот год и день, но он точно не умер. Да как вообще это могло быть? Уж очень близко от гибели друга! В реальности — в отличие от литературы — такие совпадения редкость.
Чаще всего бывает наоборот. Раз один погиб, то другой живет за него. Причем ему выпадает не среднестатистический срок, а ровно столько, чтобы сделать все, что задумал.
Помните, как Давид размышлял о мартирологе Альфреда Трумпельдора? Рядом с несколькими именами составитель ставит вопрос. Значит, сомневается. Никак не может согласиться с тем, что этих людей нет на свете.
Дело в том, что в такие суматошные эпохи легко пропасть. Если, к примеру, ты появился в пункте Б, то в пункте А тебя искать бессмысленно. Возможно, там уже напечатали твое фото с придуманной датой смерти.
Вот и Белоцерковский как сквозь землю провалился, но все же не исчез. Одно время существовал между Россией и Палестиной, а затем обосновался в Иерусалиме. Участвовал в каких-то обществах, пока не понял, что самое интересное — это то, что делаешь дома. Особенно ему нравилось сидеть на балконе и разбирать архив покойного друга.
Еще, как вы знаете, Белоцерковский писал. После тех записок, что вышли в Берлине, он предпринял еще две попытки. В сорок восьмом приступил к мемуарам, а в шестьдесят первом решил их продолжить, но работу не довел до конца.
Пришло время рассказать о рукописи. Представьте большую тетрадь вроде амбарной. Еще вклеено листов пятьдесят. Некоторые страницы заполнены с обеих сторон. Кажется, ему постоянно не хватало места. Вроде все уже сказано, но он непременно добавит.
Ну и почерк соответствующий. Буквы никак не умещаются в квадраты. Вот где простор для графолога! Он бы сказал: человек хороший, но беспокойный. Жизнь ему предлагает: вот вам квадрат (или линия), а он непременно ускользнет.
Судьба Белоцерковского делится на две части. Или на три. Вместе с Иосифом. Рядом с документами. В одиночестве. Самый сложный — последний этап. Вида Давид не показывал, но что тут объяснять? Хватит того, что он улыбался, а глаза говорили о том, что случилось непоправимое.
Как жить без архива? А так. Время от времени перечитываешь старые записи. Наконец чувствуешь — пора. Во-первых, накопились новые мысли. Да и сроки поджимают. Ясно, что такой возможности может не быть.
Еще имеет значение растерянность. Это из-за нее он начал писать в первый, во второй и в третий раз. По той же причине заметки не завершил. В конце концов запер их в ящике стола, а ключ выбросил. Чтобы не возникало соблазна вновь ворошить прошлое.
Словом, не успел Давид. Не зря называл себя неуспевающим. Однажды жена зашла в кабинет и увидела мужа на полу. Голова была откинута, словно он разговаривал с кем-то вверху. Как это назвать — инфарктом или крайней степенью огорчения? Главное, они встретились. Похлопывали по плечу друг друга и обещали не расставаться.
Теперь вернемся назад и вспомним, для чего я ехал в Иерусалим. Мне следовало найти рукопись Белоцерковского. Еще поклониться его могиле. Ну и, конечно, познакомиться со страной. Ведь это о ней когда-то мечтали два друга[8].
Вы не упрекнете меня в непоследовательности, если я расскажу, как узнал об Израиле? Было это давно. В таком возрасте кажется, что мир заканчивается рядом. Что он меньше города, в котором ты живешь. Школа, двор, еще несколько улиц — вот, пожалуй, и все.
В эти годы Францию и Италию я воспринимал как нечто очень далекое, а Израиль — практически несуществующее. Правда, я слышал фамилию Жаботинского. Да что фамилия — я был знаком с ним самим! Внешне приятель моего дедушки не походил на знаменитого сиониста. Совсем иное — сходство внутреннее, по существу.
Мой Жаботинский увлекался собиранием марок, а это первый признак мечтательности. Так и вижу его склонившимся над своими сокровищами и воображающим те страны, куда он никогда не попадет.
Однажды мы с отцом пошли посмотреть коллекцию. Такого количества марок я не видел никогда. Да и стольких великих людей. Они гордо взирали из крохотного пространства, ограниченного зубчиками.
Один человек меня сразу заинтересовал. Хотя он и носил военную форму, но вид имел вполне мирный. Лицо не решительное, а задумчивое. К тому же на носу красовались нелепые круглые очки. Ученый или писатель такие наденет, а государственный муж никогда.
Черчилля и Рузвельта хозяин дома назвал «премьер-министром» и «президентом», а про этого, в очках, не сказал ничего. Видно, тут существовали особые отношения и статус не имел значения.
Коллекционер погладил марку, вроде как потрепал изображенного по плечу, а затем произнес:
— Это мой дядя.
Некоторые годы можно назвать проклятыми, а эти были противные. Говорить позволялось не все. Даже дома следовало помнить об осторожности. Иногда и хочется пооткровенничать, но одергиваешь себя. В крайнем случае отвечаешь взглядом или улыбкой.
Говорить о Палестине не стоило, но все же коллекционер намекнул. Так я узнал о государстве, сочиненном его дядей. Впрочем, вряд ли эта страна существовала только в воображении. Если была почта, то, вероятно, были армия и флот.
Теперь наш рассказ повернет еще раз. Что поделаешь? В отличие от Петербурга, в Иерусалиме линии извилистые. Даже если знаешь, куда идешь, то обязательно поплутаешь.
Гипотеза венского психиатра подтверждалась вновь. Я находился в Вечном городе, а еще на улице Трумпельдора. Смотрел по сторонам и думал: если ее назвали так, то что-то тут должно о нем говорить.
Начиналась улица сквером, а заканчивалась церковью. Между ними находились самые разные постройки. Я прикидывал: а если это не магазин, а первая остановка на его пути? Ростов. Кафе — Порт-Артур и Хамадера... Так его судьба вмещала самые разные обстоятельства — и просматривалась далеко наперед.
Эти дома появились в те времена, когда тут прогуливался Иосиф. Да и белье на балконах сушится сто лет. Удивительно! Народ здесь скромный и богобоязненный, а об их трусах и кальсонах мы знаем почти все.
Когда улицу назвали улицей Однорукого, еще ничего не нужно было объяснять. В те годы лишь один Однорукий писался с большой буквы. Потом выросло новое поколение. Сами знаете, что за контингент. По любому поводу таращат глаза и разводят руками.
Сколько раз так бывало — при жизни сверкал, а после смерти ушел в тень. Настало время уточнять — это тот, о ком мы подумали? Потом вопросов не задавали. Так и с тем нищим, что сидит на мостовой и читает Тору. Сперва его замечали, а затем он вписался в пейзаж.
Недавно улице вернули настоящую фамилию. Вряд ли это что-то прибавило. Уж про Порт-Артур и Петербург точно никто не догадывается. Да и о Палестине знают мало. Хорошо, если слышали сказанную напоследок фразу.
Опять вспомним о том, что в этом городе непременно куда-нибудь завернешь. Вот опять поворот. Вдруг замечаю, что все вокруг тычут пальцами. Сперва ничего не понимаю, а потом заинтересовался. Этак снисходительно: что — мешок? Чем он отличается от тех пакетов, с которыми мы ходим в магазины?
Видно, это делалось для таких, как я. Чтобы мы потом кляли себя за легкомыслие. Удивлялись: да как же так! Невозможно было представить, что тут прячется взрыв!
Зато прохожие все поняли сразу. Остановились, как в игре «Замри». Тот, кто шел, застыл с неоконченной фразой на устах. Кто сидел расслабившись, нервно глядел вдаль.
Вскоре появился фургон. Из его чрева вывалилось нечто приземистое. Своими повадками оно напоминало большого ящера.
Дальше раздался хлопок. Значит, теперь бояться нечего. Кто-то выругался, другой сказал «эйн давар», третий махнул рукой. Так, незаметно для себя помянув Иосифа, улица пришла в движение.
В Иерусалиме невольно размышляешь о смерти. Наткнешься на что-то такое — и уже думаешь. К тому же городу столько лет! Еще прибавьте то, что я шел на кладбище. Пришло время поклониться истинному другу и настоящему воину. Сказать ему и себе, что я тут не просто так. Вот сверю цитаты — и его мемуары можно будет отдавать в печать.
Чаще всего кладбища располагаются на окраине, а это находится в центре. Где как не здесь задавать главный вопрос? Спрашивать о том, что такое богатство на фоне вечности? Ответ очевиден там, где надгробия одинаковы, а цветов просто не может быть.
У Петербурга, где жил Иосиф и где живу я, нрав другой. Его прямые улицы подчиняют и заставляют держать спину. Иерусалим, напротив, раскрепощает. Буквально все здесь имеет возможность высказаться. Если фургон захотел встать посреди дороги, то он себе в этом не отказывает. И у белья на веревке есть свои права. Висит, развевается. Показывает, что ничуть не уступает флагу.
Даже в синагоге нет чинности. Здесь молятся, разговаривают, глазеют. Читают не только Тору, но и газету. Цитируют священные тексты — и вспоминают байки. Все это связывает общий ритм. Не простой, барабанный, а сложный, симфонический. Особенно это очевидно, если смотришь с хоров. Вроде бы каждый сам по себе, а на самом деле вместе.
Отдельно надо сказать о небе. Тут оно не отмерено, а дано все целиком. Это вам не питерские дворы, где синева выдается порциями. Поднимаешь голову — и видишь квадрат. Примерно такой, как в окошке тюрьмы.
В общем, Петербург центростремительный, а Иерусалим — центробежный. Никакой геометрии, а живого чувства с избытком. Здесь все устроилось не из плана, а из порыва. Из ощущения, что всего должно быть не меньше, а больше.
Иерусалим и сейчас ищет себя. Да и генеральная уборка не началась. Наверное, поэтому Белоцерковский не закончил свои записки. Он жил так же, как этот город. Набросает что-то на полях и продвигается дальше. И так не один, а много раз.
Вот о чем я думал у могилы Белоцерковского. Пора и честь знать. Есть еще одно место, кроме кладбища, где прошлое не становится настоящим. В архиве меня ждали недочитанные документы.
У приезжего всегда несколько дел сразу. Особенно здесь, где, как уже сказано, нет прямых путей. Хотя бы два-три поворота вам обеспечены.
По дороге я заскочил в район ортодоксальных евреев Меа-Шеарим. Вроде ничего особенного. Продают, покупают, рожают, воспитывают. И все же отличие есть. Местные жители невысоко ценят сегодняшнее. Возможно, каждый из них видит один сон. Вот он отвлекся на что-то текущее, а Мессия уже пришел.
Вот бы побывать в этих снах, но кто же туда пустит? Остается представить, как скрипит дверь и Он появляется. Ни сильных выражений, ни грома и молний. Так в спальню к детям входит отец. Впрочем, Он и есть всеобщий отец — тот, кто всякого успокоит и прижмет к груди.
В ожидании знакомой я смотрел по сторонам. Мимо шествовали беременные женщины. Попробовал их сосчитать, но сразу сбился. Думаете, рядом находилась женская консультация? Совсем нет. Просто здесь не жалеют сил для того, чтобы исполнить свое предназначение.
Со знакомой мы решили пойти в книжную лавку. Здесь торговали особенными книгами. Вернее, книга была одна, а комментариев множество. Впрочем, выглядели эти издания вполне обычно. Да и держались не на воздусях. Полки поднимались до самого потолка.
Где-то тут находились и труды моего предка, знаменитого познанского раввина.
Меня представили продавцу как родственника. К нашему удивлению, он реагировал прохладно. Видно, с его точки зрения три века не в счет. Настоящая древность имеет отношение к куда более далеким эпохам.
Правда, он не поленился и повел нас в глубину комнаты. Там стояли сочинения предка. Одинаковые обложки напомнили о недавнем посещении кладбища. Тут тоже обошлось без излишеств. Главное, кто и ради чего.
Вытаскиваю том и держу на весу. Солидно, что говорить. Надо было что-то произнести, и я сморозил глупость. Спросил у знакомой, читала ли она эти книги, и услышал, что вряд ли это называется чтением. Все же это не то, что пишете вы.
Еще поворот? Это как принято. Правда, участники те же. Раз я рассказал о том, как мы ходили в книжный магазин, то надо вспомнить наше знакомство. Произошло это на одной здешней тусовке. Она спросила у меня: «Правда, вы учились там-то?» — «Да, а что?» — «Возможно, вы знали моего дядю». — «Как фамилия?» — «Такая-то». — «Да это же мой любимый преподаватель!»
А знаете ли вы? А вы знаете? Тем хватало. Все же тридцать лет взаимной симпатии. При встрече дядя всегда говорил: «Будут проблемы —сразу звоните мне». Не знаю, что впечатляло больше — расположенность или интонация. Такие певучие голоса встречались только в старой Александринке.
Впрочем, как иначе? Прежде чем стать «ведом», дядя поучился у Юрьева. Знаменитый актер так произносил: «Продайте мне булку», что слышалось: «Полцарства за коня». От него он узнал о существовании двух реальностей. Первая связана с бытом и искусству не интересна. Зато вторая поднимает ввысь.
Тут моя собеседница спросила: может, вам что-то говорит моя фамилия? Я ответил: нет. Тогда она вздохнула и пожаловалась: не хотела вспоминать, но, видно, придется.
Это случилось во время прошлой интифады. Муж опаздывал, а своей машиной мы не обзавелись. Он проголосовал, водитель остановился. Ехали они недолго. За деревьями прятались арабские снайперы. Первая пуля досталась шоферу, вторая ему. Третья попала в девушку на заднем сиденье. Девушка выжила. Она была беременна, и пуля вошла неглубоко.
Видите дорогу? Это произошло там. Конечно, следовало быть осторожней, но мы, русские, всегда надеемся на «авось». Как говорил Трумпельдор? «Эта пуля не моя». Впрочем, для того, чтобы умереть, много не надо. Тысячи пуль просвистят мимо, а одна попадет в цель.
Вот о чем вспомнилось по дороге к архиву. В память о дяде и муже моей знакомой я замедлил шаги. Остаток пути шел со скоростью солдата почетного караула.
Хороший человек был дядя, — размышлял я, — но все-таки «вед»! История для таких людей — это то, о чем говорят на лекциях. Что касается мужа моей знакомой, то он попал в самое пекло. Тут точно без вариантов.
Не всегда соприкосновение с историей сокрушительно. Укол может быть и несильным. Я залез в битком набитый трамвай и ощутил холодное прикосновение. Это была не дрель, не поварешка, не нож. Нечто куда более нужное. Автомат «узи». На лице владельца читалось: извини, друг. Еду к родителям. Все свое ношу с собой.
Вовремя возник этот солдат, а вместе с ним и лекарство от чрезмерной дозы прошлого. Правда, следующая доза оказалась настолько сильной, что я едва не задохнулся.
Рядом с улицей Трумпельдора располагался магазин «Трумпельдор». Догадались почему? Потому что «секонд хэнд». Тут следует опять помянуть новое поколение. Эти не пожалеют никого. Еще хорошо, обошлось без фото протеза.
Ирония в названии подкреплялась содержимым. Здесь торговали старыми платьями и портьерами с кистями. Ничего героического. Ни тебе планшета или большой соломенной шляпы, которые носили первопоселенцы.
Все это мне пришлось увидеть в этот день. Не вообще шляпу и планшет, а те самые. Впрочем, лучше по порядку. Подобно Белоцерковскому, хватаю себя за руку и велю не спешить.
Сейчас поворот самый последний. Архив. Вместе со знакомым сотрудником направляемся в святая святых. Минуем двери с кодовыми замками. Наконец достигаем Кощеева яйца. Три коробки просмотрены, и осталась еще одна. Сразу оцениваю вес. Раза в три тяжелей, чем первые две.
С одной стороны, здорово. Чем больше я прочту, тем больше буду о нем знать. С другой — обидно. Уж как я надеялся попутешествовать, а тут работы до конца недели.
Бегло скажу об архивариусах. Вам известны эти особи? Кажется, они родились из бумажной пыли. Этих людей не представить в лесу. Только среди документов. Взгляд вниз и еще вбок: не хочет ли кто покуситься на их богатство?
Мой знакомый не такой. Ему подошел бы не только гамак, но футбольный мяч. Всего этого вдоволь в Сосново под Петербургом. Здесь в детстве и юности он проводил лето. Набирался сил и накапливал темы для своих рассказов.
Да, архивист еще и писатель. Из числа тех авторов, что сюжеты находят всюду. Он писал и про архив. Наверное, и меня куда-нибудь вставил. Или еще вставит. Не пропадать же добру. Тем более что наша с ним история так и просится на бумагу.
Итак, последняя коробка. Здесь находились не аккуратно сложенные папки, а шляпа, подштанники и планшет. Лучше всего выглядела зубная щетка. Деревянная
ручка обещающе изгибалась и явно помнила о хозяине. Правда, волосинки полегли почти все. Только две или три торчали вверх.
Кстати, носок был один. Уверен, что и вы переживали такую пропажу. Долго его нет, но вдруг пропадут очки, и он сразу найдется. Чуть запылившийся, но прямо-таки жаждущий составить пару.
Как вы помните, Белоцерковский сравнил время с ветром. Субстанция это трудноуловимая, но не то чтобы не оставляющая следов. Хотя бы один носок дойдет до будущего. Еще шляпа и подштанники. Заодно кое-какие мысли и слова.
Правда, годы многое изменили. Вещи имели цвет не черный и не коричневый, а серый. Ну а что вы хотите? Через столько лет станешь как дерево и мох. Будет казаться, что вырастаешь из земли или готовишься ею стать.
В такие минуты прошлое воспринимаешь не как идею, а как ощущение. В данном случае преобладали твердость и жесткость. Впрочем, не обошлось без мягкости и податливости. Взвешиваешь на руке и понимаешь: вот оно, оказывается, что!
Хотя это запрещено любыми инструкциями, но наш архивист не такой, как все. Взял — и примерил куртку Трумпельдора. Оказалось, герой Порт-Артура был меньше его ростом. Вообразите: одна рука вошла в рукав до половины, а второй он свободно жестикулирует.
— Мы приехали двадцать пять лет назад. За эти годы я три раза попадал в теракты. Вернее, находился рядом. Иначе кто бы тебе это рассказывал?.. Как-то иду из Старого города. Вижу — мой автобус. Побежал, а водитель перед носом закрыл дверь. Я выругался и пригрозил кулаком. Сижу, курю. Автобус отъехал на сто метров — и превратился в огонь и дым. В другой раз выхожу с работы, иду за сигаретами, а киоска нет. Вместо него что-то черное и обугленное. В третий раз еду на работу, а вдруг — ба-бах! Все стекла вылетели. Не только в нашем автобусе, но и в домах вокруг.
Тут он махнул рукой в Трумпельдоровом рукаве. Рука вроде не печалилась, но рукав был грустен. Я вспомнил Пьеро. Когда тот смеялся, его рукава горестно опускались.
— Как это говорится? — спросили мой знакомый и рукав Трумпельдоровой куртки. — Эта пуля не моя. Видно, и теракты были не мои.
Неправильно заканчивать на такой ноте. Вот сколько всего сохранилось. И планшет, и куртка, и зубная щетка. Если бы еще — хоть одним глазком! — увидеть Трум-пельдора. Посмотреть, как он идет, смотрит, жестикулирует. Сравнить с тем Иосифом, что мне являлся во сне.
Оказывается, задача выполнимая. Как вы помните, свою эпоху Белоцерковский назвал кинематографической. Вот вам подтверждение. Случилось это, правда, не сразу. Пропустили войну, плен и Петербург. Только в Палестине догадались включить камеру.
Фото свидетельствует о человеке в прошлом, а кино вроде как в настоящем. Эта запись длится шестнадцать секунд. Сколько времени из его жизни явлено, а остальное скрыто во мраке.
Как вы знаете, Трумпельдор много раз начинал заново. Не был солдатом — и стал. Не указывал пути другим, а тут возникла такая необходимость. На сей раз он пахал землю. Делал это так, будто не только что научился, а умел всегда.
Да, еще. Обратите внимание на наброшенный на плечо пиджак. Видно, не хотел, чтобы кто-то подумал: однорукий, а справляется! Конечно, эта мысль мелькнет все равно. Так пусть она будет не первой, а третьей.
Кроме людей на пашне, камера запечатлела двух женщин. Одна поливает цветы, другая хлопочет в курятнике. Еще проезжает грузовик с сеном. Словом, все, как ему нравилось. Столько народа при деле — и он в их числе.
P. S. Вы знаете, что еврей прощается, но не уходит. Я воспользуюсь этим национальным качеством и немного вас задержу. Одна короткая история — и все. Понимаю, что уже было несколько финалов, но этот, возможно, главный.
Помести я эту историю в соответствующем месте, вы бы не обратили на нее внимания. Правильней ее рассказать напоследок — одной ногой еще в тапке, а другой — уже в ботинке.
Итак, было это в Иерусалимском музее истории Израиля. Стоим с приятелем около витрин, посвященных первопоселенцам. Вот их лопаты и мотыги. А на фото они сами. Смотрят из глубин времени и, возможно, видят нас.
Тут на мобильник пришло сообщение. Приятель вынул телефон и стал читать. Затем прочел мне. Потом несколько минут мы молчали.
Неизвестный нам автор эсэмэски писал, что только что у члена общины — дальше следовали фамилия, имя и отчество — был сердечный приступ и родственники просят за него помолиться.
Повезло этому несчастному. Уже через полчаса после случившегося его обложили молитвами, как подушками. Тут поневоле начнешь поправляться.
Мне показалось, что эту историю мне подарили. Больно вовремя это произошло! Я как раз думал о том, как закончить это послесловие.
Необязательно речь должна идти о тех, кто живет сегодня. Например, мне приходили известия о Трумпельдоре. Как ему плохо. хорошо. опять плохо. После последнего сообщения мне стало ясно, что это может быть книгой.
Другое дело, с чего начать? Еще более непонятно, как довести начатое до конца? Вдруг ничего не получится? Вроде как доплывешь до середины реки, испугаешься расстояния и вернешься обратно.
Уговариваешь себя: я могу. Мне это под силу. Ничто не собьет меня с пути. Обращаешься к себе, а также к тому Богу, что у тебя есть: помоги не разочароваться в замысле, добраться до последней страницы и все же вывести слово:
КОНЕЦ.
Иосиф Трумпельдор в 1917 г.
Примечания
1
Готовится к выходу в свет в московском издательстве «Книжники».
(обратно)2
Перевод с иврита Михаила Гончарка. Здесь и далее документы цитируются по оригиналам, хранящимся в Центральном сионистском архиве, рукописном отделе Национальной библиотеки Израиля (Иерусалим), архиве Института Жаботинского (Тель-Авив), музее «Бейт Трумпельдор» (Тель-Хай), Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга и Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва). — Здесь и далее примечания публикатора.
(обратно)3
Талес (талит) — молитвенное облачение в иудаизме, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.
(обратно)4
Хедер — еврейская религиозная начальная школа.
(обратно)5
Седер — ритуальная трапеза во время еврейской Пасхи (Песаха).
(обратно)6
«Дос юдишер лебен» — «Еврейская жизнь» (идиш).
(обратно)7
Хавейрим — товарищи (иврит).
(обратно)8
Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить тех, кто помогал мне в «поисках Белоцерковского и Трумпельдора», и прежде всего — М. Гончарка, Л. Ласкину, В. Хазана (Израиль), И. Лурье, Ю. Рец, П. Фарберова (Петербург).
(обратно)

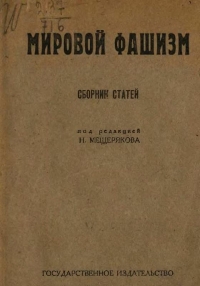


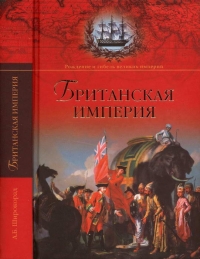

Комментарии к книге «Мой друг Трумпельдор», Александр Семёнович Ласкин
Всего 0 комментариев