Борис Кагарлицкий МЕЖДУ КЛАССОМ И ДИСКУРСОМ Левые интеллектуалы на страже капитализма
ВВЕДЕНИЕ
В конце 2007 г. череда финансовых кризисов дестабилизировала экономику Соединенных Штатов. После того как обанкротился банк Lehman Brothers, один из пяти крупнейших в Америке, на биржах началась паника, подобная той, что знаменовала начало Великой депрессии в 1929 г. Как и положено, рецессия в Америке дала старт аналогичным неприятностям по всей планете. В 2008 г. спад производства охватил основные регионы мировой экономики, за исключением лишь Китая и нескольких стран Восточной Азии, сохранявших инерцию роста. На первых порах казалось, что сценарий Великой депрессии повторяется. Но к лету 2009 г. ситуация на рынках стабилизировалась. Добиться этого удалось за счет активного государственного вмешательства: правительство и Федеральная резервная система США предоставили банкам триллионы долларов для закрытия текущих обязательств и предотвращения дальнейших банкротств. Продолжая заявлять о верности принципам частного предпринимательства и свободного рынка, правительства ведущих стран активно прибегали к национализации. Китай развернул беспрецедентную программу строительства инфраструктуры и новых городов. По дорогам, которые были проложены в рамках этой программы, никто не ездил, а в городах, построенных ради освоения выделенных средств, никто не жил, но подобные отчаянные меры позволили повысить мировой спрос. Поскольку к 2010 г. обвальный спад прекратился, а мировая и американская экономика начали показывать рост, пусть и очень слабый, эксперты и политики поспешили заявить об окончании кризиса. Произошедшие неприятности окрестили Великой рецессией, тем самым давая понять, что речь шла пусть и об очень драматичных, но краткосрочных событиях, по сути, не выходящих за рамки стандартного рыночного цикла.
Между тем кризис был еще очень далек от завершения. Молдавский историк и политический деятель Марк Ткачук писал в 2015 г., что хотя произошедшие события полностью дискредитировали господствующие парадигмы либерально-буржуазного сознания, еще недавно казавшиеся очевидными и незыблемыми, нс было никакого основания говорить о торжестве какой-то новой идеологии или парадигмы развития. «И мы видим пока единственную и совершенно предсказуемую реакцию на этот исторический вызов. Эта реакция обнаруживает себя в облике консервативных поисков былого величия, попытках отгородиться, изолироваться, спрятаться от реальности, найти убежище в рукотворной реконструкции всего того, чего никогда не было — радикального ислама, православного фундаментализма, общеевропейской ментальности, вечного конфликта Запада и Востока, Юга и Севера»[1].
Несмотря на то что подтвердились с предельной точностью все предсказания и предостережения критиков неолиберального экономического порядка, «нет никаких оснований утверждать, что пережитый недавно кризис видоизменил существующие глобальные стратегии. Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не нашим, но еще и не новым»[2].
Меры по стабилизации кризиса, предпринятые правящими элитами, превратили резкий спад в затяжную деградацию, создав так называемую новую нормальность, когда даже на уровне обывательского сознания возникло предчувствие, что если сегодня хуже, чем вчера, то завтра будет хуже, чем сегодня. Кризис изменил свою форму, перешел на новый уровень, к новому этапу. Систематически проводимая политика спасения государством частных банков и компаний привела лишь к тому, что кризис корпоративных финансов сменился кризисом бюджетного дефицита правительств. В свою очередь, государственные органы не находили иного способа стабилизировать свое финансовое положение, кроме как проводя меры жесткой экономии за счет большинства трудящихся. Таким образом происходило радикальное перераспределение средств от среднего класса и низов общества к корпоративным и финансовым элитам. Кризис экономический стабилизировался за счет возникновения предпосылок для кризисов социальных и политических.
В условиях глобализации финансовые центры оказались способны эффективно перемещать свои проблемы на периферию, что, в свою очередь, привело к тому, что более слабые и более зависимые страны погрузились в глубочайшую депрессию, усугубляемую прогрессирующим долговым кризисом. Причем это относилось не только ко «внешней периферии» Запада (бывшим колониальным и зависимым странам, получившим в 1960-е годы название «третьего мира»), но и к «внутренней периферии» Европейского союза — государствам, с запозданием интегрированным в этот клуб развитых стран. Страны Южной Европы и Ирландия, которые еще за несколько лет до того приводились экспертами в качестве примеров успешного развития и модернизации, оказались на грани банкротства. Финансовая система Европейского союза, частью которой сделались эти страны, столкнулась с ситуацией перманентной турбулентности, когда краткосрочные меры по спасению той или иной страны лишь готовили новый виток финансовой нестабильности в самом ближайшем и хорошо предсказуемом будущем.
Зона единой европейской валюты, которая еще недавно была предметом гордости банкиров и бюрократов, превратилась в источник многочисленных проблем. С того самого момента, когда евро был введен в качестве общей денежной единицы для стран с весьма различной экономикой и социальными порядками, эксперты предупреждали, что подобная финансовая интеграция, хоть и будет стимулировать на первых порах потребительский спрос (за счет более легкого доступа граждан относительно бедных стран к кредитам из стран более развитых), в конечном счете приведет к серьезной дестабилизации всей системы. Теперь эти пророчества самым радикальным образом сбывались. Для поддержания курса евро по отношению к доллару Европейский центральный банк вынужден был систематически душить экономику менее успешных стран, которые просто не могли свести концы с концами при искусственно низкой инфляции. В итоге те, кто и раньше отставали от лидеров европейской интеграции, были отброшены еще дальше назад безо всяких шансов догнать своих более удачливых партнеров. В свою очередь, трудности, которые испытывал Европейский союз, толкали его политических и деловых руководителей на путь внешней экспансии, что очень быстро привело к столкновению с Россией.
В начале 2000-х годов Москва не мыслила иной внешней политики, кроме как основанной на партнерстве с европейским Западом, в котором видели не только экономического партнера и потребителя сырья, но и противовес американской глобальной гегемонии. К середине 2010-х годов Россия и Европейский союз уже находились в жесткой конфронтации из-за борьбы за влияние на бывшие советские республики — Украину, Молдавию и Белоруссию.
Для российских правящих кругов конфронтация с Западом послужила великолепным способом объяснить нарастающие внутренние трудности, которые на самом деле были порождены господствующим экономическим и социальным порядком — общим и для нашей страны, и для Запада. Еще до 2014 г., когда разразился конфликт на Украине, трудности начали испытывать все ведущие незападные экономики — государства Латинской Америки, а затем Россия и Китай. Однако динамика развития кризиса была не равномерной и не синхронной. В итоге проблемы одних оборачивались успехом и ростом влияния других только для того, чтобы вскоре обнаружилось, насколько преждевременным было торжество.
Спад экономики США и Западной Европы в 2008–2010 гг., происходивший на фоне относительной стабильности в Китае, Индии и Бразилии, изменил глобальное соотношение сил, создав в этих государствах иллюзию возможности превращения в новые центры мировой капиталистической системы. Из-за мер по спасению и стимулированию банков, принимавшихся в Америке, финансовые рынки были наводнены долларами. Средства, предоставлявшиеся корпорациям, не достигали рядового американского потребителя и не стимулировали спрос. Они уходили на спекулятивный рынок и в заграничные инвестиции в страны, где прибыль можно было получить быстро. В итоге росли не только экономики Китая или Бразилии, но и цены на сырье. Спекулятивный ажиотаж на нефтяном рынке обеспечил искусственно высокие показатели экономического роста России, правящие круги которой восприняли это как доказательство собственного успеха.
Элиты России, Китая, Индии и Бразилии, преодолев первоначальную панику, вызванную событиями 2008 г., настроены были использовать кризис для пересмотра в свою пользу глобального баланса политических сил. Основание для таких надежд давали не только сравнительно высокие (особенно на фоне стагнации Запада) темпы роста промышленности, но и масштабы производства, относительная стабильность валют и размеры рынков в этих странах, а также претензии на региональную гегемонию. Все перечисленные государства оставались региональными лидерами, обладающими значительным военным, политическим и интеллектуальным потенциалом. Западные журналисты объединили эти страны в единую группу БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Позднее сюда же присовокупили и Южную Африку, после чего возникла новая аббревиатура — БРИКС (BRICS, где «S» for South Africa).
Лидеры перечисленных стран отнеслись к изобретению журналистов с крайней серьезностью, начав проводить многосторонние консультации, встречи на высшем уровне и запустив совместные проекты. Было принято решение организовать совместный банк и другие структуры, призванные в перспективе стать если не заменой, то во всяком случае дополнением к системе институтов, созданных Западом после Второй мировой войны. Однако несмотря на постоянно звучавшую критику существующего мирового порядка, оставалось совершенно неясным, чем этот порядок должен быть заменен, на каких основаниях реформирован. Подобное противоречие являлось совершенно закономерным следствием положения самих правящих классов и господствующих элит БРИКС. С одной стороны, они стремились повысить свой статус в глобальной системе, но с другой — сами являлись порождением и частью этой системы, а их политика по отношению к собственному народу, методы накопления и использования капиталов, как и способы поддержания власти отнюдь не были альтернативными по отношению к порядкам, насаждавшимся по всему миру в ходе неолиберальных реформ.
Надежды на то, что страны БРИКС станут новым коллективным локомотивом, а возможно, и гегемоном мировой экономики, вытаскивающим ее на новую траекторию роста, сохранялись вплоть до конца 2014 г., когда новая волна кризиса накрыла и их. Валюты всех этих стран начали испытывать растущие трудности и обесцениваться, закрывались предприятия, сокращалось потребление. Глобальный кризис не удавалось преодолеть. Все предпринимаемые меры приводили к тому, что он лишь перемещался из одной мировой экономической зоны в другую.
Парадоксальным образом основной причиной подобной «живучести» и непреодолимости кризиса являлась стабильность политической и социальной системы ведущих стран мира. Несмотря на то что кризис был порожден исчерпанием возможностей экономического роста в рамках господствовавшей с 1990-х годов неолиберальной модели капитализма, политические и социальные институты были повсюду настолько прочны, что эффективно блокировали любые попытки содержательных перемен. Система продолжала воспроизводиться даже при том, что ее экономические и социальные основания уже были подорваны.
Другой вопрос, что каждый следующий цикл воспроизводства лишь усугублял кризис. Краткосрочные проблемы решались за счет увеличения социально-экономических диспропорций и усиления всех противоречий не только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поскольку теперь воспроизводство не могло быть устойчивым, для поддержания равновесия постоянно требовались дополнительные ресурсы. Их надо было откуда-то брать. В результате правящие круги реагировали на кризис политикой «жесткой экономии» (austerity), которая позволяла поддерживать воспроизводство крупного капитала за счет все более массового изъятия ресурсов у основных классов и слоев общества (включая и изрядную часть буржуазии). Одновременно возникает потребность в новой волне геополитической и геоэкономической экспансии для капиталов стран западного центра. В условиях, когда весь мир, за исключением только Кубы, Северной Кореи и болот тропической Африки, уже и без того был включен в систему глобального капитализма и жил по его правилам, экспансия могла разворачиваться лишь в форме «возвращения», «повторного прихода» (revisiting), когда страны, однажды уже подвергшиеся неолиберальной реконструкции, должны были пережить ее снова, в еще более жестких и радикальных формах. Ирландия, страны Южной и Восточной Европы, республики бывшего Советского Союза, ранее более или менее успешно вписавшиеся в мировую систему, столкнулись с растущим давлением, не только экономическим, но и политическим. При этом подрывались и отменялись те самые компромиссы и социальные механизмы, которые на предыдущем этапе делали сложившийся экономический порядок устойчивым.
Параллельно пересматривались и условия компромисса между локальными и глобальными элитами, правящими классами центра и периферии, когда ресурсы, ранее остававшиеся в распоряжении последних, теперь должны были поступить в распоряжение первых. На идеологическом уровне это выразилось в том, что западные правящие круги вдруг стали проявлять крайнюю озабоченность коррумпированностью и авторитаризмом периферийных правительств и олигархий. Политико-экономическая перестройка, которая позволила бы решить подобные проблемы, означала бы неминуемое замещение местных элит, сохранявших достаточно высокий уровень автономии, командами управленцев, непосредственно контролируемых международными институтами, транснациональными корпорациями и надгосударственными объединениями, самым заметным из которых являлся Европейский союз. В конечном счете подобный же подход начал все более доминировать и по отношению к самим западным странам, что, в свою очередь, породило новую волну недовольства и конфликтов.
Поскольку политические системы ведущих стран сохраняли стабильность, система начинала рушиться «по краям» в государствах со слабыми институтами — от Египта до Украины. Эти восстания и революции вдохновлялись совершенно различными идеями — от прогрессивных, демократических и левых до националистических и реакционных[3]. Однако общим для них было то, что в странах со слабой, зависимой экономикой, отсутствием собственных государственных традиций, неразвитой политической культурой и дезорганизованным обществом они не открывали перспективы для реализации новой модели развития, которая могла бы дать импульс переменам в остальном мире. Перевороты, восстания и революции делали разрушительную работу, но как только вставал вопрос о работе позитивной, созидательной, они терпели неудачу. В результате политические потрясения оборачивались наступлением реакции, когда, за редкими исключениями[4], новая власть (если ей вообще удавалось укрепиться) оказывалась хуже старой. Политические и социальные отношения приходили в состояние хронической нестабильности, выйти из которой не удавалось, новая логика общественного воспроизводства не складывалась.
Не только угнетенные массы, но и значительные слои буржуазии начинали испытывать растущий стресс, перерастающий в потребность сопротивляться проводимой политике. Это сопротивление, по большей части непоследовательное и вынужденное, нарастало по всему миру. Если в 2014 г. зоной нестабильности и конфронтации были Греция и Украина, то в 2016 г. острые политические и социальные конфликты развернулись уже в Соединенных Штатах, Франции и Великобритании.
Великая рецессия была не более, чем эпизодом куда более масштабной и глубокой исторической драмы, значение и последствия которой могут быть не меньшими, чем это было в случае с событиями 1929–1932 гг. Происходящее можно назвать Великим кризисом.
В конечном счете именно стремление правящих элит ведущих стран любой ценой защитить неолиберальную модель капитализма, экономически подорванную кризисом после 2008 г., вело к постепенному, но неуклонному разрастанию политической нестабильности, превратившейся к концу 2016 г в своего рода глобальную революционную ситуацию. Институты, препятствующие назревшим переменам, должны пасть не только потому, что превратились в тормоз развития общества, но и потому что, стремясь сохранить себя в неизменности, они лишь усугубляют кризис, подрывают базовые условия собственного существования и воспроизводства. Сохранение в неизменности политической системы повсеместно требовало мер, ведущих к дестабилизации социальных отношений, что, в свою очередь, сводило к минимуму шансы политической системы на выживание.
В такой обстановке политический кризис неминуемо принимал формы масштабного общественного потрясения, а вопрос о том, готовы ли массы той или иной страны к подобному повороту событий, созрели ли там объективные и субъективные предпосылки для революционных перемен, уходил на второй план, поскольку общество за обществом, страна за страной втягивались в водоворот глобального кризиса — независимо от их воли и готовности к переменам. Однако ровно в той мере, в какой проявляла себя на мировом уровне объективная динамика распада неолиберальной модели, очевидной становилась и несостоятельность пресловутого субъективного фактора в лице левых и антикапиталистических движений, партий и организаций, унаследованных от предшествующего этапа развития капитализма. Проблема не сводилась ни к организационной слабости, ни к идейной отсталости, ни к «непопулярности» левых идей, дискредитированных поражением Советского Союза, сталинскими репрессиями или неудачами других социалистических проектов. Напротив, постоянные ссылки на все эти обстоятельства были не более чем удобным оправданием, скрывавшим куда более серьезную драму.
Отнюдь не отсутствие новых идей превращало левых в беспомощных наблюдателей разворачивавшегося вокруг них кризиса. Напротив, именно тогда, когда те или иные политики готовы были всерьез апеллировать к традиционным идеям и лозунгам рабочего и социалистического движения — от национализации до борьбы за социальное государство — они с невероятной быстротой достигали успеха, даже не имея прочной организационной базы, стремительно завоевывали себе сотни тысяч, а порой и миллионы новых сторонников. Так произошло с избранием Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или с внезапным превращением Берни Сандерса, никому не известного сенатора от штата Вермонт, в одного из ведущих политиков Америки. Но именно эти прорывы с особой остротой демонстрировали системную слабость левых, которые оказывались не готовы к новой ситуации, были растеряны и напуганы ею не меньше, а значительно больше представителей правящего класса.
За организационной и идейной слабостью скрывалась совершенно иная, куда более масштабная и трагическая проблема фатального разрыва между левыми и обществом, превращение левого политического и интеллектуального «класса» в органическую часть либерального проекта и безнадежная маргинализация всех тех, к го не готов был или не пожелал в этот проект вписаться.
Политический режим, установившийся в развитых европейских странах и США, конечно, не является авторитарным, но не является и демократическим в том смысле, к какому общество привыкло на протяжении XX в. Его можно назвать либеральной постдемократией[5]. Фундаментальным принципом такого режима является открытое, а часто даже демонстративное, игнорирование общественного мнения и воли большинства при одновременном соблюдении всех формальностей и процедур демократии. В итоге игнорируемое и систематически унижаемое большинство то и дело оказывается вынуждено выражать свою волю и защищать свои интересы за пределами официальных демократических институтов, которые оказались приватизированы привилегированной группой политиков, лишь условно разделяемых на правых и левых. Политической основой этого порядка становится круговая порука буржуазных элит при негласном (а иногда и открытом) пособничестве левых, давно уже интегрированных в эту систему и коррумпированных ею.
По сути дела, демократический процесс превращается в спектакль-симуляцию, оформляющую результаты решений и компромиссов, достигнутых за пределами публичной сферы. Французский философ Ги Дебор еще в 1960-е годы писал про превращение демократии в «общество спектакля»[6], ссылаясь на растущую мощь телевидения и выветривание содержания из публичных дискуссий, но в те времена его образ был скорее гиперболой и предостережением, чем описанием реально происходящих процессов. Напротив, начиная со второй половины 1990-х годов, пророчество Дебора начинает сбываться самым трагическим образом — не только и не столько из-за растущей мощи массмедиа, сколько из-за того, что правящие круги сумели успешно интегрировать в свою систему бывших лидеров протеста, интеллектуалов, а зачастую и массовые организации грудящихся — партии и профсоюзы, превратив реформистские структуры в соглашательские, и лишив социальные движения практической перспективы.
В такой ситуации даже организация протестов ритуализируется и обессмысливается, зачастую преследуя единственную цель «выпуска пара». Демонстрации и митинги, как и гневные статьи в прессе, по сути, превращаются в дополнительный метод легитимации принимаемых элитой решений, поскольку организаторы подобных акций не ставят перед собой задачи практически блокировать критикуемый ими процесс, а лишь выражают к нему «отношение», что сути происходящего никак не меняет. Пройдя по улицам с плакатами и воздушными шариками, толпы недовольного народа расходятся по домам, а организаторы шествия из числа интеллектуалов, политиков и профсоюзных лидеров возвращаются в свои офисы или идут заседать в парламентские комиссии вместе со своими «идейными противниками».
Акции протеста из средства массовой мобилизации на борьбу против политики элит превращаются в замену этой борьбы, в очередной спектакль, не предполагающий никаких последствий в общественной реальности. Никакой стратегии борьбы, никакой эскалации, никакого развития эти действия не достигают.
При таком положении дел несогласным просто «некуда идти», не к кому обратиться, поскольку патентованные борцы против системы сами являются ее частью, нередко — самой коррумпированной и бессовестной. Однако эскалация начинает происходить стихийно, подогреваемая гневом и фрустрацией масс, которые уже невозможно удерживать в рамках ролей, отводимых им в спектакле. Чем более открытыми и наглыми являются нарушения гражданских и социальных прав, тем более радикальными становятся протесты. Эта инерция протеста начинает захватывать отдельных представителей системы, готовых рискнуть своим положением ради новых открывающихся возможностей или просто смертельно уставших от своих ролей в бесконечном и бессмысленном спектакле, а деятели, которые много лег пребывали на обочине политического процесса, оставаясь внутрисистемными маргиналами, неожиданно превращаются в лидеров массовых движений, политиков первого ряда.
Улица заменяет парламентскую трибуну не потому, что массы недовольных не желают голосовать или участвовать в официальных дебатах, а потому, что они туда не допущены, их права и воля блокированы элитным сговором. В свою очередь, на рост протестных движений система отвечает репрессивными методами и обвиняет сопротивляющихся в неуважении к демократическим процедурам, от которых сама же этих людей отстранила. Типичными примерами подобных ситуаций могут быть протесты против нарушения избирательных прав в США или против Трудового кодекса во Франции весной 2016 г. В обоих случаях официальные круги открыто и демонстративно нарушали демократические процедуры — закрывали участки для голосования, вычеркивали людей из списков избирателей, фальсифицировали итоги выборов или, как во Франции, проводили законодательство в обход парламента. Но судебные инстанции на это не реагировали или реагировали крайне вяло, результаты подтасованного голосования оставались в силе даже после того, как нарушения были признаны, а законодательство, принятое в обход демократической процедуры, вступало в силу. Не удивительно, что подобная ситуация подогревала гнев и радикализировала протест, после чего официальная пресса обвиняла недовольных в «насилии» и «нарушении демократических норм». Врагами демократии представляли не тех, кто откровенно надругался над правами граждан, а самих граждан, добивающихся восстановления своих прав.
На протяжении большей части периода, последовавшего за распадом СССР, основные усилия левой мысли были направлены именно на поиски наиболее эффективных моделей идейной адаптации к неолиберализму, выступавшему в качестве непреодолимой «объективности», изменение которой может произойти лишь в виртуальном мире культурных символов или в заоблачных высях интеллектуальной утопии, но никак не в сфере политического действия и борьбы за власть. Более того, сама идея борьбы за власть систематически и сознательно дискредитировалась как наследие авторитарной культуры прошлого, а классовая борьба из вопроса практической стратегии превращалась в источник ностальгических культурных образов, никак не связанных с политикой. Можно было, конечно, поддерживать рабочие забастовки и заявлять о солидарности с деятельностью профсоюзов, но все это сводилось к своего рода социально-правозащитной деятельности, полностью вписывающейся в логику неолиберализма. Социальная борьба свелась к сопротивлению эксцессам системы, утратив ориентацию на преобразование системы, хотя бы даже и реформистское. Показательно, что именно слово «сопротивление», очень возвышенное и нагруженное ассоциациями с антифашистской борьбой времен Второй мировой войны, вошло в моду, оттеснив другие термины из лексики левых.
В 2016 г. британский марксист Алекс Каллиникос, обдумывая успех радикального левого популиста Джереми Корбина, неожиданно для многих возглавившего Лейбористскую партию, подчеркивал, что этот успех «не отменил классической дилеммы относительно реформы или революции». Каллиникос констатировал, что «подлинный тест для революционных социалистов состоит в том, в какой степени они способны объединиться со всеми, кто поддержал лейбористов во главе с Корбином»[7]. Проблема, стоящая перед левыми, состоит не в выборе между абстрактными концепциями «реформы» и «революции», а в том, что ни реформистское, ни революционное крыло движения в сложившейся исторической ситуации не могут обойтись друг без друга. Однако способны ли радикальные социалисты, постоянно призывающие к мобилизации сил и проведению всевозможных кампаний, выполнить свою часть общего дела, требующую в первую очередь не повторения красивых слов, а повседневной работы среди реальных масс, чьи взгляды, настроения, а главное, объективные интересы резко отличаются от того, что им приписывают леворадикальные идеологи?
Важнейший культурный урок сапатистского движения в Мексике 1990-х годов состоял в том, что, отправившись в глухомань штата Чьяпас, чтобы создать там «революционный очаг», молодые столичные марксисты обнаружили, насколько их представления о народе отличаются от действительного положения дел среди индейских общин. Субкоманданте Маркос и его товарищи, ставшие позднее лидерами и идеологами сапатистов, сделали из этого правильный вывод, начав учиться у тех, кого сами еще недавно собирались поучать. Однако урок сапатизма не был усвоен или, вернее, был истолкован в духе необходимости отказа от классической марксистской теории. Что, кстати, отразилось и на самих сапатистах, успехи которых оказались весьма ограниченными. Поворот к реальному диалогу с массами отнюдь не означает необходимости отказа от революционной традиции и теории, а лишь подтверждает, что теория должна постоянно развиваться на основе меняющегося практического опыта. Не означает это и того, что масса непременно права. Ее жизнь на каждом шагу оказывается пронизана предрассудками, коллективными иллюзиями и заблуждениями. Дело лишь в том, что простая констатация данного факта никоим образом не решает проблему.
Если столкновение с индейским, экзотическим «другим» заставляет белого интеллектуала признавать (как правило, в экзальтированно-избыточной форме) свою ограниченность, то столкновение с таким же точно «другим», только принадлежащим к своей собственной расе и нации, вызывает в лучшем случае недоумение, а чаще просто игнорируется. Беда современных европейских левых, однако, состоит в том, что они культурно и социально противостоят основной массе населения ничуть не меньше, чем мексиканские столичные интеллектуалы индейцам Чьяпаса. Увы, в отличие от субкоманданте Маркоса, они не отдают себе отчета в том, насколько оказались отчуждены от того самого класса, интересы которого собираются отстаивать.
Пассивное присутствие левых в неолиберальной системе сформировало определенную логику и культуру поведения, враждебную не только и не столько сложившемуся порядку, сколько стихийным низовым (и потому неизменно «неправильным») попыткам обиженных масс этот порядок изменить. Отказавшись от сталинистских претензий на «внешнее» и «авангардное» руководство массами, левая интеллигенция отнюдь не отказалась от привычки смотреть на массы свысока. Она лишь утратила к ним интерес. Если Антонио Грамши в 1930-е годы призывал к формированию слоя «органических интеллектуалов», неразрывно связанных с классом и выступающих своего рода медиумом и формулирующих на языке политики и культуры массовые интересы, то теперь торжествовал прямо противоположный принцип формирования новой интеллектуальной элиты, никоим образом, в отличие от времен большевистской революции, не претендующей на роль авангарда. Эта элита стояла над массами, не считая ни возможным, ни желательным вести эти массы за собой, воспитывать их или хотя бы интересоваться их мнением. Левая интеллектуальная элита обосновала свою состоятельность и легитимность не через одобрение «необразованными» массами, а через признание со стороны таких же точно элит, только буржуазных.
Этот «новый оппортунизм», однако, вовсе не воспринимал себя как проявление умеренности, ибо его важнейшим идеологическим и культурным компонентом был радикальный дискурс, постоянная и яркая критика капитализма, но не направленная на его практическое здесь и сейчас преобразование. Таким образом радикализм великих заоблачных целей выступал не только оправданием самому банальному приспособленчеству, но и выглядел своего рода постоянным укором по адресу мелочно-прагматических масс, сталкивавшихся с повседневными неприятностями и заботами. Хуже того, многие из этих проблем — например, конкуренция местных и приезжих рабочих на рынке труда — объявлялись изначально несуществующими, а следовательно, недостойными того, чтобы задумываться о какой-либо стратегии, направленной на разрешение данного противоречия. Если проблема присутствует лишь в сознании недостаточно образованных рабочих, то и для ее решения достаточно распространения в обществе правильных лозунгов, публичного осуждения расизма и ксенофобии. Как при этом складываются между собой практические отношения рабочих, принадлежащих к разным этническим или религиозным общностям, не имеет никакого значения.
Разумеется, проблема не может быть сведена к поведению левых. Ведь любой модели поведения объективно противостоят различные альтернативы, пусть и менее выгодные в краткосрочной перспективе, но технически тоже возможные. Доминирование нового оппортунизма дополнялось реальной слабостью рабочего движения, вызванной социальными, технологическими и экономическими изменениями последних 15 лет XX в.
В условиях глобализированного капитализма, восторжествовавшего после краха Советского Союза, наемный труд в традиционных индустриальных странах терпел поражение за поражением. Перемещение производств подорвало привычную географию рабочего класса, а технологические изменения разрушили привычную социально-профессиональную структуру, причем не только в развитых странах Запада и в государствах, образовавшихся после развала СССР, но также в Азии и Латинской Америке. Новое географическое разделение труда привело к тому, что работники, принадлежащие к разным профессиональным и квалификационным группам, оказались разделены еще и государственными границами. В старых развитых странах сохранялся спрос на высококвалифицированный труд, но база его воспроизводства постоянно сужалась, ибо значительная часть рабочих мест, требующих среднего уровня квалификации, переместилась в новые индустриальные страны, где, наоборот, крайне слабо был представлен наиболее квалифицированный (а потому и наиболее образованный и организованный) слой наемных работников. В то время как между рабочими средней и высокой квалификации усиливался географический разрыв, неквалифицированные работники и полупролетарии, не имеющие постоянного рабочего места и надежной специальности, оказывались наиболее мобильны, составляя все большую часть трудящегося населения во всех частях мира, включая богатые страны. Можно перенести за границу производство компьютеров, но невозможно таким же образом поступить с уборкой улиц или поджариванием гамбургеров. Зато можно привезти в богатую страну бедняков, которые будут выполнять эту работу за гроши. Низший слой наемных работников, мелких лавочников, полупролетариев тоже оказался разобщен прежде всего по этнонациональному признаку за счет массового использования труда иностранцев, которые, с одной стороны, не имели гражданских прав, а с другой — предлагали свою рабочую силу по заниженным ценам, подрывая позиции местного населения.
В результате этих процессов социальная структура общества становилась все более рыхлой и размытой. Классовые противоречия никуда не делись, более того, с каждым новым этапом развития неолиберализма они обострялись. Но объективное противостояние интересов труда и капитала отнюдь не означало автоматической консолидации трудящегося класса, укрепления его социальной структуры. Напротив, трудящиеся классы к началу XXI в. по своей структуре оказались куда слабее, куда менее интегрированными, чем за сто лет до того. Усиление классовых противоречий еще не создает автоматически условий для классовой политики, опирающейся на соответствующую низовую организацию, на осознанные интересы. Надо всем этим приходится работать. И господствующая среди левых идеология, культивировавшая идею «различий» вместо принципа общности, культ «меньшинств» в противовес привычной демократии большинства, не только не помогала решить проблему, но, напротив, усугубляла ее.
Накапливавшийся протест так или иначе должен был получить выход наружу, выразить себя социально и политически. И неудивительно, что сплошь и рядом он проявился в формах, непривычных для традиционной политологии и тем более — для левых.
Протестные движения иногда маркировали себя как левые, иногда как правые, иногда вообще не способны были к самоидентификации. Они имели различную политическую траекторию. Но общим было то, что все эти движения в своей идеологической противоречивости (и порой невнятности) воспроизводили рыхлую и неустойчивую структуру общества. Объединяла их не идеология и, увы, не классовое сознание, а лишь нарастающее до ощущения полной непереносимости чувство — так жить больше нельзя.
Крушение неолиберализма массы осознали раньше и полнее, чем интеллектуалы и политики. Вернее даже, не осознали, а почувствовали. На своей шкуре.
Однако именно в этот момент перед левыми встал принципиальный выбор: что является критерием солидарности — класс или культура?
Более чем очевидно, что низы общества являются менее рафинированными, гораздо более склонными ко всевозможным предрассудкам, чем верхи. Значит ли это, что верные своей политической культуре левые должны предпочесть изысканную и облагороженную буржуазию массе невоспитанных, необразованных и неполиткорректных рабочих? Как ни удивительно это может показаться для людей» привыкших судить о политике на основе постоянно повторяемых ритуальных лозунгов, ответ значительной части левого движения оказался простым и самоочевидным — образованная и «цивилизованная» элита с ее «европейскими ценностями» должна быть защищена от «варварских» и «безответственных» масс, к этим ценностям, увы, равнодушным.
Данная ситуация повторялась снова и снова — когда вставал вопрос о народном восстании в Новороссии или о голосовании за выход Британии из Европейского союза, когда интеллектуалы в США уговаривали избирателей поддерживать кандидата истеблишмента Хиллари Клинтон, чтобы не допустить победы популиста Дональда Трампа, или когда во Франции радикальные левые аналогичным образом призывали защитить разрушающих социальное государство социалистов от нападок Национального фронта, а затем дружно поддержали ставленника финансового капитала Эммануэля Макрона.
В действительности выбор был вполне классовым, хотя и прикрывался различными риторическими комбинациями, призванными скрыть противоречие между исходным пунктом теоретической критики буржуазного общества и финальным пунктом практической защиты существующего порядка вещей. Однако так или иначе очередной раскол левого движения произошел — менее зрелищно, но ничуть не менее остро, чем после начала Первой мировой войны и во время Русской революции 1917 г. Это уже не раскол между правым и левым крылом движения или между революционерами и реформистами. История ставит вопрос иначе, куда более практически. Политический выбор определяется не уровнем радикализма целей и уж точно не радикализмом слов.
Он определяется солидарностью. Поддержать массовое восстание против неолиберализма или защищать существующий прядок вещей, сознавая, что массы далеко не всегда ведомы самыми прогрессивными идеями и самыми добрыми эмоциями? Выбор не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ибо возмущение низов против извращенной формы либеральной демократии, воцарившейся в большинстве стран к началу XXI в., очень часто сопровождается ростом авторитарных настроений, потребностью в «сильной руке» и надеждами на «вождя», который далеко не обязательно поведет общество именно к новым вершинам свободы и прогресса.
Массовый протест, порожденный Великим кризисом, демократичен по сути, но не всегда по форме. Люди повсеместно хотят не только отстоять социальное государство, против которого были направлены неолиберальные реформы предшествовавших 25 лет, но и возвратить себе возможность распоряжаться собственной судьбой, и требуют уважения к правам большинства, но зачастую сами не знают, что будут делать дальше. В конечном счете угнетенное большинство наряду с другими узурпированными элитой правами требует вернуть себе и право на ошибку.
Любое массовое движение неоднородно, оно почти всегда включает самые разные, в том числе и авторитарные, реакционные элементы, а любое радикальное преобразование сопряжено с риском. Именно готовность принять риск перемен в конечном счете определяет выбор в пользу поддержки очередного восстания масс. И следовательно — в пользу Истории.
Попытки отстаивать обреченный порядок безнадежны. И представители «прогрессивной общественности», делающие своей целью его защиту, обречены потерпеть поражение вместе с ним — какими бы красивыми словами ни прикрывали они свои действия.
Однако солидарность с трудящимися массами не освобождает ни от моральной ответственности, ни от обязанности отстаивать собственное мнение, ни от необходимости, помогая движению, делать все, чтобы помочь ему избежать ошибок, которые будут тем более драматичными, чем более рыхлой, неоднородной и неустойчивой является его социальная база.
Те, кто принимают вызов Истории и воспринимают ее логику, далеко не всегда остаются победителями. Но они получают шанс.
I. ЛОГИКА ФРАГМЕНТАЦИИ
Главная победа, одержанная капиталом над трудом на рубеже XX и XXI вв., состояла не в глобальном сдерживании роста заработной платы, не в повсеместном ослаблении профсоюзов и даже не в том, что левые правительства и партии всех оттенков вынуждены были сдавать свои позиции. Самая значимая победа была идеологическая. И состояла она в повсеместном признании «необратимости» произошедших перемен. Неолиберализм установил в обществе свою идейную гегемонию, с которой смирились даже многие политические группы и течения, яростно и искренне правящий класс критикующие.
Разумеется, данная идеологическая победа отражала изменившееся соотношение сил между общественными силами и классами, но одновременно закрепляла в сознании побежденных это временно сложившееся соотношение сил как нечто неподвижное, неизменное и объективное.
Реванш капитала был осмыслен в качестве объективного процесса глобализации, которая выступала как нечто одновременно неизбежное, нейтральное и позитивное. Этот процесс и в самом деле являлся объективным, но лишь в том смысле, что происходил не на пустом месте, имел свои предпосылки, условия и ограничения (о последних, естественно, в соответствующем дискурсе умалчивалось). Он был предопределен не только логикой экономических и технических процессов, но и результатами борьбы общественных сил, порождая собственные противоречия и конфликты, которые неминуемо должны были это соотношение менять.
Хотя идеологическое закрепление политического и социального успеха является вполне естественным для любого победившего класса, на сей раз оно создавало определенные проблемы и для победителей, и для побежденных тем, что находилось в вопиющем противоречии с доминировавшей логикой развития предшествовавших двух сотен лет. С одной стороны, торжество социальной реакции означало историческую обратимость прогресса (что, логически, могло означать и обратимость вообще любых общественных изменений, включая и только что произошедшие), а с другой стороны, логика исторического прогресса, отвергаемая тезисом о необратимости противоположно направленных перемен, создавала проблемы для легитимации самой буржуазной системы, которая так или иначе исторически обосновывала себя именно через предшествовавшее прогрессивное развитие — не случайно к традиции Просвещения и наследию Великой французской революции апеллировали как социалисты, так и либералы.
Это противоречие позднего капитализма было решено за счет одновременного распространения двух идеологий — неолиберализма и постмодернизма. Если неолиберализм претендовал на определенную преемственность, лишь меняя привычные оценки и подчеркивая, что прогрессом является именно то, что ранее считалось его тормозом (сокращение прав работников, отказ от общественного контроля и регулирования и т. д.), то постмодернизм ставил под вопрос прогресс как таковой. Первая идеология предназначалась победившей буржуазии, вторая — деморализованным левым интеллектуалам. В совокупности они позволяли «танцующим поменяться местами». Консерваторы присвоили себе знамя прогресса, а их критики не только выступили противниками перемен, но и признали, в конечном счете, что у них нет объективных задач, исторических перспектив и общественно значимых целей, за которые стоило бы бороться. Иными словами, обществу незачем было объединяться. Однако в отличие от стихийной «войны всех против всех», описанной Томасом Гоббсом в эпоху раннего капитализма, поздний капитализм предлагал людям организованное по его правилам упорядоченное состязание «меньшинств», претендующих на доступ к ресурсам, неизменно контролируемым элитой Другой вопрос, как долго это состязание могло оставаться мирным, доброжелательным и управляемым.
Культ креативного бездельника
Восстание «новых левых», разразившееся на Западе в конце 1960-х годов, своим идеологическим острием было направлено не только против власти капитала, но и против социал-демократических институтов, с помощью которых, по мнению радикальных студентов, происходило «врастание» рабочего класса в буржуазный порядок. И в самом деле, достижения послевоенной эпохи существенно смягчили конфронтацию между классами в развитых обществах Европы и Северной Америки. На этом фоне антикапиталистическое восстание студентов оказалось обречено на поражение. А вот леворадикальная критика государства и социальной политики, напротив, оказалась востребована. Только востребована не рабочим движением и противниками системы, а идеологами неолиберализма, начавшими наступление справа на те же институты, что так не нравились революционным студентам.
Те, кто критиковали социальное государство «слева», не смогли позднее объяснить, почему в годы неолиберальной реакции правящий класс с такой яростью принялся демонтировать и даже крушить те самые институты, которые левые радикалы считали (и не совсем безосновательно) подпорками буржуазного порядка. Между тем ничего загадочного тут нет: надо только осознать диалектическую противоречивость самого капиталистического развития. Социальное государство, будучи порождено развитием классовой борьбы в той же мере, как и естественно менявшимися потребностями экономики, само же меняет соотношение сил в обществе. Именно поэтому оно становится объектом ожесточенных атак со стороны капитала даже тогда, когда система испытывает объективную потребность в результатах его функционирования.
Данное противоречие, в свою очередь, предопределяет кажущуюся непоследовательность неолиберализма, который на каждом данном этапе оказывается не готов следовать собственной риторике и уничтожать все проявления социального государства разом. Отчасти это объясняется силой сопротивления трудящихся, но не только. Сопротивление масс каждый раз оказывалось эффективно, несмотря на господствующее стратегическое положение неолибералов, именно потому, что речь шла о чем-то большем, чем классовый интерес угнетенных. Требования борющихся низов отражали определенные общественные потребности, полностью игнорировать которые не могла и сама торжествующая буржуазия.
Концептуальный подход неолиберализма, таким образом, представляет собой попытку сохранить некоторые плоды работы социального государства при одновременном подрыве его институтов, его основ и, что особенно важно, при последовательном устранении их классового содержания. Отсюда три основных принципа неолиберальной социальной политики.
Во-первых, это коммерциализация, превращение безусловной государственной помощи и обязательств в сумму социальных услуг. Эти услуги могут быть и бесплатными, либо субсидируемыми, но меняется сам подход. Список платных и бесплатных услуг (в отличие от неотчуждаемых прав) может произвольно пересматриваться в зависимости от приоритетов текущей политики.
Во-вторых, происходит фрагментация социальной политики, замена единого комплекса общественных служб и гражданских институтов совокупностью программ, которые тоже могут варьироваться и пересматриваться, не будучи никак связаны между собой. При этом в денежном измерении социальные расходы могут даже расти, но их совокупная эффективность неизменно падает, что, в свою очередь, дает основание радикальному крылу буржуазии требовать пересмотра списка программ и их сокращения как бессмысленной траты денег.
Наконец, в-третьих, торжествует принцип адресной помощи, которая предоставляется не всем по праву рождения и гражданства, а исключительно «слабым» и «нуждающимся», список которых, опять же, произвольно формирует и пересматривает бюрократия вместе с либеральными экспертами, определяющими критерии.
Парадокс в том, что такой подход неминуемо увеличивает, а не сокращает зависимость граждан от государства, открывая безграничные возможности для произвола бюрократии, а также объясняет взрывообразный рост числа чиновников во всех странах, переживших рыночные реформы. Несмотря на то что неолиберальная критика социального государства обвиняет левых в насаждении иждивенчества и в патернализме, эти явления порождены как раз повсеместным внедрением адресной помощи. Принцип социального государства, предполагающий универсальность прав и равенство граждан, противоположен патерналистскому подходу, основанному на отеческой заботе власти по отношению к тем или иным категориям подданных. В гражданском социальном государстве людям нет основания благодарить чиновников и правителей за что-либо: просто должны выполняться законы и правила, общие и единые для всех. Иное дело в обществе, где господствует система адресной помощи и социальных программ. Власть вольна включать или не включать человека, группу людей или целый регион в категорию нуждающихся. В свою очередь, получатели помощи обречены встраиваться в схемы клиентелистских отношений, обрекая себя на зависимость от патрона. Тот же патерналистский принцип был реализован на межгосударственном уровне в рамках Европейского союза, где отдельные регионы или группы получали напрямую помощь от Брюсселя в обход собственного правительства, превращаясь в заложников неолиберальной интеграции. Очень наглядно это было продемонстрировано в 2016 г. в ходе референдума о выходе Британии из Евросоюза. Регионы, получавшие адресную помощь из Брюсселя, склонны были голосовать против большинства собственного народа и против интересов собственной страны, поскольку сидели на крючке соответствующих программ, становясь, по сути, коллективными клиентами еврочиновников. Именно это, а вовсе не особенности национального менталитета или сепаратизм, определило появление большинства в пользу ЕС в Шотландии, куда еврократия вполне сознательно направляла денежные потоки, стремясь создать противовес неуступчивой и самостоятельной Англии.
То же самое касается и трудовых отношений. Систематическое ослабление профсоюзов и реформирование рынка труда поставили значительную часть работников в положение «прекариата». Хотя данный термин изобретен социологами сравнительно недавно[8], само по себе явление, им обозначаемое, отнюдь не ново. Фактически многие наемные работники оказались к началу XXI в. в том же положении, в котором находился пролетарий первой половины XIX в. до начала подъема организованного рабочего движения. Тогда социальную обстановку изменило появление сильных профсоюзов. Сейчас все обстоит несколько иначе. В отличие от промышленных рабочих, легко поддающихся организации и способных эффективно бороться за свои права, например, останавливая производство, изрядная часть прекариата сосредоточена в сфере услуг и новых постиндустриальных отраслях. Условия труда тут отнюдь не благоприятствуют организованной борьбе. В такой ситуации вопрос об укреплении позиций работников на рынке труда и изменении их статуса становится непосредственно политическим вопросом, который нельзя урегулировать в конфликте с отдельным конкретным работодателем, поскольку он требует реформирования системы трудовых отношений в целом.
Именно на таком фоне получает распространение идея безусловного базового дохода (ББД), которую поддерживают многие политики как справа, так и слева. С одной стороны, эта концепция предполагает возврат к универсалистскому принципу социальной политики, а с другой — устраняет связь между классовыми интересами трудящихся и развитием социального государства. Социальное государство XX в., как в социал-демократическом, так и в советском своем варианте опиралось на политику занятости, когда обеспеченные работой люди, составлявшие основную массу населения, поддерживали своих безработных или нетрудоспособных сограждан, внося вклад в финансирование здравоохранения, образования и культуры. Тем самым воплощалась на практике марксистская идея о всеобщности труда. «Безусловный базовый доход» отнюдь не приведет к исчезновению труда или всеобщему безделью, но он призван разорвать эту связь и ослабить в обществе этику труда — как в протестантском, так и в пролетарском ее понимании. Кроме того, этот подход технически осуществим лишь в наиболее богатых странах и призван увеличить разрыв между населением стран центра и периферии, подорвать солидарность между разными группами трудящихся на глобальном уровне. Именно поэтому реформа, казалось бы воплощающая идеологию равенства и универсальности в духе коммунистических утопий, получила неожиданно большую поддержку в праволиберальных кругах некоторых богатых стран.
Правоверные лютеране, кальвинисты и баптисты (как и социалисты) всегда осуждали нетрудовой доход. Это отразилось на итогах референдума в Швейцарии, когда в июне 2016 г. население конфедерации подавляющим большинством отвергло инициативу по введению ББД. Таким же фиаско закончилась попытка сделать безусловный базовый доход лозунгом предвыборной кампании социалистов во Франции год спустя. В Финляндии ББД начал внедряться сверху в виде эксперимента, инициаторы которого стремились постепенно приучить общество к новой реальности.
Сопротивление масс людей попыткам навязать им нетрудовой доход вполне понятно. В известном смысле левая идеология логически вырастает из того самого «духа капитализма», о котором писал Макс Вебер. И соответствующая критика буржуазного общества как раз предполагала не только протест против растущего неравенства, но в первую очередь несогласие с тем, что это неравенство никак не отражает количество и качество общественно полезного труда, затрачиваемого людьми. Инициаторы идеи безусловного базового дохода исходили из прямо противоположной логики. Вместо того чтобы устранить нетрудовой доход, они попытались сделать его всеобщим базовым принципом.
Вопрос «кто за это заплатит» является далеко не таким сложным, как кажется, — работать будут мигранты, трудящиеся в Китае или в Индии, и, конечно, немножко роботы. А западноевропейское общество трансформируется в совокупный креативный класс, для которого труд превратился в удовольствие, развлечение, игру или деятельность по самосовершенствованию. Это тоже своего рода коммунистическая утопия, но принципиально враждебная как буржуазным, так и пролетарским ценностям, отражающая самодовольное представление креативного класса о самом себе как об идеале будущего человечества.
Безусловный базовый доход предлагался именно как альтернатива общественно полезному труду, как источник средств, позволяющий человеку принадлежать к среднему классу, не делая вообще ничего, не предпринимая никаких усилий и не принося никому никакой пользы. Иными словами, государство должно стимулировать обособление людей от общества, их социальную атомизацию и разрушение экономических связей между ними. Разумеется, авторы идеи были совершенно правы, возражая, что даже после введения новой системы найдется достаточное количество (даже, скорее всего, большинство) людей, которые сделают выбор в пользу труда. Но проблема не в том, сколько граждан останется работать или, наоборот, предпочтет паразитировать на себе подобных, а в том, каким становится базовый принцип распределения доходов, логика поведения и доминирующая этика в обществе.
Освобождение людей от «проклятья» труда — давняя идея, восходящая еще к мифам об Эдемском саде и потерянном рае. Но в марксистской традиции реализуется она не через превращение креативного бездельника в идеал свободной личности, а через преобразование и гуманизацию самого труда, когда человек перестает уже быть просто живым придатком машины. Речь шла о социальной революции или реформах, затрагивающих способ производства, общественные отношения и структуру социума, а не о перераспределении средств в пользу тех, кто не хочет разделить со своими согражданами бремя труда. Напротив, утопия инициаторов швейцарского референдума скорее напоминала будущее из «Машины времени» Герберта Уэллса, где утонченные элои паразитируют на труде звероподобных морлоков — до тех, впрочем, пор, пока последние не вылезут из-под земли, чтобы их сожрать.
Появление подобного проекта свидетельствует о кризисе идеи общественного преобразования. Это современная позднебуржуазная социальная математика, предлагающая нам все делить, ничего не отнимая. Дискуссии о справедливости сводятся к вопросу о эффективном распределении и стабильном потреблении. Никому не интересно, каким способом создаются ценности, кто их контролирует, главное, чтобы каждый мог получить свою долю. Организация производства, власти и собственности никого больше не волнует. Вместо того чтобы изменить общественные отношения (и в том числе отношения трудовые), нам предлагают создать возможности для массового паразитического существования жителей богатых стран, которые гем более становятся заинтересованными в сохранении именно такой системы, позволяющей им жить за счет других — прежде всего за счет эксплуатации стран периферии.
Глобализация и труд
Подводя итоги двух с половиной десятилетий глобализации и неолиберальной экономической политики, восторжествовавшей в мировом масштабе после крушения СССР, эксперты отметили неожиданную тенденцию — неуклонно снижающиеся темпы роста производительности труда[9]. Это явление пытались объяснять по-разному, рассуждая то про инновационные циклы, то про исчерпание текущей парадигмы технологического развития (что звучало очень странно на фоне незадолго до того провозглашавшегося триумфа информационной революции).
Но неизбежность подобного хода событий была предсказана социологами-марксистами еще в начале 1990-х годов, и это отнюдь не было связано с кризисом научного знания. Причиной неминуемой стагнации производительности труда явилась восторжествовавшая на рубеже XX и XXI вв. логика трудовых отношений.
Ключевым принципом неолиберальной глобализации является поиск капиталом все более дешевых рынков труда. То, что профсоюзы называют «гонкой на спуск», когда инвестиции приходят именно туда, где ниже заработная плата, ниже налоги, из которых финансируются социальные программы, менее строги экологические стандарты, менее жесткое государственное регулирование, а работники слабо организованы и неспособны защищать свои права.
При таком подходе возможности правительства успешно развивать экономику своей страны зависят от того, насколько удается сделать, чтобы население получало как можно меньше выгод от этого развития. Как только экономический рост начинает стимулировать рост заработной платы, а крепнущий средний класс начинает предъявлять требования к качеству жизни, экологии, социальным стандартам и т. д., инвестиционная привлекательность вашей страны снижается. Капитал перетекает на другие рынки.
Триумф неолиберализма был закреплен в начале 2000-х годов идеологически. Но достигнут он был не за счет идеологических побед. Точно так же нет оснований говорить о том, что за прошедшую четверть века капиталистическая экономика стала эффективнее. Скорее наоборот — уровень коррупции резко повысился, нерациональные потери и непроизводительные затраты резко выросли. Господствующие классы снова предпочитают растрачивать свои доходы на роскошное потребление, не вкладывая достаточных средств в производство. Можно вспомнить и безумные рекламные бюджеты, эффективность которых, по признанию аналитиков, зачастую равна нулю, кроме тех случаев, когда они раздражают и отпугивают потенциального покупателя (тут достигается негативная эффективность). Капитализм стал менее рациональным. Однако глобализация рынка труда резко изменила соотношение классовых сил в старых индустриальных странах — от Германии до России и от Канады до Аргентины. Повсюду призрак бегства капиталов пугает правительства и профсоюзы, заставляя их соглашаться на отказ от регулирования, на понижение или несоблюдение трудовых и экологических стандартов.
Перемещение индустриальной занятости в Китай и некоторые другие азиатские страны сопровождалось изменением рынка труда в Европе, России, Канаде и США. Теперь все больше людей занято в сфере услуг, работает на дому или в офисах, состоит на государственной службе. Такие работники гораздо менее сплочены, они не имеют сильных профсоюзов и традиций организованной борьбы.
Казалось бы, сокращение индустриальной занятости отражает историческую тенденцию технического прогресса: по мере роста производительности труда все больше людей будет высвобождаться для творческой, интеллектуальной и общественной деятельности. Но, увы, это не так. Вернее, не совсем так. Вопреки прогнозам, в начале XXI в. не роботы вытесняли людей, а люди роботов. Сенсационные успехи робототехники, которые для развлечения публики демонстрировались на различных выставках, более или менее воспроизводили концепции и разработки 1960-х годов, но по большей части не имели никакого отношения к производству, где торжествовали отношения и технологии, типичные для европейской мануфактуры первой половины XVII в. Эти отсталые производства оказываются высококонкурентоспособными именно за счет предельно низкой заработной платы и бесправия работников.
Занятость в «старых» индустриальных странах поддерживается за счет того, что, с одной стороны, ряд задач невозможно решить без современных производств и соответствующих работников, а с другой стороны, разрастается все та же сфера услуг на основе неквалифицированного и малоквалифицированного труда. Социальный эффект, вызванный такими процессами на рынке труда, не сводим к снижению заработной платы. Блокируется вертикальная мобильность. Сильной стороной индустриального общества было наличие большого количества рабочих мест среднего уровня, на которые могли легко переходить активные молодые люди, повышая свою квалификацию и статус. Новый экономический порядок породил большое число «плохих» рабочих мест и весьма ограниченное количество «хороших», требующих очень высокого уровня подготовки, знаний и часто связей (причем наличие социальных связей нередко является условием эффективного груда на данной позиции). Масса «средних» мест перемещается в страны Азии, где они тоже оказываются тупиковыми, поскольку следующий уровень глобальных производственных, технологических и управленческих цепочек находится географически за тысячи километров. На определенном уровне успеха вертикальная мобильность предполагает смену страны, общества, языка и культуры. Иными словами, личные достижения, например, топ-менеджеров, переместившихся из московского или стамбульского офиса в лондонский или парижский, не становятся фактором социальной жизни тех стран, откуда происходят профессионалы, пополняющие глобальную управленческую элиту.
Между массой неквалифицированных «низов» и «рабочей аристократией» возникает почти непреодолимый разрыв. Подрывается не только солидарность. Утрачивается элементарное взаимопонимание, особенно, если низы и верхи в мире труда принадлежат к разным этническим и конфессиональным группам. На низовом уровне формируется социальное гетто, откуда почти невозможно вырваться (отдельные истории успеха не становятся массовым явлением, меняющим среднестатистические шансы). На верхнем уровне квалификационной иерархии обнаруживается критическая нехватка кадров. Здесь могут неоправданно расти зарплаты, но это отнюдь не значит, будто усиливается позиция рабочего класса в целом, поскольку одновременно увеличивается и разобщенность между его низами и верхами.
Разумеется, свобода движения капитала не безгранична, а размеры планеты ограничены. Как бы ни жаловались транснациональные корпорации на обленившихся китайцев, которые хотят получать слишком большие деньги за свой труд, бизнес не может быть просто перенесен в Африку или Полинезию, поскольку там нет ни инфраструктуры, ни кадров для многих производств. Как нет там и огромных масс работников, готовых трудиться на фабриках даже с самой примитивной технологией. Но зато в начале XXI в. резко упала заработная плата в ведущих странах «центра». Немецкий или американский рабочий, если учитывать квалификацию и качество его труда, уже стоит дешевле китайца. Возвращение части рабочих мест в «старые индустриальные страны» становится практически неизбежным и уже начинает происходить. Однако остается открытым вопрос о том, в какой форме, какими темпами, в каких масштабах и с какими последствиями это случится.
В конечном счете главная проблема неолиберальной глобализации не в том, что экономика дешевого труда упирается в объективные границы, а в том, что она подрывает спрос. Тем самым выявляется одно из классических противоречий капитализма — между логикой накопления и логикой потребления. Накопление капитала требует минимизировать любые издержки и в первую очередь — сдерживать рост заработной платы. Но в то же время то, что для каждого конкретного предприятия является снижением издержек на труд, для экономики в целом оборачивается снижением или торможением роста платежеспособного спроса. Ваши товары становятся дешевле, но их все равно не покупают, поскольку денег у населения нет. И происходит это в планетарном масштабе, затрагивая не только старые индустриальные страны, но и Китай.
Именно в этом суть разворачивающегося сегодня глобального кризиса. Подобные тенденции были характерны для ранней индустриальной эпохи (достаточно вспомнить кризисы XIX в. и поздневикторианскую депрессию). Выходом из них оказывались либо войны за передел рынков, либо революции и социальные реформы. В последнем случае общество, ограничивая «свободу капитала», одновременно создавало стимулы для более интенсивного развития экономики. Дорогой труд формировал спрос на новую более производительную технику, высокие зарплаты стимулировали рост потребления, а главное — потребность в более качественных товарах и услугах, требующих, в свою очередь, более квалифицированного специалиста. Все это в совокупности способствовало развитию науки, образования и культуры. В современной неолиберальной системе эти высоко ценимые сферы оказываются все более отключены от общих потребностей социально-экономического развития (замещаемых в лучшем случаях частными заказами и прикладными задачами). Поэтому наука и образование деградируют, а чиновники возмущаются низкой эффективностью ученых и преподавателей, вводя все новые и новые схемы контроля, но не имея ни малейшею понятия о том, что и зачем они должны контролировать.
Поворот к экономике дорогого труда назрел так же, как и в начале XX в. Но он не может быть (как и в прошлый раз) осуществлен без радикального перераспределения производства, без протекционизма, без социальных и политических преобразований. Иными словами, этот переход будет не менее драматичным и болезненным, чем сто лет назад.
Восстание элит
Заниматься исследованием элит в современной социологии — дело гораздо более популярное, чем изучать массы. Однако политическая жизнь последней четверти XX в. действительно была временем, когда именно привилегированные группы, обладающие ресурсами власти, собственности и возможностями контроля над информационными потоками, играли все большую роль, оттесняя все другие общественные слои на обочину. Если в первой половине XX в. испанский консервативный философ Хосе Ортега-и-Гассет раздраженно писал про «восстание масс»[10], то в конце века американский мыслитель Кристофер Лэш говорил уже про «восстание элит»[11].
Отстранение масс от политики оказалось почти повсеместным явлением, в разной мере наблюдавшемся в самых разных регионах мира — на фоне столь же повсеместного декларативного признания ценностей демократии и не менее широкого распространения соответствующих институтов (соревновательных выборов, многопартийности и т. д.). Разумеется, массы по-прежнему присутствовали в телевизионной картинке, люди опускали бюллетени, ходили на демонстрации, а кое-где даже бунтовали и дрались с полицией, но их интересы, их проблемы, их идеи полностью исчезли из повестки дня.
С одной стороны, соперничающие между собой элитные группы активно использовали недовольное (или наоборот, лояльное) население в качестве массовки и электората. С другой стороны, однако, попытки низовых движений прорваться в «серьезную политику», навязав правящим слоям для обсуждения свои собственные вопросы, или заставить считаться со своим мнением по большей части заканчивались ничем. Решения, которые ранее считались сферой общественной дискуссии, теперь определялись как «технические», обсуждаемые исключительно экспертами. Мнение «простого человека» могло здесь рассматриваться лишь в качестве забавного курьеза. Уверенность в том, что «непопулярные реформы» являются «объективно необходимыми» и должны проводиться совершенно независимо от того, что думает о них население, стала общим местом экономической журналистики и характеризовала деятельность почти всех, за редким исключением, правительств. Различие между левыми и правыми свелось к тонким культурным нюансам, совершенно не значимым и не интересным для населения. Одновременно подобные вопросы (вроде официальной регистрации брака для однополых пар), интересовавшие в лучшем случае 1–2 % жителей любой страны, превратились в главные темы для общенационального (а порой и международного) обсуждения и политических баталий — именно потому, что непосредственного отношения к реальным проблемам большинства они не имели. Постоянно выносимые на экраны телевизоров, на первые страницы газет, в блоги Интернета, эти проблемы рано или поздно приобретали ранее не присущее им значение, становясь основой для реального разделения общества. Но это лишь демонстрировало, насколько небольшие элитные группы способны манипулировать общественной дискуссией, не только выбирая удобные для себя темы, но и заставляя остальных определять свои позиции и формулировать свою политическую или идеологическую идентичность через выбор, который был им искусственно навязан, не имея отношения к потребностями и опыту их собственной жизни.
Если содержанием политической эволюции конца XIX — начала XX в. было превращение народных масс из объекта в субъект политики и истории, то сто лет спустя процесс шел в обратном направлении. Когда произошел этот перелом, с чего он начался и почему оказался столь масштабным? По всей видимости, на Западе поворотным моментом стали две забастовки, проигранные профсоюзами в 1980-е годы. После того как Маргарет Тэтчер в Великобритании сломила сопротивление шахтеров, а Рональд Рейган в Соединенных Штатах подавил протесты авиадиспетчеров, соотношение сил между трудом и капиталом в развитых демократических странах начало явственно и неуклонно меняться в пользу последнего. Классовая борьба из лозунга пролетариата превратилась в принцип жизни буржуазии. Социальные завоевания предшествующих десятилетий постепенно отменялись, ограничивались или сводились на нет.
Распад Восточного блока в 1989 г. стал следующим этапом перемен. И дело не только в том, что страны, где до того господствовали коммунистические режимы, одна за другой переходили на капиталистический путь развития, стремясь как можно скорее, любой ценой интегрироваться в глобальную экономику, но и в том, что этому почти никто не сопротивлялся, а бывшие коммунисты с необычайной легкостью перекрасились в либералов, националистов, социал-демократов или консерваторов. Спросом пользовались любые идеологии и символы, кроме тех, которым правящие круги присягали в ходе предшествующего исторического периода.
Перекрашивались, впрочем, не только представители старых коммунистических элит, но и многие диссиденты — из демократических социалистов и левых либералов они в одночасье становились националистами и консерваторами.
Решающий перелом наступил с крушением Советского Союза. После того как Запад перестал опасаться советского вызова, склонность правящих классов к социальному компромиссу внутри собственных стран резко пошла на убыль. Холодная война заставляла обе стороны оглядываться на большинство своих граждан, считаться с ними. Формально-условной поддержки со стороны народа было недостаточно, что доказал от обратного опыт стран Восточной Европы, где долгое время все было более или менее «нормально», но в 1989 г. система рухнула за считанные недели, как только стало ясно, что нет причин бояться Большого Брата.
Напротив, на Западе демократия развивалась таким образом, что любые попытки внешней дестабилизации блокировались в конечном счете не политиками, не спецслужбами, а самим населением, принимающим и поддерживающим существующую систему. Рабочий класс, голосуя за социал-демократические и даже коммунистические партии, мог демонстрировать свою оппозиционность по отношению к капиталу, конфликт между классами ни на минуту не прекращался, но при этом обе стороны были заинтересованы в сохранении существующих правил игры, институтов, не желали хаоса и жесткой конфронтации[12]. Классовая борьба далеко не всегда принимает форму революционного противоборства. Трудящиеся Запада не хотели, чтобы революция обернулась потерей гражданских свобод, как в СССР. Капитал нуждался в политической поддержке трудящихся, чтобы защитить либеральную демократию. С исчезновением Советского Союза ситуация изменилась. И хотя неолиберализм возник задолго до того (отчасти как реакция на издержки социального государства и кейнсианского регулирования, а отчасти как результат осознания буржуазией необратимого упадка советской системы), именно после 1991 г. он становится жестким, агрессивным, бескомпромиссным и глобальным.
После событий 1989–1991 гг. коммунистические партии в большинстве стран терпят крах, меняют названия и отказываются от своей идеологии. А что происходит с социал-демократий? Она тоже стремительно приходит в упадок. Развивавшаяся в тепличных условиях послевоенного глобального равновесия, она не была готова к борьбе в обстановке резко обострившегося классового конфликта. Мастера переговоров и виртуозы классового компромисса столкнулись с буржуазией, которая за несколько лет, а иногда и месяцев, из миролюбивого «социального партнера» превратилась в жесткого и непримиримого врага. После серии унизительных неудач, когда рабочие организации терпели поражение не только на выборах, но также в ходе забастовок и в публичных дискуссиях, лидеры социал-демократических партий предпочли перейти на сторону победителя. Сохранив (в отличие от коммунистов) партийные названия и символы, они сменили идеологию и программу. Доказав свою лояльность победоносной буржуазии, они были уверены, что их избиратель, даже видя, что его раз за разом предают, все равно никуда не денется — альтернативы не было.
Эта тактика дала свои плоды — социал-демократические партии стали возвращаться к власти. Но уже не в качестве реформаторов, а просто в роли менеджеров системы, не решающихся даже высказать собственное мнение. Они вписались в буржуазный политический класс и окончательно растворились в нем.
Параллельно происходил аналогичный по сути, но самостоятельный процесс интеграции левых интеллектуалов в буржуазную академическую и культурную элиту. Внешне он выглядел продвижением радикальных левых, ранее казавшихся маргиналами и бунтарями, на влиятельные посты в массмедиа, университетах, государственных экспертных организациях и т. д. Однако этот успех никак не отражал роста политического или даже идеологического влияния левых. Напротив, он был обратно пропорционален общественной силе антикапиталистических движений. Объясняется этот парадокс тем, что успех вчерашних бунтарей покупался ценой приспособления к системе. Они не завоевывали институты (как планировал в конце 1960-х годов идеолог «новых левых» Руди Дучке), а поглощались ими. Соответственно источником легитимности и влияния для «левых» интеллектуалов была уже не поддержка рабочего класса и его партий, а признание себя равными и достойными со стороны либеральной элиты в рамках академических, культурных и идеологических институтов. Подобная интеграция интеллектуалов, с одной стороны, привела к тому, что «радикальный дискурс» (феминизм, культ меньшинств, однополые браки и т. п.) превратился в обязательную часть официальной идеологии, вплоть до государственного уровня, а с другой стороны, к тому, что подобные идеи, формулы и лозунги полностью утратили свое подрывное и антибуржуазное содержание. Капитал успешно переварил феминизм, экологизм и движение за права сексуальных меньшинств, превратив их из оппозиционных в консервативные, но ничуть не посягая на их право использовать радикальную риторику для самолегитимации.
Подобные движения на первых порах были источником объективно необходимой критики для левых. Подвергая сомнению ортодоксию упрощенной классовой идеологии, напоминая, что все социальные противоречия не могут быть сведены к конфликту пролетариата и буржуазии, они заставляли социалистов задуматься о сложности общественных явлений в современном мире. Однако очень скоро идеи политкорректности, интерпретирующей общество как совокупность меньшинств, нуждающихся в защите своих специфических прав, превратились в новую ортодоксию, причем гораздо более жесткую и агрессивную, чем прежняя. Принципиально важно, что идеология политкорректности убивала саму идею социального прогресса, понимаемого как достижение общих целей и решение задач, объективно назревших в масштабах общественного развития и разрешающего накопившиеся экономические, классовые и политические противоречия. Отныне противоречия капитализма не надо было разрешать, достаточно было лишь заботиться о «прогрессе» (вернее — успехе) определенных групп в рамках существующей системы через «позитивную дискриминацию». Однако и в этом случае победившая идеология выдавала желаемое за действительное. Способствуя выделению внутри соответствующих меньшинств собственных элит и успешных групп, политика позитивной дискриминации отнюдь не обеспечивала равномерного прогресса для соответствующей категории людей в целом, поскольку принципиально игнорировала классовые различия внутри данной группы (гендерной, расовой, религиозной и т. д.). Конечным итогом такой политики всегда являлось выделение привилегированного меньшинства внутри меньшинства, которое и присваивало себе все плоды позитивной дискриминации.
Бунтующая периферия
В странах третьего мира происходили перемены, по своему на правлению аналогичные тем, что наблюдались на Западе. После крушения СССР правящие режимы государств, ориентировавшихся на Москву, оказались ослабленными и деморализованными. Советская помощь прекратилась, а главное, исчезло представление о перспективе развития, которой надо следовать, чтобы добиться успеха. Оставшись один на один с Западом и его глобальными институтами, бывшие революционеры начали быстро менять идеологический окрас, соглашаясь на любые условия, лишь бы удержаться у власти и привлечь иностранный капитал. Стремительная переориентация радикальных режимов на рыночную экономическую модель привела к тому, что хозяйственные нормы в таких государствах стали (по крайней мере, на бумаге) даже более либеральными, чем в странах, традиционно ориентировавшихся на западные образцы.
И все же то, что правящие элиты стран, выбиравших некапиталистический путь развития, после исчезновения СССР лишились ключевого партнера и оказались в крайне тяжелом положении, не объясняет легкости, с которой они сменили курс и превратились из апологетов национального освобождения в адвокатов неоколониализма. Во всех этих государствах еще до 1991 г. исподволь происходили процессы, аналогичные тому, что наблюдались в СССР и странах Восточного блока. Правящая бюрократия все более тяготилась идеологическими ограничениями, мечтая не только конвертировать власть в собственность, но и приобщиться к западной элите, образ жизни, культура и потребление которой оставались недостижимым идеалом. Политико-идеологическое крушение советской системы дало шанс разом реализовать все эти амбиции. Далеко не всем и не в равной степени это удалось. Трагически неудачным примером может быть история полковника Каддафи в Ливии, который на протяжении 1990-х годов изо всех сил старался налаживать дружбу с Западом, учил своих детей в Европе, финансировал Лондонскую школу экономики, но все равно, в конце концов, не вписался в траекторию перемен и был свергнут при содействии своих европейских партнеров, которых еще незадолго до того щедро поддерживал из своих нефтяных доходов.
Трансформация бюрократической номенклатуры в современную буржуазию оказалась куда более сложным и болезненным процессом, чем казалось первоначально. Радикальная смена управленческих моделей привела на первом этапе к неизбежной зависимости не только от иностранного капитала, но и от иностранных специалистов-технократов, которых постепенно заменяла собственная молодежь, выученная на Западе или по западным стандартам. Эти новые кадры представляли собой точную копию иностранных образцов — вплоть до гастрономических предпочтений, эстетических вкусов, манеры одеваться и причесок. Единственным различием (как в случае с куклой Барби, ставшей мощным глобальным инструментом культурного формирования девочек из обеспеченной среды) оставался цвет кожи, дополнявшийся некоторыми мелкими этническими особенностями. Новая технократическая элита постепенно замещала управленцев старой закалки. Чем более глобальным становился капиталистический рынок, тем более успешно и эффективно работала эта новая школа, постоянно расширяя сферу своего присутствия и господства.
Увы, проблема, с которой сталкивались новоиспеченные технократы, состояла в том, что далеко не вся экономика и далеко не все сферы общества оказывались в равной мере включены в глобальный процесс либерализации рынков. Хуже того, с распространением неолиберальной модели капитализма по миру накапливались и все больше проявлялись ее собственные противоречия — прежде всего рост имущественного неравенства и порожденное этим постепенное сокращение спроса на производимые товары.
Однако все эти проблемы казались незначительными, пока в мире существовала бесперебойно работавшая машина роста — экономика Китая.
Именно Китай, формально сохранявший красные флаги и коммунистическую идеологию, явился в конце XX и в начале XXI в. главной стабилизирующей силой либерального капитализма. Он был в состоянии не только выбрасывать на мировые рынки огромные массы все более дешевых товаров, принуждая трудящихся остальных стран смиряться с низкой заработной платой, но и поглощал огромное количество инвестиций, технологической информации, оборудования и наукоемкой продукции, позволяя поддерживать относительно привилегированные элементы западных экономик. В результате покупалась лояльность определенной части трудящихся и бизнеса, которые при иных обстоятельствах готовы были бы выступить против системы.
Культурная трансформация китайской бюрократии, управленческой и культурной элиты происходила по той же логике, что в странах бывшего советского блока и в союзных с ними государствах некапиталистической ориентации, но процесс шел медленнее. Трансформации оказывались постепенными, управляемыми и, как следствие, менее драматичными.
Неудивительно, что для части российской публики успех Китая стал восприниматься в качестве живого укора: оказывается, можно было перейти к капитализму с меньшими потрясениями, не теряя статуса великой державы, избежав упадка промышленности. Но «мудрость» китайской номенклатуры предопределена была не ее интеллектуальными или моральными преимуществами, а тем, что находилась она в иной исторической и экономической ситуации.
Рассматривая СССР и маоистский Китай как схожие постреволюционные общества, мы часто упускаем из виду, что в Поднебесной система была на 30 с лишним лет моложе советской. Историко-культурный возраст системы и ее бюрократической элиты является фактором, который почему-то не принимается во внимание. Между тем подобный коллективный опыт имеет принципиальное значение. Это не только опыт осуществления власти правящей элитой, но и опыт урбанизации, индустриального развития, культурной революции и перехода от патриархального быта к городской нуклеарной семье. Поэтому Китай 1989–1991 гг. надо сопоставлять не с тем, что происходило в то же самое время в СССР, а с советским опытом 1953–1956 гг. Тогда, после смерти Сталина, советские правящие круги тоже стояли на распутье, но смогли довольно быстро и эффективно преодолеть кризис смены поколений. Аналогию дополняет и присутствие на заднем плане альтернативного варианта выхода из кризиса, который в Советском Союзе воплощал Лаврентий Берия. Поскольку он был устранен со сцены на самом раннем этапе партийной борьбы, очень трудно анализировать смысл «бериевской альтернативы», но по некоторым признакам она очень напоминала то, к чему Китай пришел в 80-е годы XX в. — ускорение экономической либерализации и постепенное смещение системы к капиталистической логике при сохранении жесткого политического контроля. Восторжествовала, однако, воплощенная Хрущевым противоположная линия — относительный хозяйственный консерватизм в сочетании с политической либерализацией.
Если продолжать сравнивать Китай и Россию с точки зрения социально-демографической и культурной эволюции, то обнаруживается, что именно к концу второго десятилетия XXI в. китайское общество пришло к структурному кризису, во многом аналогичному тому, что переживал СССР в 1989–1991 гг. Рост населения сменился демографическим упадком, а социальные отношения и быт модернизировались, радикально изменив психологию трудящихся. Бюрократия окончательно обуржуазилась, а средние слои стали претендовать на большее влияние.
Китайская экономика после 2015 г. сталкивалась с нарастающими трудностями, поскольку внешние рынки для сбыта ее продукции были исчерпаны. В то же время переориентация на внутренний рынок, о которой с энтузиазмом заговорили в Пекине, требовала радикальных изменений в обществе. Отсутствие всеобщей пенсионной системы, чудовищные диспропорции между регионами и не менее вопиющее имущественное неравенство становились препятствиями для экономического роста, не давали сформироваться интегрированному внутреннему рынку. Иллюзия бесконечного и бескризисного роста, которая на более раннем этапе сопровождала подъем Японии, а затем Южной Кореи, в случае Китая продержалась существенно дольше, поскольку речь шла о беспрецедентных масштабах экономики, обладающей столь же исключительной инерцией. И все же это была не более, чем иллюзия. Нарастающая неустойчивость мировой системы, с одной стороны, поставила китайскую правящую группировку перед новыми, совершенно незнакомыми ей вызовами, а с другой — превратила сам Китай из фактора стабильности в элемент непредсказуемости по отношению к глобальной экономике.
Все же в незападном мире кризис начался со стран Латинской Америки, которые первыми испытали на себе все позитивные и негативные стороны неолиберальной трансформации. Победа технократов над популистами, одержанная на этом континенте почти повсеместно в середине 1990-х годов, привела к стабилизации местных валют, ранее подорванных чудовищной инфляцией, притоку иностранного капитала, росту экспорта и появлению собственного среднего класса, аналогичного европейскому. Однако уже к началу 2000-х годов мобильный капитал устремился к другим берегам, перемещая производство в Азию и прежде всего — в Китай.
Общим местом является тезис о том, что глобализация привела к уничтожению рабочих мест в США и Западной Европе. В действительности же самые большие потери понесли как раз относительно развитые страны третьего мира и Восточной Европы. Западные государства сохранили свое промышленное производство ровно в той степени, в какой этого хотели правящие круги. Если в Британии сознательно проводилась политика деиндустриализации, то Германия, напротив, сохраняла и укрепляла промышленность, модернизируя ее технологически. А вот страны Латинской Америки и более развитые станы арабского мира — такие как Египет, Тунис или Алжир — не имели возможности эффективно влиять на движение капитала.
Резкий рост и последовавший за ним социальный кризис, дополнившийся серией финансовых крахов и экономической стагнацией, привел к самому настоящему антисистемному бунту в Латинской Америке. Этот бунт объединил низы с бизнесменами, работавшими для внутреннего рынка, и значительной частью низовой бюрократии, обиженной господством технократов-андроидов, изготовленных на конвейерах западных бизнес-школ. Результатом стал «левый поворот» Латинской Америки. Сначала в Венесуэле, потом в Боливии, Уругвае, Аргентине, Чили, Бразилии, Эквадоре, Парагвае и Никарагуа у власти оказывались руководители, опиравшиеся на левые партии и на социальные движения В отличие от революционеров 1960-х и начала 1970-х годов, левые шли к власти не в качестве революционеров-повстанцев, они законно выигрывали выборы и опирались на привычные республиканские институты. Уровень их радикализма также был весьма различен — если в Венесуэле или Боливии речь шла о революции, то в Бразилии правительство обещало осторожные реформы, а в Чили вообще трудно было понять, чем левое правительство отличается от предшествовавших ему правых.
Однако даже наиболее радикальные левые правительства оказались не в состоянии изменить общую траекторию развития, они лишь занимались перераспределением ресурсов от экспорта, пытаясь стимулировать развитие внутреннего рынка и социальные программы. В краткосрочной перспективе это давало впечатляющие результаты, но затем импульс перемен исчерпывался. В отличие от советской системы, они не смогли создать собственную «машину роста», изменить структуру общества, сформировать новые социально-профессиональные слои, новые мотивации и гем более новую научную и культурную элиту, вышедшую из низов. Зависимость от мировой экономики не была преодолена, не были созданы компенсирующие ее механизмы развития. После 2008 г. экспортные доходы стали стремительно падать, подрывая механизм перераспределения. Латиноамериканское восстание против неолиберализма завершилось поражением на фоне того самого мирового кризиса, который на глобальном уровне демонстрировал необходимость альтернативы этому порядку.
Кризис показал, что способности либеральных элит контролировать ситуацию ограничены, а их ресурсы исчерпываются. Объективно нарастающий процесс распада сложившейся в 1980-1990-е годы экономической модели делает углубление культурно-политического кризиса неизбежным, а главное — непреодолимым в рамках существующей системы. Поскольку обратная связь и диалог с массами были заменены в процессе неолиберальной трансформации практиками манипуляции, которые, в свою очередь, стремительно утрачивают прежнюю эффективность, элиты оказались в своеобразном социальном вакууме, испытывая дезориентацию и стресс.
Однако парадоксальным образом консолидированность элит, отсутствие каких-либо механизмов обратной связи между ними и массами может оказаться и фактором, препятствующим переменам. Изменившаяся система блокирует привычные реформистские механизмы, позволяющие переналадить общественную систему без слишком тяжелых потрясений. В свою очередь, массовые движения, лишенные прежней связи с политическим классом и прогрессивной интеллигенцией, то и дело вдохновляются традиционалистскими, националистическими и религиозными идеями, становясь опорой лидеров-популистов — как левых, так и правых. И все же именно из этих движений родится в конечном счете через ряд испытаний и потрясений новая демократическая культура, которая позволит преодолеть тягостные последствия «восстания элит».
Адаптация интеллектуалов
Оторванная от классовой организации и практики массовых низовых движений левая идеология из инструмента повседневной организационной работы постепенно превращается в дискурс, который затем приватизируется интеллектуалами и бюрократами так же, как более удачливыми представителями буржуазии были приватизированы государственные предприятия. Каждый захватывал и присваивал тот ресурс, до которого мог дотянуться, который мог контролировать. В этом смысле эволюция левого движения и левой интеллигенции является вполне логичным и органичным элементом общего процесса неолиберальных преобразований начала XXI в.
Еще в 1980-е годы британский культуролог Стюарт Холл констатировал, что на место идеологических и содержательных дискуссий приходит «дискурсивная борьба». Иными словами, для успеха в споре теперь важны не факты, аргументы, статистика или даже логика, а лишь умение использовать нужные термины и символы, изначально маркированные как позитивные, современные, политкорректные. Напротив, сам факт употребления оппонентом тех или иных терминов, негативно маркированных «хозяевами дискурса», обрекает его на поражение, вне зависимости от того, какие аргументы он приводит в свою пользу. Именно таким образом была маргинализирована в 1990-е годы содержательная социалистическая программа (даже в ее реформистском виде), тогда как интеллектуалы избрали стихийную стратегию адаптации к господствующему либеральному дискурсу. В результате сначала сложился политкорректный «левый дискурс», а затем он был эффективно превращен в один из подвидов либерального дискурса.
С одной стороны, подобная стратегия адаптации была вполне естественной и логичной. Ее единственный недостаток состоял в том, что принявшие ее левые, по сути, становились органической частью правого проекта. Но с другой стороны, единственный способ одержать победу в условиях дискурсивной борьбы состоит в том, чтобы в этой борьбе принципиально не участвовать. Такая стратегия может сработать в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной обрекает интеллектуалов на неизбежную маргинализацию, загоняя их в академическое или сектантское гетто — до тех пор, пока подъем нового общественного движения не создаст спрос на новую программу и идеологию, противостоящую любым формам господствующего дискурса. Парадокс состоит в том, что зачастую даже в этом случае выхода из сектантского или академического гетто уже нет, потому что длительное (а часто и комфортное) пребывание в нем создает определенный образ жизни и образ мысли, структуру мотиваций и правил, плохо совместимых с участием в практической политике. Таким образом, в условиях господства неолиберализма непригодными для решения задач социального преобразования стала не только та часть интеллектуалов и политиков, которые продались правящему классу и приняли его логику, но и часть, которая сохранила свои принципы и идеи ценой политической маргинализации.
Однако поражение и предательство интеллектуалов, в свою очередь, были спровоцированы серией неудач рабочего движения. И эти неудачи тоже не были случайными. Напротив, они были связаны с серьезными переменами в структуре занятости и переменами на рынке труда — как внутри развитых стран, так и на глобальном уровне. Неудивительно, что в такой ситуации левая интеллектуальная элита стала делать ставку не на пропаганду классовой солидарности и единства, а на поддержку различных идентичностей, надеясь в качестве субъекта перемен заменить утратившее прежнюю мощь рабочее движение коалицией всевозможных меньшинств, каждое из которых имело те или иные требования и претензии к системе[13]. Эти коалиции, однако, даже если ситуативно и возникали, оказывались крайне неустойчивыми и неспособными работать на стратегическую перспективу.
Рассказ об угнетенных меньшинствах на лексическом уровне мимикрирует под классовый анализ, претендуя на то, чтобы расширить и углубить его. Однако классы объективно объединяет наличие общих социальных и экономических интересов. Напротив, меньшинства не могут быть определены через общий экономический интерес, поскольку такового у них просто нет — разные представители одного и того же меньшинства имеют не просто разные, а часто противоположные, взаимоисключающие интересы[14]. Потому у «меньшинств» нет интересов, а есть только «права».
В свою очередь, подобное представление о праве, сугубо индивидуальном и специфически приписываемом определенной исключительной категории граждан, с одной стороны, подрывает логику традиционной демократии, опиравшейся на универсалистское понимание права как равного и одинакового для всех (в противоположность вольностям и привилегиям Средневековья), а с другой стороны, отделяя право от интереса, превращает его в совершенно субъективную концепцию, содержание которой формулируется не коллективным субъектом данного права, а волей и фантазией идеолога, произвольно вычленяющего в обществе все новые и новые меньшинства по критериям, им же самим придуманным.
Конструирование все новых и новых меньшинств, их организационное оформление порождало все новые и новые специфические запросы, неминуемо находящиеся в конфликте друг с другом. При этом многие группы конструировались не только искусственно, но и безо всякого согласия «защищаемых» и без учета их мнений. Самым гротескным случаем, конечно, может быть движение за права животных. Защищаемые, увы, при всем желании не могут ни контролировать своих «защитников», ни призвать их к ответу.
Могут ли в принципе существовать «интересы животных» (общие для зайцев, гончих собак, волков и медведей)? Если ответ и будет положительным, то он сведется к общей для всех живых существ потребности в сохранении биосферы (где интересы животных как раз совпадают с интересами людей как биологического вида). Но мало того, что у волков и овец интересы разные, многие кампании зоозащитников представляют как раз угрозу для тех, от имени кого они ведутся. Так, тотальная победа вегетарианства приведет к резкому сокращению поголовья свиней и прочего домашнего скота, а исчезновение из продажи меховых изделий будет означать катастрофу для многих видов пушных животных, поскольку условий для сохранения их нынешней численности в естественных условиях, увы, давно уже нет.
Политическая проблема состояла, разумеется, не в том, что современное общество объективно неоднородно, а в том, что именно эта неоднородность и разнообразие тем более требуют объединяющей идеологии. Формирование рабочего движения в XIX в. тоже сопровождалось сознательными усилиями по выработке общей и единой классовой культуры, ориентированной на преодоление различий — надо было добиться, чтобы шахтеры и промышленные рабочие, приказчики в лавках и горничные в господских домах, батраки в ноле и водители паровозов осознали себя единым классом, поняли, что у них есть общие интересы, а то, что их объединяет, — важнее различий между ними. Это, разумеется, не означало отрицания объективности различий, которые не только осознавались, но и преодолевались — за счет осознанных компромиссов, ставших важной частью интегрирующей работы профсоюзного движения и рабочих партий.
Напротив, идеология политкорректности, возобладавшая среди западных левых начала XXI в., не только не была направлена на преодоление различий, но, напротив, всячески эти различия культивировала и любовалась ими. В то же время сами различия воспринимались не как противоречие интересов, которое должно быть устранено через сложные переговоры, взаимные уступки и компромиссы, где решающую роль играет именно большинство, объединяющее вокруг себя меньшинства, а как явление чисто культурное, когда любые противоречия интересов просто снимаются за счет демонстрации взаимного уважения. Иными словами, любование различиями сопровождалось подчеркнутым нежеланием признавать противоречия. Такой подход в точности соответствовал принципу «разделяй и властвуй» с той лишь разницей, что разделяли левые интеллектуалы, а властвовала неолиберальная буржуазия.
Отменяет ли классовая солидарность другие характеристики личности и поведения? Конечно, нет! У каждого из нас есть множество реальных и потенциальных идентичностей, порождаемых не только религией или этническим происхождением, но и нашей повседневной практикой, образом жизни, местом пребывания, профессией, образованием, происхождением и т. д. Один и тот же человек может определять себя через работу и потребление, через семейные, родовые, гендерные, сексуальные отношения и практики, даже через отношение к еде, курению или алкоголю. Отменить это невозможно и не нужно. Без этого немыслима была бы ни личность, ни культура.
Нормы, коды поведения, ценности, предписываемые различными идентичностями, определяют наши эмоциональные практики. Как замечает культуролог Андрей Зорин, «эмоциональный репертуар многих людей может включать в себя различные, часто плохо согласованные между собой, а порой и просто взаимоисключающие эмоциональные матрицы. Разные эмоциональные сообщества, к которым принадлежит человек, часто диктуют ему совсем несхожие правила чувствования, в которых ему приходится ориентироваться»[15]. Это может быть отнесено не только к эмоциям, но также и к объективным интересам отдельной личности и даже целых групп людей. В качестве потребителей, например, они могут быть заинтересованы в удешевлении товаров, тогда как в качестве наемных работников будут стремиться к повышению своей заработной платы, что косвенно или даже прямо будет вести к росту цен на те же самые товары.
Принципиально важно, однако, не то, какие идентичности складываются в процессе жизни человека или сообщества, а то, какая именно из этих идентичностей определяет наше политическое поведение. В этом плане они совершенно не равноценны и не равнозначимы.
Политкорректность подменяет политические вопросы культурными, одновременно не создавая возможности их решения. Действия сводятся к ритуализированному воспроизведению дискурсивных практик, выдаваемых за идейную борьбу.
Суть политкорректности даже не в запрете на употребление тех или иных слов и выражений, которые действительно могут быть воплощением на лексическом уровне предрассудков и дискриминации, а в запрете проблематизации определенных тем, обсуждения определенных вопросов. Причем уже совершенно не важно, какую именно позицию вы занимаете в процессе обсуждения, недопустимой становится сама постановка вопроса (например, нельзя говорить о социальных проблемах, связанных с притоком беженцев в Западную Европу, или о противоречиях, порождаемых «позитивной дискриминацией» групп, которые ранее были ущемлены в правах).
Характерным примером может быть то, как проблема однополых браков была искусственно навязана не только обществу, но сексуальным меньшинствам — еще в начале 2000-х годов активистам гей-движения даже не приходило в голову, что может быть выдвинуто подобное требование. Однако именно данный вопрос был выдвинут правительством социалиста Франсуа Олланда на первое место в текущей политической повестке. И совершенно не случайно, что именно администрация, озаботившаяся проблемой однополых браков, подготовила самую реакционную реформу трудового законодательства в современной истории не только Франции, но и всей Европы.
Принципиальная идеологема «прав меньшинств» не только не предполагает каких-либо специфических дополнительных обязанностей в обмен на дополнительные права (типа preferential treatment, affirmative action etc.), но в той или иной мере создает возможности уклонения от общегражданских обязанностей. Иными словами, это не права, а привилегии. Тем самым происходит постепенное уничтожение гражданского общества, в котором совокупность групп и организаций должна, в идеале, составлять единое пространство участия и дискуссии.
Распространение идеологии мультикультурализма и политкорректности со свойственной им идеализацией меньшинств, противопоставлявшихся по определению обществу «белых мужчин», было изначально и сознательно направлено отнюдь не против буржуазии, дискриминационные элитарные практики, культуру и идеи которой критиковало также и рабочее движение, а именно против культурных норм и традиций самого рабочего класса. Причем наступление на эти нормы шло тем настойчивее, чем менее сам рабочий класс оказывался состоящим из «белых мужчин».
Парадоксальным образом, чем более активно проводилась на Западе политика, ориентированная на защиту меньшинств, и чем больше внедрялась соответствующая идеология на официальном уровне, тем больше проблем возникало у представителей соответствующих меньшинств на бытовом уровне. Американский публицист Крис Хеджес уверен, что рост расистских и гомофобских настроений в низах американского общества явился закономерным результатом практики позитивной дискриминации и политкорректности, которые на самом деле были необходимым прикрытием и органической частью неолиберальных реформ и способствовали (как и любые другие программы адресной помощи) демонтажу институтов социального государства. Эта политика, проводившаяся при полной поддержке левой и либеральной интеллигенции, в своей основе имела «лицемерие образованной элиты, которая всячески демонстрирует сочувствие к обездоленным и свою политкорректность, одновременно предавая рабочих и бедняков и обслуживая власть корпораций»[16].
Праймериз Демократической партии США в 2016 г. прекрасно выявили реальный смысл политики позитивной дискриминации и affirmative action как механизма подкупа афроамериканских элит, которые, в свою очередь, обеспечивали лояльность подконтрольных им низов по отношению к неолиберальному проекту и его лидерам. Лояльность меньшинств использовалась для мобилизации электоральной поддержки Хиллари Клинтон и аппарату партии, чтобы блокировать усилия сторонников Берни Сандерса, стремившихся провести социальные реформы в интересах этих же самых меньшинств Принципиальная разница, однако, состояла в том, что политика Сандерса трактовала афроамериканцев, женщин, любые другие угнетенные группы не как отдельные и специфические сообщества, с лидерами которых надо договариваться и подкупать их теми или иными подачками, а как часть трудовой Америки, нуждающейся в новом курсе на общенациональном и общесоциальном уровне. Логика клиентелистских отношений вступила в прямую конфронтацию с логикой классовой и гражданской солидарности.
Формирование клиентелистских отношений, обеспечивавших политический контроль демократов над представителями различных меньшинств и в первую очередь афроамериканскими массами, оплачивалось налогоплательщиками, одновременно обрекая большинство чернокожего населения на Юге США на воспроизводство существующей структуры, бедности, зависимости и бесправия — не только по отношению к «белым» элитам, но и по отношению к собственным community leaders, интегрированным в эту систему.
Либерально-гуманистический клиентелизм выступил наиболее эффективным механизмом подрыва классовой солидарности, поскольку он не только противопоставлял интерес индивидуального работника интересам массы, но и дробил саму массу на множество противостоящих друг другу групп, каждая из которых была организована вертикально и подчинена контролю собственной коррумпированной элиты.
Разумеется, традиции и практики рабочего класса в реальности тоже никогда не были этически безупречными. Если отбросить идеалистическую романтизацию жизни рабочих, типичную для леворадикальной интеллигенции первой половины XX в., в повседневной жизни трудящихся и в деятельности классовых организаций можно было обнаружить достаточно материала для критики. Однако политическое содержание этой критики, развернувшейся параллельно с общим контрнаступлением капитала на труд в конце XX столетия, вполне очевидно. Атака на традиционные ценности и практики рабочего движения призвана была размыть его культуру в тот самый момент, когда это движение, подрывавшееся объективно происходящими экономическими и социальными процессами, переживало институциональный стресс и нуждалось в сохранении культурной преемственности как никогда ранее. В известном смысле, подобная критика рабочих традиций отражала происходящие сдвиги, но одновременно закрепляла и усугубляла их, препятствуя формированию новых механизмов солидаризации, которые не могли быть созданы, во-первых, без опоры на существующую традицию, а во-вторых, без усилий по формированию и консолидации нового устойчивого большинства.
В любом случае, обвинять традиционный рабочий класс в том, что он «белый» и состоит по меньшей мере наполовину из мужчин — это то же самое, что требовать покаяния от детей за грехи их родителей, да еще зная, что перечисляемые грехи были на самом деле совершены совсем другими людьми и в другом месте. Идея приписать коллективную вину именно «белым» по праву рождения могла прийти в голову только привилегированным белым интеллектуалам, заведомо исключающим себя из группы, подлежащей идеологическому остракизму, но не отказывающихся ни от одной из привилегий, ей приписываемых.
Хотя консервативные публицисты склонны были видеть в подобных высказываниях лицемерие или своего рода расизм наоборот, суть данной идеологии была вовсе не в том, чтобы заставить «белых мужчин» стесняться своего происхождения. Формировалась эффективная технология, сознательно применяемая для подрыва солидарности и раскола трудящихся по расовому (гендерному, культурному и т. д.) признаку. Одним — меньшинствам — приписывают роль жертв, нуждающихся в покровительстве прогрессивной либеральной (преимущественно белой) элиты, другим — роль грешников поневоле, которым предстоит искупить свою родовую вину за счет отказа от защиты собственных интересов и соблюдения идейно-политических ритуалов политкорректности.
Антисолидарная логика подобного подхода была вполне очевидна с самого начала, но гегемония интеллектуалов в сочетании с необходимостью приспосабливаться к требованиям неолиберализма и меняющимся под его влиянием академическим порядкам создали ситуацию почти тоталитарного морального террора, когда любое публичное выступление против доминирующего дискурса фактически блокировалось или, в лучшем случае, осуждалось как проявление старомодного, патриархального, консервативного или сталинистского мышления.
Показательно, что сам язык «позитивной дискриминации» является иерархическим и патерналистским, принципиально выставляя меньшинства в качестве неизменно слабой и страдающей стороны, являющейся объектом помощи. Субъектом действия, принятия решений остаются государство и интеллектуально-политическая элита.
Система принципиально исключает возможность реального равенства и эмансипации, поскольку в таком случае помощь «слабым» становится ненужной и необоснованной. Иными словами, чтобы получать поддержку, «целевая» группа (будь то национальные меньшинства, женщины, гомосексуалисты и т. д.) должна оставаться слабой и угнетенной, иначе право на помощь невозможно будет обосновать. Воспроизводство «слабости» является фундаментальным принципом и важнейшей (но не провозглашаемой официально) задачей любой «адресной помощи». В этом ее принципиальное отличие от универсалистского социального государства, которое не допускает никакой, в том числе и позитивной дискриминации, оказывая равную помощь всем.
Вопрос о том, кому, за что и как можно критиковать существующий порядок, тоже был жестко упорядочен. Фактически дискуссия о пороках системы была сведена к набору общеобязательных слов и формул, которые должны были регулярно повторяться вне всякой связи с реальными процессами, происходившими в обществе.
В рамках леволиберального подхода солидарность мыслится, в лучшем случае, как некий договор о взаимопомощи между различным группами и «меньшинствами», своего рода пакт о ненападении, при котором общая повестка складывается из механического сочетания множества совершенно различных повесток, противоречия между которыми старательно замалчиваются или игнорируются. Движение протеста мыслится не как единое солидарное целое, но только как коалиция или даже, по выражению Наоми Кляйн, «коалиция коалиций».
Напротив, традиционный принцип классовой солидарности предполагал именно формирование единой общей повестки на основе фундаментального, базового интереса, являющегося изначально общим. Смыл этой солидарности был не в сосуществовании различных групп, а в преодолении их различий, в их слиянии и создании вместо множества конфликтующих «идентичностей» единой классовой, а в перспективе — человеческой общности. Это, разумеется, не означает отказа от признания культурных различий или неуважения к ним, но это значит, что данные различия должны оставаться и осмысливаться именно как культурные, по возможности изживаемые и преодолеваемые в сфере политики, тогда как логика мультикультурализма, постмодернизма, феминизма и политкорректности предполагает ровно противоположный процесс засорения политики культурными проблемами и превращения ее в форму переживания и воспроизводства постоянно нарастающего числа культурных особенностей и различий.
Борьба за социальные преобразования отнюдь не означает отказа от эмансипации женщин или национальных меньшинств, но предполагает, что борьба за эти интересы объективно может быть успешна лишь в рамках общей комплексной и целостной стратегии изменения общества, причем именно общие социальные приоритеты должны определять политическую повестку дня.
Феминизм и другие идентичности
Особенность политкорректного сознания состоит в том, что любые группы мыслятся не только однородными, но и неизменными, закрытыми друг от друга и существующими друг от друга независимо, подобно монадам у Лейбница. Они могут выступать жертвами дискриминации или объектами адресной помощи. Но они никогда не рассматриваются как меняющиеся, внутренне противоречивые, взаимодействующие друг с другом и вовлеченные в единый процесс воспроизводства экономики, общества и политических институтов. Более того, постоянно подчеркивается «исключенность» (exclusion) меньшинств из различных структур, на место чему должна прийти «включенность» (inclusion). Вопрос даже не в том, насколько соответствует действительности тезис об «исключенности», особенно после почти полувековой политики позитивной дискриминации[17]. Гораздо важнее, что этот тезис никак не связан с анализом самих институтов, их функционирования, развития и трансформации. Не опирается он и на анализ экономических процессов в их динамике, на понимание того, как работает система общественного разделения труда. Не ставится даже этическая проблема — а нужно ли стремиться быть включенными в институты, которые сами по себе являются частью порочной системы?
Стремясь демаскировать скрытую гендерную проблематику, содержащуюся в классовом дискурсе, феминистский анализ подчеркнуто абстрагируется от классовых различий, заменяя разговоры о них призывами к гендерному равенству вне зависимости от социального положения людей. Но в реальной жизни смысл и содержание равенства полов получается принципиально разным в зависимости от социального статуса и экономических позиций мужчин и женщин. Очень характерным примером скрытого классового содержания феминистского дискурса является анализ проблемы «стеклянного потолка». Данные о составе топ-менеджмента крупных компаний и, в меньшей степени, государственных учреждений показывают, что женщины, делающие там успешную карьеру, сталкиваются с трудностями, подходя к самому высшему уровню. Это подтверждается большим количеством социологических данных и не может подвергаться сомнению. Однако данная проблема касается, в лучшем случае, 1–2 % женского населения, причем именно той его части, которая уже достигла высокого положения в обществе, принадлежит к верхушке среднего класса или к буржуазии. Совершенно непонятно, почему левые должны заботиться об изменении гендерного состава капиталистической иерархии, если их целью является ликвидация или радикальная трансформация самой этой системы[18].
В то же время многие примеры успешной карьеры женщин, достигших высших постов в государственных структурах, таких как Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель, не принимаются радикальной публицистикой в качестве доказательства позитивных перемен на том основании, что упомянутые дамы-политики не являлись феминистками[19]. Однако в таком случае встает вопрос: чьи интересы представляет данный дискурс — женщин вообще или самих феминисток, вернее — леволиберального сообщества, осуществляющего идеологическое доминирование среди определенной части среднего класса?
Разумеется, в левых версиях феминистского дискурса неизменно повторяется тезис о том, что угнетение женщин является органической составляющей капитализма или даже необходимым элементом капиталистической эксплуатации. Подобный вывод, как правило, подтверждается двумя фактами, не подлежащими сомнению. Во-первых, в большинстве капиталистических стран средняя заработная плата женщин отстает от зарплаты мужчин. Во-вторых, выполнение домашней работы, ложащееся в семье в основном на женщин, не может не отражаться на рынке труда и стоимости рабочей силы. Таким образом, есть основания говорить, что капиталистическая экономика включает гендерное разделение труда.
Проблема, однако, в том, насколько эти два обстоятельства являются для капитализма принципиальными, системообразующими и сущностными. Выравнивание заработков женщин и мужчин, перераспределение обязанностей в семьях, развитие технологий, облегчающих домашнюю работу, и создание развитой сферы услуг, снимающей значительную часть хозяйственной нагрузки с женщин, никак не подорвало буржуазные производственные отношения или институт частной собственности. Хуже того, основной прогресс в этих сферах был достигнут не за счет программ адресной помощи, а за счет развития социального государства — в период, предшествовавший торжеству феминизма и политкорректности.
Феминистский дискурс, как и другие формы леволиберальной идеологии, не просто принимает буржуазное общество как неизменную данность, но и ориентирован именно на буржуазного индивида с присущими ему ценностями, критериями и мотивациями. Соответственно, отношения между мужчинами и женщинами рассматриваются либо как конкурентные, либо как договорные, партнерские (показательно само употребление слова «партнер» в качестве обозначения спутника жизни, вместо «мужа», «жены», «возлюбленного» и т. д.). Иными словами, отношения между людьми мыслятся исключительно как между суверенными индивидами, которых ничего не объединяет, кроме соглашения[20]. Любви и чувствам, какой-либо общности иной, чем identity, тут нет места настолько, что никто из носителей дискурса не замечает, что тут чего-то явно не хватает (something is missing).
Подобная индивидуалистическая концепция, парадоксальным образом, в долгосрочной перспективе подрывает саму себя, ибо договор, лишенный связи с общественной этикой и не направленный на решение каких-либо задач за пределами конкретной пары, может быть, строго говоря, каким угодно, а потому не должен быть предметом публичного обсуждения и регулирования. То, что в другой социально-этической системе представало бы как долг (не просто перед своей «второй половиной», но и перед обществом), теперь сводится к индивидуальному и частному выбору. В результате феминизм и мультикультурализм в определенных ситуациях может означать терпимость к самым отвратительным формам патриархальщины, тоже воспринимаемым как проявление идентичности или как выбор… Если, например, систематическое насилие над «партнером» является частью отношений, принимаемых «добровольно», пусть и в силу обычая, нет никакой причины бороться против этого.
Принципиальные различия внутри каждого конкретного меньшинства игнорируются. То, что женщины, например, принадлежат к разным культурам, народностям, к противоборствующим классам и партиям, оказывается в рамках подобного дискурса малозначительной мелочью, никак не влияющей на суть дела. Аналогично единой страдающей и угнетенной массой предстают перед нами мигранты, хотя в действительности они тоже разделены на группы, зачастую находящиеся между собой в остром конфликте (например, исламисты и те, кто бежит от исламизма, рабочие и бизнесмены, отстраненные от власти бюрократы и интеллектуалы, ищущие политического убежища, организаторы мафиозных сетей и их жертвы).
Представление об однородности миграционного потока, превращенное в основу практической политики, способствует выстраиванию клиентелистских структур, когда часть мигрантов и беженцев, распределяющая потоки помощи, наладившая связи с местными властями, мафией и неправительственными организациями, получает возможность контролировать и эксплуатировать всех остальных. Такой подход предопределил и остроту миграционного кризиса 2015–2016 гг., когда под видом сирийских беженцев, покидающих зону боевых действий, в Европу бросились сотни тысяч людей, никогда не бывавших в Сирии и даже не знавших арабского языка. Поскольку сама идея о дифференциации мигрантов заведомо отвергается политкорректным дискурсом, попытка отделить реальных беженцев, имеющих право на помощь, от остального потока, не только изначально являлась политически невозможной, но и осуждалась как проявление расизма.
Тем не менее конфликты так или иначе прорываются наружу, причем далеко не самым приятным образом, как это было во время встречи нового 2016 года в Кельне, когда группы подвыпивших молодых людей из числа иммигрантов и беженцев начали агрессивно приставать к местным женщинам. Общественность, естественно, разделилась на тех, кто встал на защиту прав мигрантов, обвиняя в расизме всякого, пытавшегося обсуждать эту тему, и на тех, кто развернул мощную кампанию по поводу насилия над женщинами.
Выяснять, какая сторона права в этой дискуссии, бессмысленно, ибо вопрос изначально неверно поставлен. Он не может быть решен в рамках логики политкорректности и на основе уважения к «идентичностям». Более того, именно неуважение к наличным на данный момент идентичностям, готовность общества менять и преодолевать их, является важнейшим и необходимым условием социального прогресса.
Одним из безусловных успехов феминистской критики классической социологии было выявление скрытого гендерного смысла, который очень часто оставался незамеченным даже для авторов тех или иных прогрессистских высказываний. «Человек вообще», увы, слишком часто бессознательно отождествлялся с мужчиной. Утверждение, но виду нейтральное, в действительности оказывалось нагружено гендерно. Противоречие феминизма, однако, состоит в том, что, обнаруживая бессознательный гендерный смысл в чужих высказываниях, его сторонники последовательно стараются не замечать скрытого и бессознательного социального и классового смысла в своих. Между тем не требуется никакого аналитического микроскопа, чтобы заметить, что феминистский дискурс, который лишь поверхностно нагружен гендерно, на деле выражает гендерно нейтральный групповой интерес привилегированной части среднего класса.
Исторически проследить эту связь несложно. Восхождение либерального среднего класса сопровождалось соответствующей идеологической эволюцией. Его критика была изначально направлена против старых элит, место которых предстояло занять новому поколению образованных либеральных профессионалов с буржуазными амбициями. Обвинение в патриархальности и дискриминации женщин явилось очень удобным средством в борьбе нового поколения против тех, кто тормозил его продвижение вверх по карьерной лестнице в корпорациях и государственных учреждениях. Этим подрывался авторитет старой, наследственной элиты. Атака была направлена против гегемонии старых буржуазных семейств, но отнюдь не против логики капиталистической иерархии как таковой. Напротив, именно места в этой иерархии были главными призами, ждущими либеральное продвинутое поколение. Именно потому их дискурсивная атака была одновременно направлена и против старой буржуазной элиты и против традиционных левых организаций, а также масс трудящихся, которым навешивали ярлык «отсталости». Торжествующий дискурс феминизма и политкорректности предполагал не навязывание обществу программы социальных изменений, а утверждение определенной культуры и практик общественного поведения, своего рода символических кодов, без знания и принятия которых вы просто не можете претендовать на лидирующие роли в обществе. Таким образом, с одной стороны, теснили старую элиту, заставляя ее принимать новые правила, а с другой — отсекали неполиткорректную массу обывателей, условия повседневной жизни которых просто не позволяют постоянно оглядываться на требования политкорректности.
Для подобного дискурсивного кода принципиально важно, что сколько бы он ни пропагандировался, остается значительная масса людей, по тем или иным причинам неспособная соблюдать диктуемые правила. Соответственно, борьба за передовой дискурс становится перманентной и превращается в постоянное содержание политической жизни, вытесняя другие вопросы.
Понемногу контроль за кадровой политикой на всех уровнях — от капиталистических компаний до леворадикальных организаций — все более монополизировался одним и тем же социокультурным слоем. Только носители и знатоки правильного дискурса могут быть публично признанными лидерами мнений в журналистике, только они становятся ключевыми активистами в политических организациях. Принципиальным требованием политкорректного дискурса, объединившего левых с продвинутой либеральной буржуазией, явился разрыв с исторической культурой и традициями рабочего класса под гем предлогом, что они являются патриархальными и мачистскими. Причем относится это в равной степени ко всем носителям данной культуры, как мужчинам, так и к женщинам. Даже в профсоюзах происходило постепенное оттеснение носителей традиционной пролетарской культуры «синих воротничков» (blue collar culture) от руководства. В политических организациях на левом фланге процесс пошел еще дальше, приведя к последовательному и сознательному вытеснению рабочих (кроме тех немногих, кто готов был мимикрировать под культурные нормы либерального среднего класса). Неудивительно, что многие фрустрированые пролетарии в конечном счете нашли свое место среди сторонников правого популизма.
Политэкономия миграции
Если в 1990-е и в начале 2000-х годов ключевой темой политкорректного дискурса было положение женщин и этнических меньшинств, то в условиях нарастания мирового экономического кризиса на передний план выдвигается фигура мигранта или беженца. Речь идет не о людях, приехавших несколько десятилетий или поколений назад и сейчас составляющих этнические меньшинства в западных обществах, а именно о тех, кто перемещается через границы под влиянием резко ухудшившейся экономической и политической обстановки в мире, об иммигрантах и мигрантах новой волны. Различие чрезвычайно важное, поскольку между представителями старой и новой миграционной волн существует острейший конфликт, сознательно игнорируемый политкорректным сознанием.
В течение всего индустриального периода европейской истории массовая миграция из деревни в города, а также из более бедных стран в более богатые создавала культурные проблемы, которые, однако, разрешались в течение одного-двух поколений. Интеграция мигрантов в принимающее их городское общество происходила в рамках индустриальной культуры и производственного процесса, которые сами по себе диктовали необходимость взаимодействия с окружающим коллективом, выполнение общих правил и формирование общих навыков. Напротив, в эпоху неолиберализма, по мере ослабления индустриальной базы Европы (включая и постсоветские республики), повседневные культурные нормы начинают диктоваться не производством, а потреблением. Производство требует коллективного взаимодействия, а потребление, даже если оно является однотипным и стандартизированным, является частным, индивидуальным, в лучшем случае, семейным делом.
Неудивительно, что каждая новая волна приезжих интегрируется принимающим обществом с большим трудом, чем предыдущая. В условиях, когда обсуждение социально-экономических противоречий является своего рода табу, общественное мнение интерпретирует проблему как культурно-политическую. Этнизация конфликта происходит и справа и слева. Отказ от классового и социологического анализа неминуемо предполагает осмысление существующих в обществе противоречий исключительно как идеологических или культурных.
Антонио Грамши, описывая политическую жизнь в тоталитарном государстве, замечал, что «в тоталитарных партиях преобладают культурные функции, порождающие политический жаргон, то есть политические вопросы облекаются в культурные формы и как таковые становятся неразрешимыми»[21]. Господство либеральной политкорректности и левого интеллектуального дискурса привело к точно такой же ситуации. Поскольку социальные проблемы и структурные противоречия общества интерпретируются как «культурные», они не только не разрешаются как таковые, но блокируется возможность даже обсуждения практических решений. Причем это в равной степени наблюдается и на левом, и на правом крае политического спектра. Так, например, консервативно-националистическая публицистика приписывает неспособность иммигрантов к адаптации их религиозным и племенным традициям, а леволиберальная интеллигенция все объясняет дискриминацией. Вопросы о месте иммигрантов в общественном разделении труда, в структуре занятости, о том, как иммиграция используется в социальной (точнее — антисоциальной) политике правящего класса, о расслоении внутри самого рабочего класса и среди мигрантов просто не ставятся. Между тем без понимания этих вопросов и без соответствующих социально-экономических мер декларативная борьба против дискриминации не просто не решает проблему, она дает обратный эффект, противопоставляя друг другу различные слои наемных работников и превращая дискриминацию сверху в противостояние снизу.
Однако если бы политкорректные левые задумались о социальной природе миграции, они очень скоро обнаружили бы, что и реальное содержание культурных противоречий не имеет ничего общего с тем, что думают интеллектуалы. Проблема, которая в общественном воображении сводится к религиозным и расовым различиям (и соответственно, должна разрешаться тоже на культурном уровне через преодоление расизма), на самом деле представляет собой столкновение потомственных горожан с массой выходцев из деревни, превращающихся в маргиналов из-за отсутствия индустриальных рабочих мест и невозможности успешной интеграции в новый образ жизни. Достаточно вспомнить знаменитый фильм Лукино Висконти «Рокко и его братья», чтобы обнаружить, что схожие конфликты можно было наблюдать в 1960-е годы на севере Италии. Именно тогда масса южан, не имеющих надежных средств к существованию, ринулась в благополучные индустриальные города итальянского севера. Не менее острыми были и конфликты в рабочих поселках советской России в середине 1930-х или во время второй волны урбанизации в 1960-е годы. Повсюду возникали одни и те же проблемы (мордобой, криминал, проституция, конфликты с «местными» и проч.). Механизмом интеграции становился заводской конвейер, постепенно приучавший новоприбывшее население к дисциплине, солидарности, определенному ритму и распорядку жизни. Аналогичным культурным механизмом выступала и призывная армия, а также общеобразовательная школа.
Приток иммигрантов из стран Юга стал проблемой не сам по себе, а именно в контексте деиндустриализации, переживаемой развитыми странами Европы и Америки. Этот процесс не сводим к закрытию заводов и потере рабочих мест. Он не сводится даже к изменению структуры занятости и росту безработицы. В условиях неолиберализма большинство европейских стран, переживших деиндустриализацию, столкнулись с ослаблением других институтов, порожденных или укрепленных индустриальным развитием. Призывные армии сменились наемными или сократили свою численность настолько, что службу стала проходить очень небольшая часть молодежи Роль армии как машины культурной интеграции полностью сведена на нет и ничем не замещена. Массовая организованная занятость сменилась новым рынком труда, построенным по принципу хаотической индивидуальной конкуренции. Крайне ослаблены профессиональные сообщества с их специфической культурой и этикой. Система здравоохранения приватизируется и фрагментируется на основе принципа: разным общественным группам — разная медицина. Остались лишь бюрократия, куда вход доступен не всем, и еще массовое школьное образование, которое, в свою очередь, подвергалось многочисленным реформам, направленным на фрагментацию единой в прошлом системы. Образование перестало мыслиться и функционировать как механизм формирования граждан для общества, став системой, предоставляющей ученикам-потребителям услуги, благодаря которым они имеют шанс получить конкурентные преимущества на рынке труда. Иными словами, система, ранее работавшая на солидаризацию общества, теперь способствует его разобщению.
Попадая в такую социальную среду, переселенцы из деревни усваивают лишь культуру конкуренции и потребления, естественно противопоставляя себя как «местным», так и другим миграционным группам в рамках доминирующей логики войны всех против всех. В такой ситуации племенные и прочие архаические идентичности, порожденные ими связи и отношения не преодолеваются, а укрепляются, консолидируются. Они замещают разрушенные механизмы межчеловеческой, профессиональной и классовой солидарности, помогают сплоченной группе лучше решать задачи выживания во враждебном мире либерального хаоса.
Эта ситуация на полтора десятилетия раньше, чем в Европе, возникла в странах Ближнего Востока, где кризис урбанистической культуры и нехватка рабочих мест в промышленности на фоне продолжающегося исхода населения из деревни породили аналогичные эффекты, включая и рост исламского радикализма в странах, казалось бы, давно перешедших в городах к европейскому образу жизни (Тунис, Алжир, Палестина, ранее — Иран). Пресловутая исламская религиозность на деле является закономерной реакцией деклассированных сельских жителей на неспособность города интегрировать их. Экономическая ситуация способствовала не росту численности индустриального пролетариата, а появлению огромной массы городских маргиналов, люмпен-пролетариев. Соответствующим образом менялась и политическая культура общества, где получали распространение всевозможные фундаменталистские идеологии. Но только ли в исламских странах возникали подобные проблемы?
Политкоррректным ответом на иммиграционный кризис становится мультикультурализм, на практике радикально этот кризис усугубляющий. Мало того что на объективном уровне механизм интеграции новых членов общества оказывается подорван, на субъективно-политическом уровне это дополняется совершенно сознательным насаждением идеологии препятствования интеграции. Мультикультурализм усиливает фрагментацию общества, создает условия для сохранения массового бесправия «новых граждан» при одновременном культивировании этнокультурных субэлит из их числа. При этом самих мигрантов никто не спрашивает, хотят ли они поддерживать и воспроизводить «свою» культуру и насколько традиционная этнорелигиозная или племенная идентичность действительно является желательной и «своей» для миллионов новых пролетариев, силой обстоятельств заброшенных в новые для них общества
Проблема мигрантов не в том, что они плохо усваивают нормы современного европейского индивидуализма, но, наоборот, в том, что они слишком хорошо его усваивают. Индивидуалистическая культура потребления не только не предполагает обязательного приобщения к другим аспектам европейской культуры (чтобы пользоваться, например, мобильным телефоном, не требуется хорошо знать английскую классическую литературу), но, хуже того, блокирует освоение европейских ценностей, которые и сами по себе находятся в противоречии с требованиями и нормами потребительского индивидуализма.
Социальная дезинтеграция дополняется обостряющейся конкуренцией на рынке труда. Для капитала поощрение миграции является лишь одним из элементов неолиберального курса на повышение «мобильности» и «гибкости» (flexibility) рабочей силы. В отличие от социал-демократического государства, которое стремилось создавать места там, где живут люди, или советского централизованного планирования, которое перемещало рабочих к местам развития промышленности, одновременно создавая для них жилье и социальную инфраструктуру и т. д.[22], на сей раз предполагается, что люди будут перемещаться в поисках рабочих мест, беря на себя все издержки и риски. Поскольку это перемещение является стихийным, оно неминуемо становится избыточным — людей оказывается больше, чем рабочих мест, доступного жилья и т. д. Дополняя внутринациональную и внутриконтинентальную миграцию потоком иммигрантов, беженцев и трансграничных мигрантов, вынужденных соглашаться на более скромные условия жизни и оплаты, неолиберальный экономический режим не только усиливает конкуренцию между наемными работниками, но создает непрерывно усиливающееся давление на рынок жилья и на институты социальной поддержки населения. В результате мигранты давят на рынок труда, даже если и не ищут работу.
Миграция всегда использовалась капиталом для создания «резервной армии труда». Но в начале XXI в. положение усугубляется тем, что многие иммигранты и беженцы не работают, а сидят на пособиях. В некоторых странах легальная работа беженцам просто запрещена. Однако это не только не улучшает социальную ситуацию, но, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы.
Поскольку рынок труда и социальные программы оказываются в ситуации постоянного институционального стресса, возникает возможность еще больше «дисциплинировать» рабочий класс через ликвидацию остатков социального государства. В экономическом плане сокращение пособий и социальных программ никакого эффекта не дает, поскольку ведет к сокращению совокупного спроса и не порождает новых инвестиций, но в социально-политическом плане является очень эффективным инструментом борьбы капитала против труда.
Леволиберальные идеологи, демонстративно не желающие видеть связи между миграцией и общей логикой неолиберальной политики дерегулирования, упорно игнорируют воздействие массового притока населения на рынок труда и на систему социальной защиты. Повторяющийся снова и снова тезис о том, что мигранты с «коренным» населением не конкурируют, во-первых, социологически не соответствует действительности, а во-вторых, основывается на той же расистской логике, когда вновь прибывшим достаются низкооплачиваемые и нелегальные рабочие места, которые коренное «белое» население считает для себя «недостойными». Однако даже если бы мы принимали такую логику, необходимо признать, что сам по себе возникающий на этой основе трудовой апартеид и сегментация рынка труда не способствуют ни укреплению позиций наемных работников, ни усилению профсоюзного движения, ни развитию гражданского общества.
Те или иные рабочие места становятся «плохими» или «хорошими» в зависимости от того, как они оплачиваются и какие карьерные перспективы открывают. То, что определенные работы закрепляются за мигрантами, в свою очередь, закрепляет и статус самих этих рабочих мест как «плохих». Напротив, в условиях, когда дешевый труд делается для работодателей недоступен, они оказываются вынуждены повышать статус соответствующих рабочих мест, вводя механизацию, улучшая условия труда, повышая оплату и создавая для работников карьерные перспективы.
Напротив, социальная динамика, консервирующая статус «плохих» и «хороших» рабочих мест, подрывает классовую солидарность, формируя и воспроизводя внутри развитых обществ ту же иерархию угнетения, которая ранее существовала между западным и колониальным миром. При этом наибольший ущерб от неконтролируемой миграции несут именно низшие слои общества, которые, в свою очередь, по большей части состоят из вчерашних иммигрантов, переселенцев, легально работающих иностранцев. Неконтролируемый приток создает для них постоянно усиливающуюся конкуренцию, блокируя любую возможность добиться лучших условий найма, размывает островки социальной консолидации и солидарности, не давая молодому поколению шансов вырваться из гетто. Политика левых, начиная с конца 1920-х годов, всегда состояла в борьбе за полную занятость, в то время как буржуазия заинтересована была поощрять конкуренцию между работниками, используя для этого фактор массовой безработицы, существование «резервной армии труда», этническую сегрегацию. Поощряя неконтролируемую миграцию, леволиберальная интеллигенция обслуживает именно повестку дня буржуазии, обосновывая антисоциальную практику «гуманистическими» аргументами.
Выходя на рынок труда в качестве неквалифицированной и часто нелегальной рабочей силы, представители новой миграционной волны вступают прежде всего в конкуренцию с теми, кто находится на низших ступенях социальной иерархии. Неудивительно поэтому, что столичные интеллектуалы, университетские профессора и высокооплачиваемые журналисты не испытывают особых проблем с миграцией, а потому возмущаются «расистскими предрассудками» социальных низов, которые с подобной конкуренцией сталкиваются. Но в действительности столкновение на рынке труда ничего общего с расовым конфликтом не имеет, поскольку в первую очередь «новые мигранты» теснят «старых иммигрантов», тех кто переселился и легализовался раньше. В итоге возникает парадоксальная, на первый взгляд, но совершенно закономерная ситуация, когда именно среди этнических меньшинств получает поддержку требование ограничить миграцию. Чего же удивляться после этого, что не только традиционный рабочий класс повсеместно переходит к правым радикалам, но и сами иммигранты массово начинают голосовать во Франции за Национальный фронт.
Добросовестные левые социологи признают, что нелегальные иммигранты «потихоньку интегрируются в рынок труда, превращаясь в жестко эксплуатируемую и легко замещаемую неформальную рабочую силу»[23]. Однако никаких политических выводов отсюда не делается. Описывая ситуацию с наплывом беженцев в Европу зимой 2016 г., «Socialist Review» не предложил никакого решения, кроме призыва «Open the borders and let them in» («Открыть границы и всех впустить»)[24]. Туг не ставится не только вопрос о том, что будет происходить с рынком труда или рынком жилья, но авторы даже не проявляют ни малейшего интереса к тому, что случится с самими беженцами после того, как они переберутся через границу. Лидеры немецкой Левой партии (Die Linke) Сара Вагенкнехт и Дитмар Бартш, осмелившиеся всего лишь задать подобные вопросы, подверглись яростным нападкам со стороны радикальной интеллигенции. После чего левые публицисты, заявляющие о недопустимости подобных дискуссий, растерянно констатировали: «At the moment everything is moving to the right» («Сейчас все смещается вправо»), призывая в ответ на ухудшающуюся политическую и социальную ситуацию более активно «бороться с расистскими аргументами и создавать антирасистское движение»[25]. Никто не задался вопросом о том, почему аналогичные предшествующие усилия не принесли ожидаемого результата и даже дали обратный эффект.
Недопустимо обвинять конкретных мигрантов в неприятностях, которые обрушиваются на головы местных рабочих (включая в первую очередь представителей предшествующей волны иммиграции). Также неверно было бы считать массовую иммиграцию единственной или даже основной причиной ослабления позиций наемных работников на рынке труда. Но утверждать, будто никакой связи между притоком мигрантов и слабостью рабочего движения не существует вообще, значит отрицать очевидное. Точно так же сочувствие бедам отдельных людей, вынужденных перебираться из более бедных стран в более богатые, не отменяет того факта, что рабочее движение практически всех европейских стран, включая Россию, а также США, объективно заинтересовано в изменении иммиграционной политики, которая превратилась в инструмент, с помощью которого буржуазия переформатирует рынок труда в своих интересах.
В таких условиях «антирасистская» пропаганда левых не только оказывается совершенно неэффективной, но своей явной неадекватностью еще и стимулирует рост правых, ксенофобских настроений в обществе, особенно — в рабочем классе, на собственной шкуре обнаруживающем неадекватность политкорректного дискурса. В свою очередь, объявляя «расистом», «ксенофобом» или «фашистом» всякого, кто задает неудобные вопросы относительно миграции, блокируя серьезную дискуссию о путях и масштабах интеграции, левые не только уступают поле крайне правым, но и легитимируют настоящий фашизм и расизм, поскольку в рамках леволиберального подхода нет никакой разницы между агрессивным погромщиком и мирным обывателем, сомневающимся в необходимости отдавать школу, где учились его дети, под общежитие для беженцев. Отказываясь слушать подобных людей, не признавая не только законности их сомнений, но даже их нрава задавать вопросы и предлагать взаимоудобное компромиссное решение, леволиберальная общественность толкает обывателей в объятия правых радикалов, которые остаются единственными, кто готов говорить на подобные темы.
Впрочем, в плане расистских предрассудков у самих левых тоже далеко не все в порядке.
Отношение либеральных левых к мигрантам и беженцам можно определить как compassionate racism — покровительственно-сочувственный расизм, подогреваемый признанием вины за прошлые преступления и несправедливости собственной нации. Это никак не относится ни к классовому анализу, ни к социально-историческому и критическому мышлению. В соответствии с общей логикой политкорректного дискурса беженцы и мигранты предстают как однородная обезличенная страдающая масса, не имеющая вообще никаких других характеристик — индивидуальных, социальных, культурных, психологических. У них нет никаких проблем, кроме тех, что спровоцированы недостаточно сочувственным и недостаточно покровительственным отношением государства и местного общества. Тот факт, что это масса, пусть и вынужденно, но деклассированная, не только полностью исчезает из поля зрения либеральных гуманистов, но и не подлежит фиксации или осмыслению.
Увы, лишив людей каких-либо человеческих и социальных качеств, мы не только не можем понять мотивы их действий и происходящие с ними процессы, но не можем и эффективно помочь им, не в состоянии выработать практическую стратегию интеграции и адаптации для миллионов людей, перебравшихся в Европу на протяжении первых двух десятилетий XXI в. Что, впрочем, и не входит в задачу левых либералов. Рассуждая о помощи беженцам, они на самом деле пытаются помочь самим себе, решая собственные моральные и психологические проблемы.
Ответ на кризис, разумеется, состоит не в том, чтобы по совету правых закрыть границы и выдворить из Европы уже находящихся там мигрантов. Но реальная помощь приезжающим людям технически невозможна, если процесс никак не регулируется, если не проводится соответствующая социальная и культурная политика, которая должна быть обеспечена ресурсами и кадрами, что, в свою очередь, означает необходимость ограничения потока, распределения приезжих по группам, под чинения их определенным требованиям, нормам и дисциплине. Данные ограничения необходимы в интересах самих прибывающих людей, которым должны быть созданы реально работающие каналы социальной интеграции.
Альтернативой расизму в условиях капитализма является не борьба за специфические «права мигрантов», а работа по интеграции новоприбывших в существующие рабочие организации, борьба за предоставление им равной оплаты и равных прав в качестве наемных работников, а главное — за создание для них хороших рабочих мест, предполагающих не только приличную оплату, но и высокие требования, а также жесткую производственную дисциплину. Точно так же надо не защищать «права нелегалов», а добиваться общей и полной легализации всего присутствующего на территории населения, если надо, то и принудительной. Такие действия, в случае успеха, резко сократят заинтересованность капитала в наращивании миграционных потоков, а это, в свою очередь, приведет к тому, что и сами эти потоки сократятся до масштабов объективно определяемых политической ситуацией на местах[26].
Необходима не абстрактно-бессодержательная «антирасистская пропаганда», а борьба за изменение миграционной и социальной политики. Необходимо положить конец той социально-экономической ситуации, которая предопределила миграционный кризис. Коль скоро перемещение больших масс людей из страны в страну уже является фактом, невозможно решить проблему, не прибегая к активному социально-культурному регулированию, не создавая новых рабочих мест, не разворачивая программ по строительству жилья, детских дошкольных учреждений, школ, институтов профессиональной подготовки, без целенаправленного (и если надо, принудительного) трудового распределения В этом смысле может быть полезен советский опыт планового хозяйства и социального планирования, весьма успешно обеспечивавшего «переплавку» огромных масс вчерашних крестьян, представителей разных народностей и культур в более или менее однородную массу городского населения.
Советский подход будет несомненно отвергнут либеральной интеллигенцией как авторитарный, но он является гораздо более гуманистическим по своей сути, чем доброжелательное попустительство, ведущее к разрушению общества и росту стихийного насилия снизу.
Новое качество жизни и культурно-социальную интеграцию обеспечивала не только всеобщая занятость. Параллельно с заводами и фабриками в СССР открывались кинотеатры и клубы, библиотеки, детские спортивные и образовательные кружки. Все это стоило государству денег, но давало обществу грандиозный социальный эффект, одновременно обеспечивая промышленность и науку дисциплинированной и мотивированной рабочей силой. Совершенно иную картину мы наблюдаем сегодня на Западе и в крупных городах России. В условиях полного безразличия либерального общества к судьбе сотен тысяч прибывающих издалека переселенцев не удивительно, что чуть ли ни единственным фактором социализации для них оказывается поход в мечеть или собрание представителей землячества, контролируемого патриархальными и коррумпированными лидерами (нередко тесно связанными с либеральными неправительственными организациями).
Без механизмов, органических для индустриального развития, массовое превращение вчерашних крестьян в городских жителей невозможно. Индустриализм авторитарен, однако это необходимая цена прогресса, которую надо признавать и осмысливать, но невозможно отвергнуть. «Постиндустриальное» общество в принципе не имеет механизмов адаптации массовых миграционных потоков, поскольку таковым является именно индустриальная система (причем в целом, включая массовую школу, призывную армию и прочие институты). Социальноисторическая задача индустриализма в масштабах планеты, увы, далеко не решена, а следовательно, невозможно и надеяться, будто постиндустриальные утопии заменят нам практические шаги, требующие решений, адекватных стоящим перед нами задачам.
Без индустриального развития и восстановления механизмов классовой солидаризации решить культурную проблему миграции в массовом масштабе невозможно. Не помогут никакие курсы по изучению языка и культуры принимающей страны, никакие репрессии и угрозы. Интеграция «новых граждан» должна идти рука об руку с экономическим развитием, с созданием новых рабочих мест, ориентированных на коллективный и совместный труд. Нет никаких объективных причин, по которым такие рабочие места в старых индустриальных странах не могут быть созданы, но этому препятствует все та же экономическая логика неолиберализма, делающая подобное развитие невыгодным — более выгодной для краткосрочных интересов инвесторов оказывается эксплуатация дешевой и неорганизованной, не солидаризированной рабочей силы в странах периферии и уже в самой Европе и Америке.
Найти гуманистическое решение проблем, порожденных массовой миграцией, можно. Но для того чтобы выработать такие решения, прежде всего надо перестать отрицать наличие самих проблем. Победить расистскую и антииммигрантскую пропаганду удастся лишь в том случае, если люди не только осознают объективный смысл происходящего, не сводимый к соперничеству различных групп работников на рынке труда и перераспределению средств в рамках постоянно сокращающихся социальных программ, но и увидят альтернативу — программу конструктивного разрешения противоречий. А эта программа будет работать как идеологически мобилизующая и солидаризирующая различные общественные группы лишь в том случае, если она будет учитывать реальные интересы различных групп, создавая условия для практического компромисса, а не воображаемого преодоления или замалчивания конфликтов. Более того, любые практические шаги окажутся небезупречными и небеспроблемными. Бесконфликтное развитие существует лишь в воображении плохо знающих социальные науки либеральных идеалистов.
В конечном счете масштабная экспансия экономики и расширение социального государства, создающие массу новых рабочих мест и новые общие каналы социальной мобильности для всех без исключения социальных и культурных групп, может изменить ситуацию, смягчив, а потом и сделав неактуальным соперничество между ними, радикально размыв границы между этими группами, интегрировав их в единое классово-национальное сообщество.
Реиндустриализация развитых стран — единственный эффективный механизм интеграции нового населения. Она является не просто стратегией экономического развития, но и единственным цивилизационным спасением для «старых» стран Европы, Северной Америки и России в том числе.
Раскол левых
Победа леволиберальных идеологов над другими тенденциями левой мысли не была ни тотальной, ни повсеместно признаваемой. Им постоянно возражали, с ними спорили, их осуждали. Однако противостоявшие им силы все более оказывались маргинальными — не только по отношению к обществу в целом, но и по отношению к самой же левой среде.
Подобное положение дел невозможно объяснить одними лишь политическими обстоятельствами, включая даже такое значительное событие, как крушение советской системы в 1989–1991 гг. Более того, к началу XXI в. левое движение явно начало восстанавливаться после шока, вызванного событиями в Восточной Европе и в СССР. Выступления антиглобалистов свидетельствовали о том, что ситуация меняется и на сцену выходит новое поколение, готовое не только к восприятию радикальных лозунгов, но и к радикальным действиям. Тем не менее очередной подъем левого движения, начавшийся в новом столетии, обернулся серией позорных неудач и отступлений, а левые быстро стали терять только что отвоеванные позиции, уступая их различным популистам правого толка.
Показательно, что эти неудачи происходили на фоне обострившегося кризиса той самой неолиберальной модели капитализма, которую социалисты так убедительно критиковали. Иными словами, негативная политическая конъюнктура подкосила левых, но позитивное изменение ситуации не только не привело их к успеху, но в в чем-то даже усугубило кризис.
Причины такого положения дел лежат как в объективных процессах трансформации капиталистического общества, так и в эволюции самих левых организаций и институтов, включая и институты политико-идеологические.
Ключевая идея неолиберализма была выражена в формуле Маргарет Тэтчер общества не существует. Это не просто афоризм, а практический принцип реорганизации институтов. Общественного интереса нет, есть только группы интересов. Фрагментация общества является отнюдь не выдумкой постмодернистских социологов, она порождена социальной логикой неолиберализма — другое дело, что этот процесс приводит к постепенному ослаблению и разрушению всех общественных связей, в том числе необходимых для воспроизводства самого же неолиберализма и капитализма. Система, утрачивая сдерживающие элементы, начинает пожирать сама себя — в этом не в последнюю очередь и проявляется ее кризис.
Транснациональный финансовый капитал — это тоже одна из групп интересов во фрагментированном обществе, но обладающая монополией на принятие экономических решений. В рамках данной логики эту монополию невозможно оспорить не только и не столько по факту, сколько идеологически (ее можно оспорить лишь от имени общества в целом, что невозможно в условиях фрагментации). Правящий класс оказывается, таким образом, единственным более или менее консолидированным и практически функционирующим классом в обществе.
Технологические и социально-экономические изменения, произошедшие в конце XX и в начале XXI в., отнюдь не привели к исчезновению противоречия между трудом и капиталом, но резко изменили социальную организацию труда Классические формы индустриального производства ушли в прошлое не потому, что промышленность якобы исчезла, а потому что радикально изменились ее структура, организация, технологии. Начиная с 1990-х годов промышленность оказывается все менее сосредоточенной и сконцентрированной географически и технически. Рассредоточение производства меняет образ жизни наемных работников. Одновременно растет значение различных форм неиндустриальной занятости, от сферы услуг до научных исследований. Мир труда не столько становится все более разнообразным и неоднородным (он всегда был таковым), сколько утрачивает организующее ядро традиционного промышленного пролетариата, вокруг которого раньше сравнительно легко могли сплотиться другие слои и группы работников, от посудомоек до университетских преподавателей. Соответственно ослабевает доминирующая культура, идеология.
Утратив консолидацию, рабочий класс вновь размывается, превращаясь в «народ», «массу», имеющую объективно общие интересы, но не имеющую ни общей организации, ни общего образа жизни, ни единой культуры. Парадоксальным образом, именно такая эволюция трудящихся классов повышает значение политического пространства, в рамках которого как раз и должна произойти «встреча» различных групп. Общий интерес не просто должен быть заново осознан и артикулирован через политическое действие, но он и объективно складывается через совместную практику, поскольку социальные группы на первых порах размыты, границы между ними подвижны, и именно опыт общественной борьбы позволяет им по-новому оформиться. В XIX в. Маркс говорил о «классе в себе», который через борьбу с другими классами должен стать «классом для себя». В XXI в. этот процесс должен быть повторен на новом уровне.
Однако институты левого движения казались не только не готовы к решению этой задачи, но, напротив, отстраивались таким образом, чтобы сделать невозможным ее решение. Сохранялись структуры «старой левой», которые воспроизводили политическую культуру, методы и идеологии традиционного индустриального периода, видя в любой попытке приспособиться к новым условиям угрозу разрушения своей идентичности. Подобные группы, по большей части, обращаются к марксистским и коммунистическим традициям, но видят в марксизме набор готовых ответов, а не методологию поисков истины, позволяющую формулировать вопросы, адекватные реальным противоречиям общества. Они пытаются применить к деклассированному и разобщенному обществу «политические технологии», разработанные для общества, состоящего из консолидированных классовых сил, а потому обречены терпеть поражение всякий раз, когда пытаются выйти из ниши, в которой им удается сохранить себя.
Одновременно формируется множество движений, организаций и течений «новой левой», воспроизводящих господствующий дискурс неолиберальной эпохи — защиту меньшинств, феминизм, политкорректность, мультикультурализм и т. д. Зачастую, правда, возникают гибридные образования, когда дискурс политкорректности и классовой ортодоксии механически соединяются. Однако доминирующими по отношению к политической практике оказываются по большей части именно «новые» идеи. Механическое соединение «старых» и «новых» лозунгов, формул и терминов (класса и гендера, защиты меньшинств и трудовой солидарности) не является проблемой для сторонников этих тенденций, поскольку эклектицизм превращается для них в своего рода идеологическую норму. И дело тут не в том, что подобные идеи и формулы вообще никак не могут быть соединены, а в том, что никто вообще не задумывается ни о возникающих по ходу дела противоречиях, ни о том, на какой основе и через какие практические шаги может быть достигнут компромисс интересов или преодолен конфликт. Любые программы превращаются в бессмысленный набор слов, а любая дискуссия сводится к механическому повторению готовых формул.
«Игнорирование проблем — не самый лучший способ их разрешения, — писали исследователи современного марксизма Андрей Коряковцев и Сергей Вискунов. — Вместо того чтобы осмыслить назревшие социально-философские проблемы и тем самым хотя бы теоретически нащупать путь выхода из кризиса антикапиталистического движения, подавляющее большинство левых (даже в лице наиболее образованных и авторитетных теоретиков) упражняются в изобретении способов заболтать этот кризис»[27].
Подобный подход при всем разнообразии вариантов не только враждебен классовой политике на содержательном уровне. В его основе лежит заинтересованность в воспроизводстве запущенного неолиберализмом процесса общественной фрагментации, поскольку именно в рамках этого процесса они могут эффективно применять свои идеи и практики — не для изменения общества, а для сохранения и даже расширения занимаемой ими социокультурной ниши. Подобная позиция чаще всего является неосознанной, стихийной, но это лишь усугубляет дело.
Тем самым, однако, левые оказываются заинтересованы не в радикальном преобразовании, а в воспроизводстве сложившейся системы отношений, частью чего является их деятельность. Проблема в том, что сама эта система находится в глубочайшем кризисе и разлагается. Это заставляет левых обоих сортов вынужденно выходить из своих ниш, принимать решения и совершать действия, выходящие за рамки привычных практик. Однако эти решения являются, в силу самой природы подобных групп и организаций, неадекватными новой ситуации и, по сути, консервативными.
«Многочисленные “левые интеллектуалы” с блестящим университетским образованием, как отечественные, так и западные, в XX и в начале XXI в., — продолжают Коряковцев и Вискунов, — пребывают в состоянии внутренней идейной непроговоренности и противоречивости, продемонстрировав полную неспособность к внутренней критической работе мысли, которой всегда отличалась европейская культура. Они променяли ее на психоделические переживания и адреналин, полученный от очередного “прямого революционного действия”, такого приятного, но практически и теоретически бесплодного»[28].
В конечном счете сложившиеся в 1990-2000-е годы институты и идеологии левого движения являются таким же препятствием для попыток преодоления неолиберализма, как и открыто неолиберальные институты, созданные буржуазией. И неудивительно, что каждый раз, когда в обществе возникал институциональный кризис (будь то ситуация с возможным выходом Греции из зоны евро, борьба вокруг членства Британии в Евросоюзе или начавшееся разрушение двухпартийной системы в США), значительная часть левых выбирала сотрудничество с консервативным истеблишментом.
Таким образом, преобразование самого же левого движения является важнейшим условием превращения его в эффективную силу общественных перемен. Но это преобразование закономерно сопровождается разрушением уже сложившихся институтов и организаций. Неминуемые на этом пути расколы и конфликты тактически могут рассматриваться как ослабляющие левый фланг общества. Но в исторической перспективе это единственно возможный путь.
Раскол социалистического движения в начале XX в. интерпретировался В. Лениным и Розой Люксембург как противостояние реформистов и революционеров, классовой пролетарской политики и мелкобуржуазного оппортунизма. Однако границы между реформистской и революционной практикой исторически оказались очень подвижны, а реформизм социал-демократических партий имел не менее (а часто и более) прочную классовую основу, чем революционная деятельность коммунистов. Противоречие между краткосрочными текущими потребностями класса и его стратегическими, историческими интересами существует вполне объективно, давая основание для серьезных расхождений. Это противоречие между потребностями текущего дня и стратегическими перспективами движения может быть разрешено в рамках общей политической практики, но из него исторически выросло другое, куда более значительное противоречие, принципиально неразрешимое в рамках единой организации и диктующее необходимость раскола. Его можно определить как противостояние между политикой, ориентирующейся на практическое преобразование общества, и политикой приспособления к реальности. При этом не так важно, какие именно ценности провозглашаются той или иной группой, принципиальное значение имеет то, насколько она ориентируется на проведение практической политики, преобразующей логику воспроизводства общества.
Приспособленческая или, говоря словами Ленина, оппортунистическая политика вовсе не чужда пафосу преобразования, но она адресуется не к системным, а к второстепенным общественным вопросам, откладывая более масштабные перемены на будущее. При этом сама по себе политика приспособления к капитализму на протяжении XX и XXI вв. имела тенденцию постоянно деградировать. В XIX в. подобный подход называли оппортунизмом или поссибилизмом, но в XXI в. мы наблюдаем уже деградацию поссибилизма. Если на первых порах речь шла о решении практических, хоть и второстепенных социально-экономических вопросов, то впоследствии они все более заменялись вопросами культурными, символическими, псевдовопросами, вроде административного требования запретить мужчинам во Франции называть молодых девушек «мадмуазель» вместо «мадам». От политики малых дел мы переходим к культурной критике капитализма, а от культурной критики — к формированию альтернативного дискурса в рамках этой системы. Затем левый дискурс превращается в одну из принятых, навязываемых массмедиа версий буржуазного дискурса.
Принятие логики фрагментации делает любую социалистическую концепцию бессмысленной, сводя ее в лучшем случае к утопическим мечтаниям о неком «ином мире», никак не вырастающем из противоречий нынешнего мира, а противостоящем ему в виде абстрактного «внешнего» идеала. Однако левые не только не добиваются преодоления фрагментации, но, напротив, принимая эту логику, пытаются придать ей как можно более радикальную форму. Такой подход превращает их в культурный авангард неолиберализма. Если первейшим принципом левого либерализма явилась защита меньшинств, то закономерным следующим шагом становится постоянное конструирование все новых и новых меньшинств, каждое из которых непременно нуждается в институциональном оформлении, без чего невозможно ни практическое проведение политики позитивной дискриминации, ни воспроизводство клиентел.
Неудивительно, что возникают конкурентные отношения между плодящимися группами в рамках позитивной дискриминации. Представители этнических меньшинств оказываются все более склонны к гомофобии, борцы с гомофобией на каждом шагу оказываются исламофобами и т. д. Ранее обыватель мог вообще не знать о существовании однополых пар, не думать о них, пока позитивная дискриминация не создала практический конфликт, затрагивающий его интересы. Точно так же ксенофобские настроения, присутствующие в любом обществе и усугубляемые массовым притоком мигрантов, не преодолеваются, а усиливаются на фоне постоянно проводимых левыми и либералами кампаний.
Межличностные конфликты и противоречия становятся непосредственно общественными, вовлекая в свою сферу всех окружающих — в рамках логики институционализированной конкуренции. Различия, разделяющие людей и противопоставляющие их друг другу, всячески культивируются и подчеркиваются, поскольку в ином случае устойчивое воспроизводство клиентел было бы невозможным. Но чем стабильнее и многочисленнее клиентелы, тем слабее общество. Распад общества происходит уже реально, подрывая условия социального воспроизводства.
Идеология Тэтчер предполагала, что равновесие между группами интересов будет поддерживаться и восстанавливаться рынком. Однако несмотря на то что процесс институционально-культурной фрагментации социума непосредственно связан с рыночными реформами, он создает новые противоречия и диспропорции, разрешить которые с помощью рынка невозможно, ибо субъекты не являются рыночными агентами. В этом смысле классовый корпоративизм, представленный, например, рабочими профсоюзами XX в., вполне мог вписываться в капиталистическое общество, трансформируя, но не разрушая его, тогда как организованный групповой эгоизм социокультурных сообществ общество разрушает, не трансформируя. Эти отношения, порожденные рынком, но дезорганизующие его, неминуемо становятся сами объектом культурной критики справа. Подобная критика, вдохновляющаяся очевидными примерами абсурдной политкорректности (вроде изъятия из школьной программы «неправильных» классических текстов, отражающих реально неполноправное положение женщин в XIX в.), в свою очередь, лишь закрепляет тупиковый характер дискуссии — ни та ни другая сторона не готовы обсуждать классовый характер противоречий, порождающих общественные диспропорции и межгрупповую конкуренцию. Более того, неопатриархальная утопия является не менее абстрактной и потусторонней по отношению к реальному миру, чем утопия леворадикальная, ибо никакой практической возможности механически вернуться к прежней культурно-этнической однородности, к традиционным семейным ценностям, предполагающим подчиненное положение женщин, просто не существует. Но для левых либералов само появление нового консерватизма является спасительным обоснованием необходимости продолжения борьбы с новым врагом, ими же самими порожденным.
Основным объектом критики левых оказывается теперь уже не буржуазия, не государственная бюрократия, а «белые мужчины», воплощающие в себе все консервативные и патриархальные ценности. Поскольку буржуазия очень быстро освоила и сама же всячески продвигала политкорректность, то образцовым представителем отсталых «белых мужчин» стали рабочие, не вовлеченные в культурные игры продвинутого среднего класса и не подпадающие под программы позитивной дискриминации, а потому не испытывающие к ним особой симпатии. Это, кстати, очень хорошо понимают марксисты в странах глобального Юга, менее поддающиеся на политкорректные уловки европейских и американских левых либералов. «Ужасно наблюдать, как лидеры левых не желают считаться со страхами и тревогами рабочих людей, именно тех, кто непосредственно связан с производством, — писал индийский марксист Дайан Джайатиллека. — В странах Запада давно уже существует свой собственный третий мир, и это отнюдь не только люди других рас, но и множество обнищавших белых»[29].
В рамках идейной борьбы конца XX в. «белые мужчины» стали образом, идеально подходящим для дискурсивной дискредитации традиционного рабочего движения и подрыва классовой солидарности. На практике примерно половину этих «белых мужчин» составляют женщины, а никак не меньше трети из них — представители совершенно других, небелых рас. Но для либерального дискурса это не имеет значения. Логика объединения ради общих, единых задач и целей изображается в этом дискурсе как попытка «белых мужчин» подчинить себе и дискриминировать меньшинства с их специальными, особыми, частными интересами. То, что эти частные интересы не только ведут к дискриминации большинства, но и порождают войну всех против всех, жертвами которой в конечном счете станут те же меньшинства, не имеет значения. Цель такой политики состоит не в защите меньшинств, а в том, чтобы фрагментировать общество, одновременно предоставляя привилегии либеральной элите, которая управляет перераспределением ресурсов между меньшинствами, превращающимися в ее клиентелы.
Идея преодоления расовых и прочих барьеров, лежащая в основе всякой солидарности, не просто чужда мультикультурализму и политкорректности, она устраняет почву для самого их существования. Ведь мультикультурализм не только воспроизводит всевозможные барьеры, но и прославляет их идеологически, превращая в границы различных идентичностей, которые, в свою очередь, институционализируются и становятся источником специфических прав, претензий или привилегий.
«Меньшее зло»
Любые радикальные перемены сопряжены с риском. Никогда нет гарантии, что по ходу дела положение, которое вы стремитесь улучшить, не станет еще хуже. Но именно поэтому, идеология, требующая отказа от риска, запугивающая нас «еще большим злом», есть именно идеология сохранения существующего порядка, какими бы тактическими мотивами и дискурсивными практиками она ни прикрывалась.
На протяжении четверти века после крушения Советского Союза «выбор меньшего зла» был основным стратегическим принципом левых в Западной Европе и на постсоветском пространстве. Смирившись с собственной слабостью, социалисты, коммунисты, экологи и даже анархисты готовы были либо не участвовать в серьезной политике, либо участвовать, без самостоятельной повестки, делая выбор в пользу «меньшего зла».
Вопрос о том, какое именно из зол является большим, сам по себе представляет изрядную свободу выбора, поскольку окончательный ответ можно было бы дать лишь в том случае, если бы и то и другое зло материализовалось в полном объеме и одновременно, чтобы можно было сравнивать Такое в истории случается очень редко. А потому левые лидеры и активисты получают возможность произвольно определять критерии зла и следовать им.
Поскольку ссылка на приход к власти нацистов в Германии 1933 г. является главным, а по сути — единственным обоснованием «политики меньшего зла», то имеет смысл обратиться к истории Веймарской республики. Общепринятым объяснением успеха Адольфа Гитлера и его национал-социалистической партии является экономический кризис и раскол между социал-демократами и коммунистами, помешавший им выступить в 1932–1933 гг. единым фронтом. Основная вина за раскол привычно возлагается на коммунистов, которые сами это косвенно признали, резко изменив политическую линию в 1934–1936 гг., когда в результате проведенной Коминтерном «работы над ошибками» был выдвинут лозунг Народного фронта. Разумеется, самокритика не была публичной — сталинистская политическая культура не допускала открытого признания ошибок партии, но именно выводы, сделанные из трагического немецкого опыта руководством Коминтерна, легли в основу последующих интерпретаций произошедших событий. При этом остается без ответа самый главный вопрос: каким образом вообще национал-социализм из маргинальной группировки превратился на протяжении 1920-х годов — еще до начала Великой депрессии — в ведущую политическую силу Германии?
Тактические ошибки Коминтерна в 1930–1932 гг. не объясняют общей политической динамики, характерной для немецкого опыта. Между тем именно политика «меньшего зла», проводившаяся социал-демократией на протяжении всего периода Веймарской республики и предполагавшая поддержку «умеренных» буржуазных партий, вела к постепенному подрыву собственного авторитета левых, к превращению их в заложников либеральной демократии и ее кризиса. Социал-демократия постоянно участвовала во всевозможных буржуазных коалициях, как на общенациональном, так и на местном уровне, тем самым беря на себя ответственность за проводимую политику. С началом Великой депрессии это обернулось катастрофической беспомощностью, когда лидеры партии не могли ни отмежеваться от терпящей крах либеральной буржуазии, ни защитить ее от гнева населения. В свою очередь, национал-социалисты, атаковавшие эти порядки справа, превращались в глазах масс в альтернативу обанкротившемуся порядку. В условиях кризиса отказ от радикального выступления против системы «слева» ведет не к стабилизации этой системы, а к тому, что протест консолидируется и мобилизуется «справа».
«Примат политики СДПГ в период кризиса, — писал российский историк А.О. Целищев, — недопущение к власти национал-социалистов, пока национал-социалистическое движение не развалится по причине внутренних противоречий — не только оказался безрезультатным, но и продвигал партию к постоянным компромиссам в рамках политики негласной поддержки кабинета Брюнинга за счет авторитета социал-демократов. Придерживаясь политики “меньшего зла”, социал-демократия не избежала ни меньшего, ни большего зла»[30].
Авторы, говорящие об ответственности коммунистов, которые «предали» социал-демократию в 1932 г., забывают, что именно бескомпромиссность компартии, контрастировавшая с умеренностью социал-демократов, была основной причиной их успехов. Иными словами, если бы КПГ не отмежевалась от политики коалиций, если бы она с самого начала «критически поддерживала» СДПГ и, соответственно, правящих либералов, то она вряд ли смогла бы вырасти и стать той силой, от позиции которой что-либо зависело и которая могла «предать» умеренную социал-демократию. Коммунисты выступили реальной альтернативой нацизму не потому, что последовательно соблюдали принцип умеренности и демонстрировали уважение к буржуазно-демократическим институтам, а наоборот, именно потому, что не делали ни того ни другого. В обществе, где разочарование в порядках буржуазной демократии стало не только широко распространенной, но и совершенно закономерной и справедливой реакцией на кризис и саморазрушение этих институтов, именно такая позиция вела к росту влияния. Альтернативой национал-социализму могла быть не буржуазная умеренность, а именно радикальный разрыв с либеральными приличиями и отказ от поддержки «меньшего зла».
Таким образом, мы имеем дело с двойной подменой: мало того, что происходит произвольный перенос черт специфической ситуации Германии ранних 1930-х годов на совершенно иные политические, общественные и культурные обстоятельства, но и сама эта ситуация интерпретируется односторонне и извращенно.
В конце концов, и социал-демократия и коммунистическое движение в первой половине XX в. опирались на организованный рабочий класс, хоть и на различные его фракции. Они строили свою идеологию на интернационализме, а не на политкорректности. И в противостоянии нацизму выступали именно как носители универсалистской идеологии.
Проблема в том, что не только нынешние правые популисты, включая даже самые реакционные течения, отнюдь не являются повторением классического фашизма в современных условиях, но, что гораздо хуже, нынешние левые никак не являются идейными продолжателями классического социалистического и коммунистического движения XX в. Напротив, в идейном плане они выступают его прямой противоположностью. И если трагедия классических левых начала 1930-х годов состояла в их неспособности объединиться между собой против буржуазии, то комические провалы нынешних левых объясняются их постоянным стремлением не просто примкнуть к той или иной буржуазной фракции, но и быть в неизменной готовности выбрать самую реакционную из них, если только она признает дискурс мультикультурализма.
Речь в данном случае идет не о политике коалиций и даже не о сотрудничестве левых с буржуазными и нелевыми организациями. До тех пор пока существуют политика и классовое общество, компромиссы остаются неизбежным условием успешной тактики. Но тактика должна открывать путь для решения стратегических задач. Чтобы эти задачи решать, можно и нужно создавать коалиции, в том числе и такие, которые ревнителям идеологической чистоты покажутся не совсем правильными. Напротив, политика «выбора меньшего зла» обрекает левых на пассивное следование за стихийно развивающимся процессом, в рамках которого они просто пытаются найти себе место поудобнее. «Зло», большее или меньшее, владеет инициативой, формирует повестку, действует, а нам лишь предоставляется почетная возможность его выбирать и поддерживать.
Идеология политкорректности и мультикультурализма является очень удобным критерием выбора, который осуществляется на основании оценки дискурсивных практик, присущих тому или иному варианту зла. Естественно, буржуазные политики, способные воспроизводить передовой дискурс, являются в этой системе координат куда меньшим злом, чем популисты, пытающиеся мобилизовать трудящихся против либералов, а тем более — сами трудящиеся, не владеющие тонкостями передового дискурса и высказывающие неполиткорректные мысли.
Между тем политика «борьбы с большим злом», проводимая левыми, сама же и является основным источником развития этого зла. Постоянно сдвигаясь вправо, интеллектуалы, движения и партии соответствующим образом смещают вправо и баланс общественной дискуссии, а по ходу дела не только предают свою традиционную социальную базу — «белый» рабочий класс, но объективно не оставляют ему другого выхода, кроме поддержки правого популизма, который, в свою очередь, на уровне повседневной практики начинает объективно выполнять именно те функции, которые прежде выполняли организации левых. В результате правый популизм постоянно усиливается, что становится очередным поводом для того, чтобы левые политики, интеллектуалы и идеологи призвали к еще более тесному сотрудничеству с либеральным «центром» и партиями финансового капитала — во имя борьбы против «большего зла» популизма. Тем самым они еще более подталкивают широкие массы вправо.
Возникает порочный круг. Игнорирование социальных низов левыми на протяжении всех 2000-х годов толкало массы в объятия правых популистов, которые не только не чуждались диалога с массами, но напротив, активно его поддерживали, демонстративно принимая «народное» мнение как свою декларативную идеологию. Предрассудки масс, являющиеся искаженным отражением реальных конфликтов, не только не подвергались критическому переосмыслению, но наоборот, закреплялись. Однако по сравнению с теми, кто вообще отрицал наличие проблем, искаженная интерпретация этих проблем все равно выглядела более убедительной. А главное, откровенная враждебность интеллектуальной элиты по отношению не только к массовым предрассудкам, но и к их носителям, иными словами — к большинству народа, закономерно провоцировала ответные чувства — плебейский гнев и презрение к привилегированным бездельникам. Призыв «любой ценой» остановить правый популизм превратился в основополагающий принцип нерушимого блока левых либералов с либеральной буржуазией, которая из источника проблемы превращалась в «единственное спасение».
Оправдание политики «меньшего зла» состоит в обязательном отождествлении любого национализма и правого популизма (а зачастую вообще любых форм популизма) с фашизмом, иными словами, с «абсолютным злом», что позволяет обосновывать в дальнейшем уже любые, самые беспринципные политические комбинации. При этом абстрактно-идеологическая критика неолиберализма не только не мешает левым выступать его политическими союзниками всякий раз, когда встает вопрос о власти, но и оказывается своего рода идеологическим алиби, позволяющим неуклонно воспроизводить раз за разом одну и ту же практику без малейших угрызений совести.
Политика «меньшего зла» сформировала своеобразный комплекс безнаказанности среди леволиберальной публики. Поскольку носители передового сознания полностью отказываются от самостоятельного действия, то они снимают с себя и всякую ответственность за происходящее. Ведь они только анализируют, комментируют, «занимают позицию», «выражают критическую поддержку», а действуют другие.
По сути, левые выступают носителями радикальной версии либерального морализаторства. У них не столько нет возможности менять мир, сколько нет желания это делать на практике.
Критиковать систему, осуждать ее, отстраняться от нее или занимать в ней определенные ниши, но ни в коем случае не менять ее — вот логика современного левого либерализма. И неслучайно в левых кругах настолько распространены стали позитивные призывы к утопии. Ведь утопия — это не только то, чего нет, но и образ правильного общества, противопоставляемый порочной реальности. Утопическое мышление не предполагает черновой практической работы по текущему переустройству этой реальности, оно обещает все и сразу, но в другое время и в другом месте. Разумеется, в периоды революционного подъема утопические мечтания овладевали массами — начиная со времен древности восставшие рабы, крестьяне и ремесленники пытались реализовать некий утопический проект. Но утопичность общественной программы была отнюдь не сильной стороной этих попыток, напротив, она предопределяла их неминуемый крах. Социальные утопии были вынужденной реакцией на угнетение, когда у народных масс не было ни научного знания, ни своих интеллектуалов, ни развитой теории. Совершенно иной смысл приобретают утопии, пропагандируемые интеллектуалами, прекрасно знакомыми с достижениями новейшей социологии, философии и даже экономической теории. В таком контексте утопическое мышление становится откровенно реакционным, обслуживая исключительно интересы самих же образованных элит, стремящихся найти оправдание своему бездействию и оппортунизму.
Блок либералов и их левых союзников лишь усиливал гегемонию различного рода националистических и популистских сил в низах общества. В сложившихся обстоятельствах единственной реальной альтернативой правому популизму оказывался левый популизм, часто демонстрирующий откровенно «неправильные» черты с точки зрения привычного дискурса интеллектуалов. Однако именно рост левопопулистских движений с предельной яркостью выявляет реакционную сущность леволиберальной элиты, которая испытывает по отношению к ним в лучшем случае неловкость и растерянность, а в худшем случае враждебность.
В итоге альтернативу господствующему дискурсу либерализма, когда на нее возник массовый спрос, первыми сумели предложить не левые, а правые популисты, сила которых состояла как раз в их антиинтеллектуальности. Тем самым они избежали коррупции и соблазнов, ставших органической частью леволиберальной интеллектуальной культуры и соответствующей профессиональной деятельности. Но антиинтеллектуализм, становящийся на исходном этапе борьбы преимуществом правого популизма, одновременно является и его ахиллесовой пятой, поскольку без теории и без развитой политической культуры невозможно ни разрабатывать программы и стратегии, ни формировать условия для долгосрочной идейной гегемонии. Сталкиваясь с этими проблемами, правопопулистские движения обречены либо превращаться в левые, либо эволюционировать, действительно преобразуясь в фашистские организации.
Угроза превращения правого популизма в фашизм в самом деле существует, но она связана не со спецификой дискурса, а с социальной динамикой расщепления и эволюции подобных комплексных и неоднородных движений, которые могут эволюционировать в обоих направлениях — как вправо, так и влево. Однако принципиальная задача неолиберальной стигматизации популизма состоит как раз в попытке блокировать перспективу его антибуржуазной эволюции.
Расслоившееся и дезорганизованное общество закономерно порождает спрос на популистскую политику. И сколько бы воплей ни прозвучало по этому поводу, нарастающий кризис неолиберального порядка лишь усиливает данную динамику. Однако популизм, являясь симптомом кризиса, не способен выработать стратегию его преодоления. Такая стратегическая задача может быть поставлена и решена левыми. Для этого надо раз и навсегда отказаться от утопического мышления и абстрактных «революционных» мечтаний, являющихся оборотной стороной самого беспринципного приспособленчества. Надо не просто преобразовывать общество, но предложить стратегию социально-экономического развития, восстанавливающего его целостность.
II. ЕВРОПА ПРОТИВ ЕВРОСОЮЗА
Весной 2016 г., оценивая растущее отчуждение европейских граждан от институтов «единой Европы», немецкий политолог Хайнц Клегер отмечал, что подобный результат закономерно следует из самой сути интеграционного процесса. Европейский союз, созданный Маастрихтским договором, представляет собой откровенно элитаристский проект, в основе которого лежал переход власти от демократически организованного общества к «отчужденным от граждан служащим, экспертам, технократам»[31]. Совершенно закономерно, что реакцией на такое отчуждение становится рост популистской оппозиции. Привлекательность правых популистских движений не в последнюю очередь объясняется тем, что они сочетают «антиэлитизм и критику Евросоюза»[32].
Пропаганда правого популизма оказывалась эффективна на фоне массового разочарования рядовых граждан, интересы и мнения которых демонстративно игнорировались либеральной элитой, включая и ее левое крыло. Несмотря на то что левая интеллигенция неизменно повторяла критические мантры по поводу неолиберальной политики, проводимой институтами Евросоюза, жаловалась на демонтаж социального государства и бранила «финансиализацию» экономики, каждый раз, когда нужно было реально выбирать между раздраженной плебейской массой и буржуазной элитой, выбор закономерно и логично делался в пользу последней. Низы населения, недостаточно культурные, склонные к националистическим предрассудкам, мало интересующиеся тонкостями постмодернистской философии и новейшими трендами постструктуралистского постмарксизма, не вызывали у интеллигенции ни понимания, ни симпатии, ни тем более желания идти им навстречу и учитывать их мнение.
Разумеется, общая риторика относительно социальных интересов и угнетения масс оставалась необходимым элементом идеологического меню, ритуального словаря левых политиков и интеллектуалов, но отнюдь не практическая работа по защите конкретных интересов, и уж тем более не диалог с массами. Если низы общества оказались недостаточно политкорректны и не готовы воспринимать соответствующий дискурс, то тем хуже для них. В лучшем случае интеллектуалы были готовы признать, что неправильные взгляды трудящихся происходят из их недостаточной просвещенности или порождены общей разрушительной логикой неолиберализма, но, даже заявляя это, представители «левой культуры» категорически отказывались заниматься повседневным практическим просвещением на низовом уровне, становясь органической частью этой самой массы, как это делали предыдущие поколения социалистов, марксистов и анархистов. И уж тем более недопустимо было даже задумываться о том, что предрассудки масс вытекают из их повседневного опыта, являясь отражением реальных проблем, пусть даже и искаженным. Тот факт, что предрассудки отражают ситуацию неадекватно, отнюдь не означает, будто данный опыт сам по себе не имеет объективного значения. Но левые интеллектуалы отрицали само наличие соответствующего опыта, само существование объективной реальности, конфликтов и проблем, являющихся источником определенных представлений и взглядов.
Результатом такого образа мысли стала целая череда неудач, когда левые умудрялись обращать в политическую катастрофу даже процессы, которые явно играли им на руку. Отсутствие доверия к массам оборачивалось параличом воли и неспособностью выработать стратегию борьбы, неготовностью к решительным действиям, неминуемо подразумевающим изрядную долю риска, но дающим реальный шанс на изменение ситуации. Стремление во что бы то ни стало действовать исключительно в рамках существующих институтов оказывалось прямо пропорционально росту общественного недоверия к этим институтам и нарастающему потенциалу народного восстания против них.
Умеренность, пугливость и нерешительность левых, однако, ничуть не предотвратила кризиса проекта «единой Европы», как и других структур, порожденных тремя десятилетиями неолиберализма. Поведение левых лишь усугубило этот кризис.
Комфортабельная катастрофа партии СИРИЗА
Одной из первых стран Западной Европы, где финансовый и экономический кризис принял масштабы катастрофы, оказалась Греция. Проблема греческого долга будоражила всю Европу по крайней мере с 2010 г. Все начиналось с относительно умеренных сумм, исчисляемых в 15–20 млрд евро, хотя на тот момент и эти долги казались для страны неподъемными. Вместо того чтобы просто списать долг, «тройка» представителей кредиторов в составе Еврокомиссии, Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) предложила стране программу финансовой помощи в обмен на проведение «неотложных реформ». Результаты этой программы говорят сами за себя: экономика Греции сократилась на 27 %, а долг вырос до 320 млрд, несмотря на частичное списание[33]. Таким образом, долг с первоначальных 60 % ВВП достиг 175 %. При этом ни «тройка», ни сменявшие друг друга греческие правительства не признавали очевидного провала. «Тройка» не только настаивала на продолжении и даже радикализации откровенно бессмысленных действий, но и предлагала лечить по греческому сценарию другие экономики еврозоны, испытывавшие схожие трудности — Италию, Испанию, Португалию.
Греции снова и снова навязывались ужасные и унизительные условия соглашения с кредиторами, но эти соглашения не решали проблему, а усугубляли ее. Страна все глубже погружалась в долговой кризис, а сумма долга росла — и в абсолютном выражении, и по отношению к сокращающейся под влиянием кризиса экономике. Поэтому любое новое соглашение с полной предсказуемостью предполагало возникновение нового кризиса через несколько месяцев. Причем каждый раз еще более разрушительного.
Тем не менее действия «тройки» кажутся куда менее абсурдными, если принять во внимание, что миллиарды евро, направленные на спасение Греции, до этой злосчастной страны не доходили, а оседали в немецких и французских банках. Иными словами, под предлогом обслуживания греческого долга была создана грандиозная финансовая пирамида. Реструктурирование долга постоянно увеличивало его, как и прибыли финансовых учреждений. Часть денег, поступавших в банки, непосредственно выкачивалась из Греции, а другая часть шла из карманов западноевропейских налогоплательщиков. Решения, принимавшиеся фактически в Берлине и Брюсселе при одобрении Парижа, вынуждены были оплачивать и граждане других стран еврозоны, включая Испанию и Италию, равно как и совершенно не имеющих отношения к этой истории Австрию или Финляндию. По сути дела, благодаря греческому кризису был создан общеевропейский насос по перекачке государственных средств в частные руки, обслуживавший потребности накопления немецко-французского финансового капитала. А недовольные подобным положением дел налогоплательщики стран европейского севера винили в происходящем «ленивых греков» или собственные правительства, но никак не свои банки и корпорации, являвшиеся реальными получателями выгод от программ помощи.
В самой Греции понимание масштабов и причин кризиса наступило значительно раньше, чем в других странах. Поскольку организации традиционных левых (компартия и социал-демократы из партии ПАСОК) оказались недееспособными, надежды населения все больше связывались с новым политическим проектом, коалицией радикальных левых СИ РИЗА.
В 2015 г., победив на парламентских выборах, СИ РИЗА сформировала правительство, во главе которого стал молодой и популярный политик Алексис Ципрас. Экономический блок правительства возглавил известный экономист Янис Варуфакис, сделавший академическую карьеру в английских и американских университетах. У граждан Греции возникла надежда, что нескончаемая череда больших и маленьких экономических, социальных и моральных катастроф, через которую страна идет начиная с 2008 г., наконец прекратится. И если не станет лучше, то хотя бы дела пойдут по-другому.
СИРИЗА была избрана с четким мандатом прекратить политику «жесткой экономии», приватизации и коммерциализации общественного сектора, а главное, вернуть грекам уважение к себе за счет принципиального и жесткого ведения переговоров с кредиторами, которые в последние годы вели себя по отношению к стране как оккупационная администрация. Однако первые же соглашения нового греческого правительства с кредиторами обнаружили, что на практике все получается совершенно иначе. Представители Афин делали грозные заявления, после чего с минимальными поправками подписывали очередное соглашение, продиктованное кредиторами. Отчасти это было вызвано противоречиями самого же мандата, полученного Ципрасом и его товарищами. Да, они обещали покончить с «жесткой экономией», убивающей производство и спрос. Но они же обещали и сохранить страну в зоне евро и в Европейском союзе, подчеркивая, что надо избежать дефолта по внешним долгам. Данное противоречие вовсе не было порождено одной лишь идейной непоследовательностью левых политиков. Оно отражало противоречивость массового сознания самого греческого общества, стремившегося освободиться от долговой кабалы, но опасавшегося за свои сбережения. Пока у значительной части греков оставались хоть какие-то средства, накопленные в евро, людей парализовал страх перед потерей или обесцениванием денег. Одно дело выходить на митинги, требуя, чтобы кредиторы уважали страну, и совершенно другое — быть сегодня готовым к определенным жертвам во имя сохранения достоинства и риску ради права самим определять свое будущее.
Однако отказ поставить вопрос о выходе страны из еврозоны изначально отдавал греков на милость кредиторов. Противоречие должно было так или иначе разрешиться. Рано или поздно требовалось сделать выбор.
Осуществить обещанный СИРИЗА перезапуск экономики без отказа от жестких правил Европейского центрального банка и добиться быстрого повышения конкурентоспособности, не понизив обменный курс валюты, оказывалось просто технически невозможно. Поскольку же было заранее ясно, что Европейский центральный банк не согласится резко понизить курс евро исключительно ради спасения Греции, без выхода из еврозоны и возвращения к драхме технически не оставалось ни малейшего шанса на благополучный исход дела. Если бы правительство действительно ставило перед собой цель преодолеть последствия политики жесткой экономии, единственный реальный вопрос состоял в том, будет ли этот выход организованным, спланированным и подготовленным или станет хаотическим и катастрофическим[34]. Ситуация во многом напоминала то, что пережила Аргентина в 2001 г., когда после дефолта национальную валюту песо пришлось отвязать от доллара, чтобы перезапустить экономический рост.
Однако этот единственный реалистический сценарий как раз и запрещено было обсуждать в правительственных кругах, поскольку он предполагал жесткую конфронтацию со структурами Европейского союза. Греческое правительство таким образом оказывалось в положении врача, который обязуется лечить рак, не посягая на «законные интересы» опухоли и не препятствуя ее росту. Правительство Ципраса, стараясь на словах удовлетворить всех, загоняло само себя в ловушку.
Не имея решимости открыто сказать «нет» лидерам Евросоюза, Алексис Ципрас и его министр финансов Янис Варуфакис не могли не понимать, что и согласие с «тройкой» грозит обернуться для них катастрофой: всего за два года до того на их глазах мощная социал-демократическая партия ПАСОК из ведущей политической силы страны превратилась в аутсайдера после такой же точно капитуляции. Ципрас пытался маневрировать, стараясь угодить всем: успокаивал кредиторов, потакал мелкобуржуазным иллюзиям избирателей, произносил радикальные речи перед собраниями левых активистов. Одновременно правительство Ципраса на практике пыталось саботировать некоторые из соглашений, подписываемых с «тройкой», особенно если речь шла о подписях, поставленных прежними правительствами. Но об открытом отказе от исполнения или о расторжении этих договоренностей даже заикнуться не решалось. Замечательным примером дипломатических технологий греческого правительства стала его позиция по вопросу о санкциях против России. Греция в соответствии с правилами Евросоюза могла эти санкции летом 2015 г. просто заблокировать. Именно этого требовали и члены самой партии СИРИЗА, солидарно голосовавшие в Европарламенте против антироссийских резолюций. Но в самый разгар очередных переговоров между «тройкой» и греками, когда сам Ципрас находился в Петербурге, разъясняя российским коллегам перспективы развития особых отношений с Афинами, его представители в Евросоюзе поддержали санкции. Затем, выйдя к публике, греческие дипломаты сообщили, что они как львы сражались за интересы России, и только благодаря их принципиальности и настойчивости санкции были продлены всего на полгода, вместо 12 месяцев, как настаивали немцы. Естественно, полгода спустя санкции были продлены вновь, с согласия греков.
Соглашательскую политику Ципраса можно отчасти объяснить стремлением выиграть время в ожидании выборов в Испании, где серьезные шансы на успех имела левая коалиция, возглавляемая партией Подемос, политическим близнецом СИРИЗА. Учитывая то, что Испания, с одной стороны, является куда более сильной экономикой и куда более влиятельной страной, нежели Греция, а с другой стороны, переживает очень похожий кризис, хоть и с меньшей остротой, приход Подемос к власти позволил бы вывести Афины из международной изоляции. Тем более, что известные шансы имелись и у Левого блока в Португалии. Иными словами, появлялся шанс на создание международной коалиции средиземноморских стран, совместно противостоящих Берлину и Брюсселю. Однако собственные действия Ципраса, его слабость ставили под вопрос доверие к левой альтернативе среди испанской и португальской публики, тем самым ослабляя надежды на успех левых.
Тем не менее в европейской левой среде сохранялось сочувствие к СИРИЗА как партии, находящейся в крайне тяжелых условиях. В конце концов, на фоне многолетних поражений левых сил в Европе первоначальные успехи Ципраса вселяли надежду, с которой не хотелось расставаться. Принцип Ципраса — произносить радикальные речи и затем сдаваться превосходящим силам неприятеля, казалось, себя оправдывал. Не только в Европе, но и в Греции популярность его правительства росла. Премьер-министра не только не осуждали, а наоборот, жалели как заложника вампиров, в борьбе с которыми он раз за разом оказывался бессилен.
Увы, если можно было таким способом заморочить голову левым активистам и провинциальным мелким буржуа, то финансовые корпорации на подобные уловки не поддавались. Саботаж вызывал оправданное возмущение кредиторов, постоянно усиливавших давление. Соглашения, подписанные греками с кредиторами после прихода к власти партии СИРИЗА, были не лучше тех, что подписывали предыдущие правительства, и привели к тем же результатам.
В июне, когда подошел очередной срок платежей, выяснилось, что денег в бюджете нет.
Необходимо было очередное реструктурирование долга, а в обмен «тройка» требовала принять новый пакет реформ, на фоне которого все предыдущие меры «жесткой экономии» казались просто легкой разминкой. Надо было одновременно резать зарплаты и пенсии, поднимать налоги и лишать льгот туристический бизнес, который в условиях разгрома промышленности и упадка сельского хозяйства оставался единственным относительно стабильным сектором экономики. Страна неминуемо должна была погрузиться в новый виток рецессии. Для СИРИЗА это означало бы не только отказ от всех ее предвыборных обещаний, но и публичное унижение и очевидную перспективу провала на ближайших выборах. Чего, собственно, и добивались кредиторы.
22 июня Греция фактически капитулировала. Правительство согласилось обеспечить большие доходы от НДС — 0,93 % ВВП, ввести повышенные налоги на судоходные компании (иными словами, сделать более дорогими переезды между греческими островами и континентом). Обещано было и сокращение пенсионных выплат, хотя в Афинах просили разрешить им произвести соответствующие изменения не сразу, а постепенно.
Единственное, на чем настаивали греческие переговорщики ради спасения лица, эго не доводить НДС до 1 % ВВП. Иными словами, речь шла всего о 0,7 %. Греческая сторона согласилась также, чтобы налог на компании взимался по ставке в 28 % вместо 29 %, что было ее первоначальным предложением «тройке». Кроме того, греки просили разрешить им сохранить в прежнем объеме расходы на оборону, что, кстати, соответствовало общим требованиям блока НАТО, в котором состоит Греция.
Казалось бы, игра была закончена. Мировая финансовая пресса торжествовала. Акции на биржах пошли в рост. В Афинах даже прошла демонстрация правых партий в поддержку кредиторов! Хорошо одетые господа собрались на центральной площади Синтагма с требованием понизить выплаты пенсионерам. Правда, собралось их немного, примерно полторы тысячи, однако телевидение сумело показать картинку настолько впечатляющую, что могло показаться, будто греки массово становятся мазохистами.
Но тут произошло неожиданное. Представители Германии заявили, что недовольны тем, с какой скоростью Еврокомиссия приветствовала новые предложения Афин. Под давлением Берлина предложения Ципраса были отвергнуты. Греки сдались, но выяснилось, что немцы не берут пленных.
Еврократы не только не согласились даже на символические уступки, необходимые Ципрасу и Варуфакису для спасения лица, но и начали выдвигать новые требования. Припертое к стене греческое правительство вдруг проявило решимость отчаяния. Алексис Ципрас выступил перед народом с яркой речью и объявил референдум. Греки сами должны определиться: соглашаться или нет на требования кредиторов. Нечто подобное собирался сделать и последний премьер-министр от партии ПАСОК Георгиос Папандреу, но под давлением кредиторов он от своего плана отказался, после чего потерял и репутацию, и пост премьера, и даже руководящее положение в собственной партии. Зная судьбу своего предшественника, Ципрас проявил неожиданную решимость. Тем более, что еще до того, как еврократы отвергли предложенный им компромисс, начался бунт в рядах партии СИРИЗА. Стало понятно: если соглашение с «тройкой» и пройдет через парламент, то исключительно голосами правых.
Правительство объявило референдум.
Депутаты от консервативной партии «Новая демократия» пытались сорвать голосование, но в конце концов все же вернулись в зал заседаний, и решение было принято. 5 июля греки должны были решить, соглашаться ли на условия кредиторов. «Тройка» расценила использование греками демократической процедуры как отказ от соглашения, прервала переговоры и заявила о приостановлении «помощи» Греции с 30 июня Это означало, что независимо от исхода референдума 1 июля технический дефолт оказывался неизбежен. Шансы сторонников «жесткой экономии» на победу в референдуме, и без того призрачные, теперь свелись к нулю.
Голосование, объявленное Ципрасом, резко меняло психологическую обстановку не только в Афинах, но и по всей Европе. Добровольно или вынужденно, но СИРИЗА подняла знамя сопротивления. Итог референдума оказался вполне однозначным: 61,31 % голосов были отданы за то, чтобы отвергнуть требования «тройки» кредиторов. Перевес сторонников «Нет» был очевиден. Они не только получили поддержку подавляющего большинства населения в целом по стране, но и победили в каждой провинции. На территории Греции не нашлось ни одного региона, в котором бы верх взяли защитники политики Европейского союза.
Конечно, Европейский союз всегда проигрывал референдумы, даже в таких странах, как Франция и Голландия, где разрушительные последствия его политики не были столь очевидны. В 2005 г. население этих стран провалило предложенный брюссельскими бюрократами проект Европейской конституции, превращавший экономические принципы неолиберализма в институциональную норму, придавая им силу необратимого закона. Тогда правящие классы Евросоюза итоги референдума проигнорировали, проведя те же решения по другой процедуре, не в виде конституции, а в форме Лиссабонского договора. На сей раз лидеры Евросоюза сами превратили референдум по вопросу о том, согласны ли греки с условиями, выдвинутыми кредиторами (т. е. с продолжением политики «жесткой экономии»), в вотум доверия к институтам ЕС. И получили результат — явное, полное, общее недоверие.
Мощная пропагандистская машина, отстроенная на протяжении трех десятилетий, дала явный сбой. За голосование в пользу «Да» агитировали все ведущие массмедиа континента, причем откровенно жертвуя своей репутацией, нарушая все правила журналистской добросовестности и объективности. Такую же кампанию вели греческая пресса и частное телевидение, опять же нарушая не только этические нормы журналистики, но даже и законы страны (в субботу перед голосованием, в «день тишины» эфир был полон агитацией сторонников ЕС). Малочисленные акции «за Европу» показывали под разными ракурсами, стараясь представить как можно более массовыми, а многотысячные марши с плакатами «Охи» («Нет») порой вообще не показывали. Исключением являлось греческое государственное телевидение, ранее закрытое ради экономии средств, но возрожденное правительством Алексиса Ципраса. Но и оно не вело агитацию за «Нет», а просто более или менее адекватно информировало публику о происходящем.
Урок греческого референдума очевиден: пропаганда не всесильна. Перевес сторонников «Нет» был не просто очевидным, но и постоянным фактором на протяжении всей кампании. И тем не менее в ходе всей кампании, предшествовавшей референдуму, была заметна неуверенность и слабость агитации правительства Ципраса. СИРИЗА почти ничего не делала для мобилизации своих сторонников, демонстрации были в значительной мере стихийными или организовывались партийными активистами на низовом уровне.
Мандат, который получило на выборах правительство Ципраса, был достаточным для того, чтобы отказать «тройке», не прибегая к референдуму. Но если уж вопрос был поставлен на голосование, требовалось активно разъяснять ситуацию, находить аргументы, мотаться по стране, разговаривая с людьми. Вместо этого мы слышали невнятное мычание, обещания уйти в отставку в случае, если народ проголосует за «Да», заявления о предстоящих переговорах с кредиторами и готовности к новым уступкам по отношению к Брюсселю и Берлину. Трудно представить себе поведение более деморализующее и демотивирующее. Некоторые даже подозревали, что правительство стремится проиграть. Однако скорее всего «хитрый план Ципраса» состоял в том, чтобы получить для сторонников «Нет» маргинальный перевес в 1–2 %.
Руководство СИРИЗА было достаточно хорошо информировано и не сомневалось в итоговой победе «Нет» на референдуме, но стремилось сделать так, чтобы эта победа стала не более яркой и очевидной, а наоборот, была бы как можно менее убедительной. Такой исход дела открывал бы Ципрасу и его окружению максимально широкое поле для маневра. С одной стороны, они оставались бы у власти и подтвердили бы свою легитимность (в том числе и перед «тройкой»), а с другой стороны, ссылаясь на мнение «другой половины греков», могли бы идти на масштабные уступки Евросоюзу. Увы, этот хитрый план, как и все подобные планы, был обречен на провал — общество реагировало не на действия власти, а на объективную ситуацию. В итоге Ципрас, который пытался использовать референдум для дальнейших политических маневров и комбинаций, стал заложником однозначного и бескомпромиссного решения общества. Греция сказала «Охи». Слишком громко и ясно, чтобы можно было этот результат игнорировать.
И тем не менее случилось именно то, что противоречило всем правилам демократии, политической этики и логики. Сразу же после референдума правительство Греции капитулировало перед кредиторами.
Накануне решающего голосования в парламенте Алексис Ципрас выступил перед народом, объявив, что бессмысленно сопротивляться превосходящей силе. По отношению к критикам из рядов своей собственной партии он проявил жесткость, которой и в помине не демонстрировал при переговорах с кредиторами, навязавшими стране разорительное соглашение.
В истории левого движения было много предательств. Но вряд ли найдется хотя бы один случай столь же позорный и гротескный, как предательство Алексиса Ципраса, который сам организовал референдум, сам призвал граждан сказать «Нет» требованиям кредиторов, и сам же на следующий день после победы отказался решение народа выполнять, а на переговорах с кредиторами принял условия многократно более тяжелые и разрушительные для страны, чем предлагались вначале.
Быстрота, с которой Ципрас сменил свои позиции на прямо противоположные, буквально потрясает. Если бы Фемистокл в 480 г. до н. э. перед лицом персидского нашествия рассуждал так же как Ципрас, то европейская цивилизация, которую мы сейчас знаем, скорее всего просто не смогла бы появиться на свет. Однако капитуляция Ципраса предопределена была не только его трусостью и беспринципностью и даже не только предшествовавшим поведением его правительства, совершенно не настроенного бороться всерьез, но и всей логикой политического мышления радикальных левых в начале XXI в. Сам факт, что такие люди, как Ципрас, оказались на руководящих постах в одной из наиболее успешных и динамичных партий Европы, говорит о многом, отражая глубочайшую культурную и нравственную деградацию не только левых, но и общества в целом.
Итоговый «компромисс», принятый на встрече Ципраса с коллегами по еврозоне, не только оказался хуже первоначальных предложений, которые правительство Греции отвергло, но и представлял собой набор мер жесткой экономии многократно худший, чем то, что приняли предшествовавшие буржуазные правительства. На первичных переговорах министр финансов Янис Варуфакис совершенно справедливо доказывал, что принимать подобные условия не только преступно, но и глупо. Мало того, что меры были крайне болезненными, ни одной проблемы они не решали, а лишь усугубляли их. Упорство аналитика Варуфакиса было преодолено простейшим образом — его отправили в отставку, как только выяснилось, что подавляющее большинство греческого народа думает так же, как и он.
Впрочем, не надо думать, будто Варуфакис был так уж склонен бороться за интересы рядовых греков. Уже после отставки он опубликовал статью, где, ссылаясь на опыт лейбористов в Англии, доказывал бесполезность попыток предложить альтернативу неолиберальному курсу. «Чего достигли мы в Британии в начале 1980-х, когда выдвигали программу социалистических преобразований, в то время как британское общество тем временем оказалось в ловушке неолиберализма, расставленной миссис Тэтчер? Ничего! Чего можно добиться сегодня, призывая разрушить еврозону или даже сам Европейский союз?»[35]
Только умеренные и осторожные реформы в рамках сложившихся институтов и по возможности — с согласия правящего класса и его политических лидеров могли бы, по мнению греческого экономиста, принести улучшение ситуации. Чего Варуфакис не понимал (или, вернее, упорно делал вид, будто не понимал), это принципиальной разницы между ситуацией начала 1980-х годов и Великим кризисом, разразившимся после 2008 г. В конце XX в. неолиберализм был на подъеме, имея возможность мобилизовать для своего политического и социального торжества многочисленные ресурсы, не только экономического, технологического и политического характера, но и культурно-психологический перевес, обеспеченный застоем и последующим упадком стран «коммунистического лагеря». Напротив, кризис XXI в. был предопределен именно исчерпанием этих ресурсов и возможностей. Система начала разрушаться в силу совершенно объективных причин. С середины 2010-х годов ее разрушение все больше приобретает характер естественного процесса, который будет развиваться независимо от того, собирается г-н Варуфакис бороться с неолиберализмом или нет.
Однако разрушение неолиберального порядка отнюдь не равнозначно торжеству левой, демократической или вообще какой-либо осмысленной альтернативы. Именно поэтому радикальная стратегия оказывается не просто возможна, но жизненно необходима: в противном случае распад неолиберальной системы влечет за собой разрушение условий для устойчивого воспроизводства общества и цивилизации как таковых — что и наблюдалось в Греции на фоне мер жесткой экономии, проводимой правительством Ципраса.
Варуфакис пытался умерить аппетиты кредиторов и найти взаимоприемлемый компромисс между общественным организмом и раковой опухолью. Итогом могло быть лишь менее катастрофическое и более медленное течение болезни — в самом лучшем случае. Но и эта позиция была отвергнута. Причем не только и не столько кредиторами, сколько руководством правящей левой партии.
С уходом Варуфакиса греческое правительство утратило как остатки совести, так и последние признаки здравого смысла Циирас продавил через парламент капитуляцию перед Евросоюзом, опираясь на голоса правых буржуазных партий, воюя против своих недавних сторонников, против тех, кто привел его к власти и поддерживал все эти месяцы. Между тем цена вопроса, которая составляла на 27 июля менее 10 млрд долл., уже выросла до 90 млрд, увеличившись в 9 раз. Парадоксальным образом, если бы правительство сдалось сразу и не изображало попыток сопротивляться, положение страны было бы менее плачевным.
Единственной партией, выступавшей в афинском парламенте последовательно и решительно против капитуляции, оказалась неофашистская «Золотая заря». Тем самым повторялись трагические сюжеты европейской истории 1930-х годов: Гитлер пришел к власти в Германии не потому, что был безответственным демагогом, а потому, что готов был ставить и своими методами решать объективно стоявшие перед страной вопросы (репарация, Рейнская область), которые ни одна из демократических партий (включая социал-демократов) не готова была даже поднимать.
Проведя через парламент решение о капитуляции перед кредиторами, правительство Ципраса развернуло гонения на своих оппонентов из числа левых. Главной мишенью оказались недавние сторонники премьера, все те, кто еще несколько месяцев назад помог ему прийти к власти. Поскольку Центральный комитет партии СИРИЗА и даже ее Исполнительное бюро проголосовали против соглашения, руководящие органы перестали созываться, требование чрезвычайного съезда, поддержанное большинством ЦК, было проигнорировано. В конечном счете Ципрас согласился собрать партийную конференцию, но лишь в сентябре, когда все вопросы с кредиторами будут уже согласованы, а очередной пакет мер жесткой экономии реализован. Низовые ячейки партии, настроенные по отношению к правительству еще более негативно, чем члены ЦК, оказались фактически парализованы. По существу, партия была разгромлена. Ципрас правил от ее имени, но безо всякой связи с ней, не удосуживаясь даже продавливать свою линию через бюрократический аппарат. Его парламентское большинство теперь было прочно гарантировано голосами депутатов от правых партий, отвергнутых греками на предыдущих выборах и на референдуме.
Не имея политической поддержки собственных недавних сторонников и полностью зависящий от презирающих его правых, Алексис Ципрас остался на своем посту только потому, что правящим элитам было выгодно, чтобы политику разрушения греческого общества осуществил именно левый премьер. Разгром экономики должен быть дополнен деморализацией и политическим банкротством левых сил.
Итоги политического переворота, совершенного Ципрасом и его ближайшим окружением, были закреплены парламентскими выборами 20 сентября 2015 г. В ходе этих выборов премьеру удалось не только психологически сломать свой народ, но и политически уничтожить греческих левых. Иными словами, он сумел достичь того, чего не добились ни немецкие оккупанты в годы Второй мировой войны, ни Уинстон Черчилль в 1944–1945 гг., ни «черные полковники», ни сменявшие друг друга правые правительства — демократические и не очень. Последствия этого греческая демократия обречена будет испытывать на протяжении десятилетий, поскольку рассчитывать на эффективную работу государственных и даже общественных институтов в такой ситуации не приходится. По сути, страну поразил коллективный паралич воли, блокирующий успешное проведение любой политики, включая даже неолиберальную.
СИРИЗА достигла успеха на фоне массового неучастия греков в голосовании. Особенно это сказалось на электорате самого же Ципраса, значительная часть которого не пошла к урнам, но не захотела отдавать свои голоса другим партиям. В результате, несмотря на потерю примерно 320 тыс. голосов, «обновленная» СИРИЗА Ципраса смогла все же сохранить позиции крупнейшей парламентской партии и вновь возглавить правительство. Как отмечал французский политолог Батист Дерикбур (Baptiste Dericquebourg), СИРИЗА, пришедшая к власти как сила, которая дает надежду на лучшее будущее, «превратилась в наименьшее зло, гарантировав, что к власти не вернутся старые ненавистные лидеры»[36]. Однако это облегчение было сугубо временным, поскольку чем дольше партия Ципраса находилась у власти, тем больше она сама провоцировала раздражение и ненависть граждан своими действиями.
Сторонники первоначальной политики СИРИЗА выступали на сей раз против собственной партии под именем «Народного единства». Не имея ни времени, ни ресурсов, чтобы организовать эффективную кампанию, растерянные и деморализованные, они потерпели сокрушительное поражение. Победа неолиберализма оказалась полной и всесторонней. Результаты летнего референдума, когда страна сказала «Нет» требованиям кредиторов, оказались перечеркнуты сентябрьскими выборами. И в дальнейшем, сколько бы левые ни ссылались на волеизъявление народа, это оказывалось в изменившейся ситуации не более чем сотрясением воздуха. Как, впрочем, и любые разговоры о народном суверенитете, правах граждан и соблюдении конституции. Парижская «Le Monde» торжествующе суммировала итоги голосования: «Греки приняли (valident) политику реформ и жесткой экономии, проводимую Ципрасом»[37].
Президент Франции социалист Франсуа Олланд и его премьер Мануэль Вальс не скрывали, что результаты выборов в Греции стали дополнительным аргументом в пользу проводимой ими неолиберальной политики. Это была победа таких левых, которые «имеют смелость принять реальность»[38]. Иными словами, отказаться от попыток проводить левую политику.
«Реалистические» левые доказали Евросоюзу и финансовому капиталу свою лояльность, продемонстрировали, что в деле разгрома социального государства и подавления сопротивления трудящихся они могут не только сравниться с правыми, но и превзойти их. Аппаратчики из СИРИЗА, в свою очередь, ликовали по поводу поражения «Народного единства», посмевшего выступить против соглашения с кредиторами в защиту результатов референдума: «Теперь недовольные дважды подумают, прежде чем протестовать»[39].
Поражение «Народного единства» и в самом деле более чем симптоматично. Разумеется, можно ссылаться на нехватку времени для строительства новой партии (на что изначально рассчитывал Ципрас), можно перечислять многочисленные ошибки, совершенные лидерами оппозиции. Можно указывать на двойственность настроений самого греческого населения, которое, мечтая освободиться от долговой кабалы, по-прежнему надеялось остаться в зоне евро, не решаясь признать, что одно с другим несовместимо. Но все эти аргументы помогают объяснить не само поражение «Народного единства», а лишь его катастрофические масштабы.
Принципиально важно то, что «Народное единство» всего лишь выступало в защиту программы, с которой большинство греков привели партию СИРИЗА к власти всего за восемь месяцев до того, и требовало соблюдать решение референдума. Увы, с тех пор ситуация изменилась: именно признание народом собственного бессилия предопределило поражение левой коалиции. Вопрос состоял в том, как вернуть народу веру в себя. Это был вопрос скорее культурно-психологический и этический. И ответов на него у политиков из «Народного единства» не было.
Что касается компартии Греции, которая и во время референдума, и после него фактически игнорировала основные вопросы дискуссии, то занятая партией сектантская позиция окончательно загнала ее в гетто, не только электоральное, но прежде всего политическое. Того, кому нечего сказать, не будут слушать.
В условиях, когда практически все прошедшие в парламент партии либо одобряли соглашение с «тройкой», либо делали вид, будто их это не касается, единственной партией в парламенте, говорящей от имени большинства, проголосовавшего за «Нет» на референдуме, оказалась крайне правая «Золотая заря», превратившаяся в третью но величине партию Греции. А опыт СИРИЗА показывает, как легко оппозиция в условиях институционального кризиса может подняться с третьего места на первое.
Последствием сентябрьских выборов в Греции неминуемо оказалась деградация демократии в стране, которая считает себя ее исторической родиной.
И все же почему греки, решившиеся пойти голосовать, допустили сохранение Ципраса и его клевретов у власти? Почему СИРИЗА, лишившаяся практически всего своего низового актива, вынесшего на своих плечах напряжение январской избирательной кампании, на сей раз вообще не нуждалась ни в членах партии, ни в сторонниках, ни даже в народной симпатии для победы на выборах? Ответ прост: деморализованное и потерявшее веру в себя общество смирилось с пыткой, надеясь выбрать себе более гуманного палача, который, мучая их, хотя бы не будет испытывать садистское удовольствие. Но и тут они ошибались. В исполнении Ципраса жесткая экономия, приватизация и другие антисоциальные и антинациональные меры оказались не только не менее болезненным, но, напротив, сделались предельно жесткими, поскольку выполнять их взялись люди, утратившие остатки совести и собственного достоинства, не имеющие никаких, даже консервативных, принципов, никакой, даже буржуазной, морали.
Прямым и закономерным следствием греческой катастрофы оказалась неудача ее испанского аналога, партии Подемос, популярность которой после 2015 г. начала заметно падать. Если за год до того лидера Подемос Пабло Иглесиаса воспринимали как без пяти минут премьер-министра Испании, то в 2015–2016 гг. партия не только начала терять голоса, но и погрузилась в жесточайший внутренний кризис.
Последствия греческой катастрофы для остальных европейских стран и для их левого движения будут сказываться еще некоторое время — ровно столько, сколько потребуется для осмысления греческих уроков активистами и политиками в других странах. Уроки эти, в сущности, очень просты. Во-первых, не может быть никакого компромисса и никакого примирения с политической элитой Евросоюза и с его неолиберальными институтами, а люди, пытающиеся отстаивать эту политику с левых позиций, обещая откровенно иллюзорные перспективы позитивного преобразования данных структур в неопределенном будущем, являются отнюдь не наивными утопистами, а вполне сознательными и опасными врагами. Во-вторых, разрыв с этой публикой должен быть вполне последовательным и вполне «ленинским», непримиримым и необратимым. И дело тут не в порочности компромиссов вообще, а в невозможности компромисса при данных конкретных обстоятельствах, в условиях системного кризиса.
В Греции был поставлен очень важный и значимый политический эксперимент. Партия, воплощавшая надежды, представления и подходы, доминировавшие среди европейских левых, пришла к власти, получив возможность не просто рассуждать о множестве прекрасных альтернатив суровым будням неолиберализма, но попытаться воплотить в жизнь хоть что-то из этих идей. Увы, эксперимент не просто провалился, а дал вполне убедительные и наглядные результаты.
В качестве партии, мобилизующей общественное недовольство, СИРИЗА оказалась вполне эффективным и надежным инструментом. Но объединив активистов и общество в борьбе за смену власти, она продемонстрировала совершенную беспомощность, как только сама стала властью. С первого же дня выяснилось, что новое правительство не имело ни стратегии, ни реалистичной программы. Оно было способно только на то, чтобы, произнося радикальные фразы, направлять умеренные просьбы своим политическим противникам. Все надежды радикальных левых сводились к использованию тех самых европейских институтов, которые разоблачала их же собственная предвыборная пропаганда. Выяснилось, что эти люди не просто не умеют бороться, находясь во власти (и используя инструменты власти), но и вообще не понимают смысла этой борьбы.
Итоги сентябрьских выборов 2015 г. в Греции оказались значимыми не только для этой страны. «Успех» Ципраса отнюдь не способствовал преодолению кризиса в европейском и греческом левом движении, но стимулировал его дальнейшую деградацию. Ципрас убедительно показал, что предательство и беспринципность — единственное, что срабатывает, единственное, что пока у левых получается хорошо и приносит хотя бы тактический успех. Это был пример, которому с энтузиазмом готовы были последовать многие. Напротив, «Народное единство» продемонстрировало, что принципиальность, честность и верность собственным обещаниям — верный путь к неудаче. Результат этот достигнут был общими силами лидеров СИРИЗА и их идейных оппонентов, не пожелавших стать предателями, но так и не ставших политиками.
Как и большинство современных левых, СИРИЗА не отказывалась от принципов классовой солидарности публично. Но эти принципы не имели никакого отношения к практической деятельности, к процессу принятия решений. Классовая риторика давно заменила классовую политику.
Власть обязывает. Нужны четкие приоритеты, однозначные решения, четкое формирование и затем жесткое, последовательное продвижение своей повестки дня, опирающейся на конкретные интересы в обществе, нужна низовая мобилизация внесистемных сил для того, чтобы преодолеть сопротивление враждебных институтов. Ничего этого сделать руководство СИРИЗА не могло, потому что все это находилось не только за пределами его политической концепции, но и его мировоззрения. Хуже того, выяснилось, что ни «движенческая» структура, ни сетевая организация, ни прочие прелести информационной эпохи не дают никаких гарантий против узурпации полномочий внутри организации ее лидерами. Не являются они и препятствием для интриг и манипуляций. Хуже того, подобные структуры, опирающиеся на неформальные процедуры или, наоборот, требующие безбрежной демократии, не реализуемой в реальном политическом времени, когда решения должны приниматься предельно быстро, в сущности, не более, а менее демократичны, чем старые бюрократизированные, четко формализованные иерархии и процедуры традиционных рабочих и левых организаций. В условиях обостренного кризиса выяснилось, что три-четыре человека могут просто решить все за партию.
И предательство Ципраса, и беспомощность Варуфакиса в качестве практических политиков явились логическим следствием определенного подхода к политике. Подхода, опирающегося на идеологические и культурные принципы, восторжествовавшие после того, как ушли в прошлое традиции «старой левой», как социал-демократической, так и коммунистической. На место единства организации и программы, лежавшего в основе старой левой политики, пришла идеология «множества альтернатив». Но эта идеология может работать лишь в головах прекраснодушных интеллектуалов и наивных студентов, не обремененных ответственностью за принятие решений. Суть реальной политики в том, что какую бы альтернативу мы ни выбрали, она не только автоматически отрицает все прочие, но и порождает собственную логику, определяющую ход дальнейших событий и влияющую на последующие решения. Если вы хотите реального преобразования, то не только должна быть с самого начала продумана и выбрана одна альтернатива, на реализацию которой надо бросить все силы, но и необходимо заранее отбросить все прочие варианты и «альтернативы», сознавая, что при необходимости придется даже бороться с ними. Закон политической борьбы, как и закон войны — концентрация сил.
Это отнюдь не означает, будто в политике не может быть запасных вариантов, пресловутого «плана Б», явное отсутствие которого всегда драматическим образом усугубляло беспомощность Ципраса и его окружения. Но такой план может быть эффективен лишь как часть общей стратегии, когда цели и приоритеты остаются неизменными в ситуации, требующей пересмотра тактики.
Парадоксальным образом, именно из-за отсутствия чего-либо хоть немного похожего на «план В» идеологи и лидеры СИРИЗА оказались в полной зависимости от внешних обстоятельств, превратившись в пассивных исполнителей чужой воли и чужих планов. Начав с идеологии «множества альтернатив», они за несколько месяцев закономерно пришли к фактическому признанию формулы миссис Тэтчер: «There is no alternative».
Именно это, в сущности, и констатировал Варуфакис, заявляя, что не видит в сложившейся ситуации альтернативы тому, чтобы подчиниться логике системы. Эта идейная капитуляция состоялась задолго до того, как произошла капитуляция политическая. И в конечном счете она была предопределена собственными иллюзиями «радикальных левых» о том, что можно бороться понемногу, менять общество, не пытаясь взять власть, а потом брать власть, не принимая на себя ответственности. Однако для того чтобы подобные уроки пошли впрок, нужна политическая воля. Если ее нет, никакой опыт и никакие знания не принесут пользы.
Если бы подобная трагическая ситуация была характерна только для Греции, это было бы грустно, но не катастрофично. Однако показательно, что предательство Ципраса не превратило его в изгоя среди левых. Напротив, значительная часть европейских левых склонна была оправдывать партию СИРИЗА или даже предлагать задним числом «план Б», который греческому премьеру, действовавшему под диктовку брюссельских чиновников, уже совершенно не требовался. Они продолжали считать Ципраса и его «генетически модифицированную СИРИЗА» (выражение греческого журналиста Димитриса Константакопулоса) частью левого движения.
Причина такой, на первый взгляд, странной реакции состоит в том, что собственные политические взгляды многих из тех, кто склонен был оправдывать и поддерживать Ципраса, не сильно отличались от его собственных. Признать в полной мере банкротство такой политики значит либо расписаться в несостоятельности своих подходов, либо сделать выбор в пользу принципиально иных методов борьбы, делающих неминуемым жесткий разрыв с привычными формулами, повторяя которые, можно комфортабельно функционировать в рамках неолиберальной системы.
Активная поддержка, которую получило предательство Ципраса со стороны ведущих партий и лидеров, свидетельствовала о том, что практическая повестка дня руководства этих партий не имела ничего общего с их антикапиталистической и антилиберальной риторикой. Разумеется, одобрение действий Ципраса не было всеобщим. Если лидер Подемос Пабло Иглесиас, правое крыло немецких Die Linke и руководитель французских коммунистов Пьер Лоран с энтузиазмом поддержали Ципраса, то Жан-Люк Меланшон или Оскар Лафонтен из Die Linke выступили против его политики. Часть левого движения в Европе и США резко осудила партию СИРИЗА за «капитуляцию», подорвавшую «борьбу против жесткой экономии и против долга»[40], не удосужившись серьезно проанализировать причины такого поворота событий. Однако показательно, что даже критики Ципраса всячески избегали резких слов, по возможности стараясь не упоминать греческого премьер-министра лично, сосредоточивая внимание на негативных сторонах его политики. Как всегда в таких случаях, левое крыло движения боялось раскола и проявляло сдержанность вплоть до полного отказа от борьбы за собственные принципы, тогда как правое крыло выступало и действовало совершенно безответственно, обрекая на катастрофу движение в целом. Непонимание того, что именно решительные действия, включающие готовность к разрыву, являются единственно спасительными, превратилось в настоящее проклятие для радикальной части европейских левых. История движения была полна многочисленными расколами, которые были порождены пустячными причинами. Однако результатом этого опыта стала неспособность к принципиальному размежеванию в ситуации, когда речь действительно идет о вопросах жизни и смерти не только для самих левых, но и для общества в целом.
Комфортабельные условия, в которых Ципрас и его окружение смогли пережить политическую катастрофу, свидетельствовали о том, что моральный и политический коллапс переживало не только греческое общество, но и европейские левые.
Маленькое немецкое потрясение
В то время как европейские левые интеллектуалы и активисты обсуждали грустные итоги греческих событий, их накрыла новая волна плохих новостей, на сей раз — из Германии. Партия Die Linke, долгое время считавшаяся флагманом европейских левых, начала быстро и в больших количествах терять голоса. И что было особенно тревожно, голоса эти уходили к новой праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Переломным событием оказались выборы ландтагов в трех германских землях — Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг и Саксония-Ангальт. Итоги голосования были ожидаемой сенсацией. Все знали заранее, что Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель будет терять голоса на фоне растущего недовольства немцев ее иммиграционной политикой. Все предсказывали и успех «Альтернативы для Германии». Но мало кто ожидал, что поражение потерпит не только партия нынешнего канцлера, но и вся политическая система федеративной республики.
Три земли, избиравшие свои ландтаги в марте 2016 г., представляли собой, по сути, модель всего немецкого общества. Две провинции относились к Западной Германии — Рейнланд-Пфальц, где традиционно доминировали социал-демократы, и более консервативная Баден-Вюртемберг, где правил Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, правда, с 2011 г. вынужденный вступить в необычную коалицию с «зелеными». Третья земля — Саксония-Ангальт, депрессивная территория Восточной Германии, где основная борьба за голоса долгое время шла между христианскими демократами и левыми, которые на предыдущих выборах стали там второй по влиянию партией, отодвинув социал-демократов на третье место. Если в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг Die Linke из года в год не могли преодолеть 5-процентный барьер, оставаясь на уровне ниже 3 %, то, наоборот, в Саксонии-Ангальт на грани маргинальности всегда находились либералы (свободные демократы) и «зеленые». Последние, правда, были представлены в ландтаге, но давалось это им с большим трудом.
Позднее, в мае 2017 г., тенденцию подтвердили выборы в земле Северный Рейн-Вестфалия, где АдГ получила без малого 7,4 % голосов, тогда как левым не хватило одной десятой доли процента, чтобы попасть в ландтаг. При этом главными пострадавшими на сей раз оказались социал-демократы, потерявшие около 7 % голосов и большинство в ландтаге.
Миграционный кризис, начавшийся после того, как правительство Ангелы Меркель открыло границы страны для многотысячного потока беженцев с Ближнего Востока, резко сместил политическую дискуссию. Если прежде на первом месте были вопросы экономики и социальной политики, теперь именно тема миграции вышла на передний план, а копившееся на протяжении многих лет недовольство вырвалось на поверхность. Вполне естественно, что в Германии, где все еще не забыта травма нацистского режима, политическая корректность долгое время блокировала публичное обсуждение подобных вопросов, а политика интеграции новых иммигрантов отнюдь не была провальной. Несколько поколений выходцев из Турции и других азиатских стран активно интегрировались в немецкое общество, занимая в нем достойное место.
Германия в начале XXI в. остается одной из немногих в Европе стран, где по-прежнему развивается промышленность. А это означает, что изрядная часть вновь прибывающих людей находит себе место в индустриальной системе, которая на протяжении многих лет успешно превращала турецких крестьян в немецких пролетариев (во втором поколении порождавших собственную немецкоязычную интеллигенцию — техническую и гуманитарную). Проблема в том, что промышленное развитие в начале XXI в. замедляется, тогда как иммиграционный поток нарастает. Соответственно усиливается и конкуренция за рабочие места. Ситуацию усугубил кризис, начавшийся в 2008 г. Промышленность пережила его за счет существенного сокращения заработной платы, что, однако, означало обострение конкуренции между коренным населением и пришлыми работниками. В результате значительная часть вновь прибывших оказывалась на обочине, формируя иммигрантские гетто, фактически исключенные из жизни общества. Парадоксальным образом, в условиях падающей зарплаты и снижающихся социальных стандартов именно коренное население начинало отнимать потенциальные рабочие места у приезжих, которым некуда было устроиться. Ниши, ранее предназначавшиеся для низкооплачиваемых работников-мигрантов, стали привлекательны для многих местных жителей. Проигрывая эту конкуренцию, иммигранты все более вытеснялись на социальную обочину, живя за счет пособий, находя себе заработок в неформальном секторе или занимаясь откровенно криминальной деятельностью. Так развиваются и воспроизводятся навыки поведения, которые благопристойный немецкий бюргер воспринимает как антисоциальные.
Приток ближневосточных беженцев, начавшийся в ходе сирийской войны, был бы не настолько серьезной проблемой, если бы не накладывался на противоречия, уже давно копившиеся, но не получавшие серьезного осмысления в обществе. В 2016 г. как будто прорвало. Все понимали, что рабочих мест для вновь приезжающих беженцев нет, что нагрузка на систему социальной помощи резко увеличивается, а люди все прибывали и прибывали. Хуже того, все видели, что значительное число направляющихся в Германию людей были совершенно не похожи на жертв войны. Они приезжали не только из Сирии, но и из других стран в надежде получить социальные пособия и как-то устроиться в Европе. Однако для того чтобы их надежды сбылись, нужен был динамичный промышленный рост, которого, увы, немецкая экономика уже не могла обеспечить.
Ситуация становилась тупиковой: раздражены коренные немцы, разочарованы и беженцы, ожидавшие совершенно другого. Две группы все более агрессивно противостояли друг другу. А главное, немецкие граждане винили канцлера в возникновении кризиса. И это вполне соответствует логике толерантности — винить надо не приехавших людей, а правительство, которое их позвало, не отдавая себе отчета в том, что эти люди будут делать в стране.
Надо признать, что расчет Меркель был отнюдь не гуманистическим. Приток иммигрантов давит на рынок труда, заставляя немцев соглашаться на более низкие зарплаты и менее выгодную работу. В конечном счете поощрение иммиграции является одним из механизмов разрушения социального государства Причем очень эффективным, поскольку левые, социал-демократы и «зеленые», которые резко протестуют против любых антисоциальных мер правительства, по данному вопросу не решаются высказываться: они слишком привержены принципам политкорректности, чтобы признать, что приток новых людей из бедных стран Юга усугубляет социальные проблемы общества.
Неудивительно, что обсуждение вопроса об иммиграции стало монополией крайне правых. Поскольку другие партии по этому поводу молчали, отделываясь общими политкорректными фразами, либо утверждали, будто проблемы не существует вовсе, у крайне правых появилась полная свобода интерпретации происходящего. С ними, естественно, никто из «серьезных» политиков не соглашался, но никто не спорил содержательно, поскольку такой спор автоматически предполагал бы признание проблемы. Вопрос из социального превращался в этнокультурный, рациональное обсуждение заменялось эмоциями. Результатов не пришлось долго ждать. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекла «Альтернатива для Германии».
История этой партии тоже по-своему поучительна. Учреждена она была довольно умеренными людьми, пытавшимися придать немецкому национализму респектабельное лицо, всячески дистанцировавшимися от нацистского прошлого. Основной своей темой они видели отнюдь не иммиграцию, а критику Европейского союза, подрывающего немецкий суверенитет. Никакой ксенофобии, никаких разговоров о «крови и нации», а только апелляция к великой культуре Гёте, Шиллера и Гегеля.
Увы, под влиянием растущего кризиса ситуация в партии резко переломилась. Крайне правые толпами пошли вступать в АдГ, вытеснив умеренных, которые вынуждены были покинуть партию. После того как к руководству пришли радикалы, организация не только не ослабела, но напротив, стала резко набирать популярность. Культурно-поколенческий сдвиг, произошедший в Германии за последние 20 лет, позволил нарушить целый ряд негласных табу, определявших поведение всех немецких политиков. Прямо апеллировать к наследию Третьего рейха по-прежнему нельзя, а вот вдохновляться идеями немецкого национализма и размышлять о «защите расы» уже можно.
Успех АдГ на земельных выборах оказался значим именно потому, что крайне правые добились резкого роста во всех трех землях, независимо от различий между ними. Разумеется, в более благополучных землях их победа была не так значительна, как в Саксонии-Ангальте (24,2 %), но и на западе она была впечатляющей. В Баден-Вюртемберге АдГ получила 15,1 %, а в земле Рейнланд-Пфальц 12,6 %, даже в традиционно социал-демократической Вестфалии — 7,4 %. Что еще важнее, крайне правые сразу вышли на лидирующие позиции, чего не удавалось ранее партиям, прорывавшимся через 5-процентный барьер, — и «зеленые», и левые долго топтались на уровне около 5 %, прежде чем приобретали вес общенациональной политической силы. Напротив, «новая» АдГ с первого же захода превратилась в одного из лидеров политической борьбы. В Саксонии-Ангальте после региональных выборов это была уже вторая партия, в западных землях — третья. «Зеленые», либералы и левые оказались далеко позади, да и социал-демократы пострадали изрядно.
Победы АдГ одержаны были не только за счет ХДС, но в равной степени за счет всех прочих партий. Разумеется, в некоторых случаях на выборах были и другие победители. Например, «зеленые» в Баден-Вюртемберге прирастили голоса и обошли ХДС, став первой партией в ландтаге. Но это компенсируется их впечатляющими поражениями в других провинциях.
Главными проигравшими на самом деле явились социал-демократы и левые. Первые не только потеряли голоса в трех землях из четырех, но и утратили в отдельных случаях статус ведущей партии, переместившись на унизительное 4-е место. Что касается левых, то они серьезно потеряли голоса только в Саксонии-Ангальте, а на западе «остались при своих» и даже чуть прирастили голоса в Вестфалии. Но это было не слишком большим утешением на фоне того, что в данных землях их позиции и без того были маргинальными.
Поражение левых является особенно тяжелым на фоне их предыдущих успехов. В начале десятилетия именно Die Linke привлекали к себе протестный электорат, причем не только на востоке, но и на западе страны. Значительная часть голосов, отданных АдГ, могла бы при иных обстоятельствах отойти к ним. И в очень большой степени виноваты в этом сами лидеры и идеологи партии. Из критиков правительства они, по сути, превратились в его защитников и союзников по вопросам миграционной политики. Когда два ведущих левых политика — Оскар Лафонтен и Сара Вагенкнехт — решились негативно высказаться по поводу действий Ангелы Меркель, на них с негодованием обрушились собственные сторонники и фактически заставили замолчать. Вместо того чтобы предложить альтернативный анализ ситуации и подвергнуть политику правительства критике, оценивая негативные социальные последствия принятых решений, но одновременно разоблачая расистские интерпретации кризиса, левые просто молчали или поддерживали канцлера.
Вся идейная борьба с крайне правыми свелась к хождению по улицам с плакатами «Нет расизму» и «Réfugiés Welcome», что, естественно, скорее раздражало обывателя, чем убеждало его в необходимости более взвешенного отношения к проблеме иммиграции. Поскольку рядовой немец видит конкретные проблемы, вызванные притоком беженцев, а левые упорно пытаются убедить его, будто этих проблем не существует, а всякий, кто упоминает о них — нацист и расист, люди теряют доверие и интерес к левым.
Победы АдГ на земельных выборах сделали германскую политику более фрагментарной, создавая необходимость причудливых коалиций и комбинаций. В эпоху расцвета Федеративной Республики 1950-1970-х годов западногерманская политическая система состояла из трех партий (консерваторы, социал-демократы, либералы), йогом к ним добавились «зеленые», затем левые. Теперь картина стала еще более мозаичной.
Главный итог мартовских выборов 2016 г. для остальной Германии состоит в резком изменении политических раскладов. По сути дела, это конец политической стабильности и предсказуемости в стране, которая на протяжении полувека была образцом и того и другого. На протяжении длительного периода, несмотря на нарастание проблем для европейского капитализма, Германия как будто сохраняла иммунитет к кризису. Подобное положение дел было возможно благодаря господствующей позиции, которую захватил немецкий капитал в рамках интеграционного процесса, что, в свою очередь, стало и основанием для относительной умеренности немецкой буржуазии в ее наступлении на права трудящихся. Но вторая волна глобального кризиса, начавшаяся в 2016 г., положила конец этому благополучию. Вне зависимости от предпочтений немецкого правящего класса, ситуация выходила из-под контроля, делая жесткие социально-политические конфликты неминуемыми. Увы, выгоду от кризиса немецкого капитализма получили не левые, а крайне правые. Для немецкой политической культуры и сложившейся после 1945 г. демократической традиции подобный поворот событий был настоящей катастрофой, политическим землетрясением, подрывающим моральные устои, сформировавшиеся в обществе и поддерживавшие его в равновесии на протяжении 70 с лишним лет. Однако ответственность за подобный поворот событий несут именно левая интеллигенция и ее политические лидеры, превратившиеся из оппонентов системы в заложников ее идеологии. Критикуя социал-демократов за отказ от борьбы с капиталом, они сами не рискнули выступить с антисистемными инициативами. Лозунг радикальной социально-экономической реформы был похоронен всеми левыми партиями, но не во имя революции, а просто так, во имя политкорректного дискурса. Не решаясь призвать к переменам, выходящим за рамки повседневной обыденности и мелочного реформизма, не имея стратегии и переходной программы, они оказались не готовы не только воспользоваться тектоническими сдвигами, происходящими в европейской экономике и обществе, но даже и осознать их.
Страх перед ухудшением ситуации блокирует борьбу за перемены, поскольку никакая серьезная реформа, не говоря уже о революции, не обойдется без временных ухудшений, без риска и без всевозможных издержек, являющихся неизбежной ценой прогресса в буржуазном обществе. Отказ признать необходимость подобных издержек и принять неминуемую логику риска, сопровождающую любой переход от понятного и предсказуемого настоящего к желаемому, но не гарантированному будущему, равнозначен отказу от самого прогресса, переходу на консервативные позиции, какими бы красивыми словами это ни прикрывалось.
Brexit
Очередным потрясением для Европейского союза стали итоги референдума в Великобритании, проведенного 23 июня 2016 г. Перед жителями Соединенного Королевства был поставлен вопрос о том, хотят ли они остаться в ЕС или выйти из него. Еще до того, как голосование состоялось, в общественный обиход вошло выражение Brexit, образованное от слов British exit — британский выход.
Во время референдума на головы англичан, шотландцев и североирландцев обрушилась волна пропаганды. Против Brexit выступали модные писатели, актеры и певцы, за сохранение текущего положения дел агитировали почти все средства массовой информации. Политический класс сплотился в едином порыве, защищая сложившийся порядок. Агитация сторонников сохранения Британии в Евросоюзе сводилась к красивым словам о «европейском единстве» и запугиванию граждан. Жителей Соединенного Королевства пугали крушением государства, напоминая, что Шотландия и Северная Ирландия, где большинство населения предположительно проголосует за сохранение членства в ЕС, отколются в случае «неправильного» исхода референдума.
Шотландские националисты, руководство ирландских республиканцев и даже официальная Лейбористская партия объединились с правящими тори, доказывая, что в случае неправильного голосования народа стране грозит катастрофа. Все лица, знакомые по телевизионному эфиру, казалось, слились в одно. И это единое мутное лицо на разные лады лгало, уговаривало, запугивало и льстило избирателю.
К сожалению, к этому хору в последний момент, пусть и с оговорками, присоединился и лидер лейбористов Джереми Корбин. Столкнувшись с угрозой раскола партии, он уступил ее правому крылу и произнес очередной невнятный призыв остаться в Евросоюзе, чтобы исправлять его изнутри. Увы, левые на протяжении четверти века повторяли мантру о реформировании ЕС, который тем временем не только проводил все более жесткую неолиберальную политику, но и осуществлял ее институционализацию. В рамках этой логики были созданы структуры Евросоюза, на ней основаны Маастрихтский и Лиссабонский договоры.
В условиях, когда лозунг «единой Европы» стал синонимом осуществления мер, продиктованных транснациональными корпорациями, финансовым капиталом и авторитарной бюрократией, воплощением европейских ценностей оказались не Вольтер, Дидро, Гарибальди и даже не де Голль, а функционеры Европейского центрального банка. Именно в этом институциональном закреплении неолиберальных реформ состояло единственное содержание практической интеграции. Обыватель понял это гораздо лучше и гораздо раньше, чем левые политики, а потому стал, в отличие от интеллектуалов, нечувствительным к разговорам о «европейских ценностях». Людям внушали, будто наступят ужасные экономические бедствия, если они осмелятся высказаться против установленного порядка.
Аргументация за «единую Европу» всегда была бессодержательной и дискурсивной. Вместо того чтобы обсуждать с гражданами конкретный смысл соглашений, подрывавших традиции и устои европейского образа жизни, отменявших достижения нескольких столетий общественной борьбы, людям внушали, что они должны сделать выбор «за Европу» или «против Европы». Соответственно, выбор «в пользу Европы» был обоснован не рациональными аргументами, а дискурсивно: само название континента, ассоциированное с названием межгосударственного объединения, должно было вызывать позитивные эмоции. Это неплохо работало в середине 1990-х годов. Но спустя два десятилетия ситуация изменилась. Публика осознала, что за дискурсом «поддержки Европы» скрывается обязательство признавать любые, даже самые нелепые решения брюссельской бюрократии.
Разумеется, левое крыло сторонников ЕС постоянно говорило о необходимости принять европейские институты ради того, чтобы их потом реформировать, однако и этот аргумент был демагогическим и бессодержательным: институты изначально и сознательно строились как нереформируемые.
Содержание евроинтеграции состояло в том, чтобы сконструировать систему, блокирующую любые попытки несанкционированной политики на национальном уровне и не дающую возможности демократическим процессам повлиять на решения, принимаемые в рамках общеевропейских структур. Ключевая идея неолиберальных реформаторов — от Маргарет Тэтчер до Анатолия Чубайса — состояла в необратимости проводимой ими политики. Нравится вам или не нравится то, что у нас в итоге получилось, успешно работают вновь созданные институты или все валится из рук — не имеет никакого значения. Принятые решения необратимы, созданные институты неотменяемы, а любая политическая, социальная, экономическая или даже личная стратегия должна строиться исключительно в этих рамках, не посягая на их изменение.
Структуры Евросоюза, созданные на основе Маастрихтского и Лиссабонского договора, превращали неолиберализм в институциональную основу континентальной интеграции. Этот политический порядок был сознательно сконструирован таким образом, что невозможно было отказаться от неолиберальных экономических правил, не подрывая сам процесс интеграции. Следствием этой политики стала деградация национальных рынков труда, уничтожение рабочих мест в промышленности, а затем и острейший финансовый кризис, опрокидывающий экономику целых стран, не только Греции, но и в перспективе — Ирландии, Португалии, Испании, Италии.
Манипуляция массовым сознанием через систему пропаганды являлась необходимым элементом подобного порядка. При всей остроте дискуссий вопросы, по-настоящему важные, оставались вне публичного обсуждения. Можно было говорить о мелочах, например о том, допустимо ли мусульманкам купаться на пляжах в закрытых купальниках, но разговор о содержательных экономических, социальных или политических изменениях (кроме тех, конечно, которые навязывали сверху в рамках неолиберального проекта интеграции) сразу маркировал вас как человека несерьезного, мечтателя, маргинала, националиста или поклонника давно ушедших эпох.
Ничего кроме сохранения текущего положения вещей сторонники Евросоюза предложить не могли. А это положение дел нравилось людям с каждым днем все меньше. Система накапливала проблемы, демонстративно отказываясь их решать, поскольку любая попытка всерьез что-то исправить, изменив вектор развития, создала бы прецедент содержательных перемен, опрокидывающий логику необратимости.
Особую роль в распространении идеологии необратимости играли левые интеллектуалы, старательно подчеркивавшие, что рабочие, фермеры или радикальная молодежь, недовольные Евросоюзом, представляют некую отсталую массу, не доросшую до современных европейских ценностей. Соответственно, сторонники Brexit изображались в виде провинциалов, расистов и националистов, выразителем которых являлась правоконсервативная Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP). Зато старательно игнорировался тот факт, что большинство людей, выступающих против Евросоюза, никакого отношения к UKIP не имели, а многие из них решили голосовать за Brexit после того, как брюссельская бюрократия разорила и унизила Грецию. Иными словами, выступление против ЕС по крайней мере в половине случаев мотивировалось не национализмом, а наоборот, интернационализмом. О чем, кстати, накануне голосования напомнил читателям «The Guardian» один из ведущих специалистов по правовой системе Евросоюза Крис Бикертон.
Вспоминая предыдущий референдум о членстве Британии в Евросоюзе, проходивший в 1975 г., он отмечал, что «интернационалистские левые были тогда относительно единодушны в своей враждебности Общему рынку, в отличие от правых, несмотря на весь их национализм и шовинизм. Интеллектуалы из среднего класса, верившие в социализм, спокойно голосовали против участия в единой Европе, не чувствуя себя социальными париями. Это относится к большинству моих соседей по Кембриджу, которые голосовали против евроинтеграции тогда и будут голосовать за нее завтра»[41].
Сторонники Евросоюза, принадлежавшие к левому крылу политического спектра, обвиняли своих оппонентов в расизме, в ностальгии по британскому империализму, категорически отказываясь обсуждать социально-экономические проблемы и приводить сколько-нибудь рациональные аргументы. Представители финансового капитала дружно выступили за сохранение Британии в Евросоюзе. Сравнивая относительное равнодушие, с которым финансисты реагировали на угрозу развала страны во время шотландского референдума о независимости, и панику, возникшую среди них, когда обнаружилась перспектива Brexit, британский марксист Алекс Каллиникос констатировал: «С точки зрения правящего класса Brexit может нанести куда более серьезный ущерб, чем отделение Шотландии»[42].
В свою очередь часть шотландских левых, которая во время референдума о независимости призывала к выходу из Соединенного Королевства, теперь с энтузиазмом отстаивала Европейский союз. Другие наоборот, заявив, что «разрушение Британского государства» было хорошей идеей, одновременно призвали голосовать против Евросоюза, поскольку «политика жесткой экономии, столь безжалостно проведенная в Греции, была бы таким же точно образом навязана и независимой Шотландии». Поэтому идея о возможном существовании независимой и прогрессивной Шотландии в рамках неолиберальной Европы «является фикцией»[43]. Этот тезис выглядел вполне убедительно и обоснованно. Но почему он не пришел в голову тем же людям на год раньше, когда они с пеной у рта агитировали за отделение от Англии? И почему даже задним числом они не только не заметили противоречия, но и не поняли, что своим поведением во время референдума о независимости превратили себя в заложников Шотландской национальной партии, тесно связанной с бюрократией Евросоюза?
Принципиально важны здесь, однако, не идеологические или логические противоречия, а отсутствие даже попытки классового анализа и конкретных социально-экономических интересов, затрагиваемых вопросами двух референдумов. Дискуссия левых сводилась к вопросам политической тактики — если в Лондоне сидит консервативное правительство, то надо назло ему голосовать за разрушение государства, независимо от того, к каким последствиям для трудящихся классов это могло привести.
Выбор, стоявший перед населением, оказался прост: либо отказаться от социального государства и демократии, либо пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами, связанными с функционированием Евросоюза. В условиях нарастающего социально-экономического кризиса большая часть британцев выбрала последнее. В итоге за выход из Евросоюза проголосовало 52 % избирателей при рекордной явке, составившей 72 % населения — самый высокий уровень электоральной активности с выборов 1992 г. По словам лондонского «Socialist Review», неолиберализму был нанесен «на данный момент самый сильный удар в его истории»[44].
Даже большинство из тех, кто вел агитацию за выход Британии из Евросоюза, не ожидали этой победы Результат оказался шоком не только для правящих кругов Соединенного Королевства и Евросоюза, но и для экспертов, которые еще за несколько дней до голосования предсказывали убедительную победу сторонникам существующего порядка.
Банкротство социологических прогнозов было закономерно связано с общим провалом доминирующей идеологии. Методики, разработанные применительно к обществу середины XX в., давно уже не работали, а сами организаторы опросов и авторы анкет, принадлежавшие к академической элите, были настолько далеки от общества, что не могли даже понять, почему составляемые ими вопросы и выборки, отражающие их систему ценностей и представлений об устройстве общества, не позволяли получить достоверные результаты.
Несостоятельность прогнозов была предопределена тем, что возможность выхода какой-либо страны из Евросоюза заведомо исключалась из списка «серьезных» вариантов. Массмедиа старательно тиражировали эти идеи и образы, превращая свою интерпретацию социально-политического процесса в нечто, считающееся самоочевидным.
Решение британцев отозвалось по всему континенту. Элиты в растерянности, рынки в панике. Евро, фунт и нефть резко обесценились, почва ушла из под ног биржевых спекулянтов, игравших на повышение. Греки, униженные и обобранные Евросоюзом, чувствуют себя отмщенными. Люди в соседних странах обсуждают свои шансы на повторение британского опыта. В массовом сознании произошел перелом: то, что казалось немыслимым, заведомо исключенным из сферы реальных возможностей, теперь стало реальностью. В руководстве Евросоюза царила растерянность. Брюссельские бюрократы делали все, чтобы переходный процесс затянуть, запутать, а по возможности и сорвать. Было объявлено о переходном периоде в три года, а некоторые предлагали затянуть его до семи лет, надеясь, что за это время удастся организовать новый референдум и переиграть результаты 23 июня.
Лидер лейбористов Джереми Корбин, возможно, упустил уникальный шанс укрепить свой авторитет в обществе, не решившись открыто поддержать на референдуме сторонников выхода страны из Евросоюза. Но даже если он проиграл, то в куда меньшей степени, чем его соперники в консервативной и либеральной партиях. Разразился правительственный кризис, премьер Дэвид Кэмерон, в соответствии с традиционным британским кодексом чести, заявил об отставке.
Исход голосования на первый взгляд не выглядел убедительной победой — перевес сторонников Brexit составил 4 %. Но учитывая реальное соотношение сил и средств боровшихся сторон, даже такой результат является чудом. Он еще раз подтвердил, что народ перестал верить интеллектуалам, политическому классу и прессе. Большинство проголосовало против официального мнения руководства всех основных партий — от тори до шотландских националистов, против мнения всех основных буржуазных институтов — от Банка Англии до Международного валютного фонда. Brexit стал переломным событием, обозначившим крушение культурно-психологических барьеров, гарантировавших незыблемость неолиберального порядка. Теперь невозможно уже отметать критические подходы и альтернативы как нечто заведомо маргинальное и несерьезное. И наоборот, обнаружилось: то, что многие годы подряд объявляли «мейнстримом», на самом деле отвергается обществом.
Голосование британского большинства оказалось вызовом, которое общество бросило не только правящим кругам, массмедиа, официальной идеологии, но и интегрированной в систему левой интеллигенции, показав, насколько безосновательны ее претензии на то, чтобы изображать себя защитниками угнетенных низов. Этим не преминули воспользоваться правые. Выступая осенью 2016 г. на конференции консерваторов, новоизбранный лидер партии Тереза Мэй неожиданно обрушилась с резкой критикой на финансовый капитал и эгоистическую элиту, правящую в Британии. Низы общества, проголосовавшие за выход страны из Евросоюза, не только отвергли политику Брюсселя, но и показали, как признала Мэй, что их категорически не устраивает существующий социальный порядок. Солидаризировавшись с ними, премьер-министр Соединенного Королевства заявила, что задачей правительства отныне должна стать защита прав рабочих и обуздание жадности корпораций. Одновременно она подчеркнула намерение твердо выполнять решение большинства британцев о выходе из Евросоюза, несмотря на явные надежды части правящего класса, что итоги референдума удастся «замотать», затянув процесс, чтобы потом, соответствующим образом обработав общественность, переиграть его через повторное голосование.
Выбор в пользу Brexit, по словам Мэй, представлял собой «тихую революцию», в ходе которой британцы отвергли систему «которая работает на привилегированное меньшинство, а не на них»[45]. Правительство, по мнению лидера тори, должно более активно вмешиваться в экономику, противостоять диктату транснациональных компаний и проводить политику, направленную на повышение зарплат, улучшение жилищных условий граждан и создание более гуманных трудовых отношений. Короче, речь, произнесенная лидером консерваторов, звучала бы более логично и привычно на съезде оппозиционных лейбористов или на собрании антиглобалистов и левых.
Консервативная «Telegraph» объясняла высказывания премьер-министра стремлением «завоевать колеблющихся сторонников лейбористов», но констатировала, что лидеры бизнеса «напуганы риторикой премьер-министра, которая способствует демонизации предпринимательства»[46].
Хотя, несомненно, политическая конъюнктура заставляла лидера консерваторов произносить речи, ориентированные — в условиях кризиса лейбористской партии — на переманивание «чужих» избирателей, за подобным поворотом стояло нечто куда более серьезное. Лидер тори совершенно правильно осмыслила итоги голосования и осознала, что надвигаются неминуемые перемены. Выход из кризиса оказывался объективно возможен лишь через усиление государственного регулирования, преодоления «крайностей рынка» и укрепления покупательной способности трудящегося населения. Как и Трамп в Америке, британский премьер понимала, что защита собственного производства является вовсе не идеологическим лозунгом антиглобалистов, а необходимым элементом экономической стабилизации. Однако здесь неминуемо вставал другой вопрос — как далеко могут пойти по этому пути политики, возглавляющие буржуазные партии, насколько подобный курс вообще может быть проведен в жизнь, не затрагивая фундаментальных интересов тех самых классов и групп, которые эти партии представляют, насколько финансовый капитал допустит подобный поворот, тем более — со стороны консервативных деятелей, связанных с ним не только классовыми, но и идеологическими узами.
То, что программные речи Корбина и Мэй оказались на удивление созвучными друг другу, свидетельствовало о резких сдвигах, происходящих в британском обществе. На организационном уровне и Мэй и Корбин оказались порождением новых правил избрания лидера, по которым решающую роль приобретают уже не парламентарии и аппаратчики, как раньше, а рядовые члены партий. Именно эта масса недовольных и разочарованных в неолиберализме британцев сначала привела к победе Корбина, потом проголосовала за Brexit, а после этого обеспечила победу Мэй над либеральным крылом тори.
Однако либеральные элиты не только не собираются сдаваться, они не готовы уступить ни пяди своих завоеваний, сделанных за прошедшие 30 лет. И совершенно не очевидно, что даже человек, обладающий руководящим постом на Даунинг-стрит, может превратить свою риторику в серию конкретных реформ, меняющих логику развития общества, не опираясь на массовое низовое движение, которое организовать правительство тори не могло, не уничтожая своей собственной партии. Таким образом внутренняя борьба среди тори создавала новые возможности для лейбористов, а пропаганда перемен, проводимая лидером консерваторов, легитимировала идеологическую позицию ее левых оппонентов, превращая лозунги Корбина в новый мейнстрим.
Можно, конечно, предположить, что общество и его настроения изменились. Но это не совсем так. Настроения и интересы, которые победили в Англии на референдуме 23 июня, были массовыми на протяжении всего периода евроинтеграции, просто им не давали возможности выражения, их игнорировали, их подавляли, на них не обращали внимания. Это были «всего-навсего» настроения и интересы большинства — рабочих, служащих, мелких лавочников, фермеров. Того самого плебса, презрение к которому давно уже стало принципом интеллектуалов и политиков, независимо от идеологического окраса.
Как ехидно заметил Крис Бикертон, леволиберальные интеллектуалы не скрывали, что, по их мнению, «примерно половина населения Британии это хулиганы, ненавидящие иностранцев»[47]. По признанию лондонского журнала «International Socialism», значительная часть левой интеллигенции характеризовала массы, голосовавшие против Евросоюза, как «глупых, реакционных расистов»[48]. Несложно понять, что такая характеристика собственного народа дает нам очень точное представление о самих интеллектуалах и о том, насколько им чуждо не только уважение к чужим взглядам, но и к принципам демократии как таковым. Подобный образ мысли сам по себе является типичным проявлением расистского стереотипа. Проголосовав за Brexit, массы показали, что бесконечно манипулировать ими не получается, а игнорировать их не удастся. Исход голосования не только потряс политические и медиаэлиты, показав им границы их влияния, но и заставил левых по всей Европе задуматься о перспективах своей дальнейшей деятельности.
Фактически Brexit обозначил исторический раскол в левом движении, не менее глубокий и принципиальный, чем тот, что происходил в Европе за сто лет до того, в годы Первой мировой войны. В то время как часть левой интеллигенции в Британии и за ее пределами обрушивалась с проклятиями на трудящихся, посмевших проголосовать против воли правящего класса, другие приветствовали решение избирателей как начало избавления континента от олигархического порядка. Оценивая итоги референдума, Джереми Корбин совершенно справедливо заявил, что в 2016 г. была пройдена точка невозврата «и надеяться на сохранение статус-кво уже бессмысленно»[49]. Корбин совершенно справедливо связал поражение Евросоюза с крушением неолиберальной политики. «Это крах всей экономической модели, которая не смогла обеспечить жизненные возможности для целого поколения наших граждан»[50].
Голосование против Евросоюза, отмечал норвежский общественный деятель Асбьорн Вал, отражает понимание обществом принципиальной нереформируемости этой системы. «Именно поэтому важно, чтобы неолиберальный и авторитарный порядок, утверждаемый ЕС, не укрепился в Европе. Для левых должно быть позитивным событием то, что британцы проголосовали за Brexit, даже если какая-то часть из них мотивировалась ксенофобией. Конечно, с подобными настроениями левые должны бороться. Но именно поэтому необходимо сейчас воспользоваться возможностями, которые открывает Brexit, чтобы выступить против господствующих капиталистических интересов, укрепить демократию и подлинную народную солидарность в Европе. Реально существующий Евросоюз не объединяет людей, а разделяет их»[51]. Аналогичного мнения придерживался и Крис Бикертон. «Я верю, — писал он в газете «The Guardian», — что это событие может заложить в Европе основы нового интернационализма, приходящего на смену бессодержательному космополитизму общего рынка. Голоса, отданные за Brexit, это послание поддержки всем тем, кто надеется на перемены»[52].
Идеология «необратимости» и психология запугивания перестали работать. Значительная часть населения Европы не только приветствовала решение британцев, но и захотела повторить его. Созданный Маастрихтским и Лиссабонским договорами Союз превратился в «тюрьму народов», a Brexit продемонстрировал людям, что есть практический механизм, реальная возможность выхода. Массы людей в Европе понимают, что путь к действительному единству и интеграции континента лежит через демонтаж структур Евросоюза, направленных не на собирание народов в единую семью, а на утверждение над ними диктатуры финансовых рынков.
Увы, как всегда бывает в таких случаях, система сработала против самой себя. Очевидная нереформируемость Евросоюза, жесткое продавливание политики, согласованной бюрократическими и финансовыми элитами вопреки воле населения, все это в конечном счете подорвало стабильность системы.
Смысл происходящего стал ясен среднему избирателю гораздо раньше, чем интеллектуалам и аналитикам. Даже если публика не все поняла, она все почувствовала. Большинство англичан продемонстрировало, что доверяют своему социальному опыту больше, чем телевизионной картинке, демократия одержала верх над «обществом спектакля».
Когда подвели итоги голосования, коалиция левых групп Lexit, выступавшая против Евросоюза, опубликовала заявление, где говорилось: «Это могла бы быть выдающаяся победа лейбористов, если бы партия решилась возглавить бунт рабочего класса против политики Евросоюза Но последователи Тони Блэра вынудили Джереми Корбина отказаться от многолетней оппозиции ЕС»[53]. В результате голосование за Brexit может быть представлено как успех националистов, как реванш английского провинциализма или попытка повернуться спиной к Европе. Можно ссылаться на то, что единственная партия, консолидировано поддержавшая выход, это правоконсервативная Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP). Но из людей, голосовавших за Brexit, ее поддерживает, по самым оптимистическим подсчетам, не более четверти. Больше того, в условиях, когда выход стал реальностью, у UKIP уже не было ни повестки дня, ни программы, ни лозунгов. Зато старательно игнорировался тот факт, что многие из людей, выступающих против Евросоюза, решили голосовать за Brexit после того, как брюссельская бюрократия разорила и унизила Грецию. Они выступили против Евросоюза потому, что понимали — ликвидация этого неолиберального монстра — единственный шанс вернуть Европу на путь социального прогресса и демократии.
Однако дело не только в том, какая часть левых выступила за Brexit, а какая осталась заложниками истеблишмента Куда важнее то, что именно обыватель, отнюдь не руководствовавшийся левыми идеями, проявил классовую сознательность, по большей части недоступную интеллектуалам. Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но сторонники Brexit в массе своей оказались удивительно похожи на сторонников Новороссии. И там и тут мы видим причудливое сплетение патриотизма, местных интересов и осознанной потребности в возрождении социального государства, которое приходится защищать и от собственных элит, и от внешней угрозы. И в том и в другом случае люди скорее чувствуют, чем понимают, они не всегда находят верные слова, нередко оказываются жертвой нелепых предрассудков. Однако для того и нужны интеллектуалы в народном движении, чтобы помочь людям преодолеть эти предрассудки, перейти от интуитивного ощущения своих интересов к осознанному пониманию. Между тем в Англии, как и в случае с Новороссией, значительная часть левых предпочла обиженно отвернуться от «неправильного» народа, а не выступить вместе с ним.
Буржуазия и либеральные элиты в самом деле лучше владеют словом, они гораздо более образованны и куда лучше разбираются в тонкостях политкорректного дискурса, чем рабочие, фермеры или мелкие предприниматели, борющиеся за выживание в условиях рыночных реформ. Но рано или поздно приходится выбирать.
Британский референдум знаменует начало новой политики в Европе. Политики, в которой массы начинают играть самостоятельную роль и в которой открываются новые возможности.
Еще вчера сама идея выхода какой-либо страны из Евросоюза заведомо исключалась из списка «серьезных» возможностей, а ее сторонники представлялись нелепыми маргиналами. То, что эти «маргиналы», как выяснилось, пользуются поддержкой общества, заставляет пересмотреть все представления о возможном и невозможном, мыслимом и немыслимом в современном мире.
Голосование британского большинства обозначило крушение культурно-психологических барьеров, гарантировавших незыблемость неолиберального порядка. И это начало перемен не только для Британии, но и для всего континента.
Интернационализм состоит не в том, чтобы с умилением поддерживать интеграционную политику, проводимую в интересах глобального капитала, а в том, чтобы на международном уровне, солидарно и скоординированно вести сопротивление этой политике. Предательство интеллектуалов стало общеевропейским феноменом после того, как классовые критерии сменились культурными, а теория была замещена всевозможными изящными дискурсами, воспроизведение которых стало главным критерием, позволяющим «своих» отличать от «чужих». Преданные и забытые левыми массы были не только предоставлены самим себе, сохраняя и культивируя свои предрассудки и политические суеверия, но и оказались более чем прежде восприимчивы к националистической идеологии. Если практическим воплощением интернационализма оказывается деятельность банкиров и не знающих границ корпораций, а демократические права урезаются в пользу никем не избранных и ни перед кем (кроме тех же банкиров) не отвечающих еврочиновников, не удивительно, что простые люди начинают связывать свое спасение с надеждами на национальное государство.
Любопытно, что европейские интеллектуалы вполне готовы были признать оправданность подобных чувств среди жителей Латинской Америки, но уже не в России. И тем более, когда подобный протест начал разворачиваться в странах «центра», где, собственно, и могут быть достигнуты перемены, имеющие глобальное значение, идеологи либеральной левой дружно встали на защиту существующего политического порядка и доминирующей идеологии. Общественные низы в странах Европы были объявлены «отсталыми», «неадекватными» и «дикими» точно так же, как на 150 лет раньше дикими и отсталыми называли туземцев, подлежащих колонизации. Показательно, что в этом отношении российская либеральная публика в очередной раз выступила пионером антидемократической идейной реакции. Ее филиппики в адрес собственного несознательного народа удивительным образом предвосхитили образы, идеи и стереотипы, лишь позднее распространившиеся среди интеллектуалов на Западе.
То, что независимо от уровня культуры и образования «туземцев» у них все равно есть интересы и права, обнаруживается лишь тогда, когда игнорируемые и «нецивилизованные» массы перестают молчать. Да, их речь зачастую оказывается косноязычной и даже косной. Но в ней звучит правда и воля тех, кого долгое время не желали слышать.
Готовность людей повторять неадекватные и старомодные формулы отнюдь не означает забвения ими своих непосредственных интересов. Действовать они начнут исходя из собственных нужд, но будут вынуждены формулировать свои реальные и действительные потребности в неадекватной форме. Винить в этом надо в первую очередь именно левых — в Британии и на континенте, — упустивших гегемонию в массовом протестном движении либо не сумевших ее завоевать. Именно упоительное самоотравление левой интеллигенции модными либеральными идеями сыграло роковую роль — не только для массового протеста, но прежде всего для самой интеллигенции, идеология которой была отторгнута населением.
Восстание против институтов
Неспособность западных левых не только возглавить, но и оценить развернувшееся по всему континенту восстание против неолиберальных институтов Европейского союза свидетельствует о глубоком структурном кризисе движения и о том, что само оно оказалось в той или иной мере заложником этих институтов.
Выступать в середине 2010-х годов за прогрессивное реформирование брюссельской бюрократии означало примерно то же, что выступать в 1848 г. за реформирование Священного союза в интересах демократии. Это отнюдь не значит, будто абстрактно-теоретически такой возможности никогда не существовало. Но политика определяется не абстрактными идеями, а практическими возможностями, балансом сил и стратегиями, которые позволяют данный баланс использовать в своих целях или изменить его. В этом смысле борьба за возможность демократической эволюции Евросоюза была однозначно и безвозвратно проиграна уже к середине 1990-х годов, а сами левые в течение последующего периода проделали очень существенную эволюцию, отказавшись не только от практической борьбы против неолиберальных институтов, но и от политики как работы по практическому изменению общества.
Глубинная методологическая основа этого идейного кризиса — принятие значительной частью западных левых (и их российскими имитаторами) либертарианской (неолиберальной) логики на фоне ее публичного отрицания. «There is no such thing as society», говорила миссис Тэтчер. Общества не существует. Разумеется, левые возмущались и спорили. Но так же как и в случае с афоризмом Тэтчер про несуществование альтернатив, социальная методология значительной части левых в 1990-е и особенно в 2000-е годы исходила из той же самой логики, не признавая этого публично.
Общество как целое, а тем более некое представление о перспективах его целостного развития за редкими исключениями перестало фигурировать даже в риторике, не говоря уже о программах и пропаганде левых организаций. Представление об обществе как совокупности «множеств», утверждаемое в модных книгах Тони Негри и Майкла Хардта[54], распространилось по факту даже среди тех, кто иронизировал над этим тезисом. Защита меньшинств, список которых постоянно множился, заняла центральное место в повестке дня, окончательно оттеснив концепцию целостного социального развития, являвшуюся краеугольным камнем идеологии «старой» левой, и в коммунистическом и в социал-демократическом ее варианте.
Между тем интересы общества не сводятся к сумме интересов его членов, а тем более меньшинств. Эта идея совершенно принципиальная, ключевая для всех радикальных движений классической политики — от якобинцев до большевиков, теперь полностью игнорировалась. Забыто и по факту тихо отвергнуто было понятие прогресса как развития, отражающего общий социальный интерес. Для Маркса именно общественный прогресс был главной задачей движения, и он не сводился даже к интересам «передового класса».
Напротив, тот или иной класс объявляется передовым именно потому, что на данном этапе истории его интересы совпадают в наибольшей степени с интересами развития общества.
Можно спорить о задачах развития. Однако беда не в том, что нынешние левые дают недостаточно полные или неточные ответы, а в том, что они не собираются ставить вопрос. В XIX и XX вв. у левых был ориентир социального прогресса, заданный еще в эпоху Просвещения. В основе его лежала идея общественной интеграции, объединения людей (в этом смысле равенство есть именно средство, а не цель). Надо честно и открыто признать: стремление максимально разделить общество на специфические группы, соревнующиеся между собой меньшинства, раздробить общую стратегию комплексного социального преобразования на множество не связанных между собой задач и «бесчисленное множество альтернатив», означает отказ от практической возможности выхода за пределы не только капитализма, но даже и неолиберализма. Что, впрочем, и констатировал Янис Варуфакис, призывая выработать такую стратегию перемен, которая бы не вела к конфронтации с правящими кругами, эти перемены систематически блокирующими.
Неолиберализм, раскалывающий и фрагментирующий буржуазное общество даже поверх привычных капиталистических классов, ставящий частный, личный и групповой интерес выше общих задач развития, вытекающих из природы самого же буржуазного общества, отрицающий солидарность даже в той мере, в какой ее признавали классики либерализма от Смита до Шумпетера, сделался крайним воплощением антисоциальной реакции, разрушающей уже всякое общество, даже капиталистическое. Именно поэтому политика, предлагаемая сторонниками модных радикальных теорий, оказывалась несостоятельной даже в качестве умеренного реформизма. Она не давала ответа на главный вопрос — как остановить деградацию и разложение общества, усиливающуюся по мере того, как углубляется кризис неолиберализма.
Заменить стратегию осознанной борьбы за прогресс можно либо бездействием и беспомощной дезориентацией, либо переходом на сторону реакции. Правительство партии СИРИЗА последовательно прошло оба этапа. Сначала ничего не могло противопоставить неолиберализму, а затем стало исполнителем его повестки дня.
Стихийное разрушение общества, порожденное реализацией неолиберальной повестки дня, делает невозможным существование европейской демократии в том виде, в каком она сложилась после Второй мировой войны благодаря победе над фашизмом. Долгий путь через институты, к которому призывали идеологи «новых левых» в конце 1960-х годов, привел в никуда, поскольку по ходу дела сами институты радикально изменились, став дисфункциональными, симулятивными, безвластными или превратившись в свою противоположность. К тому же неолиберализм успешно демонтировал именно те институты социального государства, через которые прокладывали свой «долгий путь» левые.
Трагический парадокс, определяющий динамику политических процессов начала XXI в., состоит в том, что кризис, подорвав экономические и социальные основы воспроизводства неолиберальной модели капитализма, одновременно укрепил ее политически. Такое положение дел стало возможно благодаря взаимосвязанному сочетанию факторов — институциональное закрепление неолиберализма в рамках Европейского союза происходило на фоне систематической деградации левых сил, отказавшихся бороться против этих институтов.
Именно такой расклад предопределил движение по самому драматическому из возможных сценариев, когда неминуемые перемены должны сопровождаться разрушениями и конфликтами. Напрашивается сопоставление кризиса, развернувшегося в Европейском союзе к концу 2016 г., с процессом, приведшим 25 годами ранее к распаду СССР.
В течение четверти века политика Европейского союза воспроизводила подход, типичный для советского руководства при Леониде Брежневе, — проводить избранную линию, невзирая на накапливающиеся противоречия, компенсировать усугубляющиеся трудности затратой все больших ресурсов. Неудивительно, что такой подход не только не привел к разрешению имеющихся проблем, но напротив, подготовил почву для кризиса, который рано или поздно должен был прорваться самым разрушительным образом. В одночасье система, казавшаяся несокрушимой, вдруг начала разваливаться. Такой психологический перелом является принципиально важным. Дело не в том, что раньше система была так уж сильна, а затем вдруг ослабела. Дело в том, что люди стали видеть и воспринимать ее по-другому, а потому и действовать по новой логике. Эта новая логика поведения, в свою очередь, полностью дезорганизует институты, совершенно не подготовленные к функционированию в подобных обстоятельствах.
В условиях, пока Советский Союз казался нерушимым, максимум того, на что были готовы внутрисистемные критики сложившегося порядка, — это призывы к умеренным реформам, которые бюрократией игнорировались или саботировались. Даже самые рьяные националисты в Прибалтике публично говорили лишь о расширении социально-экономической самостоятельности республик. Идеи диссидентов, как бы они ни были привлекательны для тех или иных групп общества, оставались за пределами серьезной дискуссии. Да и сами диссиденты не только в свой успех не верили, но вообще не стремились к успеху в реальной общественной борьбе, они ограничивались моральным противостоянием системе. Однако спустя буквально год-два ситуация не просто переломилась, но оказалась прямо противоположной. Умеренные варианты реформ так и не были испробованы или были лишь декларированы. А идеи, считавшиеся диссидентскими и маргинальными, вдруг превратились в мейнстрим, после чего политики и чиновники начали буквально на ходу менять свои взгляды и ставить перед собой совершенно новые цели, ничего общего не имевшие с их прошлым.
На психологическом уровне совпадения вполне очевидны. Сначала казалось, будто границы возможного очень жестко очерчены. Но вдруг обнаруживается, что эти границы существовали лишь в сознании людей (вернее — в официальной идеологии, которая доминировала в обществе). С того момента, как несостоятельность идеологии становится очевидной, рушится и представление о границах возможного. Причем никто уже не знает точно, где лежат новые границы, что является объективно возможным, а что — нет. Лозунги и готовые формулы, через которые на уровне банальности воспроизводилась старая идеология, перестают работать. Все начинают тестировать границы. Возникает ощущение, что теперь возможно все.
На институциональном уровне удар приходится именно по той структуре, которая сосредоточила у себя максимум полномочий. Точно так же как в СССР начинала открыто оспариваться руководящая роль КПСС, так встает под вопрос и контроль Европейского центрального банка над экономикой стран ЕС, по сути, игравшего в системе неолиберальных институтов ту же роль, что Политбюро в советском обществе. Под сомнение ставятся и другие правила политического, социального поведения, что в конечном счете означает нарастающее разрушение социально-экономической модели, которую эти институты поддерживали. Нет ничего удивительного, например, в том, что элиты Средней Азии из последовательных защитников Советского Союза превратились менее чем за полгода в рьяных поборников независимости. Они просто осознали, что правила изменились, и начали добиваться для себя максимальных выгод» действуя уже по новым правилам. Точно так же не стоит удивляться, когда удары по Евросоюзу начинают наносить правящие круги тех самых стран, где до недавнего времени Брюссель мог рассчитывать на безоговорочную лояльность. Это не предательство, а реалистическая оценка изменившейся ситуации.
Разумеется, между распадом СССР и процессами, происходящими в Евросоюзе, есть несколько существенных различий. Как ни парадоксально, политика евроэлит была, на содержательном уровне, куда более авторитарна, чем методы советской бюрократии в 1980-е годы. Осознание нарастающего кризиса толкнуло правящие круги СССР на попытку реформ и диалог с обществом, чего в Евросоюзе не наблюдалось. Даже голосование англичан за выход из ЕС не заставило элиты на континенте задуматься о сколько-нибудь серьезном преобразовании системы, и уж тем более — вступить в честный и открытый диалог с теми, кто эту систему критиковал.
Стоит отметить, что идеологическая монополия евроэлит долгое время была куда более эффективной и тотальной, чем идеологическая монополия КПСС при Брежневе. В Советском Союзе тех лет идеологический формализм сочетался с полнейшим равнодушием к реальному общественному мнению, которое никто даже и не пытался контролировать — пусть думают, что хотят, лишь бы публично говорили то, что требуется[55]. Напротив, идеологический контроль, осуществляемый в рамках западной демократии через содержательный консенсус основных партий, предполагал наличие формального разнообразия мнений при одинаковости и общеобязательности итоговых выводов. Парадоксальным образом, даже резкая критика неолиберального капитализма оказывалась частью этого идеологического концерта, при условии, что из нее не делалось практических выводов, направленных против институтов Евросоюза, воплощавших этот порядок на практике.
Результатом этих различий стало то, что Евросоюз двинулся к ситуации институционального кризиса, минуя фазу перестройки, которую прошел СССР при Михаиле Горбачеве. В результате психологические эффекты перехода оказались еще более травматическими и жесткими. Все стало рушиться не «быстро», а «сразу», оставляя людей в полном недоумении.
На протяжении двух десятилетий в Евросоюзе сложилось влиятельное и заметное меньшинство, получавшее выгоды о г клиентелисгских программ брюссельской бюрократии. Ресурсы из реального сектора экономики перераспределялись в пользу тех или иных групп или секторов, которые зачастую оказывались уже не в состоянии существовать без постоянной подпитки со стороны еврократии. Множество людей и организаций по факту оказались заинтересованы в получении долей от прибыли финансового капитала в форме участия в креативной экономике, неправительственных организациях, региональных проектах и т. д. Это меньшинство, в значительной мере паразитическое, жило с комфортной уверенностью, что является не просто большинством, а ядром, основой общества, тогда как люди, придерживающиеся иных взглядов, — маргинальное меньшинство, которое можно не замечать. Внезапно наступило пробуждение, выявившее суровую реальность, не имеющую ничего общего с прекрасными снами. Но именно резкость и жесткость этого пробуждения предопределяют реакцию: вместо попытки найти решение — паника и стремление защитить свои позиции от агрессивного большинства, которому приписывались все возможные пороки. Таким образом, защита собственных привилегий эмоционально стала восприниматься как попытка сохранения прогрессивной культуры от надвигающегося варварства. Проблема лишь в том, что в данном случае «варварство» оказывалось равно демократии.
Для того чтобы сохранить систему, надо было предлагать реформы, опережающие развитие кризиса, более радикальные, чем те требования, которые выдвинуты хотя бы частью недовольных. К числу таких мер можно было бы отнести ро спуск Европейского центрального банка, замену единой валюты евро на несколько связанных друг с другом региональных валют, резкое сокращение полномочий Еврокомиссии, пересмотр Маастрихтского и Лиссабонского договоров, изменение правил Шенгенской зоны и т. д. В совокупности речь идет о возвращении суверенных прав демократически избранным национальным правительствам при сохранении тех структур и институтов единой Европы, которые не противоречат демократическим принципам. В 1990–1991 гг попытки Михаила Горбачева спасти СССР были основаны именно на таком подходе. Увы, они запоздали минимум на три года. Но лидеры ЕС в 2016–2017 гг. оказались не способны даже на такую попытку. Программы реформ не только никто не выдвинул, даже не предложил заняться их обсуждением на общеевропейском уровне.
Еще одно принципиальное различие состояло в том, что в 1989–1991 гг., когда разваливался СССР, имелась идеологическая альтернатива старому порядку в виде либерального капитализма. Эта альтернатива во всей красе показала себя в следующую четверть века. Но независимо от того, насколько драматичными оказались социальные последствия неолиберальных преобразований, наличие ясной идеологической перспективы позволило до известной степени упорядочить процесс перемен.
В 2014 г. Запад получил возможность сформировать реформистскую альтернативу политике и институтам Евросоюза. Часть левых политиков готовы были предложить такой выход, позволявший избежать более драматического хода событий. Политолог Руслан Костюк, характеризуя позиции левых критиков ЕС, подчеркивает, что они «выступают за качественно иную европейскую интеграцию. Возможна она или нет при современной логике неолиберализма — другое дело»[56]. Однако практическая возможность того или иного решения — не второстепенная тема для размышлений на досуге, а главный вопрос, суть, содержание политики. Выступать с лозунгом, под который нет механизма практической реализации, значит в лучшем случае лгать себе и народу, а в худшем — использовать эти красивые слова для прикрытия политики, имеющей совершенно иной, зачастую прямо противоположный, смысл. Трудно сказать, чего здесь больше — наивности или цинизма, но реальная политика лидеров европейских левых соединила оба этих качества.
Единственным и уникальным шансом для того, чтобы хотя бы поставить вопрос о реформировании Евросоюза, был приход партии СИРИЗА к власти в Греции — за этим прорывом логически могли последовать другие. Но возможность реформистской альтернативы была уничтожена самими левыми. Сначала — позорной капитуляцией СИРИЗА, затем — беспринципной поддержкой, которую оказали этой капитуляции другие радикальные партии. Это был моральный коллапс европейской левой в том виде, в котором она сложилась к началу XXI в.
Лето 2014 г. стало для Европы трагическим переломным пунктом, значения которого никто не хотел признавать. Теперь оставался лишь путь стихийного институционального распада и политических потрясений, а единственными вызывающими доверие критиками объективно отжившего порядка остались крайне правые. Возникла, по сути, перспектива общеевропейской гражданской войны. На первых порах, к счастью, эта начинающаяся война оказалась холодной, хотя грохот взрывов в Донбассе свидетельствует, что она вполне может стать и горячей, по крайней мере локально.
После краха СИРИЗА и раскола Украины воссоздание левого движения на новых идеологических и организационных основаниях становится вопросом жизни и смерти не только для самих левых, но и для обществ, оказавшихся в тисках кризиса[57].
В новых условиях требуются другие люди, другие организации и другая политика. Пора отложить модные книги Фуко, Негри и Жижека, чтобы на практике проверить, насколько хорошо мы усвоили уроки Ленина, Кейнса и Макиавелли.
III. ЭРА ПОПУЛИЗМА
В 2010-е годы в текстах политических аналитиков, пишущих про события в Западной Европе и США, все чаще стал мелькать термин «популизм». Этим словом обозначали практически все новые движения, левые и правые, стремительно поднимавшиеся на поверхность общественной жизни. Левый популизм, хорошо известный в Латинской Америке, стал проявлять себя сначала в странах Южной Европы, затем в Англии и США, постепенно проникая в восточноевропейские государства.
В Америке и Британии эти тенденции оказались представлены такими политическими лидерами, как Берни Сандерс и Джереми Корбин, в Испании и Греции — новыми партиями Подемос и СИРИЗА, которые потеснили традиционные левые организации, а во Франции — народным движением Nuit Debout, выступившим против реформы трудового законодательства. Но и на правом фланге мы видим движения, получившие ярлык популистских, — достаточно вспомнить Национальный фронт во Франции, Лигу Севера в Италии или Истинных финнов в Финляндии. Еще дальше справа стоят организации, заставляющие всерьез говорить о возрождении фашизма. А итальянские «Пять звезд» оказывалось трудно отнести к тому или иному флангу европейской политики.
Любопытно, что мы то и дело обнаруживаем появление на левом и правом фланге движений, являющихся как бы тенью, зеркальным отражением друг друга. В Америке противоположностью Берни Сандерса оказался Дональд Трамп. В Испании такой же тенью Подемос стало «Движение граждан». Если правый популизм оказывался последовательно враждебен политкорректности и мультикультурализму, культу меньшинств и т. д., то левый популизм ко всему этому был как минимум безразличен. Вернее, он выигрывал в той мере, в какой обращался к традиционным социальным интересам и потребностям, но проигрывал там и тогда, когда поддавался соблазну воспроизводить политкорректный дискурс.
Независимо от идеологических различий, популистские партии и группировки не только начали в 2010-х годах стремительно расти, но, что особенно важно, росли в значительной мере на одной и той же социальной почве.
Возвращение массовой политики
Описывая экономический кризис, разразившийся в Европе в 2008 г., российский политолог Руслан Костюк констатировал: «Были потеряны миллионы рабочих мест, закрыты тысячи промышленных предприятий и сельскохозяйственных производств. Многие люди пострадали от спекуляций с недвижимым имуществом, потеряли привычные для себя дома или квартиры, лишились финансовых накоплений. В большинстве стран — членов ЕС количество недовольных своей жизнью явно стало превышать число тех, кто был удовлетворен социально-экономическими условиями. В течение последних лет средняя зарплата в большинстве стран Евросоюза, как правило, не поднималась.
В большинстве случаев находившиеся у власти правительства, как право-, так и левоцентристской ориентации, в качестве ответа на кризисные явления продолжили осуществление политики строгой экономии, сокращения социальных расходов, либерализации рынка труда, приватизации общественных служб и предприятий.
Рядовые граждане и избиратели были встревожены и другими вызовами. Проблематика “социальной безопасности” прямым образом соприкасается с темой массовой иммиграции в ЕС выходцев из бедных развивающихся стран, которая воспринимается очень многими жителями Старого Света как прямая угроза их рабочим местам и привычному укладу жизни.
Стоит ли удивляться, что в такой сложной социально-экономической ситуации традиционные политические силы начали стремительно терять свое влияние и популярность. Сегодня никто уже не скажет о том, что в Германии, Великобритании, Франции, Италии или Испании сохранились де-факто двухпартийные (или двухполюсные) политические системы. Господству старых “элитарных” игроков (правоцентристов и социал-демократов) стали всерьез угрожать те, кого принадлежащие к европейской политэлите деятели с пренебрежением (хотя во многом и оправданно) именуют популистами»[58].
Но что же, однако, означает термин «популизм», столь активно и без объяснений используемый прессой? Журналисты пишут про популистских лидеров, обращая внимание в основном на их личные качества, ораторские способности или умение работать с массовой аудиторией. Однако отнюдь не это характеризует суть явления. Легче всего было бы обвинить журналистов и политологов в поверхностности и в стремлении свести разнообразные сложные события к какой-то простенькой формуле, удобной для объяснения и мыслительного переваривания. Но в том-то и дело, что мы действительно наблюдаем новую глобальную тенденцию, нуждающуюся в осмыслении.
Организационно-политическая нестабильность, типичная для популистских движений, их зависимость от личности лидера или от руководящей группы делают каждый конкретный случай специфичным и по-своему уникальным. Однако это вовсе не значит, будто невозможно сделать общих выводов относительно природы и перспектив подобных движений.
С точки зрения либеральных комментаторов, популизм это все, что им не нравится, но почему-то нравится населению. «Не имея общей идеологии, популисты всего мира похожи тем не менее друг на друга. Прежде всего это политики, называющие себя противниками заевшейся, далекой от народа элиты», — объясняет своим читателям «Независимая газета». Они «предлагают абсурдно упрощенные решения социальных и экономических проблем, но это обычно не отпугивает их сторонников — популисты взывают к чувствам патриотизма и национализма, к эмоциям гнева, обиды и гордости, а не к разуму». Они не уважают институты. Им «важно найти какого-нибудь врага, против которого можно объединить избирателей»[59].
Поскольку неолиберальные реформы непопулярны, призывы повысить заработную плату или создать новые рабочие места находят у граждан более позитивный отклик, чем действия правительств, сокращающих расходы на образование и здравоохранение, ликвидирующих общественный транспорт или отменяющих детские пособия. Тем не менее, по логике либеральных экспертов, критика подобной политики и призывы ее изменить представляют собой заведомый абсурд, особенно если сопровождаются требованием вернуть народу демократическое право принятия общественно значимых решений. Эта идея находится в прямом противоречии с господствующей идеологией, согласно которой только представители либеральной элиты обладают полным, окончательным и непогрешимым знанием. Проводимые правительствами непопулярные меры необходимы, а меры, пользующиеся поддержкой большинства людей и направленные на улучшение их жизни, заведомо вредны.
Тот факт, что на практике именно проводимая либеральными элитами политика раз за разом проваливается, не может служить аргументом, поскольку, в рамках данной логики, как раз попытка опереться на практический опыт или отсылка к фактам, очевидным для публики по собственному опыту, это и есть «популизм», предлагающий «слишком простые» решения.
Разумеется, далеко не всегда факты, известные и очевидные для масс, являются окончательным доказательством. В истории науки здравый смысл не раз оказывался посрамленным. И экономическая наука не является исключением. Но применительно к обществу, мы не можем иметь других экспериментальных данных, кроме тех, которые даны в коллективном опыте народа. Иными словами, если те или иные социально-экономические стратегии, применяемые раз за разом многочисленными правительствами и партиями, неизменно приносят массам лишь неудобства и разочарования, значит, что-то не в порядке с самими стратегиями и их авторами, изображающими себя нейтральными экспертами и технократами, являясь на деле идеологами определенного класса или группы, интересы которых радикально противостоят интересам и потребностям большинства.
Смысл данной идеологии именно в том, чтобы представить меры, в которых заинтересовано незначительное меньшинство (часто — даже не правящий класс в целом), как абсолютно неизбежные, технически нейтральные и необходимые всему обществу, упорно не понимающему собственного счастья. Напротив, те, кто открыто апеллируют к социальным потребностям масс и предлагают перемены, нарушающие господство элиты, выступают безответственными популистами.
Здесь имеет место двойное умолчание. С одной стороны, умалчивается, что популистские меры часто, хотя и не всегда, приводили к успеху (повышался рыночный спрос, оживлялась хозяйственная жизнь, увеличивались темпы роста экономики), что делает их особенно привлекательными на фоне систематического провала политики, отстаиваемой неолиберальными экспертами. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г., оказался настолько глубоким, затяжным и масштабным именно потому, что все основные страны мира дружно провели «непопулярные, но необходимые реформы», которые должны были резко ускорить мировой экономический рост, а на практике привели к его дальнейшему замедлению. С другой стороны, осуждая население за то, что оно не склонно одобрять меры, понижающие его уровень и качество жизни, либеральные идеологи забывают упомянуть реальных бенефициаров подобных мероприятий — финансовый капитал и транснациональные корпорации, у которых все эти меры пользуются неизменной популярностью. Исходная идея либерального экономиста состоит в том, что есть некоторый набор решений, которые являются правильными всегда и вообще, безотносительно к тому, в чьих интересах данные решения срабатывают и даже безотносительно к практическим результатам, получаемым от применения данных мер. Что, парадоксальным образом, противоречит политической теории тех же либеральных мыслителей, доказывающих, что свобода и демократия основываются на разнообразии и соревновании интересов. Это противоречие отчасти смягчается тем, что либеральные авторы, по большей части, видят только интересы частные и личные, игнорируя интересы общественных групп.
Но следует ли отсюда, что популизм — миф, сконструированный либеральными публицистами? Отнюдь нет. Просто реальное содержание и смысл популизма имеют очень мало общего с тем, что говорят его критики. Для того чтобы разобраться в явлении, надо не разоблачать и осмеивать его, а исследовать причины и социальную природу происходящего.
Обобщая требования популистских движений европейского Запада, Руслан Костюк формулирует некоторые общие идеи и тенденции, позволяющие объединить все эти силы в одну общую категорию. «Прежде всего это антиэлитарность, подчеркнутое неприятие популистами существующих в их странах политических систем и воплощающих их элит.
Партии этого направления нередко выступают в поддержку “прямой демократии”. Зачастую скептически относясь к парламентаризму, они большое внимание уделяют “прямым формам демократии”, например, плебисцитам и референдумам. Но любопытная деталь: будучи на словах большими демократами, во внутрипартийной жизни популистские формации представляют собой, как правило, жестко персоналистские структуры с очень большими полномочиями лидеров.
Социально-экономические предложения и инициативы "европопулистов” выглядят достаточно схематично и противоречиво. Да, лозунги социальной справедливости и солидарности играют в их дискурсе немалую роль. Но, например, североевропейские популисты, австрийские и французские крайне правые открыто выступают за снижение общественных расходов и повышение пенсионного возраста. Однако с учетом кризиса современных государств “всеобщего благосостояния” эти лозунги находят поддержку у значительной части населения.
Но все же больше очков нынешним популистам в самых разных частях Европы приносит их жесткое неприятие господствующих в ЕС представлений об иммиграции и вызывающие поддержку у избирателей из разных слоев требования усилить национальную политику безопасности. И еще, конечно же, неприятие европейской интеграции в том виде, в каком она сегодня происходит»[60].
Содержательную характеристику популизма можно дать, лишь анализируя его социальную природу. Идеологические позиции могут быть размытыми, противоречивыми, а также резко различаться в зависимости от политических условий места и времени. Однако сама по себе неустойчивость, неочерченность и синкретичность идеологии является важнейшим признаком подобных движений, указывающим на особенности их происхождения и массовой базы.
Популизм появляется там, где жесткие границы между классами размыты, где институты ослаблены, общество атомизировано, а социальная солидарность не обеспечена повседневной практикой. Традиционные идеологии классовой солидарности, провозглашавшиеся социал-демократами с середины XIX в., опирались на определенную организацию производства и общества, но одновременно и на сознательную работу тысяч активистов и организаторов, превращавших, по выражению Маркса, «класс в себе» в «класс для себя». Классовое единство поддерживается массой горизонтальных связей, которые с течением времени консолидируются, институционализируются, упорядочиваются и обретают символическое значение, не переставая работать практически, к выгоде людей, в эту систему связей включенных.
Увы, ситуация, характерная для конца XIX и большей части XX столетия, ушла в прошлое. Популизм как политическое движение возникает тогда, когда классовая организация и классовое сознание трудящихся либо еще только формируются, либо уже переживают кризис, разлагаются. Именно поэтому возвращение популизма было повсеместным явлением в годы после Первой мировой войны и во время Великой депрессии, причем наряду с правым популизмом, из которого в конечном счете вырос немецкий нацизм, наблюдался и рост левого популизма, представленного тем же Франклином Рузвельтом в США.
Для понимания современного популизма необходимо вспомнить историю генерала Хуана Перона и движение его сторонников, радикально изменившее привычные политические расклады в Аргентине. Реформы, проведенные в стране во время его президентства, заложили основу социального государства и резко улучшили положение рабочего класса, став, по сути, латиноамериканским аналогом «Нового курса» Рузвельта. Администрация Перона опиралась на поддержку профсоюзов и массовые народные движения. Но в идеологическом плане Перон не только не был левым, но и в значительной мере противостоял им. Он проповедовал национализм и корпоративное классовое сотрудничество, что давало даже основания подозревать его в симпатиях к фашизму.
Перонизм изначально представлял собой противоречивое смешение правых и левых тенденций, коалицию разнородных сил, заинтересованных в независимом экономическом развитии страны. Именно поэтому для популистских движений очень большое значение имеет фигура лидера. И не потому, что он объединяет людей своей харизматической личностью, а потому что подобные политики могут находить решения, способные сохранять единство социально и культурно неоднородной массы сторонников.
На определенном этапе подобные движения неминуемо должны либо разложиться на свою правую и левую составляющую, либо эволюционировать в ту или иную сторону, но это происходит лишь после того, как они выполнят свою минимальную программу, направленную на преодоление породившего их кризиса. Еще при жизни Перона возглавляемое им движение неоднократно меняло вектор, склоняясь то вправо, то влево, расслаиваясь на противоположные тенденции. А после его смерти произошло расслоение перонизма не просто на разные, но на противоположные тенденции. Перонизм породил и неолиберальную администрацию Карлоса Менема, и две левореформистские администрации — Нестора Киршнера и Кристины Киршнер.
Опыт Латинской Америки
В 1990-е годы Латинская Америка стала ареной широкомасштабных либеральных экспериментов, когда тотальная приватизация всех возможных предприятий и ресурсов сопровождалась стремительным ростом неравенства, а формирование местного среднего класса происходило на фоне обнищания всего остального населения. Ответом общества на эти перемены стал повсеместный протест.
В начале XXI в. внимание левых всего мира было приковано к событиям в Латинской Америке, где развернулось, по сути, общеконтинентальное восстание против неолиберализма. Массовые низовые движения, ставшие движущей силой этого восстания, с одной стороны, своей практикой подтверждали модные на Западе тезисы о превосходстве спонтанности над централизацией и демонстрировали возможность прямого участия масс в политике, а с другой стороны, восстанавливали ценности классовой солидарности, не будучи заражены доминировавшими в Европе и США культурными веяниями политкорректности и мультикультурализма. Это не значит, будто латиноамериканская левая игнорировала интересы женщин и этнических меньшинств или что она была «гомофобной». Отнюдь нет, но интересы меньшинств не выступали здесь как самостоятельная ценность, а вписывались в общий контекст классовой солидарности и демократии большинства. Поэтому именно революционные процессы в Боливии и Венесуэле, идеология которых была совершенно чужда европейского мультикультурализма, обеспечили реальное улучшение социальной ситуации для небелого большинства населения этих стран.
Также вопреки модным на Западе в начале 2000-х годов призывам «менять мир, не пытаясь взять власть» латиноамериканские движения сформировали свои собственные политические организации, ориентированные именно на борьбу за власть. В Венесуэле, Боливии и Эквадоре победили силы, характеризовавшие свой проект как революционный. Картину дополнял успех Партии трудящихся в Бразилии. Хотя эта партия, придя к власти, проделала эволюцию от марксистской до умеренно социал-демократической, ее лидеры постоянно подчеркивали, хотя бы и на словах, свою солидарность с более радикальными левыми, оказавшимися у руля соседних стран. В Аргентине, Чили и Уругвае были избраны левые президенты, обещавшие более умеренные реформы. Сдвиг влево произошел также в Перу и в Парагвае, хотя в последнем случае левая администрация была очень быстро отстранена от власти. Однако к середине 2000-х годов единственным надежным бастионом консерватизма в Южной Америке оставалась Колумбия, где продолжалась гражданская война.
Основным результатом этих перемен стала перераспределительная политика, приведшая к сокращению неравенства. Значительная часть населения смогла подняться над уровнем нищеты или бедности. Этот процесс тоже происходил повсюду, укрепляя на первых порах массовую поддержку левых правительств.
Тем не менее уже к концу десятилетия стали все более очевидны трудности, с которыми сталкивались новые левые правительства на континенте. Несмотря на различие риторики, дистанция между радикальными и умеренными правительствами оказалась не так велика, как кажется. Она определялась скорее уровнем развития стран, где происходили перемены, чем идеологией политиков. Очень скоро обнаружилось, что пришедшие к власти популисты не ставят перед собой более масштабных целей даже в Венесуэле, где тема революции стала центральной для правительственной риторики. Структурная перестройка экономики, осуществленная латиноамериканскими левыми правительствами, оказалась минимальной, а основной упор делался на перераспределение ресурсов в пользу более бедных слоев населения. Несмотря на риторические заявления о преобразовании общества и создании «боливарианского социализма», на практике общественные порядки менялись незначительно. Руководство республики не желало радикально менять экономическую политику, создавать промышленность или вкладывать средства в развитие научных и технических исследований. Не было даже попыток развернуть массовое жилищное строительство.
Еще одна специфическая характеристика латиноамериканского левого популизма — это готовность последовательно соблюдать правила демократического процесса и сохранять соответствующие институты на государственном уровне при развивающейся в то же время практике авторитарного принятия решений внутри собственной коалиции или партии. Левые правительства в Латинской Америке неизменно уважали фундаментальные демократические принципы свободы — слова и печати, политического плюрализма, правила свободных выборов. Оппозиционные партии регулярно то там, то тут выигрывали голосование — добиваясь успеха на референдумах или при формировании региональных администраций, включая и столичные города. Правительство не пыталось этому препятствовать.
Куда меньше терпимости проявляли популистские лидеры к инакомыслию в рядах собственных сторонников. Парадоксальным образом, в отличие от левых режимов прошлого, на сей раз авторитарные методы были направлены в большей степени против «своих», чем против «чужих». Иными словами, лидеры стремились жестко и по-диктаторски контролировать собственный политический лагерь, своих активистов и союзников, предоставляя полную свободу действий своим противникам.
В краткосрочной перспективе такой подход даже дает определенные преимущества — политическая инициатива всегда находится в руках народного лидера. Оппозиционеры, связанные с традиционными представительными институтами, постоянно запаздывают, тратя время на процедурные вопросы, и в то же время не имеют оснований обвинять власть в нарушении гражданских прав и свобод, которые неукоснительно соблюдаются. Но чем дольше находится у власти популистская партия, тем заметнее негативные стороны этой модели. Тем более, что речь идет о концентрации власти в руках одного или нескольких ключевых лидеров. В этом плане власть харизматического лидера совершенно не похожа, например, на власть советских правителей, которые даже во времена Сталина опирались на развитую систему политических и социальных институтов, предполагавших участие значительного числа людей в принятии решений на разных уровнях.
Немецкий исследователь Гюнтер Майхольд отмечает, что всем левым латиноамериканским лидерам 2000-х годов была свойственна практика персонализации власти. «Личное влияние (Hinsicht) всех левых президентов, которые таким образом могли мобилизовать массы, должно было закрепляться конституционными изменениями, позволявшими им избираться снова и снова, чтобы через сохранение личной власти обеспечить продолжение своего политического проекта»[61].
Левый популизм в Латинской Америке удерживал власть за счет удивительного сочетания режима личной власти президентов, опиравшегося на лояльные и дисциплинированные массовые организации, с либерально-демократическими институтами, которые продолжали функционировать, эффективно защищая интересы оппозиции. Такая политическая конфигурация постепенно отчуждала массы от процесса принятия решений и ослабляла низовую поддержку преобразований, одновременно сохраняя у деятелей власти иллюзию народной поддержки, обеспеченной за счет административного контроля над своими сторонниками. Народная инициатива угасала, реальные лидеры на местах замещались исполнительными и лояльными, но не имеющими авторитета функционерами, качество политических кадров стремительно падало, а жизненная сила движений, породивших латиноамериканский «левый поворот» в начале 2000-х годов, постепенно сходила на нет.
В таких условиях не мог не снижаться интеллектуальный уровень правящей команды, из которой вытеснялись люди самостоятельные и критически мыслящие. Интеллектуалы и активисты замещались функционерами и бюрократами как снизу, так и сверху.
Стихийная демократия и энергия массовых социальных движений в любом случае обречена угасать с течением времени. У них есть своеобразный жизненный цикл, неминуемо предполагающий периодические спады и подъемы. Но подобные неизбежные колебания жизненного цикла движений могут и должны компенсироваться формированием демократических организаций, подготовкой самостоятельных и авторитетных кадров на среднем уровне и появлением новых лидеров, опирающихся на соответствующие институты. Авторитарно-популистская модель препятствовала такому замещению «движенческого импульса» институциональной практикой. Таким образом, она не только не компенсировала закономерный и неизбежный кризис движения, но усугубляла его.
Авторитаризм и единоличное лидерство вовсе не является изначально непреодолимым препятствием для демократизации. В движениях, изначально формирующихся как лидерские или возникающих в условиях авторитарной политической культуры, подчас возникает необходимость запускать демократические процессы и механизмы «в ручном режиме»[62]. И показательно, что лидеры латиноамериканской левой 2000-х годов были отнюдь не чужды демократическим принципам. Но эти принципы трактовались лишь в плане уважения к формальным правам и свободам граждан, гарантированным либеральными конституциями. Иными словами, демократия воспринималась как набор юридических норм и процедур, а не как процесс вовлечения народа в управление.
Единая социалистическая партия, созданная в Венесуэле Уго Чавесом, оказалась неповоротливой бюрократической структурой, слабо связанной с рабочим классом, зато полностью зависимой от инициативы руководства. Отношения с рабочим движением, которое на первых порах поддерживало Чавеса, все более осложнялись. Заменив старые коррумпированные профсоюзы новыми, классовыми, боливарианское руководство оказалось совершенно не готово к тому, что эти структуры будут пытаться выдвигать собственные требования и предлагать собственное видение дальнейшего развития страны. Венесуэльская бюрократия систематически сопротивлялась любым попыткам серьезных преобразований. Что, впрочем, вполне понятно — ускорение социально-экономического развития привело бы к появлению в обществе новых потребностей и интересов, а внутри правящего блока — новых кадров и структур, которые могли бы претендовать на свою долю власти. Гораздо проще было регулярно подкармливать жителей бедных кварталов, покупая тем самым их лояльность. Беда в том, что настроения этих в значительной мере деклассированных масс легко менялись. После того как кончились нефтяные доходы, сократились масштабы перераспределительной политики и положение ухудшилось, большинство венесуэльских бедняков отвернулось от правительства.
Значение нефтяных доходов Венесуэлы для «боливарианской революции» Уго Чавеса общеизвестно. По выражению немецкого исследователя Стефана Петерса, нефть одновременно была для нее «условием успеха и ахиллесовой пятой»[63]. Между тем перераспределение ресурсов от добычи полезных ископаемых имело центральное значение также в Боливии и Эквадоре. В Бразилии, Аргентине и Уругвае правительства старались стимулировать промышленный рост, одновременно заботясь о том, чтобы выделялось больше средств на социальные программы и развитие инфраструктуры. В плане экономического развития не только не происходило ничего революционного, но левые администрации даже не пытались последовательно использовать рецепты Дж. М. Кейнса относительно социализации инвестиций или систематического стимулирования спроса.
Последующие события выявили сначала социальную, а затем и политическую ограниченность умеренного реформизма. Поскольку «горизонт» реформ был низким, а заявленная программа, независимо от используемой риторики, сводилась к совокупности не слишком радикальных мер, не изменяющих структуры общества, то очень скоро она была содержательно исчерпана. С момента, когда первоначально заявленные реформы оказывались осуществленными, левые правительства утрачивали перспективу, превращаясь в обычные бюрократические машины, занимающиеся администрированием (а даже не реформированием) буржуазного общества. При этом обоснованием их пребывания у власти становилось не столько преобразование социальных и экономических структур, сколько сохранение и защита достигнутого. Иными словами, политические мотивации из радикально-реформаторских превращались в консервативные.
Отсутствие структурных реформ привело к тому, что в обществе не возникли ни новые мотивации, ни новые коллективные интересы, которые могли бы стать основой нового цикла развития. Организация жизни, логика общественного воспроизводства оставались прежними, соотношение между секторами экономики не изменилось, сохранялся и прежний образ жизни, прежние связи и отношения — просто сократился разрыв между богатыми и бедными и в некоторых случаях несколько повысился образовательный уровень населения. Что, конечно, было серьезным прогрессом по сравнению с условиями, которые существовали в данных странах до прихода к власти левых, но не предполагало качественного разрыва с прежними порядками, возникновения новой логики и новых стимулов развития. Левые не смогли не только выйти за пределы капитализма, но и структурно реформировать местный капитализм.
Все это в полной мере сказалось в 2015–2016 гг., когда экономический кризис резко сократил количество ресурсов, доступных для социального перераспределения, и разом выявились все структурные слабости «левой модели». Однако несмотря на эти трудности, главная проблема оказалась все же не экономической, а политической. Сам по себе факт кризиса еще отнюдь не означал краха левого проекта, тем более, что правая оппозиция нигде не предлагала каких-либо новых идей и подходов, а порой и вообще не имела объединяющего политического проекта. Слабость левых правительств проявилась в их неспособности адаптироваться к новым условиям, переформулировать свой проект и предложить новые, более радикальные решения, соответствовавшие остроте и глубине накатившегося кризиса, выйти за рамки перераспределительной модели. Эта политическая слабость была предопределена не столько ограниченностью исходного проекта, сколько авторитарным характером внутренней политической практики левых у власти. Нельзя не согласиться с Гюнтером Майхольдом, который констатировал: «В поражении левых виноваты не их враги, а они сами»[64].
Показателем кризиса, с которым столкнулась популистская политика Чавеса, стал проигранный им референдум об изменении конституции в 2007 г. Проблема состояла не только в том, что народ отказал своему лидеру в праве переизбираться на еще один президентский срок (впоследствии Чавес это право получил), но и в том, что сама затея с пересмотром конституции противоречила всей предшествующей логике действий и заявлений Чавеса. Боливарианская конституция была ранее принята по его собственной инициативе, объявлялась им квинтэссенцией идеологии венесуэльской революции и последовательно закрепляла радикальные демократические нормы, благодаря которым народ мог принять участие в управлении страной. Заявить публично, что всего через несколько лет в эту конституцию надо вносить существенные поправки, к тому же противоречащие ее демократическому содержанию, значило признать, что с революционным процессом в Венесуэле что-то неладно.
Перераспределительная политика Чавеса, построенная на том, чтобы обеспечить повышение жизненного уровня и социальных возможностей для беднейшей части населения за счет использования нефтяных доходов, провалилась не потому, что упали цены на нефть. Это падение лишь выявило ее стратегическую несостоятельность.
Однако кризис левого популизма, начавшийся при Чавесе, не шел ни в какое сравнение с катастрофой, разразившейся после того, как к власти пришел Николас Мадуро. Смерть популярного и харизматичного лидера, каким был Уго Чавес, и его замена невыразительным и некомпетентным Мадуро гарантированно обрекали систему управления на коллапс. Трудно было представить себе менее удачного преемника для лидера боливарианской революции. При этом вопрос о будущем руководителе страны был решен умирающим Чавесом единолично, не только без каких-либо внутрипартийных выборов или дискуссии, но даже и без учета мнений, существовавших в его собственном окружении. Все слабые стороны популизма усилились, а позитивные его возможности оказались сведены к минимуму.
Социолог Нелли Аренас характеризовала политику венесуэльского правительства после смерти Уго Чавеса как «популизм без харизмы»[65]. Мадуро выделялся среди других чавистов только тем, что никогда не возражал лидеру, был «пассивным исполнителем воли президента», «никогда не говорил, только слушал»[66]. Реакцию активистов на решение Чавеса назначить Николаса Мадуро своим преемником Нелли Аренас описывает как «смесь растерянности, недовольства и безусловной лояльности по отношению к лидеру»[67]. Появление подобной фигуры на посту президента само по себе свидетельствовало о том, что кадровая политика Чавеса, построенная на жесткой субординации и беспрекословном подчинении первому лицу, потерпела крах.
Неудивительно, что время президентства Мадуро характеризовалось поражениями на всех фронтах. Стремясь поддержать свой авторитет постоянными ссылками на умершего Чавеса, Мадуро лишь усугубил проблему, поскольку, напоминая обществу о своем предшественнике, он провоцировал сравнение, которое было явно не в его пользу.
По мере того как разрастался политический кризис, беспомощность и некомпетентность Мадуро все более превращались в угрозу как для боливарианского проекта, все еще популярного среди значительной части населения Венесуэлы, так и для политических институтов страны, созданных при предыдущем президенте. Полковник Чавес был привержен соблюдению конституции так же, как кадровый военный соблюдению устава. Николас Мадуро, начавший свою профессиональную карьеру водителем автобуса, вел себя как шофер, не слишком соблюдающий правила дорожного движения. Укомплектованный его сторонниками Верховный суд блокировал решение парламента, а сроки проведения референдума об отставке президента были перенесены так, чтобы он не мог иметь законной силы, поскольку проходил двухлетний срок, в течение которого по конституции народ может путем плебисцита сместить лидера. Цепляясь за власть, Николас Мадуро не только лишил оппозицию легальных путей борьбы, провоцируя насильственный конфликт, но и деморализовал боливарианское движение.
Главной причиной поражений, которые начала терпеть боливарианская революция в Венесуэле, была, однако, не личность Мадуро и даже не падение доходов от нефти, а неспособность и нежелание создать новые институты, которые смогут заменить в процессе развития преобразований харизматическую волю лидера организованным процессом принятия решений и эффективным представительством массовых интересов.
На фоне нарастающего кризиса боливарианского проекта в Венесуэле происходил и упадок левого популизма в других странах Латинской Америки. Партия трудящихся утратила власть в Бразилии, левые проиграли выборы в Аргентине. С серьезными проблемами столкнулись власти Боливии и Эквадора. В последнем случае, однако, именно политика институционализации революции привела к успеху: после ухода от власти президента Рафаэля Корреа на свободных выборах победил его последователь Ленин Морено.
Феномен Корбина
Избрание Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании явилось главным, если не единственным, успехом, которым могли гордиться западноевропейские левые в середине 2010-х годов. «Феномен Корбина» возник неожиданно не только для него самого и всех, кто его знал, но и для многочисленных журналистов и аналитиков, как на континенте, так и в самой Великобритании. Еще за несколько недель до своего избрания лидером парламентской оппозиции скромный депутат-заднескамеечник не привлекал к себе слишком большого внимания. Вернее, он был известен как один из немногих людей в британской политике, не заинтересованных в деньгах и карьере, а потому неизменно оставался в тени с начала 1980-х годов, когда его впервые избрали в парламент. Из депутатов в Вестминстере он обходился британскому налогоплательщику дешевле всех, поскольку крайне бережно расходовал казенные деньги и не пользовался привилегиями. Зато он раз за разом возобновлял свой мандат просто потому, что жители округа твердо знали — Корбин будет горой стоять за их интересы, заниматься мелкими проблемами, используя для этого свой статус и влияние.
Прочное положение в округе давало Джереми Корбину независимость от партийного аппарата и прессы, позволяло выигрывать выборы, не затрачивая больших денег. Эта независимость от начальства понемногу превратила его в наиболее известного, если не единственного внутрипартийного диссидента. Хотя ничего еретического Корбин не проповедовал. Он лишь оставался верен принципам социал-демократии в тот момент, когда все высокопоставленные политики их предали, превратившись в неолибералов. И его программа, и его деятельность ничуть не выходили за рамки того, что в 1970-е и в 1980-е годы считалось бы нормальной социал-демократической повесткой дня. Конечно, в ее левом, а не правом варианте, но не более того. Постоянно выдвигавшееся британской прессой против Корбина обвинение в крайнем радикализме говорит скорее о том, насколько сместилась вправо «ось» европейской и британской политики, чем о взглядах самого депутата и его сторонников.
Корбин произносил речи на антивоенных митингах, когда партия молчала или поддерживала войну в Ираке. Он не восхищался подвигами американского спецназа в Афганистане. Он рассказывал своим слушателям в 2014 г. про поджог Дома профсоюзов в Одессе, когда британская пресса либо молчала, либо повторяла версию киевских пропагандистов о людях, которые сами себя сожгли. Он говорил о бомбардировках Донбасса в тот момент, когда переживать полагалось только из-за журналистов «Charlie-Hebdo», убитых террористами в Париже. Все это позволило прессе прилепить ему ярлык «пророссийского политика», хотя, по большому счету, Корбина волновала не Россия, а ответственность Запада за хаос, нарастающий в мире.
Корбин то и дело выступал назло официальным лидерам мнений и оказывался прав. И тогда, когда говорил о кризисе финансового капитализма, который не удастся преодолеть мерами жесткой экономии, и тогда, когда предсказывал, что приватизация железных дорог сделает их менее эффективными, зато более дорогими. Постепенно в британском парламенте у него сложилась репутация интересного собеседника, с которым соглашаться непозволительно, но к которому прислушиваться приходится. Это и предопределило неожиданный поворот его политической карьеры.
После того как лейбористы в 2015 г. потерпели очередное поражение от консерваторов Дэвида Кэмерона (несмотря на то что партии тори все прочили неминуемый провал на фоне совершенно ужасных опросов), стало ясно, что перемены в партии неизбежны. Лидер лейбористов Эд Милибэнд в соответствии с британскими традициями, проиграв выборы, ушел в отставку. Однако для активистов и сторонников партии было ясно, что ответственность за очередной провал лежала не на Милибэнде, а на всей лейбористской верхушке, которая упорно цеплялась за политическую стратегию, раз за разом приводившую к поражению.
На пост лидера лейбористов претендовал обычный набор представителей партийной элиты — безликие функционеры, мало отличающиеся друг от друга и от своих оппонентов-консерваторов. Выборам грозило стать смертельно скучным и откровенно бессмысленным зрелищем. А потому многие коллеги-депутаты поддержали выдвижение Корбина, которое должно было внести некоторое оживление в этот унылый процесс. О том, что Корбин может не только оживить внутрипартийные дискуссии, но и претендовать на победу, никто не думал, включая, похоже, самого кандидата. У него не было ни влиятельных сторонников, ни денег, ни даже симпатизирующих изданий, способных создавать и раскручивать его имидж. Но оказавшись внесенным в список, он принялся за дело со свойственной ему добросовестностью. Начал ездить по городам Соединенного Королевства, выступать с речами, обсуждать положение страны. Эти собрания стали собирать тысячные толпы. А затем тысячи и тысячи людей пошли записываться в Лейбористскую партию, чтобы принять участие в выборах.
Процедура выборов лидера Лейбористской партии всегда была довольно сложной, но к началу XXI в. сильно демократизировалась. На протяжении большей части XX в. руководителя партии выбирали депутаты в Вестминстере, консультируясь с боссами крупнейших профсоюзов. Такое положение дел изменили, как ни парадоксально, именно правые, овладевшие партией в 1990-е годы. Стремясь сократить влияние профсоюзов и депутатов-заднескамеечников, они сделали ставку на рядовых членов, а саму организацию всячески размывали.
В 2000-е годы политические решения по факту оказывались монополией партийного аппарата, который делал их легитимными, ссылаясь на волю некой массы членов, существовавшей только на бумаге. Первичные организации разваливались, и формальной опорой руководства стали индивидуальные граждане, чья политическая активность сводилась к готовности раз в несколько месяцев перечислить некоторую фиксированную сумму на счет партии. Тем временем активисты рабочего движения и левая молодежь покидали лейбористов, не видя никакого смысла в их деятельности. К тому же число индустриальных рабочих, некогда составлявших опору социал-демократии, неуклонно снижалось. Их место в партии занимали представители умеренно либеральных средних слоев, интересующиеся политикой, но не настолько, чтобы самим принимать в ней активное участие. Именно на этот средний класс опирался Тони Блэр в конце 1990-х годов, резко разворачивая партию вправо. Однако ни Блэр, ни его последователи не учли того, что по мере развития противоречий неолиберального капитализма настроения среднего класса будут меняться, в нем будет происходить расслоение, а осознание собственных объективных интересов рано или поздно толкнет значительную часть этих людей влево.
Созданный командой Блэра механизм, весьма удобный для политических манипуляций, оказался совершенно не защищен от проникновения извне. Никому и не приходило в голову, что можно попытаться вновь оживить низовые партийные организации и вернуть им активную политическую роль. В 1960-е и 1970-е годы подобные попытки предпринимались постоянно, и аппарат с ними неукоснительно боролся. Прежняя, откровенно недемократическая процедура выбора лидера была специально придумана, чтобы пресечь попытки партийных низов влиять на политику руководства. Но со времен Тони Блэра о подобных крайностях настолько прочно забыли, что перестали принимать меры предосторожности.
К середине августа 2015 г. Корбин уже прочно возглавлял гонку, а численность партии росла как на дрожжах. Возвращались ветераны, разочарованные многолетней предательской политикой правых лидеров, приходила молодежь, в партию вступали люди, еще недавно считавшие парламентскую политику бесперспективной. Как ни парадоксально, резко улучшилось и финансовое положение лейбористов.
Спохватившаяся партийная элита начала предпринимать контрмеры, призвав на помощь массмедиа. В британской прессе развернулась кампания против Корбина. Атака шла по трем направлениям. Во-первых, Джереми Корбин не имеет серьезной программы, предлагая популистские меры вроде национализации железных дорог и улучшения работы скорой помощи (по мнению журналистов, любой здравомыслящий человек должен понимать, что такого просто не может быть). Во-вторых, объявлялось, что с подобной программой и лидером
Лейбористская партия не сможет победить на выборах — никто не станет голосовать за кандидатов, призывающих проводить экономическую и социальную политику в интересах большинства населения. В-третьих, возмущение Корбина по поводу обстрелов украинской армией больниц и школ в Донецке однозначно доказывало, по мнению прессы, что он является агентом Путина[68].
К изумлению политиков и журналистов, подобная кампания дала обратный эффект. Чем больше подобных статей появлялось, тем стремительнее рос рейтинг кандидата. Несколько десятков известных экономистов, в числе которых был нобелевский лауреат Пол Кругман, опубликовали коллективное письмо, где солидаризировались с программой Корбина. Опросы общественного мнения тоже дали неожиданный для правящих кругов результат. Более 80 % опрошенных заявили, что только с таким лидером, как Корбин, лейбористы могут вернуться к власти. Хуже того, опросы показывали, что в случае избрания любого другого кандидата партию ждет электоральный коллапс: если сохранится прежняя тенденция, когда лейбористы из года в год становились все более похожи на консерваторов, у граждан вообще не будет мотивов голосовать за них.
Когда же лейбористские депутаты с передних скамей парламента заявили, что не будут сотрудничать с Корбином и уйдут в отставку в случае его избрания, эта новость вызвала новый всплеск энтузиазма среди сторонников партии, давно мечтавших избавиться от людей, ответственных за повторявшиеся год за годом поражения. Восторг рядовых членов партии оказался столь бурным, что вызвал панику среди членов «теневого кабинета». Они начали поодиночке сдаваться, заявляя, что передумали и рассматривают возможность конструктивной работы в команде победителя. Разумеется, при условии, что, став серьезным политиком, он образумится и скорректирует свои взгляды.
12 сентября 2015 г. — исторический день для британской политики — Джереми Корбин был избран лидером лейбористов, набрав 59,5 % голосов и далеко опередив ближайших соперников. Успех Корбина и выявил моральную несостоятельность британского политического класса и его штатных интеллектуалов. Политика жесткой экономии и неолиберальная программа демонтажа социального государства исчерпала себя не только объективно, но и на уровне массового сознания. Произошел культурный и психологический перелом, начало формироваться новое большинство, настроенное не только на переменны, но и на радикальный разрыв с существующей политикой и созданными под нее институтами.
Если бы политический класс, интеллектуалы и массмедиа по-прежнему пользовались в обществе доверием и уважением, феномен Корбина был бы невозможен в принципе. Соответственно, именно открытая конфронтация с ними становилась рецептом успеха. Однако эта новая реальность пока еще не была осмыслена участниками событий, включая многих сторонников перемен и даже самого лейбористского лидера, который был готов идти на компромисс со своими внутрипартийными врагами.
На первый взгляд успех Корбина можно было сравнить со стремительным взлетом партии СИРИЗА и Ципраса в Греции. И в самом деле, оба политических феномена отражали рост массового недовольства неолиберальной политикой правящих классов Евросоюза. Но принципиальное различие между ними состояло в том, что в основе успеха Корбина лежала не харизма, не модный имидж и даже не разочарование людей в политиках старого типа. Его кампания опиралась на массовые движения, которые в течение прошедших двух десятилетий росли и крепли, но не получали доступа к общенациональной политической повестке. Появление Корбина стимулировало самоорганизацию общественных низов, всех тех, кого на протяжении стольких лет либеральное меньшинство исключало из процесса принятия решений. Всех тех, кто был задвинут на второй план и проигнорирован не только правящим истеблишментом, но и модными левыми интеллектуалами, носителями «передовых идей» и героями массмедиа. Эта перемена не сводилась к процессам, происходившим в общественном мнении, свидетельствуя о глубоких структурных сдвигах в британском и западноевропейском обществе. И последствия этих сдвигов вскоре ощутил на себе сам Корбин, когда, поддавшись давлению умеренною крыла партии, отказался выступать за выход Британии из Европейского союза.
Победа Корбина, оказавшаяся неожиданностью даже для многих его сторонников, вызвала острую дискуссию среди британских марксистов, заставив их переформулировать многие привычные вопросы. «Корбин, конечно, не революционер, — сетовал Марк Томас на страницах «International Socialism». — Он выступает за проведение преобразований через парламент, что является классическим показателем реформизма»[69]. Тем не менее Томас, как и большинство британских левых, все же выступал за критическую поддержку Корбина при одновременном сохранении самостоятельной организации и дистанции по отношению к его реформизму.
Между тем действительная теоретическая и практическая проблема состояла не в том, какие тактические решения принимают революционные левые по отношению к реформизму, а в том, какова их общая стратегия общественных перемен, как они видят в ней свое место и место реформистов. Именно эти вопросы и оставались без ответа. Критическая поддержка, выражаемая в такой форме, оказывалась изначально обречена на неэффективность. Вместо того чтобы обсуждать действия, укрепляющие позиции Корбина и одновременно толкающие его на принятие более радикальных мер, теоретики-марксисты выступали с позиции учителя, выставляющего оценки практическим деятелям и комментирующего их ошибки.
Такой подход показательно отражает психологию радикальных левых, сложившуюся за десятилетия отчужденности от серьезных политических решений и практической борьбы за власть. Он автоматически превращает их в заложников реформистских лидеров, ставя их в абсолютную зависимость от результатов действий и от решений, принимаемых столь презираемыми реформистами, поскольку только последние обладают политической инициативой и формулируют конкретную повестку дня. В свою очередь, оценки, выставляемые тем или иным политикам, имеют практическое значение лишь в той мере, в какой сам оценивающий представляет собой практическую или хотя бы моральную силу, с которой невозможно не считаться. Отстраненные от практики резонеры такой силой стать не могут. Они могут быть безупречны в своих абстрактных положениях и выводах, но никогда не получат возможности влиять на происходящие события. И чем больше они стремятся к идеологической безупречности, тем меньше шансов у них остается на практическую реализацию собственной идеологии, превращающейся, несмотря на постоянные отсылки к общим истинам, в худшую разновидность ложного сознания.
Критика реформистских позиций Корбина, постоянно предпринимавшаяся британскими левыми, была во многих отношениях точна, но она упускала главное, не опираясь на анализ социальных процессов, породивших новую версию радикального лейборизма и его связь с общей протестной популистской волной, поднявшейся по всему миру. Принципиально важным отличием британского протеста от того, что происходило в соседних странах, было не только явное доминирование левого популизма над правым, но и то, что благодаря традициям организованного рабочего движения возникала перспектива структурной консолидации реформистского блока. Каким бы узким ни был личный круг политиков и экспертов, из которого состояла команда Корбина, она оказывалась выразителем не просто массовых настроений, но и более или менее структурированных массовых интересов. Именно поэтому Корбин, несмотря на все свои колебания, неудачи и ошибки, раз за разом оказывался непотопляем, получая поддержку низового движения.
Досрочные парламентские выборы, инициированные консерваторами весной 2017 г., подтвердили, что именно последовательная классовая политика приносит успех. Тори начали гонку с перевесом в 20 пунктов, обладая почти монопольным господством в массмедиа, включая леволиберальные издания, упорно предрекавшие провал лейбористов. Но после публикации предвыборного манифеста сторонников Корбина «For the many, not the few» («Для большинства, а не для избранных») разрыв с каждым днем стал сокращаться. Итогом выборов 8 июня стал «подвешенный парламент», в котором ни одна из основных партий не набрала большинства, но моральным победителем гонки, по общему признанию, стал Корбин.
«Скептики из числа либеральных левых теперь переходят к лейбористам, — иронизировал интернет-журнал «Counterfire». — Газету “Гардиан” можно поздравить с тем, что она в последний момент поддержала Корбина после того, как много месяцев подряд нападала на него. Но даже перебегая в последний момент на сторону победителя, эти люди так и не поняли, что же происходит»»[70].
Реформизм Корбина и даже его колебания были адекватны меняющейся социальной реальности, даже несмотря на то что сама команда реформаторов не всегда осознавала свои перспективы и возможности, а потому то и дело упускала шансы укрепить свои позиции.
Поскольку система не может быть одномоментно изменена вся, целиком и сразу, то строго говоря, любые практические преобразования могут быть трактованы как реформистские, недостаточно радикальные и непоследовательные. Революционный процесс отличают от реформ отнюдь не риторика и не радикализм лозунгов, тем более — не политическое прошлое и личная биография участников. Критерием могут быть масштабы и глубина, зачастую скорость преобразований, давление снизу и участие масс в формировании повестки перемен. Но именно поэтому революционный или реформистский характер того или иного процесса может быть оценен лишь по итогам событий. Мы нс можем заранее, вне конкретной исторической практики оценить того или иного политика по его лозунгам и даже по первоначальной программе, тем более, что они неминуемо будут меняться по мере развития общественной борьбы. Более того, именно способность углублять, конкретизировать и радикализировать свою программу по ходу событий является признаком, по которому можно отличить подлинно революционного политика.
Перемены, начавшиеся с довольно умеренных реформ по инициативе Людовика XVI в 1789 г. во Франции, обернулись самой впечатляющей революцией, которую знала Западная Европа. При этом Франция не имела на тот момент ни организованной революционной партии, ни популярных народных лидеров, способных возглавить движение. Эти лидеры, как и якобинская партия, появились в ходе борьбы. Так же и большевики оказались более революционерами, чем социалисты-революционеры, у которых это слово было даже написано в названии партии, вовсе не потому, что кричали громче или выступали радикальнее, а потому что именно у Ленина и его соратников нашлись практические решения в ситуации кризиса. Превосходство большевиков над другими социалистами в плане теоретического мышления сыграло в 1917 г. огромную роль. Но случилось это именно благодаря тому, что теория не была для Ленина ни суммой абстрактных истин, с высоты знания которых надо судить и критиковать недостаточно правильную реальность, ни тем более дискурсом, приверженность которому важнее любых практических дел. Теория была инструментом анализа действительности, помогавшим в ходе борьбы за власть принимать решения, не всегда соответствовавшие догмам ортодоксального марксизма, зато получавшие поддержку рабочих масс.
Напротив, деятельность многочисленных коммунистических и леворадикальных партий, постоянно говорящих о разрыве с капитализмом, не только не привела к этому разрыву, но, за редкими исключениями, вообще ни к чему значительному не привела. Немногие практические достижения, которыми они могут похвастаться, по большей части как раз укладываются в категорию ограниченных и весьма умеренных реформ.
Значит ли это, будто революционная политика как сознательная деятельность вообще не имеет смысла, или, по крайней мере, невозможна в условиях позднего капитализма? Отнюдь нет. В данном случае отсутствует не революционная перспектива как таковая, а понимание левыми диалектики реформ и революции, осознание того очевидного исторического факта, что между реформами и революцией не существует непреодолимой границы — одно превращается в другое, в зависимости от общего хода политического процесса, от состояния массового сознания и меняющегося соотношения классовых сил. Таким образом, революционная политика должна состоять не в критической поддержке или тем более в пассивном отстранении от процесса реформ, а наоборот, в том, чтобы принимать в нем сознательное и организованное участие, оказывая влияние на его повестку и соотнося свою тактику не с абстрактными теориями и лозунгами, а с меняющимися обстоятельствами, желаниями и потребностями масс, с конкретными переменами, происходящими вокруг.
Важнейшим свойством новой политкорректной западной левой является ее последовательный и принципиальный антиреформизм, который, однако, не компенсируется ни способностью, ни желанием совершить революцию, поскольку нет и потребности в поиске и консолидации социальной базы революционного действия. История показывает, что именно переходные требования, борьба за немедленные реформы и меры, понятные и необходимые трудящимся в их повседневной жизни, формировали массовую опору для революционных движений. Отказ от политики, интересной, понятной и выгодной массам, означает и отказ от любых преобразующих действий вообще. Иными словами, революционная риторика оказывается прикрытием и обоснованием для позиций, по сути, глубоко консервативных, способом самоадаптации левых к неолиберальному режиму, в рамках которого они выступают в качестве поставщиков новостей и интеллектуальных развлечений для продвинутой части буржуазии.
Сила и слабость популизма
Если в Латинской Америке 2015–2017 гг. экономический кризис осложнил положение левых администраций, то на Западе он породил целый ряд новых популистских движений, провозглашающих программу прогрессивных реформ. В Латинской Америке происходило разложение популистского блока, который так и не смог консолидироваться, превратившись, если использовать выражение Антонио Грамши, в исторический блок. В Западной Европе намечалась противоположная тенденция.
Показательно, что из всех лидеров латиноамериканской левой волны наиболее политически успешным в долгосрочной перспективе оказался именно Рафаэль Корреа, являвшийся наименее харизматичным. Успешный популистский лидер — это отнюдь не тот, кто обещает всем все подряд, а тот, кто оказывается способен объединять и консолидировать различные интересы. Однако это возможно лишь в краткосрочной перспективе. По мере того как решаются краткосрочные задачи, ради которых собрались вместе различные группы, социальные слои и общественные силы, составившие популистскую коалицию, возникают и новые проблемы. На этом этапе популистское движение либо должно реконструировать себя, обрести политическую и идеологическую определенность, превратившись в консолидированную силу, опирающуюся на определенный класс (стратегическую коалицию классов), либо обречено на постепенный распад. Если работа по «выращиванию» новых социальных и политических сил на основе популистского движения активно ведется, коалиция протеста и сопротивления уступает место новому блоку, основанному на долгосрочной стратегической перспективе. Причем его формирование не может быть просто плодом развития стихийного движения или столь же стихийной концентрации общественных надежд на том или ином популярном политике. Здесь требуется сознательная политическая работа, формирование внутри переходного популистского блока новой гегемонии. Антонио Грамши сформулировал задачи этой работы в «Тюремных тетрадях» следующим образом: «Направлять волю на создание нового равновесия реально существующих и действующих сил, опираясь на ту определенную силу, которая считается прогрессивной, создавая условия для ее победы, все это значит, конечно, действовать на почве реальной действительности, но действовать так, чтобы суметь господствовать над ней и превзойти ее (или содействовать этому)»[71].
Для популистского движения совершить такой переход значит преодолеть или превзойти самого себя. Популярность лидера создает у него самого и его окружения иллюзию ненужности более серьезных мер по оформлению политической программы и формированию стратегии. В этом смысле харизматичность популистского вождя может сыграть злую шутку с ним и с его организацией. Как бы ни была любима и авторитетна та или иная политическая фигура, объективные противоречия движения рано или поздно скажутся. Если работа по реорганизации движения и структурному преобразованию общества не сделана, лояльность масс по отношению к личности лидера может на определенное время сдерживать процесс распада, но не может его предотвратить. А идеологическая неоднородность популизма неминуемо не только ведет к разделению на составные элементы его социальной базы, но и приводит к расколу идейному — на правых и левых, демократов и авторитаристов, умеренных и радикалов.
Долгое время популизм рассматривался как специфическое и парадоксальное явление латиноамериканской политики, делающее ее труднопонимаемой для европейских экспертов, привыкших к логичным классическим определениям и раскладам. Однако события начала XXI в. в Европе и Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что в развитых западных странах могут складываться такие же коалиции, разрушающие привычные представления об идеологической и политической логике. Стремительный рост популярности Алексея Навального, за несколько недель превратившегося из почти маргинального политика в лидера массовой оппозиции весной 2017 г., показал, что и в России могут происходить сходные процессы.
Размывание идеологических границ оказывается вполне естественным следствием социальных процессов, запущенных но всему миру неолиберализмом. Это ситуация, когда, с одной стороны, нарастает кризис капиталистической системы (по крайней мере в том ее варианте, который восторжествовал за годы глобализации), а с другой стороны, рабочий класс, его организации и институты предельно ослаблены, общество атомизировано и деклассировано, традиционные левые силы оказались политическими и идейными банкротами.
Латинская Америка всегда отличалась от европейского Запада тем, что, повторяя его идеологические концепции и пытаясь воспроизводить его политические институты, она являлась на социально-экономическом уровне совершенно иным миром, где организованный рабочий класс оставался лишь меньшинством среди огромной массы трудящихся и бедняков. Перемены, вызванные неолиберальными реформами на Западе и в бывших коммунистических странах, создали там на структурном уровне похожую, хотя и не идентичную ситуацию. Латино-американизация европейских обществ рано или поздно должна была отразиться в сфере политики, что и произошло в середине 2010-х годов.
В начале XXI в. в Европе мы можем наблюдать кризис общественной организации, порожденный далеко не только спадом производства и потребления. Новые технологии и новое глобальное разделение труда разрушили традиционную организацию промышленности, отодвинули на задний план многие профессии, изменили образ жизни людей, их мотивации, форму и содержание их груда. Общество отнюдь не стало бесклассовым, как раз напротив, противоречия обостряются но мере того, как вместе со старым рабочим движением и старыми левыми партиями ослабляется и социальное государство. Но размытыми оказались прежние границы между социальными группами, разрушены прежние связи. Общество оказалось атомизировано, разобщено, дезорганизовано. Программист или фрилансер может работать в собственной квартире, теша себя иллюзией, будто работает на себя, а не на заказчика, квалифицированный рабочий не видит ничего общего между собой и подметающим улицы мигрантом, а левый интеллектуал, денно и нощно сокрушающийся о судьбе мигрантов, ни за что не заинтересуется проблемами того самого рабочего или даже своего коллеги из университета, стоящего на более низком уровне академической иерархии.
На первых порах таким разобщенным и деморализованным обществом оказалось очень удобно управлять. Правящие элиты оставались едва ли не единственными устойчивыми и относительно консолидированными социальными группами, способными не только осознать свой интерес, но и вести систематическую работу по его реализации — в том числе и поддерживая репутационно-влиятельные группы либеральных интеллектуалов, правых и левых. В свою очередь, старые институты, созданные для поддержания классовой солидарности, слабели или повисали в воздухе. При этом профсоюзы и низовые социальные организации сохранили существенную часть своей социальной базы, хоть она и сократилась. В итоге они не столько менялись, сколько теряли влияние (после чего их обоснованно можно было представить пережитком уходящей индустриальной эры). Напротив, интеллектуальные и политические институты (партии, академические центры, пресса, литературное сообщество), ранее считавшиеся опорой левых, утратив связь с организованными массами, которых рядом с ними уже не было, перешли на содержание к элитам.
К несчастью для правящих кругов, мировой кризис выявил оборотную сторону сложившегося социального порядка: он оказался крайне неустойчив, а все институты, люди и организации, которые финансовый капитал приобрел, потратив изрядные средства на их подкуп и приручение, оказались недееспособными. Атомизированное общество, брошенное на произвол судьбы элитами любого политического окраса, но почувствовавшее удар кризиса, стало сбиваться в толпы, ватаги, стаи. Тут и в самом деле на первый план выходит харизматичный лидер, только фигура эта может оказаться совсем не похожа на образы, которые мы помним из истории XX в. Нужен не оратор с громовым голосом, а человек, способный нащупать общественный интерес, произнести формулы, одновременно объединяющие для большой массы и понятные для нее, угадать точку совпадения объективного с субъективным, потребностей с настроениями, интересов с желаниями. Показать, что решение задач возможно и просто. На первых порах точка сборки скорее интуитивно нащупывается, чем обнаруживается с помощью сознательной логики. Но беда в том, что в постоянно меняющейся ситуации по ходу дела меняется и тот баланс, который необходим для поддержания единства популистской коалиции. Для того чтобы развиваться, не теряя единства, ей нужны постоянные успехи, постоянное наступление. Однако и успех, если он меняет ситуацию, грозит привести коалицию к развалу, ибо по мере движения вперед возникают новые интересы, задачи и противоречия, меняющие ее внутренний баланс сил и тенденций.
Вопреки утверждениям либеральной публицистики, сила нового популизма именно в очевидной и совершенно реальной осуществимости его обещаний. Другой вопрос, кто что обещает. Левые обещают перераспределить средства в пользу образования и здравоохранения, строить дороги, создавая за счет этого спрос и рабочие места. Правые обещают закрыть границы для мигрантов и усилить борьбу с преступностью. Что бы ни говорили либеральные интеллектуалы, практически осуществимо и то и другое. Более того, некоторые движения, такие как Национальный фронт во Франции или партия «Движение пяти звезд» в Италии предложили обществу оба пакета одновременно.
Слабость популистских движений, как и их сила, — в отсутствии четкой структуры, в спонтанности и зависимости от лидера. Греция показала, насколько беспомощной может оказаться популистская партия, приходящая к власти. Но не потому, что ее программа неосуществима, а потому, что ее лидеры могут оказаться слабы, неустойчивы и лишены серьезных амбиций. Однако там, где движение опирается на остатки старых классовых структур и организаций, — как это происходит, например, в Англии — результат может оказаться совершенно иным: лидеры, сохраняющие связь с массовым протестом, набираются от него силы, а сами участники событий учатся.
IV. УРОКИ АМЕРИКИ
Выборы 2016 г. в США ожидались как самые скучные за много десятилетий. Все заранее знали, что в финал выйдут Джеб Буш у республиканцев и Хиллари Клинтон у демократов. Два олигархических клана готовились к очередной схватке за власть в Вашингтоне. Однако получилось иначе. Похоже, уже сам факт ожидаемости, предсказуемости исхода вызвал протест среди избирателей обеих партий. В лагере демократов против Хиллари сыграло обстоятельство, которое казалось ее плюсом, — то, что она считалась практически безальтернативным победителем будущих выборов. Это казалось ее очевидным преимуществом в глазах аппарата, но у избирателей вызвало раздражение. Люди не любят, когда все заранее решено без них. Дальнейший ход событий показал, что расчеты функционеров и политических аналитиков оказались полностью ошибочными. У республиканцев вырвался вперед миллиардер-популист Дональд Трамп, а в гонке демократов начал стремительно набирать темп сенатор из Вермонта Берни Сандерс.
Феномен Сандерса
История Сандерса требует особого осмысления. Политик, стремительно взлетевший в ходе праймериз демократов, был уже не молод и не слишком похож на радикального социалиста, каким его запомнили в Нью-Йорке, где он в начале 1970-х годов впервые испробовал себя в качестве публичного оратора. Бруклинский акцент, правда, сохранился у него надолго, но политические взгляды стали более умеренными. Из революционера-троцкиста Сандерс превратился в социал-демократа, восхищающегося скандинавским опытом. Однако и времена изменились. По масштабам американской политики начала XXI в. социал-демократические взгляды постаревшего Сандерса воспринимались как нечто совершенно революционное.
В Вермонте Сандерс несколько лет работал мэром Берлингтона, небольшого города, но по масштабам штата — крупнейшего. Затем избрался в палату представителей конгресса США в качестве независимого депутата. Позднее был избран представителем того же штата в сенат. Когда он только возник в качестве кандидата на праймериз, многие сравнивали его с Джереми Корбином, который к тому времени уже добился успеха на выборах лидера британских лейбористов, но мало кто верил, что американский политик сможет повторить этот успех. Расчет был не на то, чтобы обыграть Хиллари Клинтон, а на то, чтобы сместить дискуссию влево, поставить целый ряд вопросов, которые политический истеблишмент предпочитал замалчивать.
Ситуация изменилась, когда Сандерс, принципиально отказавшийся принимать пожертвования от крупных корпораций, набрал в свой фонд с помощью краудфандинга больше денег, чем любой другой кандидат демократов, включая ту же Хиллари Клинтон, которую спонсировали крупнейшие американские банки. Это означало не только то, что теперь у вермонтского социалиста было достаточно средств на ведение кампании, но и то, что миллионы рядовых американцев пожертвовали ему небольшие суммы — от 30 до 100 долларов, тем самым выразив поддержку его программе. В этом плане кампания Сандерса продолжала ту же тенденцию, что и первая кампания Барака Обамы в 2008 г., но темп набирала еще быстрее.
Хотя на подготовительном этапе о готовности участвовать в праймериз заявило довольно много политиков, весной 2016 г., когда началось непосредственное голосование, Сандерс и Клинтон остались единственными кандидатами, что уже было сенсацией. Не менее сенсационным стал успех Сандерса в Айове. Этот штат, с которого начинаются праймериз, является весьма провинциальным и консервативным, а потому трудно было ожидать, что Сандерс, основная масса сторонников которого находится в крупных городах — Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос Анджелесе, сможет там оказаться в лидерах. Но итог голосования оказался иным: Хиллари и Берни пришли «голова в голову», набрав примерно одинаковое число делегатов на партийный съезд. Затем Сандерс победил в Нью-Гемпшире и в Канзасе. В соответствии с американскими политическими суевериями тот, кто побеждает в Нью-Гемпшире, выигрывает праймериз. А жители Канзаса в течение предшествовавших десятилетий всегда правильно угадывали кандидата от Демократической партии.
В крупных городах на площадях собирались многотысячные митинги, каких Америка не видела со времен войны в Вьетнаме. Это была настоящая массовая мобилизация. Достаточно взглянуть на фотографии огромной толпы сторонников Сандерса на нью-йоркской Юнион Сквер, чтобы понять, насколько психологическая ситуация в стране изменилась. Кандидатура «социалиста Берни» получила подавляющее превосходство среди молодежи. Чем моложе избиратели, тем больше они склонны были голосовать за него. Напротив, Хиллари лидировала среди пожилых людей и пенсионеров. Но это далеко не всегда отражало их политические симпатии. Скорее, люди старших возрастов просто не верили, что такой кандидат, как Сандерс, может выиграть праймериз и тем более — стать американским президентом. Но с каждым новым успехом Берни у него появлялось больше сторонников.
Мобилизационные и организационные технологии, отработанные в ходе «цветных революций», когда активистские движения, пользуясь новейшими технологиями, создавали собственные информационные потоки, побеждая громоздкую машину правительственной пропаганды, работавшую через традиционную прессу и телевидение, — все это было на сей раз использовано в самой Америке с гораздо большим эффектом, чем в других странах. Принципиальное отличие сторонников Берни Сандерса от организаций, создавшихся для продвижения демократии в «отсталых» странах, состояло в том, что это движение было настоящим. Оно в самом деле стихийно поднималось снизу, меняясь и развиваясь по ходу событий, а не симулировало народную инициативу, как это делали устроители «цветных революций». Кампания Сандерса, которая велась в условиях жесткой информационной блокады со стороны телевидения и крупнейших печатных изданий, продемонстрировала возможность победы социальных сетей и спонтанного низового творчества над традиционными массмедиа.
Большинство активистов представляли поколение, культура которого была сформирована голливудскими фильмами вроде «Матрицы» и «Голодных игр», где группа отважных борцов выступает против системы и побеждает ее. Поколение, информационное пространство которого оформилось через социальные сети и Интернет. Отсюда — изобретательность и разнообразие визуального материала, который создавался в разных концах Америки множеством людей, учитывавших местные особенности, меняющиеся настроения и ситуации, соединение энтузиазма и юмора, использование общеизвестных образов массовой культуры. Берни Сандерс появляется то в образе покемона из знаменитого мультфильма, то в образе Уолтера Уайта из культового сериала «Breaking Bad». Вот он держит на руках кота, а вот уже кот держит на руках Берни Сандерса… Призывы к борьбе и фотографии демонстраций перемежались со смешными картинками, вроде котенка, обращающегося с вопросом: «У вас найдется минуточка, поговорить о Берни Сандерсе?».
Показательно, что как и в случае с Джереми Корбином, реальная политическая борьба продемонстрировала и несостоятельность медийных стереотипов, которые считались самоочевидными. Ни Корбину, ни Сандерсу не помешал их возраст, им не нужно было казаться спортивным или элегантным, симулировать динамизм — важно было то, за что они выступают, и то, насколько решительно, последовательно и энергично они готовы бороться. От президента не требуются спортивные успехи, ему не надо нырять с аквалангом или качаться на тренажерах, ему нужны совершенно иные качества — честность, последовательность, стратегическое мышление и ясное видение будущего, которые он может разделить со своими сторонниками.
В отличие от персонажей типа Блэра и Путина, образ которых старательно формировали массмедиа и пиар-агентства, Сандерсу не нужно было создавать собственный визуальный образ, он предложил стране новый образ ее самой. И стал неотделим от этого образа.
Политики 2000-х годов старательно симулировали харизму, привлекая себе на помощь лучших экспертов по рекламе и пропаганде. Но выяснилось, что харизма, тем более надувная, искусственная, не может заменить идей, принципов. А соединение принципиальности с политической решимостью создает харизму.
В известном смысле Сандерсу проторил дорогу Барак Обама в 2008 г. Обойдя тогда Хиллари Клинтон на праймериз, он показал, что можно обыграть партийную бюрократию. В свою очередь, аппаратчики не в полной мере усвоили тогдашний урок. Они легко приручили Обаму, сделав его своим. Тем самым казалось, что инцидент исчерпан. Чернокожий политик из Иллинойса был новым человеком в федеральных структурах, у него не было ни своей команды, ни собственных экспертов, ни кандидатов на ключевые посты в администрации. Он оказался заложником партийной бюрократии, которая все эти вопросы решила за него.
С Берни Сандерсом все обстояло гораздо серьезнее. Сильной аппаратной команды у него тоже не было, но, в отличие от Обамы, была программа, были знания и связи, как в среднем звене Демократической партии, так и среди левой и прогрессивной интеллигенции, особенно в Нью-Йорке.
Люди устали от традиционных политиков, которые полностью оторваны от общества. Начинался бунт избирателей против традиционных политических элит, против политического класса. И как всегда в таких случаях, от этого бунта выигрывали те, кто внутри политического класса был маргиналом. Деятели, которые были внутри политики, но никогда не считались претендентами на что-либо серьезное, тем более — на власть. Они, с одной стороны, были достаточно профессиональны и известны, чтобы играть роль лидеров, а с другой стороны, находились настолько явно вне системы, вне истеблишмента, вне традиционных политических раскладов, что воспринимались как представители общественного бунта против старых политиков. Трамп и Сандерс в этом смысле отражали одну тенденцию, только с разных концов — справа и слева.
Увы, далеко не у всех успехи Сандерса вызвали энтузиазм. Значительная часть левой интеллигенции, даже одобряя выступления сенатора из Вермонта, продолжала связывать свои надежды с официальным руководством Демократической партии, которую в соответствии с традиционными рецептами надо было толкать влево, чем и занимались прогрессивные деятели Америки на протяжении более чем полувека. Правда, в течение всего этого времени партия неизменно сдвигалась вправо, но это никак не отразилось ни на теоретическом анализе ситуации, ни на практической деятельности леволиберальных кругов.
На первых этапах кампании целый ряд известных левых интеллектуалов, включая философа Ноама Хомского и экономиста Пола Кругмана, игнорируя или критикуя президентскую кампанию Берни Сандерса, призывали в 2016 г. голосовать за Хиллари Клинтон как меньшее зло ради победы над Дональдом Трампом. Кругман публиковал колонку в «The New York Times», где изо дня в день обрушивался с критикой на Сандерса, доказывая, что только успех Хиллари откроет дорогу для прогрессивных преобразований. Согласно Хомскому, успех Трампа превращает республиканскую партию в «самую опасную организацию в мировой истории»[72], а следовательно, поддержка Хиллари была вполне оправданна в моральном и политическом плане, несмотря на то что именно она являлась кандидатом финансового капитала и открыто готовилась начинать новые войны.
Подобный выбор выявил принципиальный разрыв между политическим поведением интеллектуалов и настроениями массы рядовых американцев. Если для политизированного левого интеллектуала голосование за Хиллари оправдывалось лозунгом «Anybody but Trump!» («Кто угодно, только не Трамп»), то выбор рядового обывателя определялся принципом «Anyone but Hillary!» («Кто угодно, лишь бы не Хиллари»). И это было совершенно логично, поскольку речь шла не об абстрактных идеологических принципах, а о том, что Хиллари воплощала консервативную, коррумпированную, антидемократическую систему, которую граждане мечтали изменить. Именно это стремление людей к непредсказуемым переменам наводило ужас на привилегированную интеллигенцию гораздо больше, чем практическая программа Дональда Трампа. В противостоянии правому и национальному популизму либеральные левые решительно выступили как консервативная сила, защитники существующего порядка, хранители дискурса.
По сути, избиратели Трампа и сторонники Сандерса восстали против одних и тех же олигархических порядков. Однако в отличие от Трампа, Сандерс представлял не только бунт против старых политических элит, но и бунт против неолиберализма, против политики жесткой экономии. Это еще не восстание против буржуазного общества как такового, но протест против сложившейся к началу XXI в. капиталистической практики. В то время как правящие классы старались демонтировать остатки социального государства и срыть все, что было построено в эпоху социал-демократии, в обществе, напротив, назревал запрос на усиление социальной политики, на перераспределение ресурсов в пользу трудящихся, на усиление позиций наемного труда, профсоюзов. Причем это было настроение не только безработных или наемных рабочих, но и мелкого и среднего бизнеса, который начал осознавать, что вместе с демонтажем социального государства он теряет своего покупателя.
В итоге основным препятствием для развития успеха Сандерса оказались не консервативные предрассудки населения, которые легко преодолевались пропагандой борьбы за собственные социальные интересы, а культивировавшиеся на протяжении предыдущих 30 лет леволиберальные нормы. Кампания Хиллари апеллировала к таким темам, как феминизм, позитивная дискриминация цветного населения, права сексуальных меньшинств и т. д. В этом смысле очень показательно заявление бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что женщинам, не желающим поддерживать кандидатуру Хиллари, уготовано «особое место в аду». Британский марксистский журнал «Socialist Review» назвал это «попыткой шантажировать избирательниц с помощью поверхностного феминизма»[73]. Однако проблема в том, что именно такой «поверхностный феминизм» насаждался самими левыми в США и Великобритании на протяжении нескольких десятилетий.
Когда Сандерс пошутил по поводу распространяющегося в американском обществе безумия, он немедленно был обвинен в оскорблении душевнобольных, а после того как попросил Хиллари соблюдать правила дискуссии и не прерывать его, когда он говорит, его обвинили в сексизме и унижении женщин. В этом плане кампания Сандерса очень хорошо выявила репрессивную сущность политкорректного дискурса, ориентированного прежде всего на подавление любой содержательной дискуссии и любого индивидуального мнения в той же степени, как и на устранение классового содержания из публичной речи.
Популярность Сандерса среди молодежи была связана как раз с тем, что он, не бросая открытого вызова политкорректности, понемногу смещал дискуссию в сторону обсуждения реальных проблем. Это очень хорошо объяснил в Инстаграме один из его поклонников. Сенатор из Вермонта не повторяет привычные мантры левых интеллектуалов, он не слишком волнуется по поводу меньшинств и мультикультурализма. «Он понимает, что молодым людям не интересно слушать про иммиграцию, нераспространение оружия и геев, нам нужно образование, социальное государство и равенство для всех американских граждан»[74]. Короче говоря, Сандерс возвращал старую классовую социал-демократическую повестку.
Сама по себе эта повестка была сравнительно умеренной, но воспринималась как крайне радикальная. И не только потому, что была предложена на фоне продолжавшегося в течение трех десятилетий демонтажа социального государства, но и потому, что выходила за рамки привычного политкорректного дискурса.
Успех левых популистов был предопределен именно тем, что они отодвинули в сторону, если и не отвергли публично, все нововведения леволибрального радикализма, всю эту невротическую заботу об «идентичностях», «меньшинствах», о политкорректном языке и т. п. Быстрый рост популярности Сандерса стал возможен именно потому, что по мере того как разворачивалась кампания, ему удавалось все более активно ломать стереотипы политкорректности, тактично избегая ее публичного отрицания. Это привело к постепенной эрозии леволиберального дискурса и заложило основы (но пока еще только основы) иной идеологической гегемонии, предполагающей приоритет конкретных и практических социальных потребностей, таких как образование, здравоохранение, рабочие места, развитие инфраструктуры и т. д. Апелляция к этим приземленным и прагматическим темам, реально интересным для масс, вызвала взрыв идейного энтузиазма и коллективистского альтруистического поведения. Прагматические цели не только не противоречат идеализму и самоотверженности. Напротив, они в гораздо большей степени их стимулируют, чем философские и теоретические абстракции — если эти цели связаны с реализацией права и интересов большинства, если через борьбу за них проявляет и утверждает себя принцип демократии.
Между тем на Сандерса обрушился град критики не только со стороны умеренных интеллектуалов, но и слева. Его ругали за то, что он не уделяет достаточно внимания правам сексуальных меньшинств, что он недостаточно радикален в осуждении капитализма, что он повторяет традиционные лозунги «старой» антибуржуазной левой.
Три преступления Берни в глазах ортодоксальных левых состояли в том, что он поставил во главу угла не набор лозунгов, которые являлись абстрактно-правильными, с точки зрения нескольких десятков идеологов, а те, которые позволяли ему мобилизовать поддержку миллионов рядовых американцев; что он не провозгласил цель немедленного преобразования Америки в последовательно социалистическое общество и не предложил одновременно множество взаимоисключающих «альтернатив», а выдвинул программу конкретных реформ, которые практически выполнимы и потребность в которых в той или иной мере осознана большинством населения; что он взялся всерьез бороться за власть и начал добиваться практических успехов.
Но особенно часто кандидату ставили в вину, что он выдвинулся как демократ, «вместо того чтобы выступить независимым или кандидатом третьей партии»[75]. Его защитники возражали, что «Сандерс не смог бы привлечь к себе миллионы американцев, если не вступил бы в праймериз как демократ. Он просто не смог бы стать им известен, его единственный шанс был — участвовать в президентских дебатах Демократической партии»[76].
Для обеих точек зрения, однако, существенно, что, независимо от своих разногласий, участники дискуссии смотрели на кампанию Сандерса исключительно как на возможность пропагандистского или просветительского воздействия на американское общество, а не как на попытку практической борьбы за власть. Тема борьбы за власть, центральная для ленинского или даже социал-демократического марксизма XX в., полностью исчезла из дискуссий западных левых, даже в тех случаях, когда речь идет об оценке деятельности политиков и партий, формирующих правительство, участвующих в правящих коалициях. Применительно к Сандерсу, конечно, можно предположить, что практическая возможность для малоизвестного провинциального политика стать серьезным претендентом на пост лидера США просто не рассматривалась как нечто реальное. Но в основе такого мышления лежал не анализ общества и его политического процесса, а травматический опыт непрерывных провалов и поражений, виновными в которых левые, естественно, считали кого угодно, кроме себя. Попытки аналитической рационализации этого иррационального психологического комплекса привели к тому, что возможность практического успеха либо вообще принципиально не рассматривалась, либо изначально связывалась с чем-то негативным — оппортунизмом, беспринципностью, неправильными коалициями и т. д. Напротив, миллионы молодых американцев, активно влившихся в кампанию Сандерса, не имели этого травматического опыта, не знали о нем, и вообще никогда не задумывались о том, что в США левый кандидат по определению не имеет шансов на успех. Поскольку они не знали об этом, они поддержали своего кандидата и дали ему массовую опору, какой не имел ни один из американских политиков с 1960-х годов.
Стремительно набирающая силу кампания Сандерса привела к серьезным политическим сдвигам в американском обществе, показав, что деятель, открыто называющий себя социалистом и выступающий с достаточно радикальной, хотя и не революционной программой, может получить массовую поддержку куда большую, чем кандидаты истеблишмента. На протяжении нескольких месяцев окружение Хиллари повторяло, что Сандерс, в случае номинации, не имеет шансов выиграть общенациональные выборы. Последующий провал самой Хиллари Клинтон, экспериментально опроверг этот тезис, тем более, что все опросы показывали, что Берни, если бы он стал официальным кандидатом партии, обходил Дональда Трампа, лидировавшего среди республиканцев.
Успех Сандерса был предопределен серьезными процессами, происходившими в американском обществе и прежде всего в среднем классе. Кризис, начавшийся в 2007 г., продемонстрировал уязвимость позиций даже тех слоев общества, которые ранее получали определенные выгоды от неолиберальной политики. В условиях, когда потребление поддерживалось в основном за счет кредитов, долговое бремя среднего класса сделалось невыносимым, расходы на образование и медицину непрерывно росли. К этому добавилось разочарование в администрации Барака Обамы, с которой связывали надежды на существенные, если и не радикальные перемены.
На фоне изменения настроений среднего класса неминуемо должны были появиться политики, поднимающие тему социального государства. В отличие от прошлых периодов в истории США эту повестку поддержали не только левые, всерьез готовые работать ради изменения общества, но и огромные массы людей, до недавнего времени искренне считавшие себя консерваторами.
Цена колебаний
К сожалению, развитие кампании Сандерса продемонстрировало, что для успеха в борьбе за власть недостаточно правильных идей, нужна еще и эффективная стратегия, а главное — политическая воля. От политического лидера в моменты кризиса требуется не только последовательность, решительность и честность, но и готовность идти на риск, принимая на себя ответственность за результаты своих решений, которые далеко не всегда будут однозначно положительными и будут одобряться далеко не всеми сторонниками.
В июне 2016 г. Корбин и Сандерс одновременно столкнулись со стратегическими кризисами, выявившими ограниченность и проблемность реализуемой ими модели поведения. Корбин не решился открыто выступить за выход Британии из Евросоюза, в результате чего не только упустил шанс оказаться в глазах народа победителем после референдума, но и спровоцировал новое противостояние внутри партии. Правое крыло партии потребовало его отставки, а парламентская фракция лейбористов, где его сторонники составляли ничтожное меньшинство, вынесла ему вотум недоверия. Это столкновение Корбину удалось выиграть благодаря поддержке рядовых членов, а главное — благодаря тому, что колебания сменила решимость. Лидер лейбористов отказался подчиниться парламентской фракции, не подал в отставку и был с триумфом повторно избран на свой пост. Но стратегическая инициатива была им упущена, и теперь уже не он, а новый лидер консерваторов Тереза Мей выступала перед лицом общества главным победителем референдума и формулировала новую повестку дня в условиях Brexit.
Кризис Сандерса был связан со скандальным завершением праймериз. Многочисленные нарушения и подтасовки в пользу Клинтон не встречали со стороны сенатора из Вермонта резкого отпора, хотя и вызывали бешенство его сторонников. Эго веди к тому, что руководство Демократической партии, откровенно игравшее на стороне Хиллари, чувствовало свою безнаказанность и в ело себя все более безответственно. После голосования в Калифорнии, когда голоса еще даже не были подсчитаны, Клинтон была официально объявлена победителем.
До тех пор пока выборы продолжались, кампания Берни шла по накатанной колее, независимо от того, что говорила пресса и насколько велики были его шансы победить оппонента, игравшего откровенно по-шулерски. Но теперь вставал вопрос о стратегическом выборе. Оспаривать ли результаты праймериз, которые были, по мнению большинства активистов, нагло подтасованы? Продолжать ли борьбу? Выдвигаться ли в качестве независимого кандидата? Блокироваться ли с партией «Зеленых», которая предлагала ему выступить от ее имени? Раскалывать ли формально Демократическую партию?
На съезде партии, который должен был пройти в Филадельфии, Берни предстояло сделать выбор. Однако кандидат явно отмалчивался, избегая внятных заявлений и оценок. Леволиберальная интеллигенция сделала все, чтобы убедить сторонников Сандерса на съезде в Филадельфии поддерживать именно ту политику, против которой они взбунтовались. Оуэн Джонс, комментатор британской «The Guardian», восхищаясь выдающимися успехами сенатора из Вермонта, доказывал, что теперь главная задача движения состоит в том, чтобы победить Трампа. Предотвратить победу республиканцев нужно потому, что «избрание Трампа будет означать самые большие потрясения для Запада со времен Второй мировой войны»[77]. Этот акцент именно на «calamities» (потрясения, встряски) очень показателен: страх перед переменами выступал в данном случае идеологическим принципом, а сохранение текущего положения вещей — важнейшей политической целью.
Тактически Сандерс был заинтересован тянуть время и откладывать решение до съезда в Филадельфии, на котором он не только мог дать бой Хиллари, но и имел основание рассчитывать на поддержку делегатов в случае, если продолжавшееся в отношении бывшей первой леди расследование ФБР дойдет до серьезного обвинения, подрывающего ее шансы быть избранной. Правда, обвинения были не слишком серьезными — в бытность свою государственным секретарем Клинтон умудрилась перенести большое количество секретной информации на незащищенный домашний сервер, откуда она могла быть легко похищена.
Политика выжидания и маневрирования, избранная Берни в условиях обостряющейся ситуации, оказалась гибельной. Политик не может просто молчать. Стремясь избежать необходимости принимать преждевременное решение, Сандерс начал давать двусмысленные интервью, посылая противоречивые сигналы не только прессе, но и своим сторонникам. Он то заявлял, что его главная цель — победить Трампа (намекая на сотрудничество с Клинтон), то прямо отказывал ей в поддержке, то говорил, что из двух зол мадам Хиллари все же меньшее и он готов в этом качестве ее выбрать. Все это деморализовало активистов в тот самый момент, когда надо был мобилизовать их на борьбу в Филадельфии.
Лидер лейбористов и сенатор из Вермонта действовали по принципу минимизации риска. Этот принцип вполне разумен в «нормальных» ситуациях. Но в том-то и дело, что само появление на первых ролях в политике таких людей, как Корбин и Сандерс, свидетельствовало о том, что буржуазная «нормальность» рухнула и общество переживает системный кризис. В такой ситуации только радикальные идеи и действия приносят успех. А принцип минимизации риска оборачивается в лучшем случае упущенными шансами, в худшем — поражением.
Корбин, поняв необходимость решительных действий, сумел исправить ситуацию. Мобилизовал своих сторонников и выиграл. Сандерс, не решившись на разрыв со своими оппонентами внутри Демократической партии, усугубил свои трудности И проиграл.
После Филадельфии
На съезде в Филадельфии все шло более или менее по плану. Руководство Демократической партии США поставило перед собой цель любой ценой добиться выдвижения Хиллари Клинтон на пост президента, и эта цель была достигнута. Однако, как и следовало ожидать, цена оказалась не просто непомерно высокой, а катастрофической.
На фоне многочисленных разоблачений, в условиях, когда так до конца и не были подведены итоги голосования в Калифорнии, Нью-Йорке и некоторых других штатах, где продолжались судебные и административные разбирательства, конфронтация между сторонниками Клинтон и Сандерса не угасала. Делегаты, поддержавшие сенатора из Вермонта, испытали на себе давление административного ресурса, но не готовы были примириться с победой бывшей первой леди. Напротив, теперь они настроены были куда более агрессивно, чем в начале кампании. Масла в огонь подлила очередная публикация разоблачений на сайте Wikileaks. На сей раз достоянием общественности стала переписка функционеров Демократической партии, однозначно доказывавшая, что последние сознательно нарушали правила проведения праймериз, поддерживая Хиллари. Председатель национального совета партии Дебби Вассерман-Шульц вынуждена была подать в отставку, тут же получив работу в качестве одного из руководителей кампании Клинтон.
Съезд в Филадельфии завершился большим расколом. И раскол этот произошел не столько между сторонниками Хиллари Клинтон и ее противниками, сколько между Берни Сандерсом и движением, которое он еще за несколько дней до этого возглавлял и символизировал. Сенатор из Вермонта, собиравший по всей Америке многотысячные толпы и зажигавший их своими яркими речами, в Филадельфии выглядел нелепо и беспомощно. Выступив с призывом поддержать Хиллари, он буквально за считанные секунды превратился из харизматичного лидера, воплощавшего надежды миллионов людей, во второстепенную политическую фигуру, неспособную влиять на ход событий. С растерянной улыбкой он повторял, что Хиллари будет отличным президентом, что партия приняла замечательную прогрессивную платформу, уговаривал своих возмущенных сторонников «жить в реальном мире», явно демонстрируя полное отсутствие связи с новой политической реальностью, вне которой он никогда бы не смог стать известным общенациональным политиком.
Неудивительно, что подобные события обострили обстановку на съезде. Речь сенатора неоднократно прерывалась возмущенными криками собственных сторонников, фактически сорвавших его выступление. Еще больше досталось сенатору Элизабет Уоррен, которая ранее считалась лидером левого крыла партии. Отказавшись поддержать Берни, она в значительной мере подорвала его шансы заручиться хотя бы ограниченной поддержкой среди партийной элиты, и не исключено, что она же сыграла немалую роль в подготовке примирения Берни с Хиллари. Хотя пресса предсказывала, что в благодарность за подобные услуги Уоррен будет объявлена кандидатом в вице-президенты, этого не случилось. Кандидатом на пост вице-президента бывшая первая леди предложила сенатора из Виргинии Тима Кейна — безликого и непопулярного политика, отвергнув рекомендации тех, кто призывал ее выбрать кого-нибудь из левого крыла партии, чтобы успокоить сторонников Сандерса.
Голосование ожидаемо завершилось победой бывшей первой леди, которую поддержали не только делегаты, избранные в ходе праймериз, но и «супер-делегаты», заранее собранные партийным руководством (конгрессмены, сенаторы и мэры, которые могут участвовать в съезде, не будучи избранными в ходе праймериз). Возмущенные сторонники Сандерса покинули зал заседаний. Тем самым со съезда ушло без малого 1900 человек, или 48 % делегатов, избранных с мест.
Исторический смысл произошедшего состоял в беспрецедентном расколе Демократической партии, знаменующем острейший кризис американской двухпартийной системы. Однако левые не только не использовали открывающиеся возможности, но и не осознали их. Разумеется, дискуссия о третьей партии шла раньше, велась во время выборов и продолжалась после них. Но суть вопроса состояла не в том, удастся ли в США регистрировать и избирать кандидатов, не принадлежащих к одной из двух буржуазных партий, а в том, какую политику проводить левым. Без решительного политического разрыва с либерализмом и без последовательного отстаивания собственной, принципиально иной позиции никакие дискуссии о третьей партии не имели смысла. А именно на такой разрыв не решился ни Берни, ни кто-либо из его ведущих сторонников.
Формально альтернативу демократам составила Зеленая партия, которая выдвинула на президентских выборах Джил Стайн. Ее кампания в значительной мере повторяла лозунги Сандерса, но без участия самого Берни и его сторонников не могла стать политическим событием, меняющим ход выборов.
Главным победителем очередной фазы политической гонки оказался миллиардер Дональд Трамп, выигравший праймериз республиканцев. И не только потому, что его рейтинг вырос после скандального съезда демократов в Филадельфии. Капитуляция Берни перед либеральным истеблишментом превратила эксцентричного Трампа в единственного альтернативного кандидата, противостоящего вашингтонской либеральной элите. Трамп, в отличие от Берни, проявил бойцовские качества и не отступил, когда партийный аппарат пытался предотвратить его победу. Он жестко боролся за свои интересы и победил.
Высказывания Трампа, не считавшегося с правилами политкорректности, вызвали истерику среди столичных интеллектуалов, но они же привлекли к нему интерес миллионов простых американцев, мнение которых интеллектуалы ни в грош не ставили. Пропаганда массмедиа, пытающихся продвигать первую леди исключительно как «меньшее зло» по отношению к «ужасному» Трампу, дала обратный эффект. Оба официальных кандидата оказались беспрецедентно непопулярны. Скандалы вокруг бывшей первой леди не прекращались. Кампания, построенная исключительно на запугивании избирателей, потоки бессодержательной медийной риторики, самолюбование кандидатки и оскорбительные нападки на членов своей партии, несогласных с ее выдвижением, неминуемо подрывали доверие к кандидату.
Позднее, когда Трамп был избран президентом, ведущие американские левые интеллектуалы Том Франк и Майкл Мур заявили, что именно демократы и возглавлявшие партию либеральные политики несут ответственность за произошедшее[78]. Однако это было лишь половиной правды. Причем наименее существенной.
Призывая поддержать Хиллари Клинтон во имя борьбы с Трампом, сенатор Сандерс, сам того не сознавая, совершил в общественном мнении перелом, который обеспечил победу республиканцам. Если верить в лагере демократов некому, если даже лучшие и честнейшие из них могут сломаться, если борьба против пороков системы завершается поддержкой дамы, ставшей в массовом сознании воплощением всех этих пороков, то голосование за демократов означает такую же личную моральную капитуляцию для каждого конкретного избирателя Взбунтовавшееся во время праймериз 2016 г. молодое поколение американцев на это не пошло. Леволиберальные интеллектуалы могли сколько угодно призывать людей поддерживать «меньшее зло», но этим они лишь подрывали собственный авторитет, сводя на нет свои прежние заслуги и достижения.
Филадельфийская капитуляция Берни готовилась на протяжении почти всей избирательной кампании левыми интеллектуалами из его ближнего и дальнего окружения. Все они — от Ноама Хомского до Майкла Мура — дружно повторяли, что главной опасностью является скандалист и гомофоб Дональд Трамп, что поддержка Хиллари остается единственным способом предотвратить катастрофу, которая неминуемо случится, если кандидат республиканцев выиграет выборы. В итоге именно такие интеллектуалы, как Мур, и такие политики, как Сандерс и Уоррен, своим переходом в лагерь Клинтон сделали победу Трампа неминуемой. Их капитуляции вызвали столь сильное отвращение у молодой части избирателей, что голосование против Клинтон стало для них делом принципа.
Внутрипартийная победа Клинтон закономерно оказалась пирровой. Посмотрев на избирательные махинации, коррупцию аппарата Демократической партии, мошенничество и ложь, миллионы людей вполне резонно сделали вывод, что далеко не Трамп является «большим злом» в американской политике. Трампа приближали к власти не те, кто раскалывал Демократическую партию, выступая против Хиллари Клинтон, а те, кто во имя борьбы с правой угрозой поддерживали неолиберальную политику, объективно создающую условия для неминуемой победы правого популизма. А капитуляция Сандерса вырвала последние моральные опоры из-под политической риторики демократов.
Заявив о поддержке Клинтон, сенатор Сандерс предал не только своих сторонников, избирателей и самого себя, но и американскую демократию. Опыт Сандерса и Ципраса в равной степени доказывает, что в политике нет такого понятия, как «почетная капитуляция». Компромиссы необходимы и неизбежны, но не ценой отказа от своих стратегических целей и от принципов, ради которых, собственно, и велась борьба. В подобном случае политик становится заложником тех самых сил, против которых еще недавно боролся.
Клинтон воплощала в сознании большинства американцев все то, что им в своей стране не нравится. Отвращение перевесило страх, и Трамп стал президентом.
Капитуляция Сандерса позволила поставить своего рода политический эксперимент. Отказ от продолжения борьбы сенатор из Вермонта мотивировал необходимостью объединить все силы, чтобы остановить Трампа. Результатом такой тактики стала победа Трампа на президентских выборах — в значительной мере голосами разочарованных и обиженных сторонников самого же Сандерса в северных либеральных штатах. Рискнув баллотироваться в качестве независимого или кандидата от «зеленых» (как того требовали активисты, возмущенные фальсификацией праймериз), сенатор из Вермонта как минимум не сделал бы ситуацию демократов хуже. И даже если отбросить сценарии, по которым он выигрывал бы трехстороннюю гонку одновременно против Трампа и Клинтон, из опросов совершенно очевидно, что он гарантированно выходил на первое место сразу в нескольких штатах, что автоматически привело бы к радикальному изменению политической системы США и позволило бы, на фоне относительного равновесия между республиканцами и демократами, представителям третьей партии стать в коллегии выборщиков решающей силой, от которой зависела судьба Белого дома.
Разумеется, Берни, несмотря на весьма убедительные данные социологии, не мог знать всего заранее. Но именно готовность принять на себя ответственность за трудное решение и пойти на риск отличает настоящего политика от партийного функционера или чиновника. Отказ от риска равносилен отказу от стремления к радикальным переменам и к масштабным победам. В ситуации выборов 2016 г. Берни проявил себя не как политик, а как функционер.
Поражение левого популизма, вызванное в значительной мере нерешительностью его лидеров и их неготовностью на последовательный разрыв с либералами, предопределило то, что силой, способной мобилизовать массовое сопротивление системе и переломить ситуацию, стал правый популизм. Однако такой поворот событий отнюдь не снимает вопроса о необходимости левой альтернативы. Практическая реализация этой альтернативы возможна лишь в том случае, если левые пойдут на решительный разрыв с либералами. Вместо того чтобы выступать защитниками системы от наступления популистских сил, левые должны научиться использовать ситуацию, осознав, что именно крах неолиберального порядка открывает для них новые возможности.
Жестокий реванш американского рабочего класса
Вечером 8 ноября 2016 г., когда вопреки всем прогнозам выяснилось, что Дональд Трамп, которого социологи и политические аналитики уже списали как обреченного на поражение, набирает очки, в либеральных американских кругах началась паника. Она усугубилась после того, как сообщили, что кандидат республиканцев вышел вперед в решающих штатах. Сайт канадского посольства, где можно было заполнить электронную заявку на иммиграцию, обвалился от небывалого количества запросов. Американский сегмент Интернета взорвался, с одной стороны, призывами «валить из страны», а с другой — веселыми прощальными посланиями: провинциалы и рабочие желали либеральным интеллектуалам, голливудским знаменитостям и финансовым аналитикам поскорее убраться из страны, которую они столько лет мучили.
Если не брать во внимание откровенную ложь, когда Трампу приписывали то, чего он не говорил, то обвинения против нового президента основывались на нескольких высказываниях в адрес мусульман, а также на призыве покончить с незаконной иммиграцией. Беда в том, что именно этот призыв предопределил популярность Трампа среди беднейшей части граждан, включая афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, которые в наибольшей степени страдали от конкуренции нелегалов. Атаки Трампа против политкорректности отнюдь не являлись проявлением его личных чувств, его необузданности и хамства, это была вполне осознанная стратегия консолидации тех социальных групп, которые пострадали от диктатуры политкорректности. Причем пострадали совершенно конкретно, материально, утратив свои заработки, рабочие места, доходы.
Пропаганда Трампа была вполне рациональна и эффективна именно потому, что резонировала не с чувствами и предрассудками людей, как считают интеллектуалы, а именно с их реальными интересами, пусть и осознаваемыми зачастую в искаженной форме. Это был своего рода маркер, позволявший миллионам обиженных представителей американских низов сразу же опознать кандидата как своего, как противника либеральной элиты.
Паника либералов в значительной степени оказалась следствием их собственной пропаганды. Создавая образ Трампа-монстра, журналисты и интеллектуалы сами начинали верить в сконструированное ими же самими абсолютное зло. Критиковать Трампа по существу оказывалось невозможно. Оставалось сосредоточиться на нескольких неудачных высказываниях, приписывая ему все мыслимые пороки — расизм, гомофобию, ненависть к женщинам и т. п. И хотя кандидат республиканцев в самом деле не раз позволял себе неполиткорректные высказывания, основным источником для этих обвинений служили не его слова или действия, а то, что ему приписывали его противники, обильно цитировавшие друг друга и ссылавшиеся друг на друга за недостатком иных фактов. Если Хиллари с готовностью прощали весьма сомнительные высказывания и реальную практику дискриминации женщин в возглавлявшихся ею организациях (как ни искали, ни одного подобного примера в компаниях Трампа не было найдено), то Дональда Трампа изображали не только расистом и гомофобом, но даже фашистом.
Ничего общего с действительностью эти обвинения не имели. «Если Трамп в самом деле фашист, как утверждают либералы, — иронизировал Том Франк, — почему же демократы не постарались выдвинуть более сильного кандидата, чтобы его остановить, предпочтя аппаратчицу, которая просто дождалась своей очереди баллотироваться в президенты? Выдвижение Клинтон означает, что они либо не верили в то, что сами говорят, либо не отдавали себе отчета в том, к каким последствиям для страны приведет их собственный оппортунизм, либо и то и другое сразу»[79].
Масса рядовых американцев не задумывалась о том, насколько политкорректен тот или иной кандидат. Она уже не доверяла пропаганде, и чем более агрессивно вели себя массмедиа, тем меньше их слушали. Критика в адрес эксцентричного миллиардера оказывалась недостаточной для того, чтобы компенсировать гораздо более сильные чувства, которые вызывала у миллионов американцев бывшая первая леди. Над Трампом, что бы ни говорили интеллектуалы, можно было посмеиваться, а Хиллари ненавидели.
До последнего момента либеральные журналисты доказывали, будто победа Трампа невозможна, поскольку его поддерживают только консервативные белые мужчины, тоскующие о прежних временах, когда они господствовали в Америке. Белые мужчины уже давно не большинство ни среди населения, ни среди голосующих избирателей. Но за Трампа проголосовала изрядная часть тех самых меньшинств, которые, по мнению журналистов, должны были его бояться и ненавидеть. Очень многие чернокожие американцы и выходцы из Латинской Америки пошли к избирательным участкам с одной мыслью — наказать демократов за многолетнее предательство, за то, что те на протяжении многих лет использовали их как электоральный ресурс, игнорируя их реальные потребности и интересы. Привилегированные белые мужчины и не менее привилегированные дамы из хорошо обеспеченных буржуазных семейств, выступавшие самозваными защитниками меньшинств, никогда не интересовались тем, что в самом деле думают и чего хотят жители черных или испаноязычных гетто. Они были уверены, что, подкупая лидеров общин, распределяющих подачки адресной помощи, они гарантируют себе контроль над голосами массы бессловесных созданий, лишенных собственной воли и мнения.
Долгое время это работало. Но в 2016 г. вышло иначе. Политика противопоставления многочисленных меньшинств «белому» рабочему классу провалилась из-за того, что классовые различия внутри этнорелигиозных групп оказались важнее вертикальной солидарности, которую проповедовали либералы и их союзники слева. Меньшинства всегда были разделены по классовому признаку, они могли представлять собой единое целое лишь в воображении идеологов. Но до тех пор пока удавалось контролировать электоральное поведение меньшинств через этнические элиты и коррумпированных community leaders, эту реальность можно было игнорировать.
Победа Трампа была не в последнюю очередь обеспечена тем, что значительная часть «небелых» низов предпочла солидарность с традиционным «белым» рабочим классом. Постэлекторальная статистика демонстрирует, насколько ложным было представление американских либералов (и их левых союзников) о самих себе и об обществе. Хиллари, несмотря на все феминистские декларации, получила меньше голосов женщин, чем Барак Обама. Конечно, среди афроамериканцев и латиноамериканцев демократы статистически все еще лидировали. Но Трамп, которого обвиняли в расизме, смог получить больше голосов небелых американцев, чем кто-либо из республиканских кандидатов за долгие годы. Голосование определялось не цветом кожи или придуманной либеральными идеологами идентичностью, а социальными интересами. Республиканцы победили не только в своих привычных цитаделях на Юге, но и в таком традиционно либеральном штате, как Висконсин. И именно эти голоса во многих случаях оказывались решающими, склоняя чашу весов в пользу Трампа.
Сторонники Берни Сандерса также в немалом числе отдали голоса кандидату республиканцев, несмотря на то что сам их лидер отчаянно агитировал за Хиллари Клинтон, которую еще недавно критиковал. А мусульмане, являющиеся гражданами США, активно голосовали за Трампа, несмотря на его высказывания. Социальное положение влияло на выбор людей гораздо больше, чем принадлежность к той или иной этнической группе.
Рабочие, голосовавшие за Трампа, действовали совершенно сознательно, исходя из своих классовых интересов. Нерегулируемая иммиграция является необходимой частью и органическим элементом того самого открытого рынка и частью общего процесса дерегулирования, которые так упорно и убедительно критиковали все левые экономисты. Логически невозможно представить себе регулирование рынка товаров и капиталов без одновременного регулирования рынка труда, а следовательно, и иммиграции.
Позиция избирателей Трампа, поддержавших его призыв ограничить иммиграцию, была продиктована жесткой логикой соревнования на рынке труда, усугубленной неолиберальными реформами. Но она не имела ничего общего с расизмом или ксенофобией, будучи отражением текущего классового интереса. Ленин называл это «буржуазной политикой рабочего класса»[80]. Подобная ситуация вполне естественна при капитализме для рабочего класса, который не только имеет общие социальные интересы, но встроен и в систему профессионально-отраслевых связей, что заставляет его в определенных ситуациях поддерживать определенные группы буржуазии, являющиеся для него «своими» в силу корпоративно-производственной и рыночной логики.
С точки зрения идеологии левых подобное проявление корпоративной солидарности является реакционным. Но в глазах представителей финансового капитала оно не менее опасно. Ведь речь идет о блокировании многомиллиардных денежных потоков, позволяющих банкам и подкупленным ими политикам паразитически существовать за счет реального сектора экономики.
Либеральная белая элита, активно использовавшая дешевый труд нелегалов, была вполне сознательно заинтересована в сохранении существующего порядка вещей. Она не скрывала своего пренебрежительного отношения к консервативным провинциальным работягам, «красношеим» (rednecks), живущим собственным физическим трудом. В вину им ставилось даже то, что большая часть из них (хотя далеко не все) имела несчастье родиться, подобно самим же вашингтонским интеллектуалам, белыми, а половина из них — еще и мужчинами. Между тем в середине XX в. такие же белые провинциальные трудяги голосовали за прогрессивных кандидатов, поддерживали профсоюзы и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. К началу XXI в. они стали консерваторами — не потому, что изменились их собственные интересы и потребности, а потому, что они были безжалостно преданы столичными левыми, предпочитающими игру во всевозможные «дискурсы» и «идентичности» борьбе за права работников. Описывая жителей пролетарских городков Среднего Запада, американский журналист Том Франк констатировал: «Почти каждый из них может рассказать вам про отца, который был верным членом профсоюза и убежденным демократом, и как потом новое поколение стало голосовать за республиканцев»[81].
Однако Дональд Трамп оказался не просто представителем консервативного лагеря, за которого проголосовали фрустрированные рабочие. Он стал первым протестным кандидатом, получившим возможность прорваться в Белый дом. И в этом качестве он был уже не столько консерватором, сколько выразителем плебейского возмущения, не укладывающегося в привычные рамки «правой» и «левой» политики.
Избирательная кампания Трампа, как признавал Том Франк, воспроизводила идеи и лозунги левых[82]. Республиканского кандидата поддержали фермеры, мелкие служащие и провинциальная интеллигенция. Это действительно было восстанием забытой и обиженной провинциальной Америки против обогатившихся за счет труда мигрантов избалованных жителей Калифорнии, чиновников-космополитов из Вашингтона, против либеральной элиты, давно уже повернувшейся спиной к собственной стране.
Том Франк отмечал, что призывы Трампа, адресованные избирателям Сандерса, были не просто попыткой привлечь голоса. Они отражали радикальное изменение в позиции республиканцев, кандидат которых теперь стоял не справа от демократов, а слева от них. «Обращения Дональда Трампа к сторонникам сенатора Берни Сандерса были только началом. Кандидат республиканцев сознательно воспроизводил стиль Франклина Рузвельта, осуждал “большой бизнес” (и не один раз, а постоянно), призывал к менее кровожадной внешней политике совершенно в духе кампании МакГоверна, некогда призывавшего Америку вернуться домой и не лезть в чужие дела»[83].
Английская журналистка Меган Траделл на страницах «International Socialism» также констатировала, что социальная база Сандерса и Трампа во многом схожа, а массовый переход рабочих в лагерь республиканцев объясняется не в последнюю очередь «предательством политических элит»[84]. Именно накопившийся за долгие годы и наконец вырвавшийся наружу протест против сложившейся системы предопределил поведение общественных низов во время выборов 2016 г. Просто у этого плебейского гнева появилось два варианта политического выражения: «В зависимости от географических или индивидуальных обстоятельств, уровня расизма, наличия связи с той или иной партией и многих других обстоятельств, одних тянуло к Сандерсу, других — к Трампу»[85]. Сходство между сторонниками Трампа и Сандерса очень хорошо определил один из рядовых американцев: «Люди, которые любят Трампа, и люди, которые любят Сандерса, едины в одном — они выступили против нашей коррумпированной власти»[86].
Синкретические популистские движения начала XXI в. явились не только выражением стихийного народного гнева против элиты, но и вполне рациональным ответом общественных низов на последовательное, систематическое и, главное, вполне сознательное предательство их интересов левым политическим и интеллектуальным классом. Эти движения никак не являются левыми, но было бы глубоко ошибочно во всех случаях характеризовать их как правые или однозначно реакционные. На самом деле мы имеем единую волну популистского протеста, политико-идеологическое оформление которой в зависимости от специфических условий страны и от позиции харизматических лидеров колеблется от левого до правого радикализма, при том что основная масса участников движения чужда как той, так и другой идеологии.
Там, где левые в самом деле верны своему классовому подходу, их задача состоит в борьбе за идейную гегемонию внутри популистского протеста, но либеральные левые выбрали прямо противоположный путь — защиты своего дискурса от вызовов народного здравого смысла и борьбы против низового движения за интересы буржуазной элиты. Комментируя панические публикации американской прессы, российский леволиберальный блогер Кирилл Мартынов не удержался от резкого комментария в адрес своих американских коллег, заметив: «Отвратительной мне кажется риторика, согласно которой “старые, бедные и глупые” проголосовали за "уничтожение будущего для молодых и умных”. Демократия для всех, у стариков тоже есть право думать о будущем, как они его хотят видеть, идите к черту»[87].
Ту же тенденцию в Британии отчасти уловили Джереми Корбин и его окружение, заметившие, что, несмотря на все ценностные различия, «есть некоторое сходство» между настроениями сторонников Трампа и их собственных. Конечно, «многие из предлагаемых Трампом ответов на проблемы, с которыми сталкивается Америка, и его риторика, раскалывающая общество, несомненно, неправильны», но можно приветствовать результаты американских выборов как «отторжение политического истеблишмента»[88]. Несмотря на крайне негативное отношение к самому Дональду Трампу, левые лейбористы совершенно правильно оценили смысл происходящего как результат стихийного низового бунта. А российская деловая газета «КоммерсантЪ» в статье, посвященной выборам 2017 г. в Британии, неодобрительно назвала самого Корбина «красным Трампом»[89].
Левые против рабочих
Инаугурация Дональда Трампа сопровождалась впечатляющими акциями протеста. Сорок пятый президент США не пробыл на своем посту и одного дня, а в Вашингтоне и других столичных городах Америки уже прошли массовые демонстрации. Публика протестовала не против какого-либо решения главы государства или против его политики в целом, а вообще против его личности. Участники выступлений так и не смогли сформулировать ни одной политической претензии к новому хозяину Белого дома. Куда лучше суть происходящего выразил идеолог российской приватизации Анатолий Чубайс, рассказывая про свои впечатления от Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе буквально в те же самые дни. По словам Чубайса, победа Трампа вызвала у собравшихся на форум представителей глобальной элиты ощущение ужаса. Единственным отрадным моментом на этом фоне было выступление китайского лидера: «Давос открывал генеральный секретарь Компартии Китая — господин Си Цзиньпин речью, которая просто была великолепной, одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины, и еще в завершение с заявлением о том, что Китай открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты. То есть такая суперлиберальная речь, построенная в лучших традициях чикагской школы». Что же касается Трампа, то, по словам Чубайса, отношение к нему участников Давоса выразилось простой формулой: «либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе»[90].
Оценка произошедшего, которую давали леволиберальные круги США, мало отличалась от мнения идеологов неолиберализма. Столичные интеллектуалы готовы были винить в случившемся кого угодно, кроме самих себя. Как и после Brexit, высказывания интеллектуалов были полны открытой ненавистью и презрением к собственному «необразованному» и «неправильному» народу. По мнению леволиберальной интеллигенции, успех Трампа был частью общего процесса «подъема расистских правых сил», параллельного тому, что «происходит сейчас в Европе»[91]. Джоан Велш жаловалась на страницах «The Nation»: «…такое впечатление, что все, что мы знали о политике, оказалось неверным», но тут же с готовностью обвиняла во всем произошедшем «белых мужчин», которые «начали воспринимать себя в качестве меньшинства и защищать свои интересы как сознательное меньшинство»[92]. Однако почему подобные движения поднялись именно в середине 2010-х годов, почему именно они оказались единственным серьезным вызовом, брошенным неолиберализму, почему получили массовую поддержку и почему в борьбе с ними левые оказались в одной лодке с правящей элитой? Об этом аналитики молчали.
Из публикаций, которыми пестрели «прогрессивные» американские издания после выборов, становится ясно, что эти люди ничего не поняли и ничему не научились. В приступе отчаяния и паники они стали писать и говорить то, что еще вчера скрывали, трактуя поражение Клинтон и американского истеблишмента как собственное. Даже Том Франк, признавая, что многие предложения Трампа совпадают с идеями левых, не только не готов был поддержать нового, избранного американскими низами президента в реализации данной части его программы, но напротив, солидаризовался с либеральным мейнстримом, готовым бороться против любых инициатив нового хозяина Белого дома[93]. В этом плане левый фланг американского истеблишмента полностью солидарен с официальными политиками Республиканской и Демократической партий.
Выразителем подобных настроений стал известный кинорежиссер Майкл Мур, опубликовавший в сети своеобразную декларацию принципов антитрамповского сопротивления уже на следующий день после выборов. Ключевая идея его программы состояла в том, чтобы через активное сопротивление Трампу «захватить Демократическую партию и вернуть ее народу»[94]. Увы, бескомпромиссная борьба против новой администрации не только не способствовала полевению Демократической партии, но, напротив, лишала левых самостоятельного голоса в американской политике, сводя на нет достижения кампании Берни Сандерса, окончательно превращая радикальных критиков системы в заложников праволиберального лагеря, ведущего борьбу за ее сохранение.
На таком фоне позиции самого Берни Сандерса оказались наиболее взвешенными и разумными. Сенатор из Вермонта признал, что победа Трампа отражает возмущение американских рабочих и беднеющего среднего класса итогами неолиберальной политики, и заявил, что готов сотрудничать с победителем в той мере, в какой тот станет «всерьез проводить политику, направленную на улучшение жизни рабочих семей в нашей стране»[95]. Позднее, когда новый президент заявил о выходе из Трансатлантического партнерства, прекращении переговоров о создании аналогичного Трансатлантического партнерства и о пересмотре договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), Сандерс выразил ему поддержку. Он отказался бойкотировать инаугурацию Трампа и раз за разом обращался к президенту с призывами выполнять прогрессивные обещания, которые тот дал во время избирательной кампании. В то же время Сандерс появлялся на протестных демонстрациях, выступал перед противниками Трампа, но на всякий случай избегал руководящей роли в этих акциях.
У этого изощренного тактического маневрирования, однако, был один важный недостаток: за тактикой не стояло никакой стратегии. А без стратегии было невозможно принятие судьбоносных решений, определяющих роль левых в разрешении грандиозного институционального кризиса, который охватывал не только Америку, но и весь мир.
Выборы 2016 г. в США выявили содержательную слабость левых в большей степени, чем любое другое политическое событие предшествовавших двух десятилетий. Успехи Трампа и Сандерса в равной степени продемонстрировали, что борьба за политические и социальные преобразования в странах капиталистического центра вполне возможна, но проблема как раз в том, что сами левые не хотят и не могут ее вести, предпочитая абстрактные кампании солидарности с жителями экзотических стран конкретной работе по изменению жизни в собственной стране и защите интересов «белых» рабочих. Любовь к угнетенным жителям «третьего мира» — часть обязательного джентльменского набора либеральных левых. Но судьба стран периферии не в последнюю очередь зависит именно от политического развития в странах центра. И любые кампании солидарности по конкретным специфическим вопросам даже в случае успеха не обеспечивают реальных изменений, которые могут быть гарантированы лишь демонтажом неолиберального экономического порядка. Как будет происходить этот демонтаж, кто в конечном счете выиграет, это вопрос политической борьбы. Но именно разрушение созданной в конце XX в. системы глобальных институтов открывает перед народами глобального Юга практическую возможность взять в свои руки собственную судьбу и самостоятельно сформулировать новые стратегии развития.
Победа Трампа сама по себе не означает торжества каких-либо светлых идей и не ведет к возвращению социального государсгва. Но это важный и необходимый шаг на пути разрушения неолиберальной системы. Пока негативная, разрушительная работа не сделана, никакую позитивную повестку дня реализовать невозможно. Без разрушения нет созидания. И страх перед разрушением действующего порядка вещей превращает симпатичных идеалистов, бывших леворадикальных интеллектуалов в безнадежных и злобных консерваторов, как это, впрочем, не раз уже случалось в истории.
Противоречия Трампа
Избирательная программа Трампа в экономической части оказалась самой левой, какую только можно представить себе в контексте американской политики 2010-х годов. Она призывала к реформе банковского сектора, восстановлению закона Гласса-Стеголла (Glass-Steagall Act) о регулировании финансового рынка, введенного Ф.Д. Рузвельтом и отмененного в
1999 г. Позднее, впрочем, эти идеи не получили развития ни в деятельности новой администрации, ни в ее риторике. Более активно Трамп настаивал на расширении доступного медицинского обслуживания и сети детских садов. Позднее им было внесено предложение ввести в США для женщин отпуск по рождению ребенка. К началу XXI в. Америка оставалась единственной развитой страной, не имеющей подобной практики — ни одна из администраций демократов, гордившаяся своими связями с феминистками, не пыталась сделать ничего подобного. С изумлением Франк констатировал, что Трамп вел себя совсем не так, как положено республиканцу, «высший лидер партии почти дословно повторял за левыми критику “свободной торговли”, говоря почти го же самое, что всю жизнь говорю я»[96].
Между гем в отличие от Тома Франка Трамп никоим образом не является противником капитализма. Угрозу он представляет не для буржуазного порядка как такового, а для его неолиберальной версии, у твердившейся в мировом масштабе после крушения СССР. Сорок пятый президент США твердо привержен принципам протекционизма, поставив перед собой цель защищать американские рынки и рабочие места. И что особенно важно, он призвал остальные страны делать то же самое, не считаясь даже с интересами транснациональных корпораций, базирующихся в США.
Тревога представителей транснациональной финансовой элиты, собравшихся в Давосе, была понятна. Торговые договоры, на которые покусился Трамп, посвящены далеко не только торговле. Речь в них идет об ограничении суверенитета правительств, урезании демократических и социальных прав граждан, равно как и о многочисленных привилегиях, предоставляемых крупнейшим международным компаниям. Возникает, однако, вопрос: почему американский миллиардер Дональд Трамп оказался противником этих соглашений?
Трамп и его окружение, хоть и баснословно богатые люди, но они не принадлежат к транснациональной корпоративно-финансовой элите, сложившейся и установившей свое господство в течение четверти века, прошедшей после крушения СССР и торжества неолиберального порядка в мировом масштабе. Капиталы этой группы американской буржуазии достигают 3–4 млрд долл. В масштабах капитализма начала XXI столетия это уже не столь огромные состояния. Транснациональные компании контролируют ресурсы в десятки раз большие, управляя зачастую сотнями миллиардов. Таким образом, Дональд Трамп оказался вполне типичным представителем среднего бизнеса, ориентированного на местный рынок и на развитие реального сектора. Эта часть буржуазии закономерно восстала против транснациональных корпораций, которые, объединившись с крупнейшими банками и либеральной политической элитой (органической частью которой оказались политкорректные левые), в течение четверти века использовали свое господствующее положение в Вашингтоне, чтобы менять в свою пользу правила игры и перераспределять ресурсы, подрывая положение не только рабочих и среднего класса, но и значительной части предпринимателей.
Взбунтовавшись против транснациональной олигархии, средний бизнес вынужден был искать союзников. Низы общества, на протяжении десятилетий страдавшие от неолиберальной политики, с энтузиазмом присоединились к бунту. Подобный альянс не может быть прочным, но он не случаен. Для того чтобы рабочее движение восстановилось и набрало силу, нужно развитие промышленности, внутреннего рынка, нужна социальная политика, укрепляющая положение трудящихся, дающая им уверенность. Короче, нужен протекционизм.
Исторически именно на фоне протекционистской политики выросли и германская социал-демократия, и русский рабочий класс, на который смогли опереться большевики. Без промышленного развития и формирования внутреннего рынка не было бы и революции 1917 года[97].
В то время как трудящимся нужны рабочие места и достойные заработки, бизнесменам, работающим на внутренний рынок, нужны платежеспособные потребители, которыми должны стать те же рабочие. В свое время Генри Форд сформулировал известный принцип: мои рабочие сами должны покупать сделанные ими автомобили. Политическим воплощением этого принципа стал «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в 1930-е годы. Именно про те времена «величия Америки» напомнил Трамп своим избирателям. Но это были не только времена социальных преобразований и укрепления национальной промышленности, это был и золотой век американского рабочего движения. Остановить подъем левых сил и профсоюзов в США удалось за счет холодной войны, антикоммунистических чисток и маккартистских гонений против радикальной интеллигенции, которая, утратив связь с рабочими, укрылась в комфортабельном академическом гетто.
В середине XX в стратеги западных левых много рассуждали о необходимости альянса рабочего класса со средним бизнесом против крупного монополистического капитала. Парадоксальным образом, именно такой альянс стихийно сформировался вокруг фигуры Трампа, за которого выступили рабочие, фермеры, мелкие предприниматели, провинциальная интеллигенция. Только гегемоном этого блока оказались не продвинутые левые интеллектуалы, а грубый и неполиткорректный буржуа с Манхэттена. И винить в этом интеллектуалы должны не Трампа, а самих себя — ведь именно они с презрением отвергли в свое время «устаревшую» классовую политику. По сути, Трамп взялся выполнять все то, о чем четверть века говорили левые на Западе, но в то же время опирался на идеологические представления, не только противоречившие его собственной программе, но и блокирующие ее реализацию.
Идеология сорок пятого президента США оказалась соткана из противоречий. И это не случайно. Его программа, как и сложившаяся вокруг него коалиция социальных сил, являются переходными, ориентированными лишь на решение одной, но абсолютно принципиальной задачи — подрыв господства транснациональной финансовой олигархии. Колебания Берни Сандерса, который то высказывал одобрение решениям Белого Дома, то обрушивался с яростной критикой на его хозяина, в свою очередь, отразили объективное противоречие, воплощенное администрацией Трампа. В самом деле, ряд действий и заявлений Дональда Трампа ставят его в один ряд с антиглобалистами, протестовавшими в Сиэтле в 1999 г. Но тут же другие его решения и высказывания совершенно однозначно маркируют президента не просто как консерватора, но как сторонника свободного рынка и либеральных экономических доктрин.
С точки зрения самого Трампа, конечно, тут не было никакого противоречия. Президент, как и большинство его избирателей, не верил в глобальное потепление, зато верил в свободный рынок и низкие налоги. Американский внутренний рынок надо защищать от недобросовестных иностранных конкурентов. Попросту говоря, либерализм для «своих», протекционизм для «чужих». И ведь именно так развивался американский капитализм в первой трети XX в.!
Однако транснациональный капитал, сложившийся к концу XX столетия, изменил правила игры не только на глобальном, но и на внутреннем рынке. Именно эти новые правила и привели мир к системному кризису после 2008 г. Крушение неолиберального миропорядка является стихийным и естественным процессом, порожденным его собственной, саморазрушающей логикой, а отнюдь не идеологическими представлениями антиглобалистов или Трампа. Этот процесс распада начался еще до прихода к власти сорок пятого президента США, да и сама победа Трампа является следствием кризиса, уже в полной мере развернувшегося и проникшего во все поры общества. В 2016 г. политика синхронизировалась с экономикой. Принципиальное отличие Трампа от его либеральных соперников состояло не в том, что он не верил в глобализацию, а в том, что он отдавал себе отчет в ее крахе, и потому пытался не спасать разрушающуюся систему, но выстраивать новую политику исходя из новой реальности.
Промышленный капитал одержал в 2016 г. историческую победу над финансовым, мобилизовав голоса рабочих. А рабочие, голосуя за Трампа, получили возможность совершить свое возмездие, жестоко наказав тех, кто многие десятилетия использовал и обманывал их. Успех Трампа явился не результатом неприятного для либералов стечения обстоятельств, а итогом развития системного социально-экономического кризиса, вызванного полной исчерпанностью существующей модели развития капитализма. Не система рухнет из-за успеха Трампа, а успех Трампа вызван тем, что система начала рушиться. Однако если распад старой системы является до известной степени стихийным процессом, по крайней мере — на экономическом уровне, то формирование нового общественного порядка происходит далеко не автоматически. Намереваясь пересмотреть правила игры, Трамп встал перед небходимостью провести в жизнь собственную позитивную программу. И тут он неминуемо был обречен столкнуться с объективным противоречием интересов между разными социальными и экономическими группами, заинтересованными в переменах.
Американский публицист Барри Фингер, называющий Трампа «неофашистом», неожиданно признает, что проводимые им меры могут обеспечить «организуемый государством инвестиционный подъем», который позволит резко улучшить положение трудящихся, «если националистическая коалиция сможет предотвратить попытки республиканского истеблишмента оплатить все эти впечатляющие усилия за счет сокращения социальных программ, выгодных массе избирателей Трампа»[98].
Между тем именно этот вопрос и предопределяет характер и содержание классовой борьбы в США в новую эпоху. Последовательное проведение протекционистской политики, направленной на восстановление и отвоевание внутреннего рынка, не может быть эффективно без мер по регулированию и социальной реконструкции американской экономики. Можно сколько угодно призывать к проведению реиндустриализации США на основе рыночных принципов, однако эти принципы объективно не работают на решение данной задачи. Если бы ситуация была иной, то не только задача была бы уже более или менее решена, но и сам Трамп вряд ли имел бы шанс занять Овальный кабинет в Белом доме.
Попытки пополнять бюджет за счет импортных пошлин, одновременно сокращая налоги, поощрять производство, не снижая прибыли финансовых корпораций и повышать зарплату рабочих, не затрагивая интересов предпринимателей, неизбежно вели экономическую политику нового президента США в логический тупик, выйти из которого было невозможно, не сделав политического выбора в пользу той или иной стороны. Однако любой выбор раскалывал коалицию. Именно это и предопределило политический паралич администрации Трампа, наступивший вскоре после его воцарения в Белом доме. Приняв несколько важных и произведших шум решений, президент вынужден был резко сократить свою активность.
Блокировать протекционистскую повестку сорок пятого президента США взялся нерушимый блок финансового капитала, вашингтонского политического истеблишмента и коррумпированной леволиберальной интеллигенции. Политическое влияние данного блока опиралось на фрагментацию общества, которую правящий класс США проводил в течение 30 лет при восторженной поддержке левых. Инициативы Трампа, как реакционные, так и прогрессивные, равно блокировались конгрессом, а мобилизовать низовое движение, чтобы изменить ситуацию, президент не решался, предпочитая спрятаться за внешнеполитической деятельностью, в которой ничего не понимал. Слабость практической политики Трампа отразила противоречия широкой межклассовой коалиции, которая привела его в Белый дом.
Все поддержавшие нового президента группы и слои общества в равной степени были обижены и унижены политикой, которую проводили столичные либералы, все эти люди были заинтересованы в пересмотре данной политики. Им всем нужен протекционизм. Но на этом пункте их единство заканчивается. В позитивной части программы их интересы отнюдь не совпадали.
Способность объединять вокруг одного лидера или партии широкую межклассовую коалицию всегда была основным источником силы популистских движений. Но объективные противоречия классовых интересов неизменно оказывались для них камнем преткновения. В долгосрочной перспективе успех, а зачастую и физическое выживание популистских лидеров всегда зависели от того, смогут ли они, меняя конфигурацию и маневрируя, удержать возглавляемый ими блок от распада? Смогут ли переформировать его на ходу, делая выбор в пользу тех сил, на которые нужно поставить в данный момент? Рано или поздно придется не только поддержать одну часть своих сторонников против других, но и пожертвовать многими из своих политических друзей, а порой даже интересами своего класса.
На такой же выбор оказался обречен и Дональд Трамп. В зависимости от того, когда, как и в чью пользу он его сделает, определится не только его место в истории США, но и его дальнейшая личная судьба, которая может оказаться более чем драматичной. Можно с большим основанием предположить, что историческая миссия Трампа состоит в разрушении существующего либерального порядка. Позитивную работу выполнят уже другие политики и общественные движения. Но сами эти движения и лидеры сформируются именно борьбой, которая разворачивается сегодня.
Стихийный всплеск солидарности, вызванный кампанией Берни Сандерса, не закончился после того, как сам сенатор из Вермонта капитулировал. Выборы 2016 г. явились крахом политики политкорректности, создав предпосылки для замещения ее политикой социальной солидарности. Истерическая реакция либеральных кругов в США подтверждает, что даже если они и не осознали масштабы и значение происходящего процесса, то интуитивно чувствуют, как почва уходит у них из-под ног. Они могут еще некоторое время пугать друг друга и пытаться запугивать меньшинства репрессиями, которые якобы собирается обрушить на них новая администрация, но сами же прекрасно понимают, что говорят неправду.
Напротив, для американского рабочего класса история его возвращения в политику в качестве сознательного и самостоятельного класса еще только начинается. Институциональный кризис, подрывая двухпартийную систему и господство вашинггонского истеблишмента, создал для левых перспективы серьезного участия в жизни общества, о чем говорит не только внезапный успех Берни Сандерса на праймериз 2016 г., но и общее смещение публичных дискуссий в сторону практически значимых социальных и экономических вопросов. Однако эти возможности удастся использовать лишь в одном случае — если левые не дадут либеральным кругам превратить себя в политическую массовку для защиты гибнущего порядка. В противном случае им предстоит пойти на дно вместе.
V. ФРАНЦИЯ: ОТ РЕСПУБЛИКИ К ОЛИГАРХИИ
Первомайские праздники 2016 г. во Франции оказались омрачены массовыми беспорядками, резко контрастировавшими с традицией революционных торжеств, которую здесь столь чтили представители левого движения. На сей раз в центре внимания оказалось не торжественное шествие профсоюзных колонн, бодро поднимающих социальные лозунги, а жесткие столкновения молодежи с полицией.
Участники уличных беспорядков разительно отличались не только от прогрессивных профессоров и профсоюзных бюрократов, но и от радикальных студентов, которые строили баррикады 1968 г. в Сорбонне, сочиняя эффектные лозунги и цитируя философские труды Жана-Поля Сартра. На сей раз в Париже протестовали по-другому, мрачно и злобно, что больше напоминало выступления анархистов «черного блока» в Германии. Парни, схватившиеся 1 мая с полицейскими на площади Бастилии, не читали ни Сартра, ни Мишеля Фуко. Они вообще ничего не читали. Эго были люди, которые не обсуждают философские новинки и не учатся в Сорбонне. Они вообще нигде не учатся и не работают.
Игра в сопротивление
В 1968 г. протест превратился в веселую контркультурную игру.
Бунтовщикам 2016 г. это было непонятно и чуждо. Они просто выплескивали накопившуюся обиду на общество, на политиков и интеллектуалов, включая и левых. Им оказались абсолютно чужды эффектные абстракции и красивые лозунги. Это были представители первого за 50 лет поколения, которое живет хуже своих родителей. И они точно знали, что общество не создает для них никаких перспектив, не дает никаких шансов на повышение социального статуса.
Французское общество и политическая культура изменились. Перемены накапливались постепенно на протяжении десятилетий, но интеллектуальная и политическая элиты тщательно старались делать вид, будто ничего не происходит. Левые и правые в трогательном единении игнорировали происходящий у них на глазах процесс, начавшийся еще в 1995 г.
Тогда все началось с забастовки работников государственного сектора против попыток отменить льготы для тех, кто трудился на государство. Неожиданно для властей, для прессы и даже для самих профсоюзов, бастующих поддержало огромное множество людей, которых происходящее совершенно не затрагивало. Работники частного сектора дружно встали на сторону коллег, занятых на государственных предприятиях. Забастовка транспорта обернулась массовым выходом людей на улицы.
Власть была напугана и отступила, но не меньший шок пережила и левая интеллигенция, рассуждавшая об исчезновении рабочего класса и доказывавшая (разумеется, с горькими вздохами) обреченность подобных движений. События 1995 г. продемонстрировали растущий культурно-психологический разрыв между элитами и большинством населения. Но никто из левых политиков не сделал отсюда необходимых выводов, не разглядел в происходящем начала нового противостояния, гораздо более масштабного, чем то, что происходило прежде, а главное — развивающегося по новым правилам.
Разрыв был не только политический и классовый, но и эмоционально-психологический. Элиты были едины в своей поддержке евроинтеграции, Маастрихтского договора и неолиберализма. Они общими усилиями проводили демонтаж государственного сектора и социального государства. По сути, различие между двумя частями политического спектра состояло лишь в том, что одни стремились реализовать неолиберальную политику настойчиво и последовательно, тогда как другие призывали проявлять сдержанность и гуманность. Левые, на первый взгляд, выступали критиками подобного курса, но их абстрактно-идеологическая риторика не имела ничего общего с практическим сопротивлением.
После забастовок 1995 г. во Франции было сформировано левое правительство, которое не только продолжало курс правых, но и усугубило его. И так происходило всякий раз, когда левые возвращались к власти. Формальную ответственность за неолиберальный курс несли социалисты. Их дружно критиковали
более радикальные группы — коммунисты, «зеленые», Левый фронт, Новая антиканиталистическая партия. Но увы, те же самые группы постоянно поддерживали социалистов, как только речь заходила о власти и выборах. В условиях, когда именно Социалистическая партия являлась наиболее последовательным проводником политики брюссельской бюрократии во Франции, только решительный отказ от поддержки социалистов, ведущий к крушению этой партии, мог стать инструментом по изменению ситуации. Однако практическая деятельность радикальных левых, независимо от их публичной риторики, сводилась к поддержке социалистов как «меньшего зла».
Такая политика привела к тому, что на фоне неуклонно падающего авторитета социалистов влияние других левых не только не росло, но, напротив, снижалось еще быстрее. Все прекрасно понимали, что соцпартия может рассчитывать на лояльность и поддержку всех прочих левых, как бы далеко она ни смещалась вправо. Абстрактные рассуждения интеллектуалов о пороках капитализма, их призывы к «гуманистическим утопиям» никакого отношения к реальной жизни не имели: и то и другое звучало красиво, но скорее отвлекало людей от политической борьбы, чем стимулировало сопротивляться. Социалисты, тесно связавшие себя с брюссельской бюрократией Евросоюза и с финансовым капиталом, стали основной силой, проводящей на практике курс на демонтаж социальных завоеваний французов. Прочие крупные левые организации показали себя не более чем их сообщниками. Говоря образно, пока социалисты грабили рядового обывателя, «антикапиталистические левые» стояли на стреме.
Разрыв между институциональной политикой и реальными общественными настроениями все более увеличивался, становясь непреодолимым. Что бы ни говорили политики с трибун, обыватель очень быстро и очень твердо усвоил две истины. Во-первых, нет никакой принципиальной разницы между социалистами и «антикапиталистическими левыми». А во-вторых, нет никакой принципиальной разницы между традиционными левыми и обычными правыми. Разница лишь в том, что левые больше болтают и чаще врут.
Но если нет доверия к левым партиям, то кто может организовать и возглавить сопротивление? Стихийно складывалась новая логика социальной борьбы, когда основной мобилизующей силой массового протеста оказались профсоюзы и низовые движения, лишь номинально связанные с левыми. Уличный протест и забастовки превратились в основной метод сопротивления. И до середины 2000-х годов эта борьба давала результаты. Раз за разом правительство оказывалось вынуждено отступать. Точно так же провалился и референдум по Европейской конституции в 2005 г. Одобренный в Брюсселе проект превращал неолиберальные принципы экономической и социальной политики в конституционную норму для всего континента. И показательно, что среди тех, кто уговаривал французов принять эти правила, были не только унылые аппаратчики Социалистической партии, но и знаменитые революционеры 1960-х и 1970-х годов Даниель Кон-Бендит и Тони Негри.
Задним числом, в книге с выразительным названием «Прощайте, господин Социализм!» Негри характеризовал взгляды тех, кто пытался сохранить социальное государство во Франции, как «полнейшую глупость». Голландцы, проголосовавшие против евроконституции, сделали это потому, что выступали «против иммиграции и смешения рас», а во Франции капиталистическую интеграцию пытались тормозить «слепые силы, националистические силы слева и справа»[99]. С точки зрения бывшего революционера, происходящие процессы глобализации, во-первых, неизменно прогрессивны, а во-вторых, по определению необратимы. Замещение организованных классов неопределенными и социологически-неуловимыми «множествами» представляется ему не симптомом нарастающего социального кризиса, подрывающего процессы общественного воспроизводства (даже в его буржуазной форме), а позитивным феноменом, создающим основание для новой прогрессивной политики. Тот факт, что деклассированные и угнетенные «множества» не только утрачивают связь с презираемой модным теоретиком традиционной левой, но и не склонны слушать леволиберальных апологетов глобализации, подобных самому Негри, до поры оставался недоступен его сознанию. Идеология Негри выступала, таким образом, не как упрощенная теоретическая модель, облегчающая переход к практическому действию, а как классический образец ложного сознания, меняющего местами причины и следствия.
Урок 2005 г., когда французы провалили Европейскую конституцию на референдуме, так и остался неосмысленным. Увы, это был последний раз, когда левые партии решились выступить против социалистов. Уже в ходе референдума обнаружилось, что критика проекта звучала не только слева, но и справа. Национальный фронт, призывая защищать французскую самостоятельность, повторял многие аргументы коммунистов. Однако тогда идеологическая гегемония в кампании все же оставалась за левыми. У них неожиданно появился шанс перехватить политическую инициативу и возглавить массовое сопротивление. Шанс этот не был использован. «Франция большинства, Франция, сказавшая “Нет” проекту конституции, оказалась никем не представлена — ни левыми, ни правыми, поддерживавшими одну и ту же экономическую политику», писал журналист Александр Девеккио[100].
Интеллектуальная коррупция
Моральный упадок левых неминуемо сказался и на состоянии социальных движений, которые просто не могли выигрывать, не имея эффективной политической поддержки. Среди рядовых членов этих движений начали проявляться симпатии к Национальному фронту, куда постепенно перетекали и фрустрированые активисты левых организаций.
Последним успехом низового сопротивления стала борьба против «Закона о первом найме», отменявшего многие социально-трудовые права для молодежи. В 2006 г. проект не прошел после массовых протестов, прокатившихся по всей стране. Французы готовы были терпеть институционализированное предательство интеллектуалов и партий до тех пор, пока у общества сохранялось своеобразное право вето — выйдя на улицы или организовав референдум, народ мог блокировать решения, принимаемые политической элитой. Но в 2010 г. произошло событие, в очередной раз изменившее правила игры. Администрация правого президента Николя Саркози провела очередную пенсионную реформу. Мало того, что французам повышали возраст выхода на пенсию, у них конфисковывались пенсионные накопления, которые были пущены правительством на поддержку финансового сектора. Хотя номинально гражданам предлагался выбор — выходить ли на пенсию в 62 года, в 65 или в 67 лет, текст закона был составлен так, что практическую возможность выйти на пенсию получали лишь те, кто имел непрерывный стаж с 12 лет… при условии, что нанимать молодых людей в этом возрасте запрещают другие законы. Закон о пенсионной реформе был не просто антисоциальным, он являлся откровенным издевательством над населением республики. И не удивительно, что он вызвал самое настоящее бешенство. Против реформы высказалось 80 % населения. Францию охватили забастовки и демонстрации. Однако вопреки обыкновению правительство не уступило, демонстрируя, что общественное мнение ничего для него не значит. Президент Николя Саркози прекрасно понимал, что таким образом он лишал себя шансов на повторное избрание, но принес себя в жертву общим интересам политического истеблишмента. Задача состояла в том, чтобы унизить и деморализовать общество, доказать французам, что с демократией покончено и что от их мнений более ничего не зависит. Ради такой цели можно было пожертвовать карьерой одного не слишком удачливого политика…
Избиратель наказал Саркози, провалив его на выборах. Но пришедший ему на смену социалист Франсуа Олланд оставил реформу в силе. Более того, социалисты продолжили курс Саркози, начав радикальную реформу трудового законодательства. С общественным мнением никто более не считался. Протест уперся в тупик. Власть победила, доказав французам, что с демократией и республикой, в привычном для них смысле, покончено. Правые и левые объединились уже открыто. На место республиканского правления пришла олигархия.
Не удивительно, что Олланд вскоре превратился в самого непопулярного лидера Франции, побив рекорд Николя Саркози Но в условиях электорального сговора между правыми и левыми это уже не имело никакого значения. Единственной альтернативой оставался Национальный фронт Марин Ле Пен, который все остальные партии дружно старались не пропустить в парламент и в муниципалитеты, несмотря на то что избиратели отдавали ему до 40 % голосов.
Риторика Национального фронта все более напоминала привычную пропаганду компартии, от которой сами коммунисты отказались под влиянием новых веяний. Но политическое происхождение НФ не могло не вызывать опасений. Все слишком хорошо знали основателя партии Жана-Мари Ле Пена, реакционера и антисемита. Его дочь, Марин Ле Пен позиционировала себя как выразительницу интересов трудового народа, она старательно вычищала из рядов партии крайне правых, не пожалев даже собственного отца. Однако многие французы по-прежнему испытывали к ней недоверие. Ведь политики столько раз их обманывали.
Недовольство должно было выплеснуться наружу не у избирательных урн, а на улицах. Нужен был только повод. Чашу терпения переполнил проект нового Трудового кодекса, предложенный социалистами. Этот документ был еще более вызывающим и демонстративно антисоциальным, чем пенсионная реформа Саркози. Восьмичасовой день отменяется, рабочая неделя может продлеваться до 48 часов, а оплата сверхурочных сокращается до 10 %. Ни одно правое правительство не решалось на подобное.
«Антикапиталистические левые», разумеется, выступили с критикой проекта. Но при этом даже речи не шло о том, чтобы отказать соцпартии в поддержке во время очередных выборов. В то время как социалисты готовили проект Трудового кодекса, их «соседи слева» призывали голосовать на региональных выборах за эту партию во имя борьбы против угрозы Национального фронта. И уж тем более не было даже и речи о противостоянии с социалистами на президентских выборах. Наоборот, обсуждалось выдвижение единого кандидата уже в первом туре. Практическая политика левых вопреки провозглашаемым лозунгам, поддержке насквозь буржуазного руководства Социалистической партии призывала к защите существующего порядка и привилегий, в том числе и позиций традиционных партий в муниципалитетах, парламенте и массмедиа.
Это означало, что привычная модель политического поведения рухнула. Все сошлось. Дискредитация левых, социально-экономический кризис, отчуждение между обществом и политической системой. Но главное, подросло поколение, взрослевшее с чувством обиды и фрустрации, на собственном опыте осознавшее, что сложившиеся институты ему враждебны.
Радикальные студенты 1968 г., покрасовавшись на баррикадах в Латинском квартале, занялись собственными карьерами, провозгласив в качестве единственно возможной стратегии изменения общества «долгий путь через институты». К 2000-м годам этот путь привел многих из бывших революционеров на видные посты в парламенте и правительстве, в банках, массмедиа и в университетах. Но общество изменилось совершенно не так, как обещали интеллигентные бунтовщики, — оно радикально сдвинулось вправо. Демократии стало не больше, а меньше. «Новые левые» либо потерпели поражение, либо интегрировались в систему, став частью неолиберального блока. Неолиберализм, соединивший стремление к социально-экономической фрагментации в рамках свободного рынка с социально-культурной фрагментацией в рамках политики мультикультурализма, был порожден усилиями повзрослевших «новых левых» почти в той же степени, что и стараниями корпоративной верхушки. Вернее, первые, сохранив свою идеологическую автономию, вписались в повестку дня вторых.
В США привилегированная либеральная элита пряталась за многочисленными меньшинствами, проводя в жизнь собственную корпоративно-эгоистическую повестку, стравливая меньшинства между собой и одновременно противопоставляя их рабочему классу, политкорректно обзываемому «белыми мужчинами». Начиная с 2000-х годов в несколько иной конфигурации та же политика была воспроизведена во Франции, хотя и не столь агрессивно и откровенно.
Тем временем на смену радикальным студентам пришли другие бунтовщики — малообразованное (из-за порожденного неолиберальными реформами кризиса образования) поколение безработной молодежи, единственный путь для которых открывается через конфронтацию с институтами.
В 2012 г., когда взбунтовалась молодежь в пригородах Амьена, несколько парней подожгли школу. Пойманные полицейскими, они объяснили свой поступок тем, что на уроках литературы над ними садистски издевались — заставляли учить наизусть стихи Расина. Этих парней лидер Левого фронта Жан-Люк Меланшон назвал «амьенскими кретинами». Но проблема была не в их интеллектуальном уровне, а в изменившейся социальной ситуации. Поэзия и красивая речь полезны в обществе, где гражданам предоставляется шанс проявить себя, поднимаясь по карьерной лестнице. Но зачем знать стихи Расина людям, вся публичная речь которых, если очень повезет, сведется к выкрику «Свободная касса!»?
Культура насильственного протеста не была занесена во Францию извне. Она постепенно вызревала в иммигрантских пригородах больших городов, где накопившийся гнев периодически прорывался погромами и бунтами. С течением времени разница между «белой» молодежью и потомками иммигрантов стерлась. Именно арабская и африканская молодежь в конечном счете создала модель поведения для нового поколения сердитых молодых французов. Интеграция произошла. Но не через мультикультурализм и политкорректность, провозглашаемые либеральной элитой, а через озлобление и протест, объединяющие молодежь вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания.
Всплеск молодежного насилия, ранее совершенно не типичного для Франции (по крайней мере — для ее «белого» населения), явился симптомом перемен, масштабы и значение которых лишь немногие готовы были признать. Конфликт между обществом и властью дополнился конфликтом между поколениями, когда старшие еще готовы были играть по правилам, даже зная, что власть эти правила постоянно нарушает, а молодежь уже не испытывала ни малейшего уважения к политической системе.
На протяжении многих лет почти все французы, независимо от различия в политических взглядах, религии и идеологии, верили в республиканские ценности. Но эти ценности были опошлены и дискредитированы самими же элитами. Теперь общественная борьба будет развиваться по совершенно другим правилам.
Отчуждение между государством и обществом, вполне знакомое людям, живущим на востоке Европы, стало фактом на родине Вольтера, Робеспьера и Жореса. Формальное упоминание о республиканских ценностях оставалось такой же важнейшей частью политической риторики во Франции, как ссылки на Октябрьскую революцию в Советском Союзе эпохи Леонида Брежнева. Однако последовательное осуществление этих принципов или тем более серьезное обсуждение того, какой должна быть политика, последовательно их интерпретирующая и реализующая в условиях изменившейся социально-экономической реальности, были абсолютно не интересны политическому классу. Республиканская форма политики все более откровенно наполнялась олигархическим содержанием.
Восхождение Марин Ле Пен
На фоне провала неолиберальной политики и полного банкротства левых единственной силой, набирающей популярность в французском обществе, оказался возглавляемый Марин Ле Пен Национальный фронт. Немецкий социолог Себастьян Чвала, отмечая, что Марин Ле Пен имеет «сильную поддержку среди рабочего класса», утешал своих читателей тем, что это происходит «прежде всего в регионах, в которых было слабое рабочее движение и где не был прочно усвоен кодекс левых ценностей»[101].
Увы, это утешение весьма спорное, поскольку, во-первых, смещение производства из старых индустриальных районов в новые является долгосрочной тенденцией, развивавшейся на протяжении нескольких десятилетий, в течение которых левые почти ничего не сделали, чтобы организовать, воспитать и поддержать формирующиеся новые слои рабочего класса, а во-вторых, проникновение Национального фронта в рабочую среду, начинаясь именно с групп, не имевших связи с традиционными левыми организациями, постепенно распространялось и на другие группы. Таким же точно образом в прошлом и массовая поддержка коммунистов на первых порах возникала там, где были слабы социал-демократические организации, а потому существовал определенный организационно-идеологический вакуум, после чего влияние партии распространялось на другие группы трудящихся. Чвала также обоснованно подчеркивает, что среди рабочих, поддерживающих Национальный фронт, сильны мелкобуржуазные предрассудки, но опять же, беда в том, что подобным предрассудкам и иллюзиям были не чужды и трудящиеся, традиционно поддерживавшие левых. Различие между социализацией рабочих в рамках классического левого движения и в рамках Национального фронта состоит в том, что мелкобуржуазные предрассудки в первом случае сознательно и последовательно изживались за счет развития политического образования и воспитания классовой солидарности, что, естественно, никак не входит в повестку дня НФ. Однако именно фактический отказ самих левых от соответствующей деятельности и откровенная переориентация их на обслуживание культурных запросов благополучной части среднего класса толкнула рабочие массы Франции в объятия националистов.
Левые западноевропейские исследователи признавали, что «классовое сознание рабочих падает», и находили этому целый ряд вполне убедительных структурных объяснений. Себастиан Чвала ссылается на то, что «классовую борьбу заменила конкуренция за рабочие места», в результате чего сознание трудящихся стало «мелкобуржуазным»[102]. Однако конкуренция за рабочие места существует ровно столько времени, сколько существуют капитализм и рынок труда. Изменение структуры занятости и деиндустриализация существенно трансформировали западные общества, но парадокс в том, что поворот вправо произошел радикальнее всего именно в той части населения, которая сохранила индустриальную занятость. Дело в том, что и в классический период капитализма ни рабочая солидарность, ни классовое сознание, ни «левые» ценности пролетариата не возникали сами собой, а являлись результатом постоянного взаимодействия между трудящимися массами и политическими или профсоюзными активистами, формировавшими классовое сознание через организацию постоянных и эффективных коллективных действий, направленных на защиту практических интересов трудящихся. Отсутствие такой активности со стороны левых в лучшем случае компенсировалось в начале XXI в. спорадическими кратковременными кампаниями по конкретным вопросам. Но этого было категорически недостаточно, даже для того, чтобы поддерживать классовое сознание масс в меняющихся общественных условиях.
Более того, ссылка на «традиционные левые ценности», которые рабочие почему-то должны разделять, совершенно антиисторична. Если классовое сознание не развивается и не трансформируется оно угасает. Стремление винить рабочих в утрате классового сознания лишь демонстрирует то, насколько непреодолимая пропасть отделила интеллектуалов не только от рабочих масс, но и от своего собственного прошлого.
Не давали объяснения происходящему и привычные матрицы социологов и политологов. Рабочие, которые все более массово голосовали за НФ, по большей части (хотя не всегда) характеризовали свои взгляды, как «скорее правые»[103]. Однако отсюда вовсе не следует, будто они голосуют за НФ потому, что придерживаются правых взглядов. Скорее, они приходят к выводу о том, что их взгляды являются «правыми» потому, что они голосуют за Марин Ле Пен, которую политологи определяют как политика правого толка. Иными словами, речь идет не о взглядах рабочих, а прежде всего о взглядах социологов и интеллектуалов, которые проецируют свои представления, иллюзии и предрассудки на общество в целом. Не имеем ли мы здесь дело со стандартной социологической ошибкой, когда, с одной стороны, причина и следствие меняются местами, а с другой стороны, вместо того чтобы выяснить, что на самом деле думают люди, какова структура их интересов и логика их взглядов, исследователи накладывают на общество собственную изначальную матрицу и насильственно загоняют все богатство и разнообразие реальных мнений в эту жесткую и заранее сформированную структуру?
Способность Национального фронта в 2010–2017 гг. мобилизовать мелкобуржуазные и рабочие массы, брошенные как левыми, так и правыми, предопределила превращение этой партии в выразителя массового народного бунта. Не предлагая классовой альтернативы, Марин Ле Пен, как и полагается популистскому политику, выступала за «народ», понимаемый в широком смысле как общность различных, а часто и далеко не близких друг к другу социальных слоев, объединенных тем, что они страдают от общего угнетателя. В свою очередь, рабочие, мелкая буржуазия, иммигранты, низы технической интеллигенции не столько находили общий язык между собой, сколько делали общую ставку на одного и того же лидера.
Даже явное изменение социальной базы Национального фронта не заставило французских интеллектуалов серьезно задуматься о происходящем. Показательно, что в 2010-е годы содержательная дискуссия о причинах и возможных последствиях успеха Марин Ле Пен велась где угодно, только не во Франции, где интеллектуалы продолжали повторять заученные мантры об угрозе расизма и наступлении крайне правых, не замечая, что именно Национальный фронт превращается в организацию, опирающуюся на голоса избирателей-иммигрантов, одновременно перехватывая повестку дня левых. Даже нарастающее и все более массовое голосование за НФ в арабских кварталах не повлияло на ход дискуссии. Данный факт был просто проигнорирован французскими политологами, хотя освещался в международной прессе.
Левые упорно не желали ничего видеть, не хотели считаться с реальностью, признание которой автоматически поставило бы вопрос о том, что именно они несут значительную долю ответственности за происходящее. Между тем, по мере того как беднел и утрачивал свои позиции средний класс, влияние Национального фронта начало распространяться и на те социальные группы, которые после отказа левых от опоры на рабочих рассматривались ими как основная аудитория. Британская «The Guardian» с тревогой писала, что НФ «расширил свою социальную базу за счет работников общественного сектора, включая полицейских, врачей и учителей»[104]. Лондонская «The Telegraph», наблюдая за событиями на другой стороне пролива, констатировала: «растущее число французских избирателей уже не воспринимают Национальный фронт лишь как “партию протеста”, а приходят к выводу, что эта партия могла бы успешно управлять ими, по крайней мере на местном уровне»[105].
Фактически единственной надежной опорой левых оказывалась наиболее буржуазная и интегрированная в неолиберальную систему часть интеллигенции. Во все менее однородном французском обществе именно мулътикультуралистское и толерантное леволиберальное сообщество оказалось парадоксальным образом выразителем интересов привилегированного белого меньшинства, в равной степени враждебного как беднеющему белому большинству, так и иммигрантам.
Сотрудничество социалистов и левых с правыми имело, помимо тщательно скрываемой общности классовых позиций, еще одну цель, которую можно было объявить публично — все партии вместе старались блокировать рост Национального фронта. И чем более широкой была народная поддержка Марин Ле Пен, тем более активным и открытым становилось взаимодействие партий политического истеблишмента.
Эта тенденция в полном масштабе проявилась во время региональных выборов 2015 г. Благодаря объединению левых и правых против Марин Ле Пен кампания, начавшаяся с сенсационного триумфа Национального фронта, завершилась вполне традиционно: все руководящие посты поделили между собой правоцентристы и социалисты. Если во время первого тура выборов Национальный фронт лидировал в шести регионах из тринадцати, то во втором туре не смог набрать большинства ни в одном. Социалисты без колебаний сняли своих кандидатов в пользу правых. Со своей стороны, правоцентристы подобной щедрости не проявили и поддерживать своих соперников-социалистов в регионах, где те лидировали, не стали. Тем не менее кампания, которую вели общими силами все партии, политики и пресса против одного-единственного оппонента, дала свои плоды. Набранных Национальным фронтом голосов оказалось недостаточно ни в одном из регионов, чтобы закрепить победу, достигнутую в первом туре.
Формально основным победителем оказался правый центр — республиканцы Николя Саркози. Ценой, которую заплатили левые и социалисты за то, чтобы не пропустить НФ к руководству регионами, была утрата позиций даже в департаментах, считавшихся их традиционной опорой. Если на предыдущих региональных выборах социалисты выиграли во всех регионах кроме Эльзаса, то теперь они сохранили за собой лишь пять из них. Соответственно восемь регионов перешло к правым. Самое тяжелое поражение понесли силы слева от социалистов. Если соцпартия Франсуа Олланда лишь подтвердила, что является, по сути, еще одной либеральной партией, то организации, которые резко критиковали Олланда перед выборами, а потом сняли своих кандидатов в его пользу, продемонстрировали, что нет никаких оснований серьезно относиться к их заявлениям. По сути, они выставили себя лояльными вассалами социалистов, лишившись собственной политической ниши.
Неудивительно, что кадры НФ регулярно пополнялись за счет выходцев из коммунистической и социалистической партий, разочаровавшихся в своих лидерах, а программные положения Марин Ле Пен оказались во многом списаны с документов компартии. Требования, про которые сами коммунисты давно забыли, становятся характерной частью политического багажа националистов, а политические бастионы Марин Ле Пен — это, по большей части, традиционные бастионы левых.
Однако поражение, которое Национальный фронт понес во втором туре региональных выборов, обернулось его решающим моральным преимуществом в дальнейшей политической борьбе. Фактически организация Марин Ле Пен в 2016 г. стала по уровню народной поддержки крупнейшей политической силой в стране. А тот факт, что партия, набравшая больше голосов французов, чем любая другая, была не допущена не только к власти на региональном уровне, но и вообще оттеснена от участия в политических институтах» свидетельствовал о глубочайшем кризисе французской демократии.
Единодушие, с которым левые и правые партии общими усилиями блокировали Национальный фронт, лишь прибавляло ему веса. Оттесняя НФ от власти, системные политики создавали ему ореол единственной некоррумпированной партии. Независимо от того, каковы моральные качества сторонников Марин Ле Пен, у них просто нет шанса коррумпироваться, поскольку все места у кормушки плотно заняты социалистами и республиканцами.
Чем более левый и правый истеблишмент объединялись, тем более общество воспринимало Марин Ле Пен в качестве единственного политика, противостоящего существующей системе. Это противостояние отнюдь не основывалось на классовой солидарности и никоим образом не предполагало социалистическую альтернативу. Но в условиях идейной и политической капитуляции левых оно оказывалось единственным вызовом, брошенным формирующемуся олигархическому режиму.
Кризис системных партий
Объединение всех партий против Марин Ле Пен политический истеблишмент Франции мотивировал тем, что необходимо «защитить демократию» от угрозы со стороны «крайне правых сил». Но проблема в том, что реальные удары по демократии наносили именно силы, правящие в стране Именно социалисты ввели в 2015 г. чрезвычайное положение, ссылаясь на террористические акты в Париже, которые подчиненные правительству спецслужбы не смогли, да, похоже, даже и не пытались предотвратить. Именно социалисты (при полном одобрении правоцентристов) требовали ограничить гражданские свободы и соответствующим образом изменить конституцию, в то время как противостоящий им Национальный фронт призывал уважать республиканские ценности и традиции Франции.
Стратегия системных партий и их интеллектуальной обслуги состояла в том, чтобы постоянно повторять одни и те же слова про угрозу со стороны крайне правых, одновременно проводя курс на поэтапный демонтаж республиканских порядков.
При этом пресса систематически игнорировала собственные высказывания Марин Ле Пен и ее команды, зачастую приписывая им взгляды, прямо противоположные их действительной точке зрения. Подобное положение дел становилось возможным благодаря тому, что Национальный фронт практически был лишен доступа к «серьезной» прессе и телевидению. Однако в эпоху Интернета такая информационная блокада в конечном счете оказывалась контрпродуктивной, поскольку сведения о реальном положении дел все равно просачивались в общество, формируя стихийное народное мнение, противостоящее информационным и пропагандистским потокам, льющимся на головы французов сверху.
Так, общим местом либеральной пропаганды является обвинение НФ в расизме, в то время как именно эта организация массово привлекала на свою сторону иммигрантов из арабских стран, чего не удалось сделать ни одной из системных партий Именно арабские кварталы Марселя дали перевес партии Ле Пен в первом туре, именно за счет этих «новых французов» обеспечивается стремительный прирост электората Национального фронта в других регионах. Политика системных партий начинала играть против них самих. На фоне неизменных провалов по всем направлениям социалисты выглядели все более жалко, а правоцентристы не могли предложить ничего, кроме продолжения той же обанкротившейся политики. Представлявшие себя левыми критиками неолиберализма политики лепетали про необходимость сокращения рабочего времени, не задумываясь о том, как создать и сохранить во Франции рабочие места.
Поскольку общий дискурс относительно «националистической угрозы» заменял обсуждение практических вопросов — о безработице, иммиграции, жилищной политике, отношениях Франции с Евросоюзом и т. д., то НФ оказывался не только партией, противостоящей всем, но и единственной партией, обсуждающей то, что реально волнует французов. Социалисты и республиканцы говорили про Марин Ле Пен, тогда как Марин Ле Пен говорила о проблемах повседневности, об экономике, социальном кризисе.
Собственно, в этом нарастающем разрыве между тем, что говорят про НФ, и тем, что на самом деле говорит НФ, и состоит одна из основных причин его успехов.
Классический пример — дискуссия об иммиграции. Системные политики сами себя убедили, будто именно антииммигрантская пропаганда является основой успеха НФ. Соответственно, одни пытались ей противостоять, а другие надеялись ее повторить и присвоить. В то время как левые призывали во имя гуманности впускать в страну неограниченное число переселенцев, предоставляя им льготы, которых нет ни у «коренных» французов, ни у «новых французов» арабского или африканского происхождения, республиканцы надеялись отвоевать электорат Ле Пен жесткими заявлениями об ограничении иммиграции. Но дело в том, что как раз НФ оказывался в этой ситуации единственной партией, предлагающей практические решения, не сводимые к запретам или абстрактным призывам к состраданию. Во-первых, в заявлениях Ле Пен речь шла не о том, чтобы вообще пресекать иммиграцию, а предлагалось регулировать миграционные потоки в соответствии с возможностями и потребностями страны, а во-вторых, сторонники НФ подчеркивали, что именно Запад несет ответственность за хаос, порождающий массовые потоки беженцев. Легко догадаться, что если политика европейских стран не изменится, а хаос, порождаемый их действиями, будет нарастать, таким же образом будет расти и поток иммигрантов. Для того чтобы изменить эту ситуацию, надо не открывать границы, а менять политику, вкладывать средства в развитие стран Юга, создавать там рабочие места, прекращать военные интервенции и агрессивные войны. По сути, именно такую позицию в прошлом занимали левые, но времена изменились
Реальные последствия миграционной политики Евросоюза, в отличие от привилегированных белых интеллектуалов, чувствовали на себе именно жители арабских кварталов, где с каждым днем становилось все теснее и оказывалось все труднее найти работу или жилье. Они голосовали за Национальный фронт, не обращая внимания на рассуждения прессы про то, что это «антииммигрантская» партия.
Общие усилия системных партий позволили более или менее успешно изолировать Национальный фронт Марин Ле Пен идеологически, загнав в своеобразное гетто, создав ситуацию, когда левые во Франции и в других странах не решались сотрудничать с этой партией, даже если имели схожие лозунги. Однако как и в случае с информационной блокадой, границы начинали размываться на низовом уровне.
В условиях противостояния с общим фронтом политического истеблишмента стратегия Ле Пен состояла в том, чтобы привлечь на свою сторону разочарованных избирателей и членов социалистической и коммунистической партий, одновременно пытаясь избавить Национальный фронт от репутации крайне правой партии, представив его скорее в качестве новой популистской силы, претендующей на своего рода «право-левый синтез». Ради этого она систематически вычищала из рядов партии «старых правых», включая собственного отца и его ближайших сторонников, замещая их выходцами из левых организаций.
С точки зрения академической теории задача кажется неразрешимой, но в политической практике, например, Латинской Америки подобные популистские движения неоднократно добивались успеха.
Реальный выбор, который предстал перед французским избирателем в 2017 г., был уже не между социалистической и либеральной идеологией, даже не между разными вариантами политического курса, а между мелкобуржуазной демократией, представленной сторонниками Марин Ле Пен, и статус-кво неолиберального олигархического режима, важнейшей опорой которого стали левые.
Реванш истеблишмента
В результате выборов 2017 г. Франция получила президента Эммануэля Макрона. Слово «выбрала» здесь не совсем подходит в условиях, когда значительная часть французов сознательно отказалась голосовать, а другие голосовали не только без энтузиазма, но и безо всякой симпатии к кандидату. Социалистическая партия потерпела на выборах катастрофу, ее кандидат Бенуа Амон оказался аутсайдером. Лидером левых выступил Жан-Люк Меланшон, чья предвыборная программа подозрительно напоминала требования Национального фронта. Именно стремление не допустить успеха кандидатов-популистов заставило все силы истеблишмента объединиться вокруг Эммануэля Макрона, который оттеснил кандидатов и от традиционных правых, и от умеренных левых.
Однако победа Макрона не только не означала конца социально-политического кризиса в Европейском союзе, она знаменовала лишь начало новой еще более драматичной фазы этого кризиса. Произошло необратимое: правящие крути однозначно сделали выбор в пользу продолжения существующего курса любой ценой. Никаких уступок общественным настроениям сделано не будет, компромиссов не будет. А будут предлагаться лишь новые и новые тактические решения, чтобы все оставить по-старому. Это гарантировало неизбежность еще более острой борьбы и более жестких конфликтов, которые уже невозможно будет разрешить в рамках привычных институтов.
В 2016 г. неолиберальная система столкнулась с вызовом массового бунта избирателей, который принял форму популистских движений — как правых, так и левых. Хотя выражающие эти протестные настроения правые и левые политики были не готовы объединяться или даже тактически взаимодействовать между собой, их сторонники на низовом уровне рассуждали иначе. Протестные настроения масс не оформлены в виде идеологических блоков, а потому оказываются в итоге мобилизованы тем течением, которое на данный момент тактически сильнее и будет иметь большие шансы на успех.
В свою очередь, элиты Европы и США, в отличие от левых, извлекли уроки из этих событий. Они осознали, что возникла качественно новая политическая ситуация, требующая радикального изменения подходов.
Успех Макрона был достигнут на фоне очевидного паралича администрации Дональда Трампа в США, когда ожидаемые радикальные перемены тонули в болоте парламентского саботажа, организованного совместными усилиями демократов и республиканцев. Республиканское большинство продолжило проводить через законодательную власть меры жесткой экономии, сваливая ответственность на администрацию, не решающуюся на открытый разрыв с собственной партией. Поскольку Трамп не имел собственной стратегии, ему навязали целую серию компромиссов, итогом которых оказался практический паралич власти. Московский либеральный политолог Андрей Колесников с удовлетворением констатировал: «Сдержки и противовесы смогли превратить Трампа в “нормального” американского президента с экстравагантностью градусом не выше никсоновского. А в Европе популистская волна столкнулась с антипопулистской»[106].
Во Франции был поставлен важнейший политический эксперимент. Сталкиваясь с мощным наступлением антилиберального популизма, выразившегося в успехах Национального фронта Марин Ле Пен и во внезапном росте популярности Жан-Люка Меланшона, правящие круги решились пожертвовать своими традиционными политическими организациями — социалистами и республиканцами.
В ходе выборов 2017 г. Франция получила нечто доселе почти невиданное: либеральный популизм. Макрон — это своего рода монстр Франкенштейна, политический проект, искусственно сконструированный для массмедиа, с программой, эклектично нарезанной из лозунгов и призывов разных партий, имеющий единственную цель и единственную функцию — любой ценой выиграть выборы. Если понимать популизм примитивно как готовность безответственно обещать что угодно кому угодно, то Макрон это и есть самое чистое воплощение популизма, почти «идеальный тип» по Максу Веберу.
Менее чем за год эта фигура была раскручена буквально на пустом месте за счет огромных финансовых вливаний и беспрецедентно масштабной медийной кампании. То, что ранее Макрон не был в числе наиболее известных и популярных политических фигур страны, сыграло в его судьбе положительную роль — он не был дискредитирован в качестве части старой политической системы, бунт против которой возглавила Марин Ле Пен.
Судя по результатам голосования, эксперимент удался. Проблема лишь в том, что с окончанием выборов ни объективно идущие экономические процессы, ни общественная борьба не прекращаются. Хотя цель Макрона и стоящих за ним финансовых кругов состояла в том, чтобы не допустить никаких перемен, сохранять статус-кво не было объективной возможности. В условиях неразрешенных противоречий и продолжающегося системного кризиса политику жесткой экономии нужно было не только продолжать, но и углублять. Антисоциальные меры, начатые правительством Франсуа Олланда, требовалось заменить еще более радикальной политикой в том же направлении.
Правительство Макрона, не опирающееся ни на влиятельные и массовые партии, ни на общественные силы и движения, оказалось висящим в воздухе. Успех на парламентских выборах, последовавших за президентскими в июне 2017 г., был достигнут сторонниками Макрона на фоне массовой неявки и очевидной деморализации электората. Явка избирателей был самой низкой в истории Пятой республики.
Наскоро сколоченная партия нового президента «Республика на марше» («La République en marche!»)[107], получившая абсолютное большинство в парламенте, по своей структуре и принципам работы удивительно напоминала «Единую Россию». Подобно российской партии власти, она не имела ни четкой идеологии, ни ясной программы, предствляя собой объединение функционеров и карьеристов, подобранных по формальному признаку и получавших депутатские мандаты в обмен на обязательство лояльности к президенту. Никакой внутренней дискуссии или собственной политической жизни в такой организации быть не может — даже не потому, что различия мнений подавляются партийным аппаратом, как в сталинистских организациях, а потому, что никаких мнений у ее членов изначально не должно быть. Это не политическая структура, проводящая собственную коллективно формируемую линию, а технический аппарат правительства, обеспечивающий ему гарантированное большинство по любым вопросам в парламенте.
Поддержка финансового капитала и массмедиа может быть решающим фактором для одноразовой электоральной победы, но этого недостаточно, чтобы проводить свой курс. Новая администрация оказалась вынуждена, с одной стороны, опираться на остатки старых политических сил, уже и без того дискредитированных, а с другой стороны, прибегать ко все более авторитарным методам, проводя постепенный демонтаж республиканских и демократических институтов.
В условиях, когда левые разобщены, деморализованы и дезорганизованы, защищать эти институты оказывается некому, кроме Марин Ле Пен.
Левые политики за исключением Меланшона дискредитировали себя поддержкой Макрона. И не только во втором туре — в течение всего электорального цикла 2017 г. они фактически не скрывали, что их единственной целью является защита существующего порядка от угрозы со стороны Национального фронта Смехотворно выглядели заявления лидеров Коммунистической и Социалистической партий, призывавших всеми силами поддерживать на выборах Макрона, чтобы потом начать с ним решительную борьбу. Реакцией рабочего класса Франции на такое поведение «своих» партий оказался массовый и солидарный переход под знамена Национального фронта. Дальнейший ход событий будет лишь усиливать поляризацию, сводя на нет влияние либеральных левых, обрекая их на маргинализацию. Политическое будущее просматривается лишь у Жан-Люка Меланшона, сумевшего избежать этой ловушки, но остается большим вопросом, насколько он сможет развить успех, достигнутый в первом туре президентских выборов.
В результате именно Марин Ле Пен и ее сторонники оказались во Франции основной оппозиционной силой, единственной убедительной альтернативой и знаменем сопротивления. Несмотря на то что им не удалось прорваться в Елисейский дворец, успех, достигнутый в ходе избирательной кампании 2017 г., впечатляет. Фактически Марин Ле Пен удалось преодолеть представление о своей кандидатуре и своей партии как маргинально-националистической силе, находящейся за пределами серьезной политики и не имеющей шансов в борьбе за власть. Она взяла историческую высоту, получив 11 млн голосов и, как вынуждены были признавать политологи, оказалась «полюсом притяжения оппозиции и всех, кто будет недоволен Макроном»[108]. Масштабы поддержки, которую она получила на президентских выборах, таковы, что даже объединенными силами всех остальных партий невозможно будет удерживать Национальный фронт вне публичной дискуссии, игнорируя то, что сторонники Ле Пен в самом деле говорят, приписывая им то, что они никогда не говорили (а именно на этом была построена большая часть пропаганды против них).
Перспективы левых в сложившихся обстоятельствах зависят от того, смогут ли они не только консолидировать свои позиции, достигнутые в ходе кампании Меланшона, но наладить диалог с избирателями Марин Ле Пен. Логика сопротивления антисоциальной политике Макрона диктует необходимость сотрудничества, что на данный момент является в равной степени очевидным для рядовых левых избирателей и немыслимым для левых интеллектуалов. Фактически либеральные интеллектуалы, контролирующие вместе с партийными бюрократами левые политические структуры, оказались самыми решительными и самыми верными защитниками существующего порядка, не просто представляющими интересы буржуазии, но и отстаивающими курс, который проводит самая реакционная и самая враждебная социальному прогрессу часть правящего класса. Социальная безответственность финансистов и высокомерное презрение интеллектуалов к массовой публике великолепно дополняют друг друга.
События весны 2017 г., когда Марин Ле Пен проиграла президентские выборы во Франции, а Дональд Трамп фактически оказался блокирован в Белом доме, утратив политическую инициативу, можно рассматривать как победу истеблишмента над популизмом в ключевых западных странах. Эта победа была достигнута через адаптацию политики правящих кругов к новым вызовам. Однако говорить о конце популизма в Европе или США не приходится. Как отмечал политолог Федор Лукьянов, Макрон — «деятель популистского толка, просто он не анти-, а провластный популист. Таков ответ истеблишмента на возникшую угрозу, и это совершенно рационально»[109]. Между тем ценой политической победы оказывается углубление экономического и социального кризиса. Популистская альтернатива, предъявленная в 2016–2017 гг. правыми, такими как Дональд Трамп и Марин Ле Пен, или левоцентристами, подобными Берни Сандерсу, отнюдь не была радикальной. Блокируя ее, истеблишмент закрывал пути именно для реформистских альтернатив, создавая объективную потребность в более радикальных решениях.
Преодолеть влияние политкорректных интеллектуалов и их дискурса — важнейшая задача, от решения которой зависит выживание левых как политической силы. Если эта задача не будет решена, то роль защитников республиканских ценностей, социальных прав и демократических традиций Франции окончательно отойдет к Национальному фронту, а вопрос о возрождении европейского левого движения будет решаться в других странах и при совершенно других политических обстоятельствах.
VI. НЕРАЗУМНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
На фоне охвативших мир и Европу перемен Россия, управляемая нефтяной олигархией, оставалась к 2017 г. одним из последних бастионов политической стабильности и экономического либерализма. Позиции правящего класса здесь, как и везде, быстро слабели под влиянием новой реальности мирового рынка, но это не вело к политическим переменам. Стабильность обеспечивалась ценой все более жесткого авторитаризма, явно выходившего за рамки режима управляемой демократии, провозглашенного в начале 2000-х годов, а экономические неурядицы переживались населением и бизнесом как своего рода стихийное бедствие, не имеющее связи с проводимым правительством курсом.
Западные политики и отечественная либеральная интеллигенция, похоже, сами искренне поверили в собственный миф о всеобщем органическом рабстве в России. Со свойственным ему литературным блеском мысль эту выразил Виктор Шендерович. В России, по его мнению, есть некоторое количество людей, «понимающих цену человеческому достоинству, посильно преодолевающих тоску и страх», а все остальные «протоплазма», «окружающая среда»[110]. Пост Шендеровича в Facebook стремительно разошелся по Сети. Шутка сказать, 1600 перепостов, почти 6 тыс. «лайков», сразу понятно, что не все у нас «протоплазма», есть и достойная публика.
Однако дело, конечно, не в Шендеровиче. Мало ли что может сгоряча написать тот или иной публицист! И даже не в том, что его мнение разделяет изрядная часть либеральной интеллигенции (и судя по комментариям в Сети, считает его позицию недостаточно радикальной). Проблема не в публицистике, а в политике, в механизме принятия решений. Потому что представление о массе народа как о пассивной «вате» оказалось основой всей стратегии российского либерализма, как оппозиционного, так и правительственного.
Стабильность и протесты
На самом деле кризис, начавшийся в 2008 г., изменил российское общество ничуть не меньше, чем Западную Европу и Соединенные Штаты. На протяжении всего этого периода страна колебалась между всплесками массового протеста и периодами стабилизации, что по-своему отражало динамику ее социального и экономического развития. Однако эти циклы отражали не только меняющееся под воздействием объективных факторов настроение масс, но и постепенно набирающий силу кризис верхов, который то обострялся, то затихал под воздействием Великого кризиса.
После обвала фондовых индексов на Западе в 2007–2008 гг., когда нефть, ранее стремительно дорожавшая под влиянием биржевых спекуляций, так же стремительно подешевела, Россия пережила резкий экономический спад, опережавший среднемировые темпы. Спасительные меры Федеральной резервной системы США, накачивавшей рынок долларами, привели к новой волне биржевых спекуляций, восстановивших в 2012–2014 гг. нефтяной рынок, который затем вновь серьезно просел в 2015–2017 гг. Легко заметить, что динамика массовых политических протестов воспроизводит динамику рынка с некоторым отставанием. Однако было бы наивно рассматривать политические события просто как механическое продолжение экономического процесса. Ключевым фактором перемен здесь оказывались растущие разногласия в правящих кругах, то обострявшиеся, то успокаивавшиеся по ходу развития ситуации, рост внешнеполитической напряженности и крушение потребительских ожиданий, порожденных впечатляющим ростом уровня жизни населения в начале XXI в.
Политическая модель, отстроенная в России за годы правления Владимира Путина, представляла собой систему многосторонних компромиссов, включавших как основные группировки олигархии, так и наиболее значительные группы в обществе. В условиях стабильного роста нефтяных доходов поддерживать такую систему в равновесии не составляло большого труда, даже если отдельные срывы время от времени происходили, как это случалось, например, в январе 2005 г., когда попытка монетизировать (а на самом деле отменить) льготы для пенсионеров и ряда других категорий граждан обернулась массовыми протестами, после чего правительство быстро пошло на уступки.
В 2009 г. первый удар Великого кризиса оказался для российской экономики крайне болезненным, но она перенесла его сравнительно легко из-за значительных резервов, накопленных не только компаниями, но и домохозяйствами. Политика Федеральной резервной системы США, пытавшейся гасить кризис, выбрасывая на финансовый рынок триллионы долларов, вызвала новое спекулятивное повышение цен на нефть, что сразу же стабилизировало российскую экономику. Даже тот факт, что в стране продолжалась фактическая ликвидация целых отраслей промышленности, не менял ситуации кардинально.
Левый публицист Александр Фролов иронически замечал по этому поводу, что «производство может деградировать, а экономика в то же самое время процветать. Когда лиса забирается в курятник, то у кур, естественно, разражается кризис, чего нельзя сказать о лисе. Так и в сегодняшней России. Упадок производства есть, а экономического кризиса в смысле кризиса капиталистической экономики нет. Наоборот, капитализм развивается весьма энергично. Отсюда и фиксируемое всеми опросами общественного мнения парадоксальное сочетание двух одновременных ощущений: и стабильности, и катастрофы. И прочности существующего строя, и его зыбкости»[111].
На самом деле, однако, подобное «развитие» и «процветание» не просто имеет довольно ограниченный и быстро исчерпывающийся ресурс, но и подрывает собственную основу. Пользуясь образами самого Фролова, когда большая часть кур будет сожрана, кризис наступит уже и у лисы. Именно это и произошло в 2010–2012 гг. А закономерным следствием экономического кризиса стала вспышка кризиса политического, наступившая с некоторым отставанием.
Хотя поводом для протестов 2011 г. оказалась фальсификация выборов в Государственную думу, нетрудно догадаться, что причины недовольства лежали в совершенно иной плоскости. Показательно, что ни одна из официальных оппозиционных партий, у которых в ходе выборов были украдены голоса, активности в протестных акциях не проявляла. Более того, после начала протестов официальная оппозиция солидаризировалась с властью, тем самым продемонстрировав, что является частью того же самого политического порядка, против которого выступили люди на улицах.
Тем не менее протесты, первоначально активно поддержанные в провинции, очень быстро утратили свою силу повсюду за пределами Москвы (даже в Петербурге движение быстро пошло на убыль). Причиной подобного поворота событий было то, что выразителями политической программы недовольных оказались столичные либералы, быстро приватизировавшие трибуны митингов. Либералы имели финансовые ресурсы и определенную легитимность в глазах власти, которая была готова вести переговоры именно с ними. Но не менее разрушительную роль в этом процессе сыграла позиция части левых, которые во имя единства движения пошли за либералами, безропотно признав их гегемонию — и тем самым способствуя краху того самого движения, ради успеха которого они готовы были отказаться от собственных идей и принципов.
Авангардизм некоторой части левых стоит элитаризма либеральной интеллигенции.
Что бы ни говорили многие идеологи о массах и классах, именно на презумпции пассивности народа строится их концепция политических преобразований — достаточно сменить власть в столице, а остальные смирятся и выполнят то, что просвещенные господа (или товарищи) им прикажут. В столице, однако, совершаются лишь перевороты. В ходе революции политические перевороты действительно нередко случаются. Но в том-то и отличие революции от переворота, что в политическую борьбу вовлекаются миллионы и миллионы людей по всей стране, и именно они решают, какова будет судьба политиков, пытающихся захватить или удержать власть в столице.
В 2011–2012 гг., когда массовые протесты потрясли Москву и отчасти Петербург, власть выстояла и даже не пошла на серьезные уступки потому, что в общественном сознании твердо зафиксировалось понимание: оппозиция во много раз хуже власти Владимира Путина. Существующий режим все же основывается на компромиссе, в том числе и социальном, а оппозиция хочет этот компромисс расшатать и разрушить.
Насколько можно ожидать соблюдения негласных правил социального компромисса со стороны либералов в случае их прихода к власти, было и в самом деле не очевидно. И вполне понятно, что часть левых, активно шедшая за либералами под знаменем общедемократической солидарности, не только игнорировала подобные опасения своей социальной базы, но и утрачивала тем самым собственное влияние. Не имея возможности опереться на сколько-нибудь значимые слои общества, эти левые переставали быть интересны не только массам, но и своим либеральным союзникам.
В обществе вполне обоснованно крепло убеждение, что либералы требуют делать жестко, последовательно и бескомпромиссно все то, что власть делает непоследовательно и осторожно. Имея перед собой выбор между центристской шизофренией администрации Владимира Путина и неолиберальной паранойей оппозиции, большинство граждан вполне рационально выбирало первое, воспринимая власть как меньшее зло.
Данный выбор, однако, при всей своей безусловной рациональности, являлся неразумным. Меньшее зло отличается от большего зла тем, что оно поступает к нам относительно малыми дозами, так сказать, порционно. Но совокупное количество зла в долгосрочной перспективе будет то же самое. С той лишь разницей, что большое зло провоцирует сопротивление, а малое зло способствует привыканию. Иными словами, с точки зрения конечного итога меньшее зло может оказаться даже опаснее.
Рациональный выбор масс объективно являлся неразумным потому, что в конечном счете именно при существовавшем в России «центристском» режиме — благодаря пассивности масс — все же проводилась в жизнь в конечном счете именно та неолиберальная политика, от которой, по мнению большинства, власть должна защитить население. А главное, сохранялась и воспроизводилась та самая структура экономики и общества, которая соответствует неолиберальной стратегии. Постепенное осознание этого противоречия медленно, но явственно меняет сознание масс по мере того, как власть, справившись с вызовом оппозиции в 2012 г., начала более активно проводить те самые жесткие меры, от которых обещала защищать население. Однако процесс нарастания взаимного разочарования между населением и властью прервался на некоторое время из-за событий на Украине.
Украинское потрясение
Миросистемный анализ, который воспринимается интеллектуалами как повод для увлекательного поиска исторических аналогий в далеком прошлом, на самом деле является методом, необходимым для понимания текущих задач классовой борьбы в глобализированном мире. События, развернувшиеся на Украине и в России после 2014 г., были отнюдь не изолированным сюжетом, разворачивавшимся по собственной логике. Напротив, они являлись частью мировых процессов, воспроизводя ту же динамику, которую можно было наблюдать в других регионах мира.
Вторая волна кризиса докатилась до России лишь в 2014–2015 гг., но к тому времени в Европе произошли события, радикально изменившие геополитическую конъюнктуру.
Падение спроса на сырье и энергию, вызванное общемировой экономической стагнацией, ударило по российским компаниям, но еще более катастрофическими оказались последствия кризиса для соседней Украины, где экономический упадок предопределил и развал государственных институтов.
Парадокс украинской политической модели состоял в том, что несмотря на попытку имитировать тот же подход, что и в России, правящий класс там не располагал достаточными ресурсами. Это приводило к постоянным публичным конфликтам между олигархами. То, чего удалось избежать в Москве, раз за разом повторялось в Киеве. Положение дел усугублялось политикой Европейского союза, который видел в Украине главным образом рынок сбыта для своих товаров и источник дешевых ресурсов, прежде всего — трудовых. Наступление Евросоюза на Южную и на Восточную Европу стало гораздо более агрессивным в условиях кризиса неолиберальной модели. Совпадение политического кризиса на Украине с экономическим коллапсом Греции далеко не случайно. По сути, речь шла о разных частях одного и того же процесса.
Выдающийся американский марксист Дэвид Харви определил динамику неолиберализма как «spacial fix» (управление пространством)[112]. Противоречия системы, неразрешимые в каждой конкретной точке экономического пространства, временно преодолеваются за счет постоянного расширения самого этого пространства, за счет вовлечения в него новых ресурсов, новых рынков, а главное — новых масс наемных работников, каждый раз все более дешевых. Таким образом, неолиберальный капитализм, фактически блокировавший механизмы повышения эффективности за счет развития общественного сектора, инвестиций в науку и образование, внедрения трудосберегающих технологий и за счет перераспределения ресурсов в пользу низов общества (что характеризовало модель кейнсианской «смешанной экономики»), постоянно вынужден был открывать для себя новые границы.
Экспансия капитала на определенном этапе создает на периферии системы новые зоны экономического развития, где начинается бурный рост производств, ориентированных не на местный, а сразу на мировой рынок. Результаты такого роста вполне обоснованно могут быть предъявлены как истории успеха неолиберальной экономики. Однако подобная экспансия, не будучи связанной с расширением внутреннего рынка, быстро исчерпывает свои возможности. Хотя рост экспорта приводит к притоку средств в страну, что косвенно отражается и на внутреннем рынке, такое развитие создает лишь новое противоречие: если движимый экспортом рост экономики ведет к повышению заработной платы, то расширение внутреннего спроса сопровождается снижением конкурентоспособности дорожающего экспорта. Если же заработную плату и доходы населения удается удерживать на нищенском уровне, то через какое-то время сам рост прекращается — рынки исчерпываются. Ведь в конечном счете мировой рынок все-таки опирается на совокупность национальных рынков и существовать без них не может.
Процесс либерализации рынков и приватизации в принципе не может иметь никаких пределов, его результаты на каждом данном этапе неминуемо оказываются «недостаточными». Зафиксировать и стабилизировать их невозможно точно так же, как невозможно удержать в равновесии остановленный велосипед. Противоречия тут же начинают разрывать систему. В результате за каждой волной территориальной экспансии следует новая, которая в значительной мере смывает результаты предыдущей — так Южная Европа, ставшая зоной экспансии в начале 1980-х годов, позднее испытала трудности из-за перемещения производства в Восточную Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. «Освоение» международным капиталом стран Восточной Европы стало важным фактором в преодолении экономического спада 1990–1991 гг., причем речь шла не только о формировании новых рынков, но и о прямом разграблении ресурсов (начиная от примитивного вывода денег, заканчивая использованием технологического и научного потенциала этих стран, который почти даром доставался победителям в холодной войне). Позднее подъем индустрии в странах Азии нанес удар по новым экспортным отраслям, начавшим развиваться в Латинской Америке и Северной Африке. А спустя полтора десятка лет рывок Китая, в свою очередь, ослабил экономический рост и привел к кризису в Восточной Азии. Учитывая не только дешевизну рабочей силы, но и беспрецедентные масштабы китайской экономики, можно с уверенностью утверждать, что Китай оказался для неолиберализма своего рода «последней границей», преодолеть которую уже невозможно без качественных изменений в самой системе. Однако именно таких изменений и стремятся любой ценой избежать правящие круги Запада и их союзники в остальной части мира.
Единственный выход для них состоит в том, чтобы силовым образом «взломать» уже существующие рынки и насильственно реконструировать их для резкого снижения стоимости рабочей силы и извлечения ресурсов, которые по тем или иным причинам оставались недоступными. Это похоже на возвращение горняков в заброшенную шахту, основные ресурсы из которой давно уже извлечены. Уровень эксплуатации при этом не только повышается до предельного, но и выходит за пределы, минимально необходимые для воспроизводства рабочей силы, общества и природной среды.
Капитал насильственно разрушает то самое разделение труда, которое им же было создано, уничтожает сложившиеся рынки, чтобы на их месте создать новые, более дешевые, переводит страны со средним уровнем достатка населения обратно в разряд бедных, возвращает государства полупериферии назад на периферию. Собственно, именно в этом состоит задача политики жесткой экономии, проводившейся в Испании, Португалии и Греции с катастрофическими для этих стран последствиями. Новая волна наступления капитала фактически повторяет географию предыдущих, начинаясь оттуда же, откуда стартовал весь цикл территориальной экспансии, с той лишь разницей, что на сей раз капиталу необходимо уничтожить или свести к минимуму собственные предшествующие достижения. Если ранее можно было, в соответствии с теорией Й.А. Шумпетера, говорить о диалектическом процессе «творческого разрушения», когда позитивные и негативные стороны экспансии были тесно переплетены друг с другом, то на сей раз речь идет именно о разрушении как таковом, о чистом регрессе, после которого пострадавшим регионам не остается ничего иного, кроме как начинать с «чистого листа», не поднимаясь на новый уровень развития, а лишь постепенно восстанавливая то, что было уничтожено.
Именно такой процесс развернулся в 2012 г. одновременно в странах Южной Европы и на Украине (отчасти также в Молдавии). Принципиальная разница, однако, состояла в том, что в Греции, Италии и Испании, находившихся в рамках политической и правовой системы самого же Евросоюза, государственные институты были более или менее защищены и сохраняли стабильность, тогда как на Украине с ее крайне слабой и молодой государственностью кризис почти сразу же принял форму политической катастрофы, развивавшейся скорее по «африканскому», чем по «европейскому» сценарию. Попытка навязать фактически обанкротившемуся Киеву соглашение об ассоциации с Евросоюзом, аналогичное подобным же соглашениям Брюсселя со странами третьего мира, оказалась спусковым механизмом для гражданского и социального конфликта. В скором времени Украина стала европейским аналогом Сомали, первым случаем «failed state» (провалившегося государства) на континенте, гордившемся своей цивилизованностью и стабильностью.
Украина с европейскими амбициями ее господствующего класса и националистической интеллигенции оказалась, по сути, идеальным объектом для нового неолиберального эксперимента, идеальной зоной для экспансии разрушения. С одной стороны, она давно являлась частью неолиберальной мировой системы, вписалась в глобальное разделение труда и рынок. С другой стороны, реальная интеграция украинской экономики в структуры ЕС была довольно слаба, демократические институты не слишком развиты, а население не имело опыта гражданской самоорганизации (многочисленные Майданы, организовывавшиеся одной группой коррумпированных политиков для борьбы с другой такой же группой, были чем угодно, только не гражданской мобилизацией). Соответственно, осознание людьми своих непосредственных классовых интересов оставалось на предельно низком уровне, ниже даже, чем в России, пережившей социально-политический кризис 1993 г. и опыт массовых протестов 2005 г.
Развернувшаяся в 2014 г. гражданская война между сторонниками «единой Украины» и донецкими повстанцами, равно как и националистическая истерия по поводу «российской агрессии» были нужны правительству Киева для того, чтобы провести в жизнь продиктованную ЕС программу жесткой экономии. Однако именно изначальная поддержка значительной частью населения Киева и жителями Западной Украины политики евроинтеграции сделали восстание и последующую войну неизбежными — для промышленных регионов Юго-Востока выполнение договоренностей об ассоциации с ЕС означало бы экономическую катастрофу таких масштабов, что перед ней меркнут любые ужасы войны.
Причиной, усугубившей противостояние, точно так же, как и культурные иллюзии киевской интеллигентной публики, оказался объективный раскол Украины, раскол экономически и социально настолько глубокий, что одна часть населения просто не представляет себе образа жизни и мысли другой. Причем за рамками массового сознания остается и понимание взаимозависимости между регионами, особенно тот факт, что именно промышленный Юго-Восток с его шахтами, заводами и портами в значительной мере содержал остальные регионы страны. И если аграрный Запад, утративший даже ту небольшую промышленность, которая была создана во времена СССР, мог просто мечтать о безвизовом выезде в Европу как о единственно доступном решении проблем, то киевская публика, вполне благополучно существовавшая за счет перераспределения производимых на Юго-Востоке ресурсов, продолжала совершенно искренне надеяться, будто и в условиях евроинтеграции она сможет сохранить и даже упрочить свое положение. Подобные ожидания были изначально иллюзорными и обречены были бы рухнуть даже в том случае, если бы рабочее население Донецка безропотно смирилось со своей участью, но они коренились в предшествующем социальном и культурном опыте.
Впрочем, если бы речь шла только о киевской интеллигенции с ее идеологическими иллюзиями, то это вряд ли смогло бы вызвать катастрофу европейского масштаба. Куда хуже, что аналогичные иллюзии завладели значительной частью левых, причем не только на Украине. Сознание рабочих масс Юго-Востока Украины, восставших в ответ на вооруженный захват власти в Киеве украинскими националистами в феврале 2014 г. и начавшуюся затем реализацию «ликвидационной» программы Евросоюза по отношению к украинской экономике, было в такой же степени заражено идеологическими иллюзиями и неадекватными представлениями, как и сознание столичной интеллигенции. Провозгласив создание на Юго-Востоке нового государства — Новороссии, восставшие оказались совершенно не в состоянии определить вектор его развития, призывая одновременно к социальному освобождению и к объединению с возглавляемой Владимиром Путиным Россией, которая была ничуть не менее олигархической, чем Украина, против которой они восстали.
Вмешательство Кремля в происходившие события, как и вмешательство Запада, было совершенно реальным, но оно было лишь реакцией на внутриукраинский кризис. В свою очередь, Киев ответил на бунт восточноукраинских низов массированным применением армейских подразделений, объявив жителей Донецка, Луганска и других восставших городов террористами. Гражданская война превращалась в антитеррористическую операцию (АТО), а протест политических противников сводился к интервенции России.
Украина и раскол левых
Европейские интеллектуалы и близкие к ним либеральные левые в России вполне готовы были признать тот факт, что перспектива социального освобождения при определенных обстоятельствах может соединяться с защитой национального суверенитета, если речь шла о Латинской Америке. Но никак не в странах «центра». И уж тем более не в России. А между тем изменения, произошедшие за время господства неолиберализма в Европе, делали политику старого континента все более «латиноамериканской», размывая принципиальные различия между логикой классовой борьбы в «центре» и на «периферии». И когда в европейских странах начали разворачиваться события, не укладывающиеся в привычные схемы, то ответом идеологов стал не анализ происходящего, а лишь яростное осуждение процессов, понять и предсказать которые не удавалось.
Между тем именно в европейских странах, оказавшихся
жертвами «второго пришествия» неолиберализма, неминуемо должны состояться решающие битвы. И именно тут могут быть достигнуты перемены, имеющие глобальное значение. Выбор стороны в этих битвах определяется классовыми интересами и общей логикой процесса, разворачивающегося на глобальном и континентальном уровне. Однако и в данном случае идеологи либеральной левой дружно встали на защиту существующего политического порядка и доминирующей идеологии.
«Если анализ общественной реальности ограничить “дискурсами” и взять за точку отсчета рассуждений фантомы, никак не связанные с практической реальностью (вроде “незалежной” евроинтеграции или демонического, “империалистического” Путина, а так же фрагменты информационного поля самой Новороссии), как это принято у либеральных или левых прогрессистов, то действительно очень легко свести новоросское движение к “русскому фашизму”, тем самым обосновав АТО, а с ней вместе и власть тех, кто ее проводит, — рассуждал философ Андрей Коряковцев. — Иные, “внедискурсивные”, причины этого противостояния, лежащие в историческом контексте событий и в предыдущем историческом периоде, ими просто не принимаются в расчет. Это неслучайно. Таково общее состояние как украинского, так и российского левого движения: как в левой теории под влиянием постмодернизма считывание “дискурсов” заменило исторический анализ, так и в левой практике ролевая игра давно уже заменила реальную политическую борьбу… Неудивительно, что в этом теоретическом и практическом состоянии левые не могут возглавить ни одно массовое движение. Неудивительно также, что их политические конкуренты, такие, например, как представители праворадикальных кругов (“дугинцы”, “прохановцы” и т. д.), перехватывают у них инициативу, как это было в Новороссии»[113].
Восстание, начавшееся в Донецке, Харькове, Одессе и Луганске весной 2014 г., можно назвать своеобразным прологом к более масштабному социально-политическому кризису, который постепенно охватывал все постсоветское пространство. Эта история, трагическая, как и положено всякой истории революционного выступления, не достигшего своих целей, оказалась вдвойне поучительна тем, что выявила все слабые места украинских, российских и западных левых, породив ясные линии политического раскола в тот самый момент, когда их консолидированные и осмысленные действия могли бы многое изменить. Такой раскол, разумеется, был неслучайным, ибо повторял те же линии размежевания, что наметились и по другим сюжетам, продемонстрировав настоящую пропасть между леволиберальным дискурсом и содержательной политикой, ориентированной на классовые интересы. Однако не менее показательным было и то, что само низовое восстание было именно бунтом «класса в себе», осознавшего свои текущие интересы, но катастрофически не осознававшего свои политические задачи и перспективы, вплоть до того самого момента, когда было уже необратимо поздно, а контроль над ситуацией оказался в руках совершенно иных сил.
Московский журнал «Левая политика» констатировал: «За год с небольшим, прошедший от начала массовых протестов в регионах Юго-Восточной Украины до убийства “Луганского Че Гевары” Алексея Мозгового 23 мая 2015, восстание прошло трагический путь от олигархического заговора и стихийного массового выступления, через гражданскую войну и формирование зачатков нового государства к своему собственному локальному “термидору”, осуществившемуся не столько по логике внутреннего политического развития, сколько в результате давления Москвы. Трагедия Новороссии с самого начала была предопределена тем, что выступление масс против олигархического капитализма и за социальное государство не могло развиваться иначе, как в условиях геополитического конфликта между Россией и Западом из-за влияния на бывшем советском пространстве, так или иначе подчиняясь логике данного конфликта. Можно говорить о том, что эта логика катастрофическим образом деформировала развитие общественного процесса и самой революции, но надо понимать, что подобная трагическая неизбежность в значительной мере характеризовала также революции прошлого, и уж точно будет характерна для всех революций ближайшего будущего. Не менее трагичным и показательным примером может быть и судьба «арабской весны», начавшейся с волны народных антисистемных выступлений, но захлебнувшейся под грузом противоречий глобального масштаба. Уже XX век показал, что революции неминуемо сталкиваются с интервенциями, причем эти интервенции далеко не всегда осуществляются врагами революции. Однако уже во второй половине столетия мы видели, как советское вмешательство, давая многим периферийным революциям шанс на выживание, одновременно деформировало их, подрывая освободительные импульсы народного движения, заменяя массовую демократическую инициативу бюрократическим контролем и технократическими решениями»[114].
Вмешательство российских властей на стороне восставших одновременно обеспечило техническое выживание Донецкой и Луганской народных республик, но в то же время лишило их перспектив самостоятельного развития, подорвав в участниках движения веру не только в солидарность «братской России» и «Русский мир», но, что куда хуже, и в собственные силы. Однако этим значение данного восстания не исчерпывается. Для интеллектуальной и общественной жизни России события 2014 г. на Украине были тем же, что Французская революция для немецких философов. Они поставили вопросы, предопределяющие весь ход дальнейших дискуссий, логику размежеваний и политических выводов. И самое главное, они наглядно показали, что Украина для жителей России является «чужой страной» не более, чем Пруссия для жителей Ганновера или Саксонии в 1848 г. Нравится нам или нет, но вопрос о социальном освобождении и прогрессе демократии на территории обоих государств оказался так же органически и неразрывно связан с вопросом о перспективах и формах их будущего объединения, как в Германии середины XIX в.
Раскол левых на континенте (да и в самой Британии) по отношению к Brexit оказывается примерно таким же, как в России и на Украине — по отношению к событиям в Новороссии. И там и тут имело место восстание низов, поддержанное радикальной частью левого движения, сохранившей приверженность классовой идеологии. И там и тут мы видели, что требование социальных прав, протест против неолиберальной политики Евросоюза и собственного правительства порой находил себе выражение в неадекватных лозунгах — «Русского мира» или «Британской самобытности». И там и тут рафинированная либеральная интеллигенция использует некорректность народного дискурса как повод, чтобы отказать в солидарности тем, кто реально борется за общественные перемены. Однако именно эти события позволили объединиться и консолидироваться тем, кто пытается преодолеть «диктатуру дискурса», чтобы сформулировать новую стратегию классовой политики.
России повезло в том, что распространение политкорректности среди левых оказалось достаточно ограниченным. С одной стороны, левые организации и движения были настолько слабы, что буржуазии не было необходимости их приручать и интегрировать — за исключением официальной Коммунистической партии РФ, которая встраивалась в систему через политические механизмы «управляемой демократии», установившиеся в стране с начала 2000-х годов. С другой стороны, сама буржуазия была слаба, нуждалась в государстве, а потому не была способна установить собственную идеологическую гегемонию. Либеральная экономическая политика начиная с 2000-х годов поддерживалась не формально соответствующей ей либеральной пропагандой, а напротив, патриотической риторикой, задача которой состояла в том, чтобы доказать, что меры, проводимые в России, не имеют ничего общего с точно такими же мерами, проводимыми в соседних странах. Открытый идеологический либерализм находил поддержку лишь в относительно узком кругу западнической интеллигенции, сосредоточенной в основном в столичных городах. Западническая часть левых благополучно интегрировалась в соответственное идеологическое пространство и воспринимала соответствующий дискурс через международные связи, более или менее успешно имитируя идеи и язык своих иностранных товарищей, мало интересуясь тем, как это будет воспринято в собственной стране. Остальные продолжали играть в ролевые игры, воображая себя то большевистскими комиссарами начала 1920-х годов, то сталинскими аппаратчиками. Отчасти это сочеталось с участием в различных культурных проектах, инициируемых просвещенной частью буржуазии, которая сама по себе являлась скорее маргинальной прослойкой среди массы отечественных собственников. В результате политкорректный дискурс в России распространился среди художников, модных литераторов и обученных за рубежом академических интеллектуалов, но не стал доминирующим в активистской среде.
Эффект Навального
Столичные массовые протесты 2011–2012 гг. выявили неожиданно значительное влияние левых, без которых не обходилась ни одна массовая мобилизация. Колонны Левого фронта, формировавшиеся под красными флагами, были важнейшей, как правило, самой радикальной частью каждой антиправительственной демонстрации вплоть до 6 мая 2012 г., когда столкновение манифестантов с полицией стало поводом для начала репрессий против организаторов протеста. Эти репрессии обрушились в первую очередь на Левый фронт, который к 2014 г. был уже полностью разгромлен — организационно и политически. Эффективность репрессий усиливалась тем, что пострадавшие от них лидеры движения не дали своим сторонникам четкой стратегической перспективы. Сотрудничество с либералами привело к деморализации и расколу. После того как массовые протесты пошли на спад, разрушились и организационные структуры левых, которые были к 2015–2016 гг., когда недовольство правительством вновь вывело людей на улицы, даже слабее, чем перед первой волной политических протестов.
Но и либералы были не в лучшем положении. Ничтожные политические результаты общественного подъема 2011–2012 гг. однозначно свидетельствовали об их беспомощности. Провинциальное население категорически отвергало их идеологию. Встав на сторону Киева в ходе украинского конфликта, российские либералы противопоставили себя не только, как им самим казалось, официальному государству, но и подавляющему большинству граждан России, отождествлявших себя с жителями Донецка, Луганска, Одессы и Харькова. Прозападная позиция либералов и близкой к ним левой интеллигенции была продиктована далеко не только неприязнью к Кремлю или логикой политического противостояния («враг моего врага — мой друг»), но и представляла собой совершенно естественный социальный выбор — в пользу элит и против бунтующей массы. Что массы, в свою очередь, отлично чувствовали. Наконец, лидеры либеральной оппозиции постоянно ругались между собой, некоторые из них покинули страну, а Борис Немцов, которого многие считали наиболее харизматичным из отечественных либералов, был убит в 2015 г. при загадочных обстоятельствах.
В го же время инерция патриотического единения, вызванного украинским кризисом и присоединением Крыма к России в 2014 г., понемногу сходила на нет. Она не только уступала место повседневным заботам и переживанию неурядиц экономического кризиса, но и подрывалась самой же политикой власти, которая не могла удовлетворительно завершить конфликт. Люди в Донецке и Луганске продолжали погибать, позиционная война продолжалась бессмысленно и бесперспективно. Добровольцы, ехавшие из России воевать в Новороссию, теперь чувствовали себя обманутыми и преданными. Они тысячами возвращались домой с грузом обид и разочарований, виновником которых однозначно выступал Кремль. В Крыму нарастали конфликты, спровоцированные тем, что Москва сделала ставку на представителей местной элиты и бюрократии, оставшихся на своих позициях еще со времен украинской власти или даже укрепивших свое положение.
В условиях, когда ни власть, ни либеральная оппозиция не были способны вызвать массовую симпатию, а левые оказались в очередной раз на политической обочине, страна нуждалась в новом политическом лидере, способном легко и быстро объединить разнородные протестные силы, не примыкая ни к одной из них. И такой лидер появился — им стал Алексей Навальный.
Вместе с Навальным в Россию пришла популистская политика. Успех созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был в первую очередь обеспечен использованием медийных средств и умением поднять лозунги, популярные у разных групп населения. Объявив кампанию против коррупции во власти, Навальный был далеко не оригинален, он шел по стопам своих предшественников в других странах, тоже активно использовавших такие же лозунги. Подобная пропаганда была в краткосрочной перспективе обречена на успех. В понимании разных общественных слоев коррупция имела разный смысл — для одних она выступала закономерным результатом установившегося в стране периферийного капитализма, для других — нравственной патологией, мешающей развитию правильных буржуазных порядков. Ожидания левых и правых, патриотов и космополитов на какое-го мгновение сошлись в одной точке. Надо было что-то сделать с коррупцией, чтобы страна могла развиваться дальше.
Будучи, несмотря на свою молодость, не новичком в политике, Навальный сумел извлечь урок из неудачи движения 2011–2012 гг., в котором он также являлся одним из лидеров. Он сумел дистанцироваться от непопулярных в обществе либералов, не отталкивая их окончательно. Он умеренно сдвигался влево, возрождая надежды на социальные перемены среди тех, кто за несколько лет до того выходил на митинги под красными знаменами. Он активно вел работу в регионах, помня о том, как столичный протест захлебнулся прежде в столичной изоляции.
Страна, объективно нуждавшаяся в переменах, воспринимала антикоррупционную кампанию Навального с нарастающим энтузиазмом. 26 марта и 12 июня 2017 г. на несанкционированные митинги и шествия вышли десятки тысяч молодых людей по всей стране. Их протест вступал в резонанс с ростом социальных движений, порожденных кризисом. Общество просыпалось.
Мобилизации, инициированные Навальным, в точности повторяли логику других популистских движений. Объединяя самые разные общественные силы для борьбы против власти, утратившей авторитет в обществе, они создавали краткосрочную политическую альтернативу. Но за этой альтернативой не было стратегического проекта. А в таком проекте общество принципиально нуждалось для преодоления кризиса, который был не только экономическим, но также социальным, институциональным и даже духовным. Обещая левым проводить активную социальную политику, восстановить науку, образование и здравоохранение, Навальный одновременно призывал к продолжению в экономике того же неолиберального курса, что проводился и действующим правительством. Он призывал наказать олигархов, но избегал говорить о национализации их собственности, а тем более — о структурных реформах. Он резко и убедительно критиковал царящий в стране авторитаризм, но не говорил об ограничении президентской власти, явно примеряя ее на себя.
Политический радикализм популистского протеста явно отражал глубинный социальный консерватизм его лидера. Но поднимая вопросы, ответов на которые у него не было, Навальный, как и другие лидеры переходного типа, открывал возможность для появления на сцене новых политических сил.
Парадоксальным образом слабость российской левой может в перспективе обернуться для нее огромным историческим преимуществом: работа по очистке авгиевых конюшен идеологического либерализма оказывается относительно простой и куда менее масштабной, уступая место более содержательным задачам строительства общественного движения и формирования коалиций, действительно способных добиться содержательных перемен, преодолеть неолиберальную экономическую политику и заложить основы нового социального государства.
VII. ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС МЫСЛИ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
Общая проблема большинства тактик, предлагаемых современными западными левыми, а также их последователями в незападных странах, состоит даже не в отсутствии стратегии, а в непонимании или нежелании понять два фундаментальных факта: во-первых, что разрушение существующего порядка является необратимым процессом и никакого возврата к докризисному состоянию дел не может быть в принципе, вне зависимости от политического выбора, сделанного той или иной группой, а во-вторых, что происходит возврат к политике жесткой классовой конфронтации, однако сами классы, вовлекаемые в эту борьбу, являются в значительной степени разложившимися, дезорганизованными и утратившими свою привычную организационно-политическую структуру, свои идеологические опоры. Не только рабочий класс и масса наемных работников, но в значительной мере и буржуазия, кроме олигархической элиты, оказывается в этой ситуации скорее «классом в себе», чем «классом для себя». Идеологическое и организационное конструирование будет происходить заново, в новых условиях. Политико-организационные формы, унаследованные от прошлого, этому процессу по большей части не помогают, а мешают.
Ответом на социальную атомизацию может стать или дальнейший распад общества, или его реструктурирование. Нынешнее состояние экономики, мировое разделение труда и социально-профессиональные роли отнюдь не являются окончательными — создание структур, более способных к стабильному и устойчивому воспроизводству, чем нынешние, является задачей, от решения которой зависит не только будущее капитализма (или его замена иным общественным порядком), но и выживание цивилизации как таковой. Политический популизм в такую эпоху становится закономерным явлением, оформляя неминуемый процесс перехода общества в качественно новое состояние. Но в зависимости от того, какой тип популизма возобладает, этот процесс приведет либо к формированию новых общественных структур и новой практической демократии, либо к еще более глубокому кризису социальных отношений, к культурному и моральному разложению общества.
Новая политика для меняющейся экономики
Экономической основой происходящего процесса в странах Запада и на территории бывшего Восточного блока было уничтожение и реструктурирование промышленности, соответствующая перестройка научного и образовательного сообщества, расчленение и демонтаж сетей солидарности и кооперации даже на профессионально-корпоративном уровне. На социальном уровне это обернулось повсеместным деклассированием многомиллионных масс, причем деклассирование приняло не форму обнищания, потери постоянного жилья и работы, как в прежние времена, но, напротив, происходило зачастую на фоне растущего индивидуального потребления. Деклассирование произошло в форме утраты миллионами людей определенности и осознанности своего социального статуса, распада горизонтальных связей, исчезновения тех отношений и правил, которые, собственно, и делали те или иные общественные группы солидарным и дееспособным целым. Иными словами, произошла деградация социальных отношений. Перефразируя Маркса, можно сказать, что «класс для себя» стал даже не «классом в себе», а сделался «классом не в себе»: оказавшись массой людей, способных отождествить себя с чужими интересами и идеологиями, нередко прямо враждебными их собственным объективным потребностям. В отличие от «класса в себе», который не осознает своих действительных интересов, нынешний «класс не в себе» как раз осознает чужие и даже противоположные интересы как свои собственные. Причем происходит это не от недостаточного доступа к культуре, как раньше, а наоборот, из-за того, что люди тонут в потоке культурного мусора, производство которого как раз и является одной из важнейших функций «информационного общества».
Очень легко наблюдать это на примере «пролетариев новой волны», продающих не только свою рабочую силу, но и свой интеллект и даже свои личные качества на рынке груда. Несмотря на то (а отчасти и благодаря тому), что, в сущности, эксплуатация и отчуждение перешли на более глубинный, экзистенциальный уровень, эти люди не только не торопятся признать себя пролетариатом, но и готовы почувствовать себя кем угодно еще — «новыми городскими слоями», «креативным классом», «продвинутой интеллигенцией», «хипстерами» и т. д., лишь бы только не признать, чем они являются на самом деле.
Соответственно и левая идеология претерпевает по ходу событий определенные изменения, опускаясь до уровня старого утопического социализма, отражающего порой самые противоречивые, отсталые и деструктивные формы нестабильного сознания. Однако деградация никогда не бывает полной и всеобщей, а реакция — тотальной. И это является, с точки зрения функционирования общественной идеологии, скорее проблемой, нежели основанием для оптимизма. Поскольку процессы социальной деградации переплетаются с сохраняющими свою инерцию процессами развития, одно может успешно выдаваться за другое, создавая в головах и на практике безнадежную путаницу. А накопленный идейный и теоретический опыт перерабатывается в ходе реакции, становясь ее материалом, так же как любые стилистические, теоретические, философские концепции прошлого, перемешанные в окрошке постмодернизма, становятся частью его эклектических конструкций.
В результате, с одной стороны, самые примитивные формы утопического социализма или, наоборот, буржуазного радикализма, в борьбе с которыми, собственно, и формировался марксизм, успешно совмещаются с использованием марксистской или постмарксистской лексики, а зачастую и предъявляются нам как новейшая «левая идеология». С другой стороны, идеология вообще, любая идеология и любые формы якобы «политического» мышления и «дискурса» оказываются настолько оторванными от практики и главное от общественных потребностей, что эти идеи становятся очевидно вредными для социума, а их носители превращаются в паразитов, которые воспроизводят себя за счет разрушения или деградации окружающей их среды.
Общие ссылки на приверженность социализму или абстрактно-банальная и повторяющаяся уже десятилетиями из текста в текст критика капитализма не дают нам ровным счетом ничего в плане практического преобразования общества.
Социализм является не воплощением абстрактного принципа, а итогом развития капитализма и практическим разрешением порожденных им противоречий. Соответственно социалистическая политика (и социальная трансформация) является отнюдь не попыткой воплотить в жизнь некую вневременную «справедливость», а воплощением реальных общественных потребностей, которые невозможно осуществить, не выходя за пределы экономической логики капитализма (даже если эта политика порой проводится еще в рамках капиталистического общества). При этом общественные интересы и потребности гораздо шире, чем классовые интересы и потребности «пролетариата» (как бы мы ни трактовали данное понятие), однако социальное положение этого класса объективно делает его интересы среди всех других общественных классов в наибольшей степени совпадающими с перспективами развития и освобождения человеческого общества в целом.
Социальное бытие современных трудящихся, увы, не соответствует ни готовым формулам теоретической азбуки классического марксизма, ни представлениям, насаждаемым модной постмодернистской и постструктуралистской социологией, которая сама по себе является не более чем побочным продуктом интеллектуального кризиса Запада.
Для того чтобы разобраться в происходящем, необходимо возвращение к классовой социологии в духе Маркса и Вебера, но воспринимаемой не в виде готового набора азбучных истин, а в качестве аналитического метода, открывающего путь для формулирования политической и социальной стратегии.
Свести дело к привычной азбуке нельзя не потому, что она не верна, а именно потому, что с ее помощью надо еще научиться читать сложный и противоречивый «текст» общественной реальности XXI в. А прочитав его, начать действовать, совершая собственные поступки: сделать хоть что-то для практической организации движения. Потому что только участие в борьбе дает социальному классу то самое сознание, без которого любая теория остается бесполезной игрушкой интеллектуалов.
Левые партии, их элиты, их интеллектуалы, их дискурс стали частью неолиберальной повестки дня. Неолиберализм, политика капитала полностью интегрировали левых, объединив их с правым истеблишментом в рамках общей либеральной идеологии, сводящейся к повторению заранее заготовленного набора общих мест. Логику неолиберализма левая интеллигенция воплотила даже радикальнее, чем сами буржуазные правые: именно она наиболее последовательно настаивала на фрагментации общества, на замене требований национализации и принципов классовой солидарности «борьбой за права меньшинств» и «защитой интересов иммигрантов» (в том числе — противопоставляя их всем остальным рабочим), предлагала «адресную помощь» и различные квоты для тех или иных групп вместо универсальной и равной для всех граждан практики социального государства. Неудивительно, что такая «левизна» идеально устраивала буржуазные элиты. Консенсус правых и левых позволил правящему классу блокировать любые гражданские и демократические инициативы
Показательно, что левая интеллигенция, иногда свысока, а иногда снисходительно оценивая предрассудки, ошибки и противоречия во взглядах и поступках обычных людей — тех самых «трудящихся», которых нужно, как мы знаем, объединить и куда-то, предположительно, направить, — совершенно не задумывается о том, как она сама выглядит в глазах этих самых трудящихся. Левый интеллектуал думает, будто рабочий, перешедший на сторону американских республиканцев или голосующий во Франции за Национальный фронт, потерян для дела прогрессивных преобразований. А в действительности потерян — и уже давно — сам левый интеллектуал.
Интеллигенция считает себя вправе вешать ярлыки и раздавать оценки. Но чтобы заслужить данное право, нужно, как минимуму постоянно подтверждать свою способность к критическому социально-экономическому анализу, который не имеет ничего общего с повторением однообразных мантр. По сути, либеральная левая получила свой статус и репутацию по наследству, ничего не делая, чтобы поддержать свою репутацию и обосновать свои привилегии. В этом она гротескно уподобляется аристократии старого режима во Франции XVIII в.
Антонио Грамши связывал успех левого движения с появлением «органического интеллектуала», неразделимо связанного со своим классом, выступающего своего рода медиумом, через которого класс выражает свои потребности, формулирует свои интересы и выдвигает свои требования. Новый тип самодостаточного и самодовольного интеллектуала совершенно не похож на образ, нарисованный итальянским мыслителем. Но может ли органический интеллектуал быть сформирован заново, в изменившихся исторических и социальных условиях? Для того чтобы это произошло, необходима прежде всего радикальная и бескомпромиссная самокритика левого движения и его политической интеллигенции.
От популизма к новому историческому блоку
Вполне понятно, что от философа или историка философии совершенно необязательно требовать политической позиции, но как раз в том-то и беда, что подобного рода рассуждения и определяют то, что обычно принято искренне выдавать за политическую позицию. Между тем для политика, в отличие от историка, вопрос о «прогрессивности» или «реакционности» данного процесса может формулироваться прежде всего как вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы использовать данные события в интересах прогресса или, напротив, противодействовать надвигающейся реакции. Это вопросы совершенно практические и именно в контексте этой практики, исходя из ее задач и возможностей, имеют смысл какие-либо оценки. Эти наши оценки могут быть ошибочными. Но об этом как раз и будут судить историки. Верность или ошибочность политической позиции определяется практическими последствиями действий из нее вытекающих. Точно так же надо сознавать ограниченность наших возможностей и малость наших сил. Но опять же, сознавать эту ограниченность не для того, чтобы отказываться от действия, а для того, чтобы действовать эффективно, сообразно с имеющимися ресурсами, достигая, таким образом, максимально возможного результата.
Политический процесс идет не сам собой, вне и без нас, он касается нас самым непосредственным образом, и мы являемся его участниками, даже если ничего не делаем. Занимая позицию пассивного наблюдателя, отдаваясь всецело интеллектуальному созерцанию, либо, напротив, ставя себя в позицию никем не уполномоченного судьи, мы не только не снимаем с себя ответственности за происходящее, но, напротив, совершаем преступление перед историей.
Как может быть сформирована иная позиция? Только через возвращение к политике, выражающей конкретный классовый интерес — не в абстрактно философском понимании, а здесь и сейчас. Не рабочий должен стараться заслужить признание интеллектуала, демонстрируя раз за разом свою политкорректность, а сам интеллектуал должен будет вернуть себе хотя бы уважение, если не доверие, рабочего, открыто и публично пожертвовав политкорректным дискурсом ради борьбы за практические, понятные и одобряемые большинством пере
мены.
Первоначальное вступление в политику масс, подвергшихся систематическому и последовательному деклассированию, невозможно ни в какой иной форме, кроме популизма. Любая попытка избежать популизма на левом фланге не только равнозначна отказу от массовой политики и в конечном счете отказу от принципов демократии, но и означает, что население, несогласное с неолиберальной политикой, «передается в ведение» правому популизму, ибо никакого третьего варианта быть не может.
При этом так же очевидно и то, что сами протестующие массы не осмысливают свои действия и требования в категориях правого и левого, а лишь формулируют более или менее осознанные потребности и возражения против текущего положения дел. Зачастую само по себе высказывание, даже представляющееся участникам событий политическим, является внутренне противоречивым и откровенно путаным. «Левые» интеллектуалы, защищающие власть финансового капитала и либеральную элиту, не более адекватны, чем «правые» рабочие, против всего этого бунтующие. Отсюда вовсе не следует, будто понятия «правого» и «левого» как определяющие отношение к капиталистической системе и существующей социальной иерархии, утратили свой смысл. Но по отношению к дезорганизованной и фрагментированной реальности они являются лишь объективными аналитическими категориями, позволяющими выстраивать долгосрочные стратегии, а не формулировать однозначные текущие оценки.
Таким образом, первый вывод, который диктует сложившаяся к началу XXI в. политическая реальность, означает, что возрождение массовой демократической политики пройдет через подъем популизма, а реорганизация и успех левых будут зависеть от того, насколько они смогут с этими популистскими движениями работать, выстраивая внутри них собственную гегемонию. Этот путь лежит не через бесплодную критику масс и жалобы на противоречия реальной жизни, а через честную и откровенную дискуссию с людьми в рамках широкого фронта, выступающего за перемены.
Разумеется, борьба за гегемонию внутри популизма неизбежна. Но прежде чем вешать ярлыки, необходимо определиться с критериями. Правый популизм, враждебный демократии и пропагандирующий расизм, является не просто соперником в борьбе за влияние на массы, но и прямым противником. Однако левым придется честно ответить на вопрос, с чем они имеют дело в действительности: являются ли те или иные политики и лидеры в самом деле расистами и противниками демократии или либеральные элиты просто клеят им соответствующий ярлык для того, чтобы дискредитировать массовое движение. Настойчивость, с которой значительная часть левых публицистов повторяет и воспроизводит штампы буржуазной прессы, свидетельствует о том, что мы имеем дело не с заблуждением, а с последовательной политической линией, которая должна быть преодолена. Для того чтобы бороться за гегемонию в среде массового движения, левые сначала должны решительно избавиться от гегемонии либерализма в собственной среде.
Гегемония левых означает борьбу за четкое осознание массами их классовых интересов — прежде всего необходимости институциональных реформ по восстановлению и развитию социального государства, основанного на коллективном потреблении, полной занятости и дорогом труде. В рамках такой перспективы должны быть решительно отвергнуты всевозможные приманки буржуазной благотворительности вроде безусловного базового дохода Подобные идеи являются вполне органичной частью неолиберальной идеологии и представляют собой не новые достижения радикальной мысли, а лишь еще одно проявление либеральной гегемонии в левой среде, проекты классово-нейтральных псевдореформ, предлагающих населению стран Запада окончательно разорвать связь между благосостоянием и занятостью, ввести некий квазирыночный механизм социальной поддержки, дополняющий разрушение бесплатной медицины, образования, общественных служб и государственного сектора в сфере производства. А оплачивать подобные эксперименты обречены будут трудящиеся незападных стран.
В конечном счете цель левой гегемонии состоит в том, чтобы превратить неустойчивую и несознательную популистскую коалицию в исторический блок, сознающий свои цели и перспективы, имеющий четкие принципы, программу и рамки. Антонио Грамши, вводя термин «исторический блок», прекрасно понимал его внутреннюю неоднородность. По сути дела, задача политики в том и состоит, чтобы превратить «сложный, противоречивый, неоднородный комплекс» общественных групп и отношений в более или менее органичное целое[115]. Как подчеркивал итальянский мыслитель, даже если речь идет о силах, по сути своих интересов «сходных», они не могут слиться в единое целое «иначе как через целую серию компромиссов»[116].
Таким образом, в отличие от популистского движения, которое представляет собой собрание в значительной мере случайных групп и интересов, ситуативно объединенных реальной проблемой или общим врагом, исторический блок выстраивается сознательно, позволяя преобразовать коллективный опыт масс через критическую работу политиков и интеллектуалов. Однако историческая ситуация первой четверти XXI в. не оставляет нам иного пути, кроме как выстраивать исторический блок внутри стихийных популистских коалиций и целенаправленно выращивать, оформлять классовую политику и классовое сознание, работая внутри популистского движения, порожденного логикой экономического кризиса и распадом неолиберального порядка.
Это не значит, будто левые должны принимать и поддерживать каждого очередного популистского лидера только потому, что он получил массовую поддержку. Но это значит, что они должны четко отдавать себе отчет: без людей, составивших массовую опору популизма, невозможно организовать демократическое движение за перемены.
Путь перемен
Общественные перемены никогда не могут быть легкими и безболезненными. Нельзя сделать омлет, не разбив яиц. А в условиях, когда забота об интересах яиц является важнейшим идейным принципом, никакой омлет никогда сделан не будет. Беда в том, что старания политкорректных яйцезащитников в любом случае бесполезны. Яйца по ходу сюжета будут так или иначе перебиты — только омлета уже не получится.
Политика «меньшего зла» как раз и есть путь к катастрофе. В период кризисного слома принцип минимизации риска не просто не работает, а всегда работает на худший из возможных вариантов.
Левые по всей Европе сдвинулись вправо, превратив лозунг европейской интеграции в обоснование своей готовности принять существующий порядок на практике в обмен на привилегию изысканно критиковать его в теории. С этого момента, независимо от радикализма слов, в каждой ситуации практического выбора респектабельная левая интеллигенция занимала сторону неолиберальных элит — против «необразованного» и «отсталого» населения.
Вопреки идеологии, провозглашающей, что у пролетариев нет родины, угнетенная часть населения оказалась вынуждена держаться за национальные институты и традиции, причем защищая их не от «внешнего врага», а именно от собственного «национального» государства, выступающего основным инструментом и проводником неолиберальной глобализации.
Интернационализм состоит не в том, чтобы с умилением поддерживать интеграционную политику, проводимую в интересах глобального капитала, а в том, чтобы на международном уровне, солидарно и скоординированно вести сопротивление этой политике. Предательство интеллектуалов стало общеевропейским феноменом после того, как классовые критерии сменились культурными, а теория была замещена всевозможными изящными дискурсами, воспроизведение которых стало главным маркером, позволяющим «своих» отличать от «чужих». Преданные и забытые массы были не только предоставлены самим себе, сохраняя и культивируя свои предрассудки и политические суеверия, но и оказались более чем прежде восприимчивы к националистической идеологии.
Капитуляции левых, следующие одна за другой, не случайны.
В основе всех их лежит общая причина — отказ от тех простых принципов, которые, собственно, и составляли идентичность левого движения.
Эти принципы полвека назад были самоочевидными, но сегодня придется о них напомнить.
Первый из них — классовые интересы. Нет, не абстрактная демагогия о сочувствии слабым, инклюзивности и правах меньшинств, а именно конкретные интересы реального рабочего класса. В том числе тех самых «белых мужчин», которых так презирают либералы.
Вторым историческим принципом левых было видение исторической перспективы, на основе которой выстраивалась стратегия. Это общее видение было в 1930-е годы у таких разных политиков, как Рузвельт, Троцкий и Сталин. Оно опиралось на представления об объективно назревших задачах развития, решение которых и является сущностью исторического прогресса. Показательно, что либеральные левые в США продолжают называть себя «прогрессистами» (progressives), хотя вопрос о том, в чем, кроме, конечно, отдельных гуманных мероприятий, должен состоять сегодня исторический прогресс, ими даже не обсуждается.
А между тем вопрос более чем ясен. Преодоление неолиберализма является сегодня назревшей исторической задачей — не потому, что мы не любим эту систему или она не соответствует нашим ценностям, а потому что она исчерпала свои возможности развития. Такая система может сохраняться, только пожирая ресурсы, необходимые для базового воспроизводства общества. Иными словами, чем дольше она просуществует, тем сильнее будет разрушать себя и подрывать условия жизни для всех нас.
Связь исторической перспективы с классовым интересом определяется ответом на простые текущие вопросы — будут ли создаваться рабочие места, обеспечивающие не просто выживание, но культурное, профессиональное, моральное развитие работников? Будут ли укрепляться профсоюзы, организации трудящихся? На протяжении двух с половиной десятилетий левые дружно критикуют неолиберализм, Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд за то, что проводимая ими политика свободных рынков привела к ослаблению и десолидаризации рабочего класса. Однако почему-го упорно не хотят признать верность обратной теоремы: в условиях капитализма только протекционизм приводит к укреплению позиций рабочих на рынке труда, к укреплению профсоюзов и опирающихся на них политических организаций. Западноевропейский протекционизм начала XX в. породил мощную немецкую социал-демократию, а поддержка отечественной промышленности, осуществлявшаяся российскими правительствами С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, создала важнейшие социальные предпосылки для революции 1917 г.
Оценивая перспективы возрождения американского либерализма после победы Трампа, Аллан Лихтман призывал демократов пойти за Берни Сандерсом, однако ни в коем случае не следовать за ним «в крысиную нору протекционизма»[117]. Автор либо искренне не понимал, либо делал вид, будто не понимает очевидный факт, что без радикального изменения экономических условий и правил, без протекционистской защиты национального рынка, стимулирования «реального сектора» и развития производства все эти социальные программы превращаются в набор нелепых благих пожеланий, которые не только невозможно будет стабильно финансировать, но не удастся и эффективно развивать. Точно так же как демонтаж социального государства и развитых форм демократии, возникших после Второй мировой войны, неразрывно был связан с политикой свободного рынка, так и возрождение социального государства неминуемо требует протекционистской экономической политики как условия sine qua non. Условия абсолютно необходимого, хоть и недостаточного. Иными словами, вопрос стоит не о том, нужен протекционизм или нет, а о том, какие формы он примет и в чьих интересах будет реализован. Социалистическая политика требует не просто поддержки внутреннего рынка, а использования контроля над внешней торговлей государства как инструмента общественного преобразования и мобилизации ресурсов для социального развития.
Без перехода к протекционизму в старых индустриальных государствах невозможна и консолидация рабочего движения в странах глобального Юга, ничуть не менее нуждающихся в защите собственных рынков и собственного производства. Без этого немыслимо ни демократическое регулирование, ни социальное государство. Кампания Берни Сандерса подняла эти гемы, но когда встал вопрос о том, что хуже — приправленная исламофобской и антимексиканской демагогией протекционистская программа Дональда Трампа или упакованная в безупречно политкорректную лексику антисоциальная повестка Хиллари Клинтон, выбор был сделан однозначно в пользу последней. Миллионы американских рабочих, независимо от цвета кожи, пола и сексуальной ориентации, сделали совершенно иной выбор. Голосуя за Трампа, они реагировали не на его скандальную риторику, даже если эта риторика им нравилась, но принимали осознанное решение, исходя из своих интересов как наемных работников в условиях капитализма.
Неолиберальная политика должна быть демонтирована, общественная модель изменена. Если протекционизм станет фактом — предпосылки для нового социального государства будут созданы, а вместе с ними возникнет и почва для нового народного движения.
Третий принцип, который всегда был фундаментальным для левой политики, — борьба за власть. Именно за власть, а не за представительство, влияние или за присутствие в доминирующем дискурсе. Показательно, что как раз попытка Сандерса вступить в реальную борьбу за власть вызвала возмущение множества левых радикалов, воспринимавших такое поведение как нечто совершенно неприличное. И наоборот, когда сенатор из Вермонта сдал свои позиции, он утешал себя и окружающих тем, что Демократическая партия приняла самую прогрессивную платформу в своей истории, хотя всякий, хоть немного знакомый с устройством американского государства, прекрасно понимает, что такая программа не стоит и бумаги, на которой написана. Ведь все рычаги реальной власти (не только в администрации, но и в партии) находятся у тех, кто никогда не допустит реализации подобных идей.
Борьба за власть требует соответствующей организации и механизмов мобилизации, куда более жестких, чем сетевые структуры. Но прежде всего она требует воли и политической самостоятельности. Именно поэтому, как бы ни были фрустрированы и озлоблены активисты, преданные либеральными левыми, поддержка правых популистов не может стать для них выходом.
Политики типа Трампа или Навального могут разбудить общественное движение, но не могут конструктивно удовлетворить его требования, выходящие за рамки существующего порядка.
Их победа может оказаться необходимым этапом в процессе преодоления неолиберализма и демонтажа коррумпированной политической системы, но она не принесет торжества позитивной социальной программы. Эту задачу может решить только сознательно построенная организация — прогрессивная в действительном историческом понимании. Политическая борьба требует терпения и настойчивости.
Поворот, переживаемый современным миром, меняет условия жизни и борьбы для миллионов людей во всех странах, открывает перед ними новые возможности. Но, увы, так же очевиден и противоположный вывод: предательство партии СИРИЗА, капитуляция Сандерса и колебания Корбина — это не внутренние вопросы греческой, американской или британской политики… Это неудачи, за которые расплачиваться приходится не только левым во всем мире, но и всему человечеству.
Паралич воли, поразивший левое движение эпохи неолиберализма, должен быть преодолен. Начинается представление большой глобальной драмы, в которой всем нам предстоит еще сыграть свою роль. Мы должны принять на себя ответственность за рискованные и опасные решения, понять, что нельзя быть милыми и приятными для всех, нельзя побеждать без борьбы и жертв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдая то, как разворачиваются события в Западной Европе и США, трудно отделаться от ощущения, что левые терпят неудачу всюду, причем даже тогда, когда на первый взгляд добиваются успеха. Отступая и отказываясь от борьбы, они теряют доверие общества. Идеологические капитуляции завершаются и дополняются политическими и электоральными поражениями и откровенными предательствами, как в случае Греции. Однако на самом деле народами отвергается не идеология левых, а либерализм, причем — во всех его вариантах, включая и левый. Размывающаяся грань между леволиберальным дискурсом и праволиберальной практикой делает подобные различия незначительными и совершенно не интересными для широкой публики.
Зараженность европейских левых «вирусом либерализма» (пользуясь терминологией Самира Амина[118]) достигла масштабов настоящей политической пандемии, жертвами которой неминуемо оказываются не только многие влиятельные в недавнем прошлом партии, но и целые страны, лишенные шанса выбрать конструктивную альтернативу существующему порядку. Такое положение дел, однако, не делает неолиберальный порядок намного стабильнее, а если и делает, то ненадолго. Просто в условиях отсутствия конструктивных альтернатив торжествуют подходы неконструктивные или развивается стихийный процесс разрушения.
«Кризис, — отмечает Марк Ткачук, — делает слабыми всех, кто участвовал в прошлой игре. Он лишает их возможности оказать серьезное сопротивление тому новому, что обязано возникнуть»[119]. Ответом на кризис, по мнению Марка Ткачука, должна стать «современная левая реформация». Так же как Реформация Мартина Лютера давала ответ на моральный кризис позднего Средневековья, новая реформация должна дать ответ на идеологическое крушение либеральных догматов позднего капитализма. Левые идеи далеко не стали массовыми. Как политическая и духовная сила левое движение критически отстает от объективно стоящих перед ним исторических задач. «Но догматы и каноны современного мира более не вызывают ни доверия, ни эмоционального преклонения. И вопрос лишь в одном, успеет ли новая просвещенная реформация низвергнуть эти каноны и догматы раньше всех тех, кто уже спускается в подземелье прошлого, кто уже поднял феодальные стяги и боевые хоругви»[120].
События 2014–2017 гг. неминуемо спровоцировали волну расколов в левом движении, идеология и тактика которого оказались не адекватны происходящим в мире процессам и потребностям общественного развития. Политические силы, оказавшиеся в такой ситуации, неминуемо обречены на крах. Но катастрофа, переживаемая левым движением в одной его исторической форме, лишь открывает перспективы для его возрождения в другой форме. До тех пор пока существует капитализм со свойственными ему социальными и экономическими противоречиями, существует и объективная необходимость в левой альтернативе. Эта альтернатива обречена исторически меняться вместе с изменением самого капитализма и развитием классовых конфликтов, проявления и формы которых тоже неминуемо меняются.
Кризис, переживаемый левыми организациями, явился закономерным результатом предшествующего развития и выбора, который раз за разом делали его лидеры — политические и интеллектуальные. В этом смысле события начала XXI в. продолжают предшествующую историю эволюции рабочего движения Распад Первого интернационала подготовил возникновение Второго интернационала, кризис которого, в свою очередь, породил коммунистическое движение. Стагнация «старых левых» (коммунистических и социал-демократических партий) в конце 1960-х годов предопределила появление «новых левых». В начале XXI в. мы наблюдаем, как интеллектуальная и идеологическая эволюция, спровоцированная молодежным восстанием 1960-х, завела нас в тупик, выходом из которого становится переход к новой классовой политике, отражающей как изменившиеся, так и оставшиеся фундаментально неизменными потребности и интересы большинства наемных работников вне зависимости от цвета кожи, пола (gender), религиозности или других идентичностей.
В самой этой ситуации нет ничего трагичного. Катастрофический оттенок ей придает лишь тот факт, что гегемония либеральных политкорректных интеллектуалов в левом движении толкнула миллионы трудящихся в объятия правых популистов и теперь уже невозможно организовать массовый народный блок за социальные преобразования, не выстраивая в какой-то форме отношения с этими политическими течениями. Вместо того чтобы организовывать собственное широкое движение, левым приходится иметь дело с массовым движением, возникшим не только без них, но и против них. Однако объективные потребности трудящихся требуют политического выражения. А популистские лидеры, пробуждая активность масс, вынуждены так или иначе реагировать на все новые и новые проявления стихийного бунта, сегодня вознесшего их на политические вершины, но завтра грозящего обернуться против них. Идейно аморфные популистские движения обречены либо леветь, либо раскалываться. И в том и в другом случае исход дела зависит от того, способны ли будут левые на диалог с массами.
Попытки представить новый популизм в качестве аналога западноевропейского фашизма начала 1930-х годов являются необоснованными просто потому, что не учитывают качественного различия между состоянием общества в середине XX и в начале XXI в. Отождествление популизма с фашизмом принципиально важно для идеологического самооправдания либеральных левых, поскольку становится обоснованием для их сотрудничества с неолибералами и поддержки существующего порядка — во имя избегания чего-то многократно худшего. При этом, разумеется, само понятие «фашизм» лишается всякого конкретного историко-политического и социального содержания, обозначая, в сущности, любого, кто оказывается не по душе правым или левым либералам. Угрозой для прогресса и свободы в новой ситуации становится не правый популизм как таковой, а политический хаос, проистекающий как из неспособности популистских лидеров выстроить системную альтернативу неолиберализму в условиях его стихийного распада, так и от нежелания левых выступать вместе с бунтующими трудящимися массами против либерального истеблишмента.
Передышка, которую политическими мерами выиграл для себя западный истеблишмент в 2017 г., одновременно дала шанс для формирования новой, более радикальной оппозиции на левом фланге, для реорганизации и реструктурирования левых (вернее, для воссоздания левого движения, в значительной мере — для его создания заново), а также для подъема новых протестных движений в странах, которые, подобно России, до поры оставались спокойным политическим болотом.
Неминуемый новый удар Великого кризиса вызовет к жизни новые политические силы, в том числе и в Восточной Европе, где левое движение находилось до последнего времени в жалком и угнетенном состоянии. Но эти политические движения новой волны смогут успешно сыграть свою роль лишь в том случае, если сделают выводы из катастрофического опыта либеральных левых. Эпицентр политического кризиса перемещается в новые зоны — в том числе в Россию (чему способствует авторитаризм и некомпетентность правящего класса). Потребность страны в новой модернизации, в свою очередь, диктует необходимость революционных перемен. И эти перемены не могут быть осуществлены силами местной глубоко провинциальной и насквозь коррумпированной буржуазии. Иными словами, появление сильных левых — вопрос национального развития. Не только для России, но и для многих других стран, оказавшихся в схожем положении.
Для того чтобы предпосылки нового прогрессивного развития в США, Западной Европе или России реализовались, нужна активная работа. Если левое движение действительно стремится играть какую-то роль в реальной, а не воображаемой политике, оно должно решительно порвать с либеральными иллюзиями и соответствующим дискурсом.
Новороссия, Brexit, американские выборы 2016 г. — все это проявления одной и той же глобальной революционной ситуации. Серия восстаний логически и неизбежно порождена крушением неолиберальной экономической политики, а неадекватная форма этих восстаний, в свою очередь, предопределена неспособностью левых предложить альтернативу, привлекательную для масс.
Таким образом, левые — на глобальном и национальном
уровне — обречены сделать выбор между интересами трудящихся классов и логикой комфортабельного дискурса. И они его сделали, встав по разные стороны баррикад, даже если сами еще в полной мере не осознали значения собственного выбора. Этот выбор не является для каждого отдельного представителя левого движения окончательным, но исторически, для общества является бесповоротным, как и тот выбор, который принуждены были делать социал-демократы в 1914 и 1917 гг.
Об авторе
БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ — директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО), профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) и главный редактор интернет-журнала «Рабкор», автор книг по политологии, социологии и истории.
Примечания
1
Ткачук М. Грядущее прошлое. Три эссе о рождении, гибели и надежде. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 249.
(обратно)2
Там же. С. 211.
(обратно)3
Анализ «первой волны» революций и восстаний, порожденных Великим кризисом, см.: Кагарлицкий Б. Неолиберализм и революция. СПб.: Полиграф, 2013. Термин «Великий кризис» здесь употребляется по аналогии с Великой депрессией.
(обратно)4
Единственным успешным результатом демократических попыток 2010–2012 гг. в арабском мире стала революция в Тунисе, где более или менее была скопирована французская политическая модель. В странах постсоветского пространства ситуация оказалась еще хуже — до тех пор, пока перемены не захватывали Россию, в равной степени обреченными оказывались и попытки установить националистический режим в Киеве, и борьба за социальное государство в противостоявшей ему Новороссии.
(обратно)5
Термин «постдемократия» введен в оборот современных политических дискуссий Колином Краучем. См.: Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. (Crouch С. Post democracy. Cambridge: Polity Press, 2005).
(обратно)6
Дебор Г. Общество спектакля. М: Опустошитель, 2014.
(обратно)7
International Socialism. 2016. No. 152. P. 5.
(обратно)8
См.: Staruiing G. The Precariat. The New Dangerous Class. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2011.
(обратно)9
См.: Мальцев А. Технологическая стагнация в глобальной экономике // Левая политика. 2015. № 24.
(обратно)10
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. М.: ACT. 2005.
(обратно)11
Lasch Ch. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. N.Y.: W.W. Norton, 1994 (Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович. М.: Логос, 2002).
(обратно)12
Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Диалектика надежды. Париж: Слово, 1988.
(обратно)13
Соответствующим образом начала переосмысливаться и концепция гегемонии — не объединение широкого альянса вокруг рабочего класса, а создание движения из набора разнородных элементов, которые надо как-то соединить друг с другом. См.: Ladern Е., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. L: Verso, 1985.
(обратно)14
Противоречия проявляются не только на классовом уровне, но даже внутри политкорректного дискурса, например — в символическом позитивном образе «женщины-мусульманки», которая «имеет право», не подчиняться требованиям женской эмансипации, отказываться от равенства полов и т. д. Очень характерным примером разрушения социальной логики в рамках леволиберального дискурса может быть статья Славомира Сираковского (Slawomir Sierakowski) «The Female Resistance», где обобщенная гендерная категория «женщин» противопоставляется политической категории «популистов». Классовые и социологические категории, разумеется, в анализе не используются. Условно-обобщенные «женщины» принципиально отождествляются с конкретно-политическим образом феминистки. Тот факт, что женщин, поддерживающих популистские движения, статистически больше, чем сторонниц феминизма, в расчет не принимается. Напрашивается вывод, что, согласно логике автора, женщины, не являющиеся феминистками, не являются в его системе понятий и «женщинами». См.: <-syndicate.org/commentary/populist-war-on-women-resistance-by-slawomir-sierakowski-2017-02>.
(обратно)15
Зорин А. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 36.
(обратно)16
Hedges Ch. The Revenge of the Lower Clashes and the Rise of American Fascism Truthdig. 02.03.2016. См.: <;.
(обратно)17
Вопрос о том, как «исключенные» из капиталистической системы сообщества могут одновременно быть объектами специфической эксплуатации (будучи включены в процесс воспроизводства системы) остается при подобном подходе вне поля дискуссии, поскольку не проясняется, в чем конкретно-социально проявляется «исключение».
(обратно)18
Здесь может быть приведен контраргумент, что подобные практики существуют не только в правящем классе, но и в самих левых организациях, которые отнюдь не свободны от влияния господствующей корпоративной и бюрократической культуры. Но в данном случае решение проблемы происходит не за счет обобщенной критики «стеклянного потолка» вообще, а через практическое осуществление гендерного равенства внутри той или ином структуры.
(обратно)19
Интересно сравнить данный феминистский дискурс с традиционным классовым. Вполне естественно, что левые отвергали примеры вертикальной мобильности рабочих, ставших миллионерами, на том основании, что, превратившись в буржуа, тот или иной индивид автоматически переставал быть рабочим. Вертикальная мобильность индивида может свидетельствовать об улучшении ситуации класса в целом лишь тогда, когда люди добиваются успеха, не меняя своего социального статуса. Однако в случае с политиками или топ-менеджерами достигшие успеха дамы не переставали быть женщинами оттого, что получали новую должность.
(обратно)20
В целом политкорректная лексика демонстрирует явную тенденцию к вытеснению личностно и эмоционально нагруженных понятий обезличенными бюрократическими терминами, жестко привязанными к логике рыночных отношений. Таким образом, «гендерно-нейтральные» термины не являются нейтральными в социально-этическом плане. На против, они демонстрируют торжество буржуазно-бюрократического мышления над традиционной народной культурой.
(обратно)21
Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С. 136.
(обратно)22
Речь, разумеется, идет о позднесоветском периоде, а не о сталинских временах, когда работники могли быть обеспечены «жильем» в лагерных бараках.
(обратно)23
International Socialism. 2013. Autumn. No. 148. P 69.
(обратно)24
Socialist Review. 2016. Feb. No. 410. P. 10.
(обратно)25
Ibid. P. 11.
(обратно)26
Примером обратного может быть ситуация с «сирийскими беженцами» в 2016 г., когда в Западную Европу хлынул поток людей из самых разных стран, никак не затронутых войной. Значительная часть самих прибывших в Европу сирийцев приезжала из районов, не пострадавших от военных действий. Одним из последствий стал постепенно разворачивающийся конфликт между «настоящими» и «ненастоящими» сирийцами. Принципиальный отказ от фильтрации прибывающих беженцев способствовал тому, что средства были потрачены на людей, не имеющих оснований требовать помощи, а те, кто действительно нуждался в ней, не получили поддержку в достаточных масштабах.
(обратно)27
Коряковцев А., Вискунов С. Марксизм и полифония разумов. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 29.
(обратно)28
Там же. С. 29–30.
(обратно)29
Jayatilleka D. The Great Granisci: Imagining an Alt-Left Project // Globale. 2017. Vol. 10. March 2. Iss. 14. <-e/march-2017/great-gramsci-imagining-alt-left-project>.
(обратно)30
Целищев А.О. Германская социал-демократия и мировой экономический кризис 1929–1933 гг. // Антикризисная политика и опыт левых сил / под ред. Б.Ю. Кагарлицкого, А.В. Очкиной, И.В. Фроловой. Уфа: БАГСУ, 2015. С. 112.
(обратно)31
Welt Trends // Maerz. 2016. Nr. 113. S. 44.
(обратно)32
Ibid. 5-43.
(обратно)33
См.: Швейцария Деловая. 28.01.2015. <-swiss.ch/2015/01/naskol-ko-velik-suverenny-j-dolg-gretsii-nachalo-2015-goda/>.
(обратно)34
На техническом уровне вполне можно было найти решение, позволявшее сохранить сбережения греков, накопленные в евро, а также гарантировать Греции право на возвращение в еврозону. Но успешное разрешение кризиса было невозможно без прекращения финансовой эксплуатации страны франко-германским финансовым капиталом. В то же время без проявления сильной воли со стороны самого греческого правительства не было оснований надеяться на то, что Евросоюз пожертвует интересами банков.
(обратно)35
The Guardian. 15.02.2015.
(обратно)36
Nueva sociedad. 2016. Enero-febrero. No. 261. P. 100.
(обратно)37
Le Monde. 22.09.2015.
(обратно)38
Liberation. 22.09.2015.
(обратно)39
Le Monde. 22.09.2015.
(обратно)40
New Politics. 2016. Summer. No. 61 (Vol. XVI. No. 1). P. 55.
(обратно)41
The Guardian. 22.06.2016. <-free/2016/jun/22/brexit-property-right-left-eu-expert>.
(обратно)42
International Socialism. 2016. Summer. No. 151. P. 41.
(обратно)43
Socialist Review. 2016. March. No. 411. P. 5.
(обратно)44
Socialist Review. 2016. July/August. No. 415». P. 4
(обратно)45
Financial Times. 06.10.2016.
(обратно)46
The Telegraph. 05.10.2016.
(обратно)47
The Guardian. 22.06.2016.
(обратно)48
International Socialism. 2016. Autumn. No. 152. P. 26.
(обратно)49
Цит. по: International Socialism. 2016. Autumn. No. 152. P. 16.
(обратно)50
Ibid.
(обратно)51
Wahl A. Brexit and the Crisis of the Left, <#continue>.
(обратно)52
The Guardian. 22.06.2016. <-free/2016/jun/22/brexit-property-right-left-eu-expert>
(обратно)53
Lexit statement on the vote to leave the European Union. 24.06 2016. <-statement-on-the-vote-to-leave-the-european-union/>.
(обратно)54
Хардт М, Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004 (Hardt М, Negri А. Empire. Harvard University Press, 2000). См. также: Борис Кагарлицкий vs Олег Кильдюшов: Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя // Критическая масса. 2004. № 3. <;.
(обратно)55
Подробнее о функционировании идеологии в позднем СССР см: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2016.
(обратно)56
Костюк Р. Европейские левые: создавать альянсы с новым председателем // Рабкор. 31.12.2016. <-european-left/>.
(обратно)57
Признаком начинающегося процесса реконфигурации левого движения можно считать Дельфийскую конференцию, которая проходила в те самые дни, когда в Афинах правительство панически выбирало между разными сценариями капитуляции. Ее организаторы смогли не только осознать связь кризиса в России и Греции, но и поставить вопрос о необходимости борьбы за спасение Европы от Евросоюза. Тут можно вспомнить Циммервальдскую конференцию, которая была не только ответом левых социалистов на империалистическую войну, но и попыткой сформулировать новые политические ориентиры после краха II Интернационала. Собравшиеся в Циммервальде социалисты не имели за собой ни массовых организаций, ни политического аппарата, ни ресурсов, но спустя два три года ситуация радикально изменилась в их пользу. Однако событие Циммервальда было важно не само по себе, как удачная конференция, а потому, что за этим последовал русский 1917 год, открывший возможность практической реализации идей и принципов, которые пытались нащупать участники той дискуссии.
(обратно)58
Санкт-Петербургские ведомости. 11.11.2016.
(обратно)59
Кроткина А. От равнодушия — к радушию // НГ Сценарии. 31.05.2016. С. 15.
(обратно)60
Санкт-Петербургские ведомости. 11.11.2016.
(обратно)61
Welt Trends. Mai 2016. Nr. 115. S. 29.
(обратно)62
Концепция «запуска демократического процесса в ручном режиме» принадлежит Анне Очкиной и была сформулирована во время внутренней дискуссии в ИГСО.
(обратно)63
Welt Trends. Mai 2016. Nr. 115. S. 43.
(обратно)64
Ibid. S. 31.
(обратно)65
Nueva sodedad. 2016. Enero-febrero. No. 261. P. 13.
(обратно)66
Ibid. P. 15.
(обратно)67
Ibid.
(обратно)68
В поисках доказательств связи между Путиным и Корбином журналисты даже нашли злоумышленников, координировавших это взаимодействие. Ими объявили лидера антивоенной коалиции (Stop the War Coalition) Джона Гиза и автора данной книги. См.: Gilligan A. Stop the War Linked to Putin Puppets // The Sunday Times. 16.10.2016.
(обратно)69
International Socialism. 2016. Winter. No. 149. F 48.
(обратно)70
Ninehum Ch. Some People Still Don’t Get It — I abour’s Surge is because of Corbyn 11 Counterfire. 2017. 6 June, <-some-people-still-don-t-get-it-labour-s-surge-is-because-of-corbyn-2>.
(обратно)71
Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С 160.
(обратно)72
Цит. по: Reifer Т. The Senator from Wall Street // Review 31. <-senator-from wall-street>
(обратно)73
Socialist Review. 2016. March. No. 411. P. 6.
(обратно)74
См.: <-5/?taken-by-smoking-hotmemo>.
(обратно)75
New politics. 2016. Winter. Vol. XV No. 4. P. 15.
(обратно)76
Ibid. P. 10.
(обратно)77
The Guardian. 26.07.2016.
(обратно)78
См.: Michael Moores. Five-Step Program for Dems to Get over the Election // Washington Examiner. 09.11.2016. <-moores-five-step-program-for-dems-to-get-over-the-election/article/2606997>. Также см.: Frank T. Donald Trump is Moving to the White House, and Liberals Put Him There // The Guardian. 09.11.2016. <https:// -trumpwhite-house-hillary-clinton-liberals>
(обратно)79
Frank Т. Donald Trump is Moving to the White House…
(обратно)80
Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 6. М. Политиздат, 1964. С. 96.
(обратно)81
Cм. подробнее: Frank Т. What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America. N.Y.: Heny Holt and Co., 2004. P 3.
(обратно)82
Frank Т. The Republicans and Democrats Failed Blue-Collar America. The Left behind are Now Having their Say // The Guardian. 06.11.2016. <-and-democrats-fail-blue-collar-america>
(обратно)83
The Guardian. 28.07.2016.
(обратно)84
Trudell M. Sanders, Trump and the US Working Class // International Socialism. 2016. Spring. No. 150. P. 27.
(обратно)85
Ibid. Р. 28.
(обратно)86
См.: <;.
(обратно)87
Блог Кирилла Мартынова в Fatebook: <;.
(обратно)88
The Mirror. 10.11.2016. <-news/live-clinton-donald-trump-election-9192209>.
(обратно)89
КоммерсантЪ. 03.06.2017.
(обратно)90
Чубайс рассказал об ощущении ужаса в Давосе от глобальной политической катастрофы. Рамблер/финансы… <-01-20/chubays-rasskazal-ob-oschuschenii-uzhasa/?updated=text>.
(обратно)91
New Politics. 2016. Summer. No. 61. P. 1.
(обратно)92
Welsh I. Everything we thought we knew about politics was wrong // The Nation. 09.11.2016. <-we-thought-we-knew-about-politics-was-wrong/>.
(обратно)93
См.: The Guardian. 09.11.2016. -trump-white-house-hillary-clinton-liberalsx
(обратно)94
Michael Moore Take over the Democratic party and return it to the pecpie // The Guardian. 10.11.2016. <-moore-donald-trump-mornmg-after-to-do-list-facebook>
(обратно)95
См. официальный сайт сенатора Берни Сандерса: <-releases/sanders-statement-on-trump>.
(обратно)96
Frank I. Donald Trump is Moving to the White House…
(обратно)97
См.: Колеров М. Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и «социализм в одной стране» // Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект исторического развития. XII Плехановские чтения. СПб.: КультИнформПресс, 2017.
(обратно)98
New Politics. 2017. Winter. Vol. XVI. No. 2 (62). P 9.
(обратно)99
Negri Т. Good bye, Mr. Socialism! N.Y.: Seven Stories Press, 2008. P. 244–245.
(обратно)100
Цит. по: <-orwellien-intellectuels-trancais>
(обратно)101
Chwala S. Wo und warum die französischen Arbeiter den ultrarechten Front National wählen // Junge Welt. 27.04.2015. Цит. no: <;.
(обратно)102
Junge Welt. 27.10.2015.
(обратно)103
Ibid.
(обратно)104
The Guardrail. 18.09.2016. <-state-marine-le-pen-global-mood-france-brexit-trump-tront-national>
(обратно)105
The Telegraph 07.12.2015. <-Nationals-historic-result-should-be-a-wake-up-call-to-the-EU.html>
(обратно)106
Ведомости. 10.05.2017.
(обратно)107
В российской прессе партия Э. Макрона «La Republique en marche!» получила название «Вперед!».
(обратно)108
Ведомости. 10.05.2017.
(обратно)109
Российская газета. 10.05.2017.
(обратно)110
Блог В. Шендеровича в Facebook: <;.
(обратно)111
Фролов А. Новорусский капитализм. Очерки экономики и политики М.: Филинъ, 2017. С. 490.
(обратно)112
Харви Д. Краткая история неолиберализма. М.: Поколение, 2007; Он же. Географичекий марксизм // Русский Репортёр. 2008. 13 мая. № 18 (48).
(обратно)113
Коряковцев А. Заблудившаяся революция // Левая политика. 2015. № 23. С. 44.
(обратно)114
Левая политика. 2015. № 23. С. 5–6.
(обратно)115
Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С. 59.
(обратно)116
Gramsci A. Quaderni del carcere. A cura di Valentino Gerratana. Torino: Einaudi, 2007. Vol. 3. P. 1612. Данный фрагмент отсутствует в русском издании «Тюремных тетрадей», а потому цитируется по итальянскому оригиналу. При этом показательно, что Грамши, следуя логике Маккиавелли, не исключает и возможности принуждения как средства формирования исторического блока.
(обратно)117
The World Finiancial Review. 2017. January-February. P. 7.
(обратно)118
Амин С. Вирус либерализма. М.: Европа, 2007.
(обратно)119
Ткачук М. Грядущее прошлое. Три эссе о рождении, гибели и надежде. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 249.
(обратно)120
Ткачук М. Грядущее прошлое… С. 253.
(обратно)


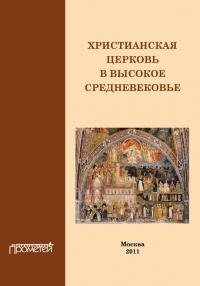
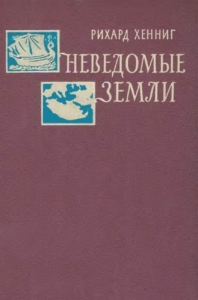
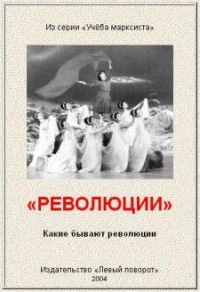

Комментарии к книге «Между классом и дискурсом», Борис Юльевич Кагарлицкий
Всего 0 комментариев