Муравьева Ольга Сергеевна Как воспитывали русского дворянина Предисловие
Несколько лет назад в клубе критиков ленинградского Дома кино обсуждали фильм Е. Мотыля «Звезда пленительного счастья». По ходу разговора встал вопрос и о степени достоверности, с которой воссоздаются на экране люди и события 1820-х годов. Многие говорили с раздражением, что опять наши актеры как ряженые в этих мундирах и бальных платьях, что у «кавалергардов» манеры воспитанников ПТУ, а «светские дамы» кокетничают как продавщицы мороженого и т. д., пока один историк не поинтересовался, кто из присутствующих рискнул бы появиться в аристократическом салоне XIX века? Присутствующие примолкли… Историк напомнил, что К.С. Станиславский, который, как говорится, не на конюшне воспитывался, готовясь к роли Арбенина в лермонтовском «Маскараде», ходил к А.А. Стаховичу, славившемуся своими безукоризненными манерами аристократу, обучаться тонкостям «хорошего тона». Сегодня же нашим артистам с этой целью ходить не к кому, и потому спрашивать с них нечего.
Мой научный руководитель, известный пушкинист Н.В. Измайлов, прекрасно помнил дореволюционное русское общество. Когда по телевидению демонстрировался многосерийный фильм — экранизация романа А.Н. Толстого «Хождение по мукам», я спросила у него, насколько похожи герои фильма на офицеров царской армии? «Нисколько не похожи, — твердо сказал Николай Васильевич. — То были интеллигентнейшие люди, а эти… Лица, манеры…» Я примирительно заметила, что все-таки актрисы, играющие Дашу и Катю, очень красивы. Старик равнодушно пожал плечами: «Хорошенькие гризетки…»
Конечно, актеры не виноваты: они не могут сыграть людей, которых никогда не видели.
Русский аристократ XIX века — это совершенно особый тип личности. Весь стиль его жизни, манера поведения, даже внешний облик — несли на себе отпечаток определенной культурной традиции. Именно поэтому современному человеку так трудно его «изобразить»: подражание лишь внешним особенностям поведения выглядит нестерпимо фальшиво. (Наверное, примерно так выглядели те купцы, которые подражали исключительно красивому антуражу дворянской жизни, оставаясь равнодушными к духовным ценностям дворянской культуры.)
С другой стороны, сосредоточившись только на духовных ценностях, можно упустить из виду, как реализовывались они в практике повседневной жизни. Так называемый bon ton [Хороший тон (франц.)] состоял в органичном единстве этических и этикетных норм. Поэтому для того, чтобы представить себе русского дворянина в его живом облике, необходимо видеть связь между правилами поведения и этическими установками, принятыми в его кругу bon ton.
Дворянство выделялось среди других сословий русского общества своей отчетливой, выраженной ориентацией на некий умозрительный идеал. Во второй половине XVIII века дворянская элита, мечтая о лидерстве своего сословия в политической, общественной и культурной жизни России, справедливо усматривала основную преграду к достижению этой цели в удручающе низком культурном уровне подавляющего большинства русских помещиков. (Исчерпывающее представление о нем дает знаменитая комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль».) Но, не смущаясь непомерной трудностью задачи, идеологи и духовные вожди дворянства брались воспитать из детей Простаковых и Скотининых просвещенных и добродетельных граждан, благородных рыцарей и учтивых кавалеров. Эта цель в той или иной степени проявляется в различных сферах дворянской культуры от литературы до быта. Особое значение в этой связи, естественно, приобретало воспитание детей.
К дворянским детям применялось так называемое «нормативное воспитание», т. е. воспитание, направленное не столько на то, чтобы раскрыть индивидуальность ребенка, сколько на то, чтобы отшлифовать его личность соответственно определенному образцу.
С позиций современной педагогики недостатки такого воспитания очевидны. Вместе с тем, нельзя не заметить, что порой оно приносило удивительные плоды. В прошлом веке в России встречались люди, поражающие нас сегодня своей почти неправдоподобной честностью, благородством и тонкостью чувств. Литературные описания, портреты живописцев передают их особенное, забытое обаяние, которому мы уже не в силах подражать. Они выросли такими не только благодаря незаурядным личным качествам, но и благодаря особому воспитанию. Мы попытаемся здесь описать тот идеал, на достижение которого ориентировали дворянского ребенка, и продемонстрировать те методы и приемы, с помощью которых воспитатели стремились развить в подопечном нужные качества.
При этом необходимо иметь в виду, что «дворянское воспитание» — это не педагогическая система, не особая методика, даже не свод правил. Это, прежде всего, образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно: путем привычки и подражания; это традиция, которую не обсуждают, а соблюдают. Поэтому важны не столько теоретические предписания, сколько те принципы, которые реально проявлялись в быте, поведении, живом общении. Следовательно, полезнее обращаться не к учебникам хорошего тона, а к мемуарам, письмам, дневникам, художественной литературе. Многочисленные примеры из жизни английского и французского высшего общества оправданны и даже необходимы, ибо русское дворянство петровской и послепетровской эпохи сознательно ориентировалось на западную модель поведения и стремилось усвоить европейские нормы быта и этикета.
Понятие «дворянский тип поведения», конечно, крайне условно; как и любой обобщенный образ, образ «русского дворянина» не может вместить в себя все многообразие человеческих индивидуальностей. Однако можно отобрать из всего этого многообразия черты наиболее характерные и исторически значимые.
Говоря словами Пушкина, у каждого сословия были свои «пороки и слабости», были они, конечно, и у русского дворянства, идеализировать его не нужно. Но о «пороках» в предыдущие десятилетия сказано более чем достаточно, сегодня стоит вспомнить и о том хорошем, что было в русском дворянстве. В дворянских обычаях и дворянском воспитании многое неразрывно связано с бытом ушедшей эпохи; определенные утраты в любом случае были бы естественны и неизбежны. Но есть утраты, которых могло бы и не быть. Сейчас это делается все более очевидным, и потому начинают робко возрождаться некоторые забытые традиции. Для того, чтобы, по мере возможности, помочь их возрождению, и написана эта книга.
СЕМЕЙСТВЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ…
«СЕМЕЙСТВЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа.»
А.С. Пушкин. Роман в письмах.Вступление
Заметный интерес современного общества к дворянской жизни прошлого века порой вызывает иронические реплики, смысл которых сводится к тому, что подавляющее большинство сегодняшних ревнителей дворянских обычаев составляют потомки вовсе не князей и графов, а крепостных крестьян. Позиция не только бестактная, но и неумная: стихи Пушкина и романы Тургенева читал очень узкий круг людей, исчерпывавший тогда образованную Россию, но великие русские писатели знали, что пишут не только для них, но и для внуков тех, кто «ныне дик». То же можно сказать и о выработанных привилегированным сословием нравственных нормах. Пушкин рассуждал: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе, так же как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они sauve garde [Охрана (франц.)] трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества». Известный юрист, историк и общественный деятель К. Д. Кавелин считал, что поколение людей александровской эпохи «всегда будет служить ярким образцом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных обстоятельствах». Можно сказать, что в дворянской среде развивались и совершенствовались те качества русского человека, которые в идеале должны были со временем проникнуть и в ту среду, где пока «некогда было их развивать».
Опыт европейских стран, надежда на успехи просвещения и цивилизации в России, наконец, простое сочувствие к обездоленным соотечественникам — все питало веру в то, что в будущем постепенно сгладится неравенство слоев русского общества, и дворянская во всем ее объеме (от произведений до хороших манер) станет достоянием всех сословий, будет общим законным наследством свободных и просвещенных граждан России XX века… К несчастью, русская история пошла совсем другим, трагическим и кровавым путем; естественная культурная эволюция была прервана, и теперь можно только гадать, каковы были бы ее результаты. Быт, стиль отношений, неписанные правила поведения — оказались едва ли не самым хрупким материалом; его нельзя было укрыть в музеях и библиотеках, а сохранить в практике реальной жизни оказалось невозможным. Попытки вернуть утраченное путем обучения «хорошим манерам» не могут принести желаемого результата. В «Повести о Сонечке» Цветаевой молодой актер размышляет об уроках «хорошего тона», которые давал учетам театральной студии А. А. Стахович: «Для меня его поклон и бонтон — не ответ, а вопрос, вопрос современности — прошлому, мой вопрос — тем, и я сам пытаюсь на него ответить. (…) Стаховичу эти поклоны даны были отродясь, это был дар его предков — ему в колыбель. Я пришел в мир — голый, но хоть и голый, я не должен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное платье.»
Чтобы это «прекрасное платье» — привлекательные внешние черты быта и облика дворянства — стало пусть не своим, но, по крайней мере, понятным и знакомым, необходимо представлять себе и этический смысл этикетных норм, и исторический контекст, в котором эти нормы формировались.
Попытаемся же если не восстановить, то вспомнить некоторые черты исчезнувшего общества.
IL N'Y A QU'UNE SEULE BONNE…
«IL N'Y A QU'UNE SEULE BONNE
societe c'est la bonne».
«Нет иного хорошего общества, кроме
хорошего».
А.С. Пушкин. Из разговора.Как-то раз, желая кольнуть собеседника, гордящегося своей близостью к высокопоставленным особам, Пушкин рассказал выразительный эпизод. Он был у Н.М. Карамзина, но не мог толком с ним поговорить, так как к историографу, один за другим, приезжали гости. Как нарочно, все эти визитеры были сенаторами. Проводив последнего, Карамзин сказал Пушкину: «Avez-vous remarque, mon cher ami, que parmi tous ces messieurs li n'y avait pas un seul qui soit un homme de bonne companie? [Вы заметили, мой дорогой друг, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу? (франц.)]
Это уточнение для нас чрезвычайно важно, ибо те личные качества и нормы поведения, о которых у нас пойдет речь, были характерны именно для «хорошего», а не вообще дворянского или так называемого светского общества. Другое дело, что в тех исторических обстоятельствах «хорошее общество» составляли почти исключительно дворяне. Следует признать, истинно воспитанных (в понимании Пушкина и Карамзина) людей и тогда было не так уж много. Недаром, делая запись в своем дневнике о смерти князя Кочубея, Пушкин замечает: «… он был человек хорошо воспитанный — и это у нас редко, и за это спасибо.» Когда мемуарист М. И. Жихарев употребляет выражение «смердящее большинство», он имеет в виду отнюдь не смердов, не крепостных крестьян, которые по понятным причинам вообще никакого участия в общественной жизни не принимали, а большинство людей своего круга, в том числе и «великолепных барынь и людей в голубых и других разных цветов лентах при крупных чинах и с громкими именами». В то же время, как вспоминал К.Д. Кавелин, «Таланты, выходившие из народа, хотя бы из крепостных, даже люди, подававшие только надежду сделаться впоследствии литераторами, учеными, художниками, кто бы они ни были, принимались радушно и дружески, вводились в кружки и семьи на равных правах со всеми. Это не была комедия, разыгранная перед посторонними, а сущая, искренняя правда — результат глубокого убеждения, перешедшего в привычки и нравы, что образование, талант, ученые и литературные заслуги выше сословных привилегий, богатства и знатности.» Если эти слова кому-то покажутся преувеличением, то вот свидетельство графа В.А. Соллогуба, аристократа и царедворца, проведшего всю жизнь в большом свете. «Нет ничего нелепее и лживее, как убеждение о родовом чванстве русской аристократии, — утверждал он и приводил в пример князя В.Ф. Одоевского, представителя древнейшего в России дворянского рода, который был человеком на редкость скромным, упоминавшим о своем аристократическом происхождении не иначе как в шутку. «Тем не менее, — пишет Соллогуб — он был истинный аристократ, потому что жил только для науки, для искусства, для пользы и для друзей, т. е. для всех порядочных и интеллигентных людей, с которыми встречался.»
Перефразируя высказывание Россини, что есть только два рода музыки — хорошая и дурная, Соллогуб говорил, что в России «существуют тоже только два рода людей — образованные и необразованные». Не забывая, что в понятие «образование» вкладывали тогда очень широкий смысл, отметим, что ценности, которые культивировались «просвещенным меньшинством», могут оказаться небесполезными и сегодня. Как утверждал Пушкин (имевший возможность наблюдать и сравнивать): «Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные».
СЛУЖИ ВЕРНО, КОМУ ПРИСЯГНЕШЬ
А. С. Пушкин. Капитанская дочка.
Мироощущение дворянина во многом определялось положением и ролью в государстве дворянского сословия в целом. В России XVIII — первой половины XIX в. в. дворянство являлось сословием привилегированным и служивым одновременно, и это рождало в душе дворянина своеобразное сочетание чувства избранности и чувства ответственности. Отношение к военной и государственной службе связывалось в понимании дворянина со служением обществу, России. Когда Чацкий из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» с вызовом заявляет: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» — он имеет в виду, что в реальности служба Отечеству часто подменялась службой «лицам», вельможам и высокопоставленным чиновникам. Но заметим, что даже независимый и своевольный Чацкий в принципе против службы не выступает, а лишь возмущается тем, что это благородное дело дискредитируется корыстными и недалекими людьми.
Несмотря на то, что государственной службе часто противопоставлялась приватная деятельность независимых людей (подобную позицию в той или иной форме отстаивали Новиков, Державин, Карамзин), глубокого противоречия здесь не было. Во-первых, разногласия касались, в сущности, того, на каком поприще можно принести больше пользы Отечеству; самое же стремление приносить ему пользу под сомнение не ставилось. Во-вторых, даже не состоящий на государственной службе дворянин не был в полном смысле этого слова частным лицом: он был вынужден заниматься делами своего имения и своих крестьян. Один из пушкинских героев по этому поводу заметил: «Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих благосостояние зависит совершенно отважнее, чем командовать взводом или вписывать дипломатические депеши.» Разумеется, далеко не каждый помещик столь ясно осознавал свой гражданский долг, но соответствие этим идеалам воспринималось поведение недостойное, заслуживающее общественного порицания, что и внушалось сызмальства дворянским детям. Правило «служить верно» входило в кодекс дворянской чести и, таким образом, имело статус этической ценности, нравственного закона. Этот закон признавался на протяжении многих десятилетий людьми, принадлежавшими к разным кругам дворянского общества. Обратим внимание на то, что такие разные люди, как небогатый помещик Андрей Петрович Гринев, не читающий ничего, кроме Придворного календаря, и европейски образованный аристократ князь Николай Андреевич Болконский, провожая своих сыновей в армию, дают им, в общем, похожие напутствия.
«Батюшка сказал мне: Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду.» (А.С. Пушкин. Капитанская дочка.)
«Целуй сюда, — он (старый князь — О. М.) показал щеку, — спасибо, спасибо!
— За что вы меня благодарите?
— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! (…)
— Теперь слушай: письмо Михаилу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! (…) Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет.» (Л.Н. Толстой. Война и мир.)
Дворянское чувство долга было замешено на чувстве собственного достоинства, и служба Отечеству являлась не только обязанностью, но и правом. В этом отношении очень показательна одна сцена из романа «Война и мир», где Андрей приходит в бешенство от разных шуток Жеркова по адресу генерала — командующего армией союзников, только что потерпевшей сокрушительное поражение.
— «Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела.»
Разница между службой дворянской и службой лакейской усматривается в том, что первая предполагает личную и живую заинтересованность в делах государственной важности. Дворянин служит царю, как вассал сюзерену, но делает общее с ним дело, неся свою долю ответственности за все, происходящее в государстве.
Когда на шаловливый вопрос маленького мальчика «А я когда буду царем?», мать серьезно отвечает: «Ты царем не будешь, но если захочешь, ты можешь помогать Царю», — она незаметно внушает сыну один из основных принципов дворянской этики. (Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы.) Дворянская фронда, в основном, и была отстаиванием своего права «помогать царю», отстаиванием своего законного, природного права на участие в управлении государством.
Известная фраза Грибоедова из письма к С. Бегичеву: «…а ты, надеюсь, как нынче всякий честный человек, служишь из чинов, а не из чести» — носит, конечно, демонстративно вызывающий, эпатирующий характер. Эта позиция была популярна среди молодежи 1810-х годов, у которой резкое недовольство государственным устройством России рождало убеждение, что долг чести — не служить такому государству, а стремиться его переделать. Именно такие настроения во многом предопределили движение декабристов. Однако они не стали характерной чертой дворянского мировоззрения вообще. Заметим, что и сам Грибоедов, как известно, не отказался в свое время от важного государственного поста и погиб, исполняя свой долг.
Нужно подчеркнуть, что ревностное отношение к службе не имело ничего общего с верноподданичеством или карьеризмом. Выразительный пример в этом отношении являл собой адмирал Николай Семенович Мордвинов. Адмирал славился смелостью и независимостью суждений и поступков; он был единственным из членов следственной комиссии по делу декабристов, выступившим против смертного приговора. Пушкин писал, что Мордвинов «заключает в себе одном русскую оппозицию», а К. Рылеев посвятил ему оду «Гражданское мужество». Мордвинов не раз попадал в опалу, но когда не отказывался от предложения занять тот или иной государственный пост, говорил, что «каждый честный человек не должен уклоняться от обязанности, которую на него возлагает Верховная власть или выбор граждан.»
Вплоть до последних лет существования Царской России, когда, говоря словами Александра Блока, уже «записались в либералы честнейшие из царских слуг», дворянству было решительно не свойственно то подчеркнуто негативное, брезгливое отношение к государственной службе, которым в той или иной степени бравировали все поколения оппозиционной русской интеллигенции.
Я ВСЯКУЮ СЕБЕ МОГУ ОБИДУ…
«Я ВСЯКУЮ СЕБЕ МОГУ ОБИДУ
снесть,
Но оной не стерплю, котору терпит
честь.»
А.П. Сумароков. О люблении добродетели.
«… во всем блеске своего безумия.»
А.С. Пушкин. Из публицистики.Одним из принципов дворянской идеологии было убеждение, что высокое положение дворянина в обществе обязывает его быть образцом высоких нравственных качеств. Рациональная схема иерархии социальных и моральных ценностей, обосновывавшая такое убеждение, сохраняла актуальность в XVIII веке, затем на смену ей пришли более сложные концепции общественного устройства, и постулат о нравственной высоте дворянина постепенно преобразовался в чисто этическое требование: «Кому много дано, с того много и спросится.» (Эти слова не уставал повторять своим сыновьям великий князь Константин (поэт К. Р.) уже в начале XX века.)
Очевидно, в этом духе воспитывали детей во многих дворянских семьях. Вспомним эпизод из повести Гарина-Михайловского «Детство Темы»: Тема запустил камнем в мясника, который спас мальчика от разъяренного быка, а потом надрал ему уши, чтобы не лез, куда не надо. Мать Темы очень рассердилась: «Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчик? Мясник грубый, но добрый человек, а ты грубый и злой!.. Иди, я не хочу такого сына!
Тема приходил и снова уходил, пока наконец само-собой как-то не осветилось ему все: и его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая грубость мясника, и ответственность Темы за созданное положение дела.
— Ты, всегда ты будешь виноват, потому что им ничего не дано, а тебе дано; с тебя и спросится.»
Подчеркнем, что решающая установка в воспитании дворянского ребенка состояла в том, что его ориентировали не на успех, а на идеал. Быть храбрым, честным, образованным ему следовало не для того, чтобы чего бы то ни было (славы, богатства, чина), а потому что он дворянин, что ему много дано, потому что он быть именно таким. (Резкая критика дворянства дворянскими же писателями — «иным, Пушкиным и др. — обычно направлена на тех дворян, которые не соответствуют этому идеалу, не выполняют своего предназначения.)
Едва ли не главной сословной добродетелью считалась дворянская честь, point d'honneur. Согласно дворянской этике, «честь» не дает человеку никаких привилегий, а напротив, делает его более уязвимым, чем другие. В идеале честь являлась основным законом поведения дворянина, безусловно и безоговорочно преобладающим над любыми другими соображениями, будь это выгода, успех, безопасность и просто рассудительность. Граница между честью и бесчестием порой была чисто устной, Пушкин даже определял честь как «готовность жертвовать всем для поддержания «какого-нибудь условного правила.» В другом месте он писал: «Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав.»
Не только с точки зрения «мирного алеута», но и с позиции здравого смысла дуэль была чистым безумием, ибо цена, которую приходилось платить обидчику, была слишком высока. Тем более, что часто дворянина толкали на дуэль соображения достаточно суетные: боязнь осуждения, оглядка на «общественное мнение», которое Пушкин называл «пружиной чести».
Если на таком поединке человеку случалось убить своего соперника, к которому он не испытывал, в сущности, никаких злых чувств, невольный убийца переживал тяжелое потрясение. Хрестоматийный пример подобной ситуации — дуэль Владимира Ленского и Евгения Онегина.
Тем не менее, в этом «безумии», безусловно, был свой «блеск»: готовность рисковать жизнью для того, чтобы не стать обесчещенным, требовала немалой храбрости, а также честности и перед другими, и перед самим собой. Человек должен был привыкать отвечать за свои слова; «оскорблять и. не драться» (по выражению Пушкина) — считалось пределом низости. Это диктовало и определенный стиль поведения: необходимо было избегать как излишней мнительности, так и недостаточной требовательности. Честерфилд в своих «Письмах к сыну» дает юноше четкие рекомендации на этот счет: «Помни, что для джентльмена и человека талантливого есть только два procedes [Образа действия (франц.)]: либо быть со своим врагом подчеркнуто вежливым, либо сбивать его с ног. Если человек нарочито и преднамеренно оскорбляет и грубо тебя унижает, ударь его, но если он только задевает тебя, лучший способ отомстить — это быть изысканно вежливым с ним внешне и в то же время противодействовать ему и возвращать его колкости, может быть, даже с процентами.» Честерфилд поясняет сыну, почему необходимо владеть собой настолько, чтобы быть приветливым и учтивым даже с тем, кто точно не любит тебя и старается тебе навредить: если своим поведением ты дашь почувствовать окружающим, что задет и оскорблен, ты обязан будешь надлежащим образом отплатить за обиду. Но требовать сатисфакции из-за каждого косого взгляда — ставить себя в смешное положение.
Итак, демонстрировать обиду и не предпринимать ничего, чтобы одернуть обидчика или просто выяснить с ним отношения — считалось признаком дурного воспитания и сомнительных нравственных принципов. «Люди порядочные, — утверждал Честерфилд, — никогда не дуются друг на друга.»
Искусство общения для человека, щепетильного в вопросах чести, состояло, в частности, в том, чтобы избегать ситуаций, чреватых возможностью попасть в уязвимое положение. Ироническая фраза Карамзина:
«Il ne faut pas qu'un honnete homme merite d'etre pendu.» [ «Честному человеку не должно подвергать себя виселице» (франц.)] имеет не только политический, но и нравственный аспект. Когда в повести Гарина-Михайловского мать отчитывает сына, бросившего камень в мясника, мальчик оправдывает себя тем, что мясник мог бы вывести его за руку, а не за ухо! Но мать парирует: «Зачем ставишь себя в такое положение, что тебя могут взять за ухо?» Параллель между тонкой сентенцией Карамзина и нравоучением для Темы выглядит; несерьезно, но в основе этих столь далеких друг от друга рассуждений лежит близкое по типу мироощущение.
Постоянно присутствующая угроза смертельного поединка очень повышала цену слов и, в особенности, «честного слова». Публичное оскорбление неизбежно влекло за собой дуэль, но публичное же извинение делало конфликт исчерпанным. Нарушить данное слово — значило раз и навсегда погубить свою репутацию, потому поручительство под честное слово было абсолютно надежным. Известны случаи, когда человек, признавая свою непоправимую вину, давал честное слово застрелиться — и выполнял обещание. В этой обстановке повышенной требовательности и — одновременно — подчеркнутого доверия воспитывались и дворянские дети.
П. К. Мартьянов в своей книге «Дела и люди века» рассказывает, что адмирал И. Ф. Крузенштерн, директор морского корпуса в начале 1840-х годов, прощал воспитаннику любое прегрешение, если тот являлся с повинной. Однажды кадет признался в действительно серьезном проступке, и его батальонный командир настаивал на наказании. Но Крузенштерн был неумолим: «Я дал слово, что наказания не будет, и слово мое сдержу! Я доложу моему государю, что я слово дал! Пусть взыскивает с меня! А вы уж оставьте, я вас прошу!»
Характерный случай рассказывает в своих воспоминаниях Екатерина Мещерская. (Напомним, что она описывает быт аристократов 10-х годов XX века.) Маленькая Катя, отчего-то невзлюбив князя Николая Барклая де Толли, красавца и дамского кумира, сочинила весьма обидный для него стишок и незаметно подсунула листок со своим произведением в салфетку столового прибора князя. Подозрение пало на князя Горчакова, и в воздухе запахло дуэлью. К счастью, старший брат Кати узнал почерк сестры и привел ее в офицерскую комнату объясняться. Когда девочка все рассказала, офицеры расхохотались, и только Горчаков молчал и оставался серьезным. «Дитя, — сказал он, строго на меня глядя, — вы даже не подозреваете, насколько для меня важны ваши слова. Вопрос идет о чести мундира… Понимаете?! Прошу вас дать сейчас, здесь, при всех честное слово, что никто из взрослых, понимаете, никто, а, главное, из присутствующих здесь офицеров не помогал вам писать эти стихи.» Катя торжественно дала честное слово, и конфликт завершился общим весельем. Честного слова ребенка оказалось достаточно, чтобы взрослые мужчины, уже готовые к дуэли, совершенно успокоились.
Дуэль как способ защиты чести несла еще и особую функцию: утверждала некое дворянское равенство, не зависящее от чиновничьей и придворной иерархии. Классический пример такого рода: предложение великого князя Михаила Павловича принести удовлетворение любому из семеновских офицеров, коль скоро они считают, что он задел честь их полка. Будущий декабрист Михаил Лунин выразил тогда готовность стреляться с братом императора. Менее известный, но аналогичный, в сущности, случай, о котором сообщает в своих воспоминаниях П.К. Мартьянов, произошел уже в 1840-х годах.
Один из батальонных командиров морского корпуса, барон А.А. де Ридель, услышал, как один из старших гардемаринов выругался по адресу начальства, не разрешающего заниматься в классе ранее определенного часа. Поскольку это распоряжение исходило именно от Риделя, барон счёл себя оскорбленным и заявил воспитаннику, что наказывать его не станет и жаловаться начальству, не пойдет, но за оскорбление своей чести требует сатисфакции. Воспитанник решительно отрицал, что имел в виду оскорбить лично Риделя, но при этом не преминул поблагодарить командира за честь, которую он оказал ему своим вызовом.
И в том, и в другом случае дуэли не состоялись; поступки и Лунина, и Риделя уже современниками воспринимались как экстравагантные; но тем не менее, самая возможность подобных ситуаций свидетельствует о существовании определенной нормы поведения, с которой люди так или иначе соотносят свои поступки.
Напомним, что дуэль была официально запрещена и уголовно наказуема; согласно известному парадоксу, офицер мог быть изгнанным из полка «за дуэль или за отказ». В первом случае он попадал под суд и нёс наказание, во втором — офицеры полка предлагали ему подать в отставку. Таким образом соблюдение норм дворянской этики приходило в противоречие с государственными установлениями и влекло за собой всякого рода неприятности. Эта закономерность давала о себе знать далеко не только в случае дуэли.
Дворянский ребенок, которому в семье внушались традиционные этические нормы, испытывал потрясение, сталкиваясь с невозможностью следовать им в условиях государственного учебного заведения, где он обычно получал первый опыт самостоятельной жизни.
В повести Гарина-Михайловского отец Тёмы, провожая сына в первый класс гимназии, в очередной раз рассказывает ему про то, как стыдно ябедничать, про святые узы товарищества и верность дружбе. «Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести.» Испытание ожидало его в первый же день: один из одноклассников нарочно «подставил» Тёму и навлек на него гнев начальства. «Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но на своё несчастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, перед всем классом, заявить, так сказать, себя сразу, и он заговорил взволнованным, но уверенным и убеждённым голосом:
— Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чём не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и сна…
— Молчать! — заревел благим матом господин в форменном фраке.
— Негодный мальчишка!» В результате этого случая мальчика едва не выгнали из гимназии. Ни доводы его отца, генерала Карташева, о пользе «товарищества», ни горячие мольбы его матери считаться с самолюбием ребенка не произвели впечатления на директора гимназии.
Он безаппеляционно заявил огорченным и взволнованным родителям Тёмы, что их сын должен подчиняться не семейным правилам, а «общим», если хочет «благополучно сделать карьеру».
Нужно сказать, в этом он был совершенно прав. Верность кодексу дворянской чести никак не благоприятствовала успешной карьере ни во времена апофеоза самодержавного бюрократического государства 1830-40-х годов, ни во времена демократических реформ 1860-70-х годов. П.К. Мартьянов вспоминает, как один старый генерал объяснял, что мешает ему принимать участие в деятельности выборных органов власти или коммерческих учреждений: «… мы воспитаны в кадетских правилах — «честь прежде всего». Разве это доступно кулаку? Разве он поймет, что честь есть стимул всей жизни? Ему нужны только деньги, а как их достать — безразлично — только бы достать. Где же тут может быть точка соприкосновения между нами?»
Если «стимулом всей жизни» является честь, совершенно очевидно, что ориентиром в поведении человека становятся не результаты, а принципы. Сын Льва Толстого Сергей утверждал, что девизом его отца была французская поговорка: «Fais се que dois, advienne que роurrа.»[ «Делай что должно, и будь что будет»] «Он всегда считал, что долг выше всего и что в своих поступках не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их.» Как известно, Лев Толстой вкладывал в понятие долга свой, подчас неожиданный для общества смысл. Но самая установка: думать об этическом значении поступка, а не о его практических последствиях — традиционна для дворянского кодекса чести. Воспитание, построенное на таких принципах, кажется совершенно безрассудным: оно не только не вооружает человека качествами, необходимыми для преуспевания, но объявляет эти качества постыдными. Однако многое зависит от того, как понимать жизненный успех. Если в это понятие входит не только внешнее благополучие, но и внутреннее состояние человека — чистая совесть, высокая самооценка и прочее, то дворянское воспитание предстает не таким непрактичным, как кажется. Еще совсем недавно мы имели возможность видеть стариков из дворянских фамилий, чья к жизнь по всем житейским меркам сложилась при советской власти катастрофически неудачно. Между тем, в их поведении не было никаких признаков ни истерики, ни озлобления. Может быть, аристократическая гордость не позволяла им проявлять подобные чувства, а может быть, их и в самом деле поддерживало убеждение, что жили они так, как должно?
Защита своей чести, человеческого достоинства всегда была нелегким делом в Российском государстве, традиционно равнодушном к личным правам своих подданных, пусть даже из «благородного» сословия. Дворянская этика, парадоксальным образом, несла в себе демократический заряд: она требовала, пусть только внутри одного сословия, уважения прав личности независимо от служебной иерархии. Правда, следовать этому требованию для нижестоящих было рискованно.
Н. А. Тучкова-Огарева приводит в своих воспоминаниях случай, бывший с ее отцом, тогда еще совсем молодым офицером, Алексеем Тучковым. Он «стоял на крыльце станционного дома, когда подъехала кибитка, в которой сидел генерал (впоследствии узнали, что это был генерал Нейдгарт.) Он стал звать пальцем отца моего.
— Эй, ты, поди сюда! — кричал генерал.
— Сам подойди, коли тебе надо, — отвечал отец, не двигаясь с места.
— Однако, кто ты? — спрашивает сердито генерал.
— Офицер, посланный по казенной надобности, — отвечал ему отец.
— А ты не видишь, кто я? — вскричал генерал.
— Вижу, — отвечал отец, — человек дурного воспитания.
— Как вы смеете так дерзко говорить? Ваше имя? — кипятился генерал.
— Генерального штаба поручик Тучков, чтобы ты не думал, что я скрываю, — отвечал отец.
Эта неприятная история могла бы кончиться очень нехорошо, но к счастию, Нейдгардт был хорошо знаком со стариками Тучковыми, потому и промолчал, — едва ли не потому, что сам был виноват.»
В романе «Война и мир» описана близкая по духу сцена.
«— Ка-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель.
Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо, своим светлым и наглым взглядом, посмотрел в лицо генерала.
— Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его… дря…
Он не успел договорить.
— Генерал, я обязан исполнить приказания, но не обязан переносить… — Поспешно сказал Долохов.
— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..
— Не обязан переносить оскорбления, — громко, звучно договорил Долохов.
Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.
— Извольте переодеться, прошу вас, — сказал он отходя.»
Эти принципы поведения усваивались дворянином с детства, хотя ребенку отстаивать их было еще труднее. Упоминавшаяся уже сцена из повести Гарина-Михайловского, где Тема объясняется с разъяренным директором гимназии, закончилась следующим образом:
«Теме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову.
— Позвольте… — заговорил он дрожащим, растерянным голосом. — Вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?
— Вон!! — заревел господин во фраке и, схватив за руку Тему, потащил за собой по коридору.»
Обратим внимание, что и бесшабашный дуэлянт Долохов, и маленький гимназист Тема говорят об одном и том же: не смеете оскорблять! Это с малых лет воспитанное убеждение постоянно присутствовало в сознании дворянина, определяя его реакции и поступки. Щепетильно оберегая свою честь, дворянин, конечно, учитывал чисто условные, этикетные нормы поведения. Но главное все-таки в том, что он защищал свое человеческое достоинство.
Обостренное чувство собственного достоинства воспитывалось и вырабатывалось в ребенке целой системой разных, внешне порой никак между собой не связанных требований.
… И Я УВЕРЕН, ЧТО УЛИЧИ ОН…
«… И Я УВЕРЕН, ЧТО УЛИЧИ ОН
меня в физической трусости,
то меня бы он проклял.»
В. Набоков. Дар.Характер отношений отца и сына, значение, которое придается ими физической храбрости, столь выразительно переданные одной фразой набоковского героя, — очень показательны для дворянской Среды.
Пушкин отметил в своих записях («Таblе-Talk») одно из наставлений князя Потемкина своему племяннику Н. Н. Раевскому (будущему генералу, герою войны 1812 года): «Во-первых, Марайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем.» Александр Грибоедов вряд ли знал об этих рекомендациях Потемкина, но сам действовал аналогичным образом, что свидетельствует об устойчивости подобных поведенческих стереотипов. Кс. Полевой вспоминал: «Разумеется, — заметил между прочим Грибоедов, — если бы я захотел, чтобы у меня был нос короче или длиннее, это было бы глупо потому, что невозможно. Но в нравственном отношении, которое бывает иногда обманчиво физическим для чувств, можно делать из себя все. Говорю так потому, что многое испытал над самим собою. Например, в последнюю Персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг я подумал, что он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишите физическому составу, организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и при случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число выстрелов и потом, тихо поворотив лошадь, спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха, оно усилится и утвердится.»
Заслуживает внимания и то значение, которое придается храбрости, и уверенность, что ее можно воспитать, выработать путем волевых усилий и тренировок. Примечательно, что этот разговор происходит не на бивуаке, а в салоне князя В. Ф. Одоевского, в обществе литераторов. Независимо от рода деятельности храбрость считалась безусловным достоинством дворянина, и это учитывалось при воспитании ребенка.
Сопоставляя «Детство» Л. Н. Толстого и «Детство Никиты» А. Н. Толстого, мы видим, что некоторые обычаи сохранялись в дворянских Семьях неизменными на протяжении десятилетий. Например, мальчик 10 — 12-ти лет должен был ездить верхом наравне со взрослыми. Хотя в упомянутых произведениях матери плачут и просят отцов поберечь сына, их протесты выглядят как ритуал, сопровождающий это обязательное для мальчика испытание. Определенная опасность для ребенка здесь действительно была; старший сын Николая I Александр примерно в таком возрасте упал с лошади и разбился так сильно, что несколько дней пролежал в постели. Никаких последствий в смысле стремления избегать впредь подобного риска этот случай не имел; выздоровев, наследник престола продолжил тренировки.
Будущего известного художника М. В. Добужинского, как и других, отец посадил на коня, когда ему было 10 лет. Ради первого раза, вспоминал Добужинский, «для меня он выбрал высокую белую лошадь, на вид кроткую и почтенного возраста, но все-таки взял ее из предосторожности на чумбур [Чумбур — длинный ремень, привязанный к узде.]. Мы проехали весь длиннейший бульвар и только повернули назад, лак мой старый конь вдруг помчался со всех ног марш-маршем, и от неожиданности отец упустил свой чумбур. Как ни хлестал он своего казачьего иноходца, мой конь летел, как вихрь, и отец догнать меня не мог, только кричал мне вдогонку: «Держись крепче». Мы мчались вдоль всего бульвара, полного публики, дамы ахали и вскрикивали — мой же конь прямо завернул в конюшенный двор и устремился в дверь своей конюшни. Тут я внезапно, молнией, вспомнил один смешной рисунок из журнала «Uber Land und Меег», где был изображен господин в таком же положении, как он хлопается головой о косяк двери и с него летит цилиндр, и я пригнулся к седлу как можно ниже и спас себя — косяк срезал мою папаху, которая упала на круп лошади. Через несколько секунд прискакал во двор отец и увидел меня как ни в чем не бывало сидящим на лошади в стойле. Он крепко поцеловал меня, своего «молодца», который выдержал действительно страшный экзамен. Двор же наполнился сердобольными Дамами и, к общему их восхищению и страху, мы снова поехали на прогулку, на этот раз чумбур был крепко привязан, и прогулка прошла гладко и успешно.»
Отметим, между прочим, упоминание о «дамах»: выглядеть достойно в их глазах было, безусловно, важно для десятилетнего мальчика.
В воспоминаниях Михаила Бестужева до нас дошли характерные эпизоды из его детства.
Однажды несколько мальчиков отправились кататься на лодке вокруг Крестовского острова, неожиданно лодка ударилась о подводную сваю, проломилась и стала тонуть. Все страшно перепугались и «думали искать спасения в отчаянных криках, которые совершенно заглушались пронзительным криком маленького брата Петруши. Не потерялся только наш атаман Ринальдо. (Александр Бестужев, будущий писатель Бестужев-Марлинский — О, М.) Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру; потом схватил брата Петра и, приподняв над водою, закричал: «Трусишка! ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду!» Хотя мне тоже было страшно, но я кричать не смел. Единственный взрослый человек в лодке, господин Шмидт, совершенно растерялся и беспорядочно махал веслами по воздуху. Брат Александр вырвал у него весло, сел сам и велел мне взять другое. Мы скоро приткнулись к берегу.»
Обращают на себя внимание не только редкое самообладание и решительность, проявленные мальчиком, но и весьма суровые воспитательные меры по отношению к младшим братьям. В другой раз, во время игры, в разбойников Михаил не услышал сигнала отступления, «а когда он был повторен, плот уже отчалил, так что прибежав к берегу, я остановился в нерешительности.
— Скачи, если не хочешь быть в плену, — закричал Ринальдо Ринальдини.
С необычайным усилием я совершил salto mortale… Падая на плот, я поскользнулся на мокрых досках, крепко ударился затылком — я лишился чувств. Что было потом, я не gомню. Очнувшись, я увидел себя на плечах изнемогавшего от усталости брата; у него еще хватило настолько сил, чтоб поднести меня к реке, освежить и обмыть от крови мою голову.
— Ну, Мишель, — говорил он, ласкаясь ко мне, — рад я, что ты очнулся, а то мы бы перепугали матушку и сестер. Ты крепко ушибся, в этом я виноват, зато ты не попался в руки сбиров, ведь это было бы стыдно, а теперь, напротив, ты себя вел прекрасно. Братцы! я горжусь им и делаю его своим помощником, — заключил он, обращаясь к разбойникам, окружавшим нас.»
Александр Бестужев, хотя и обладал заметно властным характером, вовсе не был тираном для своих братьев. Такие же требования предъявлялись и к нему самому. Как-то раз старший из братьев Бестужевых, Николай, служивший уже морским офицером, взял Александра к себе на фрегат на время летних каникул. Поначалу Николай запрещал брату-подростку «лазать по мачтам и участвовать в матросских работах, обыкновенно исполняемых гардемаринами», но однажды, вспоминал он, «Александр вошел в мою каюту и настоятельно просил меня отпустить его домой. На вопрос мой о причине — он сказал: «Брат, твои запрещения сделали меня посмешищем всего фрегата: меня называют подземельным кротом, горною крысою [Николая дразнили так потому, что он учился в горном корпусе.] и Бог знает чем, чуть ли не трусом. Или ты позволь мне жить наравне со всеми, или отпусти домой.» Он был прав, и я, скрепя сердце, снял запрещение. На утро он уже явился в матросской рубашке, широких парусинных брюках, с фуражкою набекрень (…) и чтоб доказать на деле, что он не ворона в павлиньих перьях, бросился в матросский омут, очертя голову. Иногда у меня замирало сердце, когда из молодечества он бежал, не держась, по рее, чтоб крепить штык-болт, или спускался вниз головой по одной веревке с самого верха мачты, или, катаясь на шлюпке в крепкий ветер, нес такие паруса, что бортом черпало воду. (…) Он достиг своего: заслужил приязнь и уважение…»
В том же духе выдержан эпизод из воспоминаний Е. Мещерской, хотя между описываемыми событиями пролегло почти сто лет.
Старший брат девочки Вячеслав считал своей обязанностью заниматься ее воспитанием. Зная, что сестра боится грозы, он втащил ее силой на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал своим носовым платком ее мокрое лицо и приговаривал: «Ну, отвечай: будешь еще трусить и бояться грозы?» Потом, неся девочку на руках вниз по лестнице, он сказал: «А ты, если хочешь, чтобы я тебя любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее трусости порока нет.»
Рискованность подобных воспитательных процедур во многом объяснялась искренней верой в их благотворность. Такие приемы годились, надо думать, не для каждого ребенка, но эта вера, возможно, производила соответствующее впечатление и на детей: они воспринимали такие опыты над собой не как произвол и жестокость старших, но как необходимую закалку характера. Так Е. Мещерская, будучи уже старой женщиной, вспоминает этот случай из своего детства без обиды и возмущения; напротив, она с удовлетворением заключает: «И я никогда больше не боялась грозы.»
… УПАЛ НА ЛЬДУ НЕ С ЛОШАДИ…
«… УПАЛ НА ЛЬДУ НЕ С ЛОШАДИ,
а с лошадью: большая разница для
моего наезднического самолюбия.»
А. С. Пушкин. Из письма к П. А. Вяземскому.Храбрость и выносливость, которые безусловно требовались от дворянина, были почти невозможны без соответствующей физической силы и ловкости. Не удивительно, что эти качества высоко ценились и старательно прививались детям. В Царскосельском лицее, где учился Пушкин, каждый день выделялось время для «гимнастических упражнений»; лицеисты обучались верховой езде, фехтованию, плаванью и гребле. Прибавим к этому ежедневный подъем в 7 утра, прогулки в любую погоду и обычно простую пищу. При этом нужно учитывать, что лицей был привилегированным учебным заведением, готовившим, по замыслу, государственных деятелей. В военных училищах требования к воспитанникам в отношении физической закалки были несравненно более строгими, и обращались с кадетами куда суровей.
(Правда, очень многое зависело от личных качеств начальства. Добрейший старик адмирал И. Ф. Крузенштерн, в бытность свою директором морского корпуса, трогательно опекал воспитанников и упрекал офицеров, что «дети слишком устают», чем приводил в замешательство батальонных командиров. Но это было, конечно, исключение из правил. Порядки в кадетском корпусе и даже в Смольном институте для «благородных девиц», описанные, в частности, в мемуарах П. М. Жемчужникова и Е. Н. Водовозовой, поражают своей жестокостью; наказания детей граничили просто с истязанием. Конечно, нужно иметь в виду, что сведения о медицине, гигиене и детской психологии находились в среднем еще на очень невысоком уровне, особенно в первой половине XIX века. Но следует признать и то, что казенные учебные заведения были ориентированы именно на этот невысокий средний уровень, а не на представления наиболее гуманной и просвещенной части общества. Таким образом стиль и методы воспитания в государственных учебных заведениях отражают не столько обычаи дворянства, сколько практику российских чиновников от просвещения.) Усиленная физическая закалка детей отчасти диктовалась условиями жизни; многих мальчиков в будущем ожидала военная служба, любой мужчина рисковал быть вызванным на дуэль. (Выразительный пример: Пушкин во время своих продолжительных пеших прогулок «носил трость, полость которой была залита свинцом, и при этом периодически подкидывал и ловил ее в воздухе. Так он тренировал правую руку, чтобы она не дрожала, наводя пистолет.) Требовали физической подготовки такие общепринятые развлечения как охота, верховая езда. Вместе с тем, в демонстрации физической выносливости был и особый шик. А. М. Меринский, однокашник Лермонтова по юнкерской школе, вспоминал: «Лермонтов был довольно силен, в особенности имел большую силу в руках, и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач — он гнул шомполы и делал узлы, как из веревок. Много пришлось за испорченные шомполы гусарских карабинов переплатить ему денег унтер-офицерам, которым поручено было сбережение казенного оружия. Однажды оба они в зале забавлялись подобными tours de force [Проявлениями силы (франц.)], вдруг вошел туда директор школы, генерал Шлиппенбах. Каково было его удивление, когда он увидал подобные занятия юнкеров. Разгорячась, он начал делать им замечания: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети, что ли, вы, чтобы так шалить!.. Ступайте под арест». Их арестовали на одни сутки. После того Лермонтов презабавно рассказывал нам про выговор, полученный им и Карачинским. «Хороши дети, — повторял он, — которые могут из железных шомполов вязать узлы», — и при этом от души заливался громким смехом.»
С. Н. Глинка, обучавшийся в кадетском корпусе в 80-х годах XVIII в., вспоминал: «В малолетнем возрасте нас приучали ко всем воздушным переменам и, для укрепления телесных наших сил, заставляли перепрыгивать через рвы, влезать и карабкаться на высокие столбы, прыгать через деревянную лошадь, подниматься на высоты.» Получив такую закалку, молодые люди любили ею бравировать. По выходе из корпуса Глинка и его товарищ поступили в адъютанты к князю Ю. В. Долгорукову. Однажды в январский мороз, когда все кутались в шубы, они отправились сопровождать князя в щегольских обтянутых мундирах. Долгоруков с одобрением заметил: «Это могут вытерпеть только кадеты да черти!»
Впрочем, подобным «молодечеством» славились не только кадеты. Сам император Александр I на свою знаменитую ежедневную прогулку, le tour imperial, в любую погоду (а в Петербурге она редко бывает теплой) отправлялся в одном сюртуке с серебряными эполетами и в треугольной шляпе с султаном. Соответственно воспитывали и царских детей. Наследник престола, будущий император Александр II, так же, как и его ровесники, каждый день, не исключая праздники, не менее часа занимался гимнастикой, обучался верховой езде, плаванью, гребле и владенью оружием. Царевич участвовал в лагерных сборах кадетского корпуса, и для него почти не делалось поблажек, хотя учения были весьма изнурительны: длительные пешие марши в любую погоду с полной выкладкой, грубая солдатская пища. Наследник, очевидно, гордился своей выносливостью и даже зимой постоянно гулял без перчаток, в легкой одежде.
К девочкам в этом смысле было куда меньше требований, но и у них физическая изнеженность отнюдь не культивировалась. А. П. Керн воспитывалась вместе со своей двоюродной сестрой А. Н. Вульф. В своих воспоминаниях о детстве Керн отмечает, что каждый день после завтрака их вели гулять в парк «несмотря ни на какую погоду», гувернантка заставляла их лежать на полу, чтобы «спины были ровные», а одежда была так «легка и бедна», что Анна Петровна навсегда запомнила, как мерзла в карете во время поездки к дяде из Владимира в Тамбов.
Молодые женщины гордились своим умением хорошо ездить верхом; сестры Натальи Николаевны Пушкиной, великолепно владевшие этим искусством, со всем основанием рассчитывали произвести тем самым впечатление на столичных кавалеров. В сцене охоты в «Войне и мире» Наташа Ростова, которая «ловко и уверенно» сидит на своем вороном Арапчике, своей неутомимостью вызывает безусловное одобрение окружающих. «Вот так графиня молодая, — с восхищением замечает дядюшка, — день отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало!»
(В судьбе декабристок современного человека едва ли не в первую очередь поражает то обстоятельство, что привыкшие к роскоши барыни добровольно обрекли себя на материальные и бытовые лишения. Между тем в 20-е годы XIX века их поступок оценивался прежде всего как акт политический. Ю. М. Лотман, отмечал, что самый [факт следования жены за мужем в ссылку не был в восприятии русского дворянства чем-то из ряда вон выходящим. Еще в допетровскую эпоху семья ссыльного боярина, как правило, следовала за ним в добровольное изгнание, где ее ждали отнюдь не комфортные условия жизни. В русской армии XVIII — начала XIX веков был распространен обычай, по которому старшие офицеры, выступая в поход, везли в армейском обозе свои семьи. При этом женщины и дети подвергались известной опасности и несомненно испытывали немалые тяготы бивуачной жизни. В общем, русские дворянки были и психологически, и физически подготовлены к трудностям жизни куда лучше, чем это может показаться.)
Пушкин, ревниво подчеркивая, что упал он с лошадью, проявляет характерную для светского человека заботу о своей репутации: хорошая физическая форма была, с этой точки зрения, немаловажным моментом.
ХОТЯ УЖАСНОЮ СУДЬБИНОЙ Я…
«ХОТЯ УЖАСНОЮ СУДЬБИНОЙ Я
сражен,
Не малодушие я чувствовать рожден.»
А. П. Сумароков. Семира.Может возникнуть вопрос: чем, собственно, отличаются тренировка и закаливание дворянских детей от современных занятий физкультурой? Отличие в том, что физические упражнения и нагрузки призваны были не просто укреплять здоровье, но способствовать формированию личности. В общем контексте этических и мировоззренческих принципов физические испытания как бы уравнивались с нравственными. Уравнивались в том смысле, что любые трудности и Удары судьбы должно было переносить мужественно, не падая духом и не теряя собственного достоинства.
Пушкин любил стихи Вяземского:
Под бурей рока — твердый камень, В волненьях страсти — легкий лист.Здесь прекрасно передан психологический облик человека той эпохи, в котором эмоциональность и впечатлительность уживались с твердостью и силой духа. Во всяком случае, должны были уживаться. «Неудача, переносимая с мужеством», для Пушкина являла собой «великое и благородное зрелище», а малодушие было для него, кажется, одним из самых презираемых человеческих качеств. Ему самому оно уж никак не было свойственно: и нравственные, и физические муки он переносил с редкой стойкостью. Узнав о смерти своего любимого друга Дельвига, потрясенный неожиданным горем, он все же замечает: «Баратынский болен от огорчения. Меня не так-то просто с ног свалить.» Через несколько лет умирающий Пушкин старался молча терпеть страшную боль, отрывисто выговаривая: «Смешно же… что б этот… вздор… меня… пересилил… не хочу.»
Разумеется, подобная сила духа и мужество определяются качествами личности прежде всего. Но нельзя не заметить и совершенно определенной этической установки, которая проявлялась в поведении людей одного круга. Там, где честь являлась основным стимулом жизни, самообладание было просто необходимо. Например, следовало уметь подавлять в себе эгоистические интересы (даже вполне понятные и оправданные), если они приходили в противоречие с требованиями долга.
Отец Петруши Гринева, прощаясь со своим обливающимся слезами недорослем, наверное, беспокоится за него, но не считает возможным это показать. Подобная слабость допускается лишь для женщины: «Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье.»
Старик Болконский, провожая сына на войну, позволяет себе только такие слова: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне старику больно будет… Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно!»
Этические нормы здесь тесно соприкасаются с этикетными: демонстрировать чувства, не вписывающиеся в принятую норму поведения, было не только недостойно, но и неприлично. Воспитатель наследника В. А. Жуковский в своем дневнике озабоченно записывает: «Сказать в. к. (великому князю — О. М.) о неприличности того, что при малейшем признаке болезни он пугается и жалуется.» Обратим внимание, что Жуковский не собирается как-то успокоить мнительного мальчика, объяснить, что его здоровье не вызывает опасений. Он убежден, что подобное поведение «неприлично», стыдно, и никакого снисхождения здесь быть не может.
В воспоминаниях Е. Мещерской описывается, как после революции 1917 года они с матерью поселились в рабочем поселке, где княгиня устроилась на работу поварихой. В первую ночь им пришлось спать на голом полу, подложив под голову доски. Девочка почти не спала и к тому же занозила себе ухо. Когда утром мать вытаскивала ей занозу, Катя громко расплакалась, даже не от боли, а «от нашей нищеты, причины и смысл которой были мне непонятны, плакала потому, что наше будущее представлялось мне безнадежным. «Я не знала, что у меня дочь такая плакса, — почти равнодушно сказала мать. — (…) Откуда такое малодушие?.. Чтобы я больше никогда не видела ни одной твоей слезы…» Потом, когда Катя часто не спала и знала, что мать сейчас тоже «мучается воспоминаниями», девочка до боли кусала себе язык, «чтобы не заговорить и не расплакаться в жалобах».
Может показаться, что эти примеры слишком мало связаны друг с другом. Между тем, связь есть, хотя ее и трудно четко обозначить. Все эти столь разные ситуации сформированы общим «силовым полем» этических требований, которые выводили любые проявления трусости, малодушия, слабости за рамки достойного поведения. Результаты такого воспитания сказывались подчас в поступках, которые в другой культурной среде выглядели бы позерством.
В. Н. Карпов, вспоминая о жизни харьковского студенчества в 1830 — 40-е годы, отмечает: «так как дворянство того времени держало знамя своего достоинства на достаточной высоте, то общий тон, даваемый им, не мог не влиять и на молодежь из бедного сословия, вырабатывая в ней сознание собственного достоинства.» В качестве доказательства он приводит следующий эпизод. Богатый помещик, предводитель дворянства Бахметьев, прислал на имя ректора университета 500 рублей (по тем временам сумма значительная) с просьбой разделить их в качестве единовременного пособия между тремя беднейшими студентами. Было вывешено соответствующее объявление, но никто на него не откликнулся. Тогда сама администрация выбрала трех беднейших студентов; их пригласили к ректору, который долго уговаривал их принять деньги, но получил решительный отказ. «— Бедный тот, кто лишен всяких способностей, кто хронически болен и потому бессилен противостоять напорам жизни! — заявили студенты. — А мы, господин ректор, не бедны, если признаны целым университетом достойными быть студентами. При этом мы здоровы и сильны.» Присланные деньги были переданы в благотворительное общество…
Ек. Мещерская свидетельствует: «Рожденная в роскоши, слыша с детства со всех сторон разговоры о нашем богатстве, привыкшая к большому штату слуг, вежливых и предупредительных, не знаю почему, я не впитала в себя идей, приписываемых нашему привилегированному сословию, и ни у меня, ни у брата, ни у кого из моих сверстников не было в крови той иждивенческой психологии, которую я впоследствии встречала и сейчас иной раз встречаю у нашей молодежи.» Как видим, нравственный облик человека формирует не уровень материального благосостояния, а уровень этических требований. Пусть нам не покажутся преувеличением признания Кати Мещерской: «И когда в первый же вечер, придя с работы, моя мать принесла мне свой ужин, мне показалось, что я получила звонкую пощечину.» Вскоре, нарушив запрет матери, Катя устроилась в школу преподавать музыку своим сверстникам. Рассерженной матери она твердо заявила: «Не сердитесь на меня, прошу вас! Вы все еще считаете меня ребенком, а я ведь все, все вижу! И ваши страданья. Ну поймите вы меня: я сама должна зарабатывать себе на хлеб!»
Мы не должны представлять себе этих людей некими суперменами. Просто они были приучены превозмогать по мере сил страх, отчаянье и боль и стараться не показывать, как это трудно. Для этого требовалось не только мужество, но и безукоризненное умение владеть собой, которое достигалось путем длительного и тщательного воспитания.
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО…
«ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО
иметь volto sciolto е pensieri stretti
(открытое лицо и скрытые мысли. — итал.)»
Честерфилд. Письма к сыну.Герой романа Бульвера-Литтона «Пелэм или приключения джентельмена» охотно делится с читателями своими наблюдениями над жизнью светского общества.
«Я неоднократно наблюдал, — пишет он в частности, — что отличительной чертой людей, вращающихся в свете, является ледяное, невозмутимое спокойствие, которым проникнуты все их действия и привычки, от самых существенных до самых ничтожных: они спокойно едят, спокойно двигаются, спокойно живут, спокойно переносят утрату своих жен и даже своих денег, тогда как люди низшего круга не могут донести до рта ложку или снести оскорбление не поднимая при этом неистового шума.» Пелэм всегда немного утрирует и насмешничает, однако здесь он не далек от истины. Совершенно в том же духе поучает своего сына граф Честерфилд: «Человек, у которого нет du monde [Светскости (фр.).], при каждом неприятном происшествии то приходит в ярость, то бывает совершенно уничтожен стыдом, в первом случае он говорит и ведет себя как сумасшедший, а во втором выглядит как дурак. Человек же, у которого есть du monde, как бы не воспринимает того, что не может или не должно его раздражать. Если он совершает какую-то неловкость, он легко заглаживает ее своим хладнокровием, вместо того, чтобы смутившись, еще больше ее усугубить и уподобиться споткнувшейся лошади.»
Эти рассуждения хорошо иллюстрирует эпизод из романа Стендаля «Красное и черное». Жюльен Сорель, который совсем не умел ездить верхом, отправился кататься с молодым маркизом Норбером де ля Моль и тут же свалился с лошади прямо в грязь.
Когда за обедом маркиз спросил, как они прогулялись, Норбер поспешил ответить какой-то общей фразой, но Жюльен вступил в разговор и с юмором рассказал о своей неловкости и падении посреди улицы. Его поведение вызвало одобрение знатоков светского этикета. «А из этого аббатика будет прок, — сказал маркиз академику. — Провинциал, который держится так просто при подобных обстоятельствах, да это что-то невиданное, и нигде этого и нельзя увидеть! Да мало того, он еще рассказывает об этом своем происшествии в присутствии дам!»
«В светской жизни, — объяснял Честерфилд, — человеку часто приходится очень неприятные вещи встречать с непринужденным и веселым лицом; он должен казаться довольным, когда на самом деле очень далек К. от этого; должен уметь с улыбкой подходить к тем, к кому охотнее подошел бы со шпагой.»
Лев Толстой в «Детстве», характеризуя отца Николеньки, отмечает: «Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему.»
Умение скрывать от посторонних глаз «мелкие досады и огорчения» считалось обязательной чертой воспитанного человека. К. Головин, вспоминая о князе Иване Михайловиче Голицыне, считавшемся «одним из лучших украшений петербургских гостиных», пишет: «Его неутомимая любезность никогда не становилась банальной и никогда не уступала место раздражению.» Между тем, все знали, что князю «было от чего разражаться», — жизнь его вовсе не была гладкой и беззаботной. Характерно замечание, которое делает маркиза своей дочери в романе Стендаля: «Вы чем-то недовольны, (…) должна вам заметить, что показывать это на бале нелюбезно.» В духе этих требований дворянского ребенка воспитывали с раннего детства, настойчиво и порой жестко.
Подобный эпизод отмечен в записках Порошина, наставника будущего императора Павла I. Десятилетний Павел так хотел пораньше лечь спать перед завтрашним маскарадом, что почти плакал от нетерпения. Его воспитатель Никита Панин проводил мальчика в спальню, но строго отчитал его за несдержанность и рекомендовал сделать то же другим наставникам. Порошин наутро постарался показать великому князю всю «непристойность его поступка» с чем мальчик виновато согласился.
Лев Толстой употреблял выражение «лак высшего тона», полагая, что он скрывает особенности характера человека так же, как хороший лак скрывает качество дерева. В самом деле, В. Н. Карпов, рассказывая о том, как воспитывали дворянских девочек в харьковском пансионе мадам Ларенс, упоминает о стандартном нравоучении воспитательницы: «Надо скрывать свой нрав и уметь не быть, а казаться.»
Эта особенность светских людей очень часто являлась предметом нареканий, оцениваясь как «фальшь», «притворство», «лицемерие» и т. п. Вероятно, она действительно создавала немалые затруднения для людей по натуре открытых и импульсивных, а также для тех, кто сам не владел подобными навыками. Однако не стоит слишком увлекаться обличительным пафосом: в этой манере поведения было и немало хороших сторон.
Заметим кстати, что дворянским юношам она часто давалась нелегко. «По правде говоря, — уговаривал Честерфилд своего сына, — вначале эта сдержанность не слишком приятна, но очень скоро она входит в привычку и этим уже перестает быть трудной.» Желая привить этот стиль поведения своим детям, светские люди руководствовались не только стремлением во что бы то ни стало подчиняться условностям.
Начнем с того, что это давало определенные преимущества в отношениях с людьми, защищая человека от назойливых или недоброжелательных собеседников. Юный аристократ Пелэм с гордостью повествует о такой сцене: «И тут он опять испытующе посмотрел мне прямо в лицо. Глупец! Не с его проницательностью можно прочесть что-либо в cor inscrutabile [Непроницаемом сердце (лат.).] человека, с детских лет воспитанного в правилах хорошего тона, предписывающих самым тщательным образом скрывать чувства и переживания.» К тому же, прекрасно владеющий собой человек владел и ситуацией: умел направить беседу в нужное русло, разрядить обстановку, переключить внимание собеседников с одного предмета на другой и прочее. Но помимо всего этого пресловутая светская скрытность, безусловно, имела и некий этический смысл. Обратимся к еще одной сцене из романа Бульвера-Литтона.
«Когда слова Винсента дошли до ее слуха, она внезапно повернулась; на руку мне упала слеза. Она заметила это, и, хотя я нарочно не смотрел ей в лицо, я увидел, что даже шея у нее покраснела. Но и поддавшись чувству, она, подобно мне, слишком многому научилась в свете, чтобы легко потерять самообладание. Она шутливо побранила Винсента за его недоброе мнение о нас всех и попрощалась с нами, любезная, как всегда, и притворяясь более веселой, чем обычно.»
Здесь продемонстрировано, что воспитанный человек, во-первых, не обременяет окружающих своими личными неприятностями и переживаниями, а во-вторых, умеет защитить свой внутренний мир от непрошенных свидетелей.
Таким образом внешняя сдержанность и самообладание естественно увязывались с обостренным чувством собственного достоинства, с уверенностью в том, что демонстрировать всем свое горе, слабость или смятение — недостойно и неприлично. Не удивительно, что и Генри Пелэм здесь оставляет свой обычный иронический тон и говорит неожиданно серьезно и страстно: «И если меня терзали обманутые надежды и неудачливое честолюбие, то страдания эти не для постороннего зрителя. Поверхностные чувства можно выставлять напоказ, самые глубокие переживаются наедине с собою. И, как спартанский мальчик, я даже в предсмертных муках буду прятать под плащом впившиеся в грудь мою звериные клыки.»
ОТЧЕГО У НАС НЕ СТЫДНО НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО…
«ОТЧЕГО У НАС НЕ СТЫДНО НЕ делать ничего?
— Сие неясно: стыдно делать дурно,
а в обществе жить не есть не делать ничего.»
Д. И. Фонвизин. Вопросы Фонвизина и ответы сочинителя «Былей и небылиц.»Светское общество относилось к бытовой стороне жизни как к явлению глубоко содержательному, имеющему самостоятельное значение. Многие светские люди, конечно, что-то «делали» и в нашем, современном понимании: состояли на военной или государственной службе, занимались литературным трудом или издательской деятельностью. Но при этом жизнь, не связанная непосредственно со службой или работой, была для них не вынужденным или желанным промежутком между делами, а особой деятельностью, не менее интересной и не менее важной. Балы, светские рауты, салонные беседы и частная переписка — все это в большей или меньшей степени носило оттенок некоего ритуала, для участия в котором требовалась специальная выучка. Французское выражение avoir du monde, которое переводится: быть светским [человеком], Честерфилд интерпретировал как «умение обратиться к людям». У истинно светских людей это умение достигало уровня искусства.
Ритуализованность повседневной жизни светского общества дает основания современному историку говорить о «театральности» быта и культуры XIX века. Эту особенность своей жизни ощущали и современники. В. А. Жуковский называл большой свет театром, «где всякий есть в одно время и действующий и зритель». Но было бы ошибкой считать «театральность» синонимом «искусственности», «ненатуральности». Принятые формы поведения давали вполне широкий простор для самовыражения личности; и человек, в совершенстве владеющий правилами хорошего тона, не только не тяготился ими, но обретал благодаря им истинную свободу в отношениях с людьми.
К. Головин вспоминал о петербургском свете 1860 — 70-х годов: «Все было проще в обстановке и более условно в людских отношениях. Предания той эпохи, когда все было точно (Определено: и как кланяться, и кому в особенности, и как разговаривать, и даже как влюбляться, — эти предания еще тяготели над тогдашним обществом. Напрасно, впрочем, попалось мне под перо слово «тяготеет». В сущности, для человека бывалого — много было свободы под этой корою приличий. Ведь и классическую музыку можно наигрывать легко…»
Разумеется, всегда находились люди по своей натуре не склонные или не способные к принятому в обществе стилю поведения. Например, талантливый литературный критик И. В. Киреевский никак не мог освоить искусство легкой и непринужденной светской беседы, что очень его огорчало. Его друг, поэт Е. А. Баратынский, утешал его в письме: «Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличались этой наметанностию, которой мне недоставало. (…) Замечу еще одно: этот laisse aller [Непринужденность (франц.).], который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им дает его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостью.»
В рассуждениях Баратынского сквозит нетерпимость интеллектуала: он несправедлив к людям, может быть, и поверхностным, но вовсе не глупым. Значение светскости не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать. Неловкость в обществе — вполне простительный недостаток таких незаурядных личностей, как Баратынский и Киреевский. С другой стороны, легкость и изящество светского общения также особый дар.
Нужно отметить, что при всем внимании к хорошим манерам, люди умные никогда не считали их чем-то самодостаточным. Жуковский, выделяя два рода светских успехов, один из которых основан на привлекательных, но поверхностных свойствах человека (приятном обхождении, остроумии, учтивости и пр.), а другой — на интеллектуальных и нравственных отличиях, отдает безусловное предпочтение второму. Однако он мудро замечает, что «искусство общаться приятно» есть достоинство, хотя и более мелкое, но «совершенно необходимое для приобретения от общества благосклонности». Так же и Честерфилд, неустанно твердящий сыну о необходимости соблюдать все правила хорошего тона, подчеркивает, что главными качествами человека являются, конечно, честность и благородство, талант и образованность. Но в жизни необходимо обладать и некоторыми второстепенными качествами, — замечает он, из которых самое необходимое — хорошее воспитание, ибо оно «придает особый блеск более высоким проявлениям ума и сердца.»
Правила хорошего тона отнюдь не сводились к набору рекомендаций типа: в какой руке держать вилку, когда следует снимать шляпу и т. д. Разумеется, этому дворянских детей тоже учили, но подлинно хорошее воспитание основывалось на ряде этических постулатов, которые должны были реализовываться через соответствующие внешние формы поведения.
У всех на памяти ироническая характеристика Евгения Онегина:
Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умен и очень мил.Но пушкинская ирония вызвана, разумеется, не тем обстоятельством, что молодой человек в совершенстве знает французский язык и хорошо танцует, а тем, что это считается вполне достаточным. «Хорошее общество» предъявляло к людям более серьезные требования.
БЫТЬ МОЖНО ДЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…
«БЫТЬ МОЖНО ДЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
И думать о красе ногтей.»
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.«Забота о красоте одежды — большая глупость, и вместе с тем не меньшая глупость не уметь хорошо одеваться.»
Честерфилд. Письма к сыну.Дворянские дети, как и любые другие, прежде всего приучались к элементарным правилам гигиены. Честерфилд постоянно напоминает своему сыну-подростку о необходимости каждый день чистить зубы и мыть уши, содержать в образцовой чистоте руки и ноги и уделять особое внимание состоянию ногтей. По ходу дела он дает мальчику и такие советы: «Ни в коем случае не ковыряй пальцем в носу или в ушах, как то делают многие. (…) Это отвратительно до тошноты.» Или: «Старайся хорошенько высморкаться в платок, когда к этому представится случай, но не вздумай только потом в этот платок заглядывать!» По мере того, как сын подрастал, отец начинал внушать ему более сложные истины. Теперь он убеждает юношу, что кичатся своим платьем, конечно, только «хлыщи», но воспитанный человек обязан думать о том, как он одет, просто из уважения к обществу. «Пусть даже человеку моих лет, — пишет Честерфилд, не приходится ожидать никаких преимуществ от того, что он изящно одет, если бы я позволил себе пренебрежительно отнестись к своей одежде, я этим выказал бы неуважение к другим.» Совершенно в том же духе высказывается и Пелэм, герой Бульвера-Литтона: ^Истинно расположенный к людям человек не станет оскорблять чувства ближних ни чрезмерной небрежностью в одежде, ни излишней щеголеватостью. Поэтому позволено усомниться в человеколюбии как неряхи, так и хлыща.» Пелэм щедро пересыпает свой рассказ и другими глубокомысленными рассуждениями об одежде, например: «Красавец может позволить себе одеваться кричаще, некрасивый человек не должен позволять себе ничего исключительного.» Или: «Помните, что лишь тот, чье мужество бесспорно, может разрешить себе изнеженность. Лишь готовясь к битве, имели лакедемоняне обыкновение душиться и завивать волосы.» В самом деле, не забудем, что тщательная забота о своей наружности сочеталась у аристократов с физической выносливостью и мужеством. Когда Марина Цветаева, рисуя образ молодых генералов 1812 года, восклицает: «Цари на каждом бранном поле — и на балу!» — несмотря на откровенную романтическую идеализацию своих героев, она очень точно передает характерное для них сочетание мужества и изящества.
Суждения английских аристократов для нас в данном случае особенно интересны, ведь российские светские щеголи ориентировались именно на них. Пушкинский Онегин тоже был «как dandy лондонский одет.»
(«Дэндизм» как стиль одежды и — шире — стиль поведения был весьма популярен у дворянской молодежи России 1810 — 20-х годов. Не избежал этого увлечения и сам Пушкин. Для русского дэндизма, умевшего сочетать «блеск внешних форм с утонченностью умственной культуры» (Л. Гроссман), отношение к внешности и одежде носило не суетно-тщеславный, но эстетический, даже философский характер. Это был культ прекрасного, стремление найти изящную форму для всех проявлений жизни. С этой точки зрения, отточенные остроты и полированные ногти, изысканные комплименты и тщательно уложенные волосы — представали дополняющими друг друга чертами облика человека, воспринимающего жизнь как искусство.)
Правила хорошего тона требовали, чтобы самый дорогой и изысканный наряд выглядел просто. Тонкий ценитель Пелэм не упускает возможности заметить: «Оделся нарочито просто, без вычур (к слову сказать — человек несветский поступил бы как раз наоборот)». Это правило соблюдалось и в российском высшем обществе. Поэтому туалеты толстовской героини могут быть выразительной характеристикой ее вкуса и состоятельности. «Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота.» («Анна Каренина»)
Особое внимание уделялось украшениям: надевать слишком много драгоценностей считалось дурным тоном. «Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов», — замечает о своей героине Лермонтов. («Княгиня Лиговская»)
«Павел Демидов, которого мать обожала, был и очень красив, и очень плохо воспитан, — замечает в своих воспоминаниях К. Головин. — Помнится, на Елагинской стрелке, пройдясь со мной несколько шагов, он расхвастался тем, что пуговицы у него на жилете были настоящими сапфирами.»
Граф В. П. Орлов-Давыдов, получив недавно и наследство, и графский титул, чувствовал себя не вполне уверенно. Он давал у себя балы и званые вечера, но потом осторожно интересовался у знатоков этикета: все ли было хорошо? — «Слишком много всякого добра подавали, — авторитетно заметил ему как-то отец К. Головина. — Куда ни глянешь — либо пирожное, либо конфеты.» «Ah, vous me trouvez nouveau riche…» [Вы считаете меня нуворишем (франц.).] — огорченно воскликнул граф.
В общем, как тонко заметил Генри Пелэм: «Одевайтесь так, чтобы о вас говорили не: «Как он хорошо одет!», но: «Какой джентльмен!»
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ НИЧЕМ, ЧТО МОЖЕТ…
«НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ НИЧЕМ, ЧТО МОЖЕТ
нравиться людям.»
Честерфилд. Письма к сыну.«Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унизить.»
В. А. Жуковский. Дневник.
Вообразите множество людей обоего пола, одаренных от фортуны или избытком, или знатностию, соединенных один с другими естественной склонностью к общежитию, поставляющих целию своего соединения одно удовольствие, заключенное в том единственно, чтобы взаимно друг другу нравиться, — и вы получите довольно ясное понятие о том, что называете большим светом», — писал В. А. Жуковский в своей статье «Писатель в обществе».
Умение «нравиться» было одной из отличительных черт людей света. Так и отец Николеньки Иртеньева из повести Толстого «Детство», который был вовсе не хорош собой, умел «нравиться всем без исключения — людям всех сословии и состоянии, в особенности же тем, которым хотел понравиться.» Не удивительно, что обучение искусству нравиться людям становилось важнейшим моментом в воспитании дворянского ребенка.
«Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе — вот самый верный способ нравиться людям, какой я только знаю», — писал сыну Честерфилд. Но он прекрасно понимал, что необходимы и гораздо более определенные, конкретные рекомендации, которыми он в избытке снабжал своего воспитанника.
Когда сыну Честерфилда было 9 — 10 лет, отец требовал от него соблюдения только тех правил поведения, которые он считал совершенно необходимыми даже для мальчика такого возраста. «(…) когда к тебе, обращаются, ты должен отвечать приветливо, ты должен садиться на дальний край стола, если только тебя не пригласят сесть ближе, пить первый тост за здоровье хозяйки дома и лишь потом — за здоровье хозяина, не набрасываться на еду, не быть за столом неряхой, не сидеть, когда другие стоят; и надо, чтобы при этом у тебя был непринужденный вид, а не надутая кислая физиономия, какая бывает у людей, которые все делают с неохотой. (…) Надо быть очень невоспитанным человеком, чтобы оставить без внимания обращенный к тебе вопрос, или ответить на него невежливо, или уйти, или заняться чем-то другим, когда кто-то заговорил с тобою, ибо этим ты даешь людям понять, что презираешь их и считаешь ниже своего достоинства их выслушать, а тем более им ответить. Мне думается, я не должен говорить тебе, как невежливо занимать лучшее место в комнате или сразу же накидываться за столом на понравившееся тебе блюдо, не предложив прежде отведать его другим, как будто ты ни во что не ставишь тех, кто тебя окружает.» «Ты говоришь очень быстро и неотчетливо, — огорчается Честерфилд, — это очень неудобно и неприятно для окружающих, и я уже тысячу раз тебе это старался внушить.
Пожалуйста, будь внимателен к своей речи и постарайся ее исправить.» «Ты должен быть не только внимателен ко всякому, кто с тобой говорит, но и сделать так, чтобы собеседник твой почувствовал это внимание. Самая грубая обида — это явное невнимание к человеку, который что-то тебе говорит, и простить эту обиду всего труднее.» Верх невоспитанности — во время разговора «вперять взоры» в окно или в угол, играть с собакой или крутить что-нибудь в руках. Отсюда непреложное правило: «Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза!»
В. А. Жуковский отметил в своем дневнике следующий эпизод. «В. к. (Великий князь — О. М.) недослушал чтения; это было неприлично. Чтение не могло долго продолжаться. Если бы он дал мне его докончить, то доказал, что слушал с удовольствием. Такого рода принуждение необходимо: не подобно (т. е. не подобает — О. М.) употреблять других только для себя: надобно к ним иметь внимание. А ко мне и подавно. Избави Бог от привычки видеть одного себя центром всего и считать других только принадлежностью, искать собственного удовольствия и собственной выгоды, не заботясь о том, что это стоит для других: в этом есть какое-то сибаритство, самовольство, эгоизм, весьма унизительный для души и весьма для нее вредный.»
Этот моралистический пафос кажется неадекватным незначительному проступку воспитанника, но современники Жуковского, скорей всего, сочли бы его реакцию вполне естественной. Тенденция увязывать внешние правила хорошего тона с их этическим смыслом была широко распространена. Показательно, что не только идеалист Жуковский, но и прагматик Честерфилд неустанно твердит об уважительном и внимательном отношении к людям. Именно это требование, в конечном счете, лежит в основе даже тех элементарных правил поведения, с которыми он знакомит своего маленького сына. В дальнейшем он будет учить сына более сложным вещам, добиваться от него не простой вежливости, но утонченной любезности, не уставая призывать юношу быть предельно доброжелательным к людям и уметь дать им это почувствовать.
— Постарайся распознать в каждом его достоинства и его слабости и воздай должное первому, и даже больше — второму.
— Ты можешь легко распознать в каждом человеке предмет его тщеславия, приметив, о чем он особенно любит говорить. Коснись именно этого, и ты заденешь его за живое.
— Можно приметить маленькие привычки, пристрастия, антипатии и вкусы людей, которых нам хотелось бы расположить к себе, и тогда постараться чему-то потакать, и от чего-то уберечь их, при этом деликатно дав им понять, что ты заметил, что им нравится такое-то блюдо или такая-то комната, и потому приготовил для них то или другое.
— Сколь бы пустой и легкомысленной ни была та или иная компания, коль скоро ты находишься в ней не показывай людям своим невниманием к ним, что ты считаешь их пустыми.
— Есть смысл притвориться, что ты не знаешь, что тебе собираются рассказать, и внимательно выслушать знакомую историю, чтобы доставить удовольствие рассказчику.
— В разговоре с пожилыми людьми неплохо дать им почувствовать, что ты рассчитываешь чему-либо от них научиться.
— В разговоре с женщинами все твои шутки и остроты прямо или косвенно должны быть направлены на похвалу собеседнице и ни в коем случае не должны допускать толкования для нее обидного или неприятного.
(В отношении хорошего тона Честерфилд постоянно приводит в пример французское общество. В частности, он с одобрением замечает, что везде, где собираются французы, присутствует «некая галантная игривость с женщинами, в которых мужчины не только не влюблены, но даже не притворяются влюбленными.» Этот стиль отношений был усвоен и в русском светском обществе, Пушкин называл это «врать с женщинами» и, по свидетельству современников, сам был весьма искушен в этом искусстве.)
Судя по всему, Пушкин умел быть любезным с дамами с самого раннего возраста. В селе Захарове, где семья его родителей проводила лето, у них в доме жила одна дальняя родственница, молодая девушка, поврежденная в рассудке. В те времена считалось, что таких больных может излечить сильный испуг. С этой целью в окно комнаты девушки провели пожарную трубу и внезапно пустили воду. Пушкин в это время возвращался с прогулки, бедная сумасшедшая бросилась к мальчику с криком: «Братец, они приняли меня за пожар!» «Не за пожар, сестрица! За цветок!» — воскликнул семилетний кавалер.
Отметим, что «галантная игривость» вовсе не являлась отличительной чертой поведения поэтов и донжуанов. Изысканной галантностью и подчеркнутым вниманием к дамам был знаменит, например, адмирал Н. С. Мордвинов, почтенный и престарелый отец семейства. Его дочь вспоминала: «На придворных балах молодые девицы очень любили, когда он подходил к ним, потому что слышали от него самые милые комплименты и с ним любезничали.»
В избытке вооружая своего сына приемами, помогающими добиваться благосклонности окружающих, Честерфилд не забывает давать им этическое обоснование. «Не пойми меня неверно и не подумай, что я рекомендую тебе низкую и преступную лесть, — предупреждает он. — Нет, не вздумай хвалить ничьих пороков, ничьих преступлений; напротив, умей ненавидеть их и отвращать от них людей. Но на свете нельзя жить без любезной снисходительности к человеческим слабостям и чужому тщеславию, в сущности невинному, хотя, может быть, порой и смешному.»
«Неужели сама доброта не побуждает нас нравиться всем тем, с кем мы говорим, без различия положения и звания? — рассуждает он, продолжая эту тему. — И разве здравый смысл и простая наблюдательность не говорят нам, как для нас бывает полезно кому-то нравиться?» И упреждая обвинения в фальши и лживости такого поведения, Честерфилд пишет: «Умение это отнюдь не обернется притворством, и в нем не будет ничего преступного или предосудительного, если ты не используешь его в дурных целях. Меня никак нельзя осуждать за то, что я хочу встретить в других людях приветливые слова, доброжелательство и расположение ко мне, если я не собираюсь всем этим злоупотребить.»
Это рассуждение Честерфилда следует выделить особо. Не секрет, что внешняя манера поведения светских людей часто приходила в противоречие с их нравственным обликом. «Злоупотребления» своим умением очаровывать людей и добиваться их расположения, в самом деле, имели место. Это, главным образом, и вызывало гневные инвективы в адрес светского общества, хорошо известные нам по произведениям как русских, так и западных писателей. Однако следует различать критику, исходящую из демократического лагеря, обусловленную принципиально иной идеологией и просто сословной враждой, и критику со стороны культурной элиты дворянского общества. В последнем случае обличительный пафос поддерживался за счет тех твердых представлений о норме и идеале, которые в жизни осуществлялись не столь уж часто, но являлись неизменным ориентиром для людей, принадлежавших не просто к «светскому», но к «хорошему» обществу.
Итак, мы можем со всем основанием сформулировать первое правило хорошего тона: следует вести себя так, чтобы сделать свое ^) общество как можно более приятным для окружающих.
Нетрудно представить себе читателей, у которых вызовет недоумение и раздражение самое это стремление нравиться людям, быть им приятным, уметь доставлять маленькие удовольствия и прочее. Заметим, что это будет свидетельством мироощущения прямо противоположного тому, которое мы пытаемся описать. Впрочем, Честерфилд предлагает и вполне прагматичное решение: «Быть приятным в обществе — это единственный способ сделать пребывание в нем приятным для самого себя.»
Дом славился аристократическим радушием
В. А. Сологуб
Ни в чем так не проявляется истинно хорошее воспитание, как в отношениях с людьми, стоящими гораздо выше тебя по своему общественному положению, и, напротив, — стоящими неизмеримо ниже. Особенная изысканность манер состояла в том, чтобы и с теми, и с другими держаться почти одинаково.
К. Головин, вспоминая о графе М.Ю. Виельгорском, в доме которого «получали крещение» все знаменитости Петербурга, отмечает: «Одно его отличало — полная одинаковость обращения со всеми. Великого князя он принимал совершенно на равной ноге с самым невзрачным из простых смертных, если только этот простой смертный был от природы не глуп. В противном случае не принимали вовсе.»
«Если бы даже тебе пришлось разговаривать с самим королем, ты должен держать себя столь же легко и непринужденно, как и с собственным камердинером», — требовал от сына Честерфилд. При этом, однако, королю или какому-либо очень высокопоставленному, знаменитому, просто особо уважаемому в обществе человеку, конечно, необходимо уметь выразить свое почтение. Честерфилд рекомендовал юноше некоторые приемы, позволяющие сделать это непринужденно и ненавязчиво. Например, ждать, когда с тобой заговорят, а не начинать разговор первым; поддерживать начатую беседу, а не выбирать ее предмет самому. Допустимо даже косвенно польстить собеседнику, невзначай похвалив кого-нибудь как раз за те качества, которыми обладает он сам, но это уже требует большого искусства.
Но не менее важно и другое: «Настоящий джентльмен соблюдает правила приличия в обращении со своим лакеем и даже нищим на улице. Люди эти вызывают в нем сочувствие, а отнюдь не желание обидеть.»
В.А. Жуковский, внимательно анализируя поведение юного наследника престола, счёл нужным отметить в своем дневнике такой эпизод: «Во время чтения, при котором присутствовал Паткуль (мальчик, который учился вместе с Александром. — О. М.), великий князь забылся: он, лежа, протянул ноги и положил их на колени Паткуля. Я взглянул на эти ноги; великий князь почувствовал неприличие и переменил положение». Этот промах его воспитанника опять-таки делается для Жуковского поводом к весьма далеко идущим рассуждениям: «Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унизить; вы их оскорбляете и отдаляете от себя, и вы унижаете самих себя этими проявлениями ложного превосходства, которое должно заключаться не в том, чтобы давать чувствовать другим их ничтожество, но в том, чтобы внушать им вашим присутствием чувство вашего и их достоинства.» (подлинник по-франц.)
Подобная требовательность к ребенку, очевидно, не являлась чем-то исключительным. В записках Порошина, одного из наставников великого князя Павла, относящихся к куда более раннему времени, мы встречаем аналогичные примеры. Хотя даже в личном дневнике Порошин пишет о царственном воспитаннике исключительно в витиевато-почтительных выражениях («Вставши из-за стола изволил Его Высочество выкушавши чашку кофе пойтить со мною в опочивальню и там попрыгивать»), это вовсе не означает, что десятилетний наследник престола мог позволить себе барственное отношение к своему наставнику. Когда однажды великий князь «изволил» поговорить с Порошиным дерзко и сердито, тот, не колеблясь, решил «дать ему почувствовать мое справедливое негодование и произвести в нем раскаянье». С этой целью он отвечал «лаконически» на все попытки мальчика с ним заговорить, а сам к нему не обращался. Несмотря на то, что Павел явно чувствовал себя виноватым и то и дело смущенно говорил: «Долго ли нам так жить, пора помириться», — воспитатель отвечал лишь, что очень обижен. Наконец, уже на третий день после размолвки, мальчик со слезами бросился Порошину на шею, целовал его и просил прощения. Только тогда и был заключен мир.
Дети из обычных дворянских семей вряд ли пользовались большей снисходительностью своих воспитателей. Близость рекомендаций и рассуждений Жуковского и Честерфилда — знак того, что речь идет об общепринятых нормах поведения, так сказать, единых общеевропейских правилах хорошего тона.
«Никогда не поддавайся соблазну, очень свойственному большинству молодых людей, выставлять напоказ слабости и недостатки других, чтобы поразвлечь общество или выказать свое превосходство, — наставлял сына Честерфилд. — Помимо всего прочего, это безнравственно, и человек с добрым сердцем больше старается скрыть, нежели выставить напоказ чужие слабости и недостатки.» Заслуживает внимания то, как настойчиво Честерфилд рекомендовал юноше всегда искать общества людей, которые были бы выше его, а не ниже. (При этом он специально подчеркивал, что имеет в виду вовсе не их происхождение, а личные достоинства.) «Людям свойственно гордиться, что в определенном кругу они всегда бывают на первом месте, но это крайне глупо и крайне предосудительно. Ничто так не унижает человека, как подобное заблуждение.»
В одном из писем к сыну Честерфилд заметил: «Презрение людям перенести всего тяжелее, и они очень неохотно его прощают. Им гораздо легче забыть любой причиненный им вред, нежели просто обиду.» «Пренебрежение и презрение» совершенно недопустимы, с его точки зрения, даже по отношению к слугам.
Люди, получившие соответствующее воспитание, производили неизгладимое впечатление на людей другого круга именно своей приветливостью и деликатностью. Д.М. Погодин в 1880-х годах вспоминал о салоне Е. П. Растопчиной, где он бывал в юности: «Для каждого, входившего в ее гостиную, даже для таких зеленых юношей, каким был я в то время, у ней находилось ласковое слово, привет, дружеская улыбка, пожатие руки, и каждому у ней было тепло, весело, приятно и, главное, сытно.» Погодин объяснял уважение, которое оказывалось в салоне Растопчиной незнатной и небогатой интеллигенции тем, что графиня сама была интеллигентна и умела оценить этих людей по достоинству. Он прав, но лишь отчасти: правила хорошего тона предполагали такое отношение к любому гостю, даже если его достоинства и не были столь очевидны. Именно такой стиль поведения отмечает Пушкин, описывая гостиную Татьяны Лариной:
Никто насмешкою холодной Встречать не думал старика Заметя воротник немодный Под бантом шейного платка. И новичка-провинциала Хозяйка спесью не смущала, Равно для всех она была Непринужденна и мила.Сравним с этим описание гостиной леди Гленвил в романе Бульвера-Литтона: «Она сумела сделать свой дом в Лондоне одним из тех, куда особенно лестно получить доступ. (…) В доме у нее не было ни вызывающей роскоши, ни вульгарного подчеркивания богатства, ни искательства перед могущественными, ни покровительственного снисхождения к маленьким людям.»
Характерна в этом отношении и сцена из повести Пушкина «Выстрел», где бедный провинциальный дворянин является с визитом к богатому и знатному соседу. «Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемоний.»
В.А. Соллогуб, говоря о русской знати 1830-х годов, которая «строго чуждалась наводнивших ее впоследствии всякого рода проходимцев», выделяет все те же черты; «Ко всем и каждому соблюдалась вежливость самая утонченная, гостеприимство самое широкое.» Таким запомнился Соллогубу и его отец, один из ярких представителей той знати: «Чванства в отце моем не проявлялось никакого. Он был со всеми обходителен и прост, весел и любезен, щедр и благотворителен, добрый товарищ, приятный собеседник, отличный рассказчик, всегда готовый на доброе дело и резкий, остроумный ответ.»
Можно умножить подобные примеры, но не стоит бесконечно доказывать очевидное: чванство и высокомерие считалось в аристократическом кругу безнадежно дурным тоном. По-видимому, эти качества свойственны как раз тем, кого граф Соллогуб именовал «проходимцами».
СКРОМНОСТЬ — САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ…
«СКРОМНОСТЬ — САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
способ удовлетворить наше тщеславие.»
Честерфилд. Письма к сыну.Подчеркнутое внимание к окружающим, отличавшее поведение светского человека, разумеется, было не в ущерб его заботе о собственном достоинстве, к которому дворяне относились с такой щепетильностью. Но именно чувство собственного достоинства и заставляло их вести себя внешне очень скромно. По обыкновению, это правило хорошего тона имело определенные этические и психологические основания.
«Больше всего и при всех обстоятельствах старайся, если только это окажется возможным, не говорить о себе, — заклинал сына Честерфилд. — Наши природные гордость и тщеславие таковы, что они постоянно вырываются наружу даже у самых выдающихся людей, во всем разнообразии различных видов и форм себялюбия. (…) Но когда по ходу разговора потребуется все же упомянуть о себе, постарайся не проронить ни одного слова, которое можно было бы прямо или косвенно истолковать как напрашивание на похвалу. Какие бы у тебя ни были качества, люди их узнают и все равно никто не поверит тебе на слово.»
Одно из замечаний Пушкина косвенным образом затрагивает тот же вопрос: «Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки. Эгоизм может быть отвратителен, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностию, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности.»
Не ограничиваясь внушением общего характера, Честерфилд в развитие этой мысли дает сыну ряд конкретных советов, которые, может статься, не утратили своей актуальности и поныне.
— Никогда не старайся показаться умнее или ученее, чем люди, в обществе которых ты находишься. Носи свою ученость, как носят часы, — во внутреннем кармане. (…) Если тебя спросят «который час?» — ответь, но не возвещай время ежечасно и когда тебя никто не спрашивает, ты ведь не ночной сторож.
— Говори часто, но никогда не говори долго — пусть даже сказанное тобою не понравится, ты по крайней мере не утомишь своих слушателей.
— Прибегай пореже к рассказам и рассказывай разные истории только тогда, когда они к месту и очень коротки.
— Никогда не бери никого за пуговицу или за руку для того, чтобы тебя выслушали, ибо если человек не склонен тебя слушать, лучше не придерживать его, а вместо этого придержать свой язык.
— Ни в коем случае не напускай на себя загадочность и таинственность: это делаем человека не только неприятным, но и очень подозрительным.
— Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в душе ты убежден в своей правоте и твердо знаешь, что иначе и быть не может, — выскажи его скромно и спокойно, ибо это единственный способ убедить.
— Нельзя начинать с глупого предисловия, вроде: «Сейчас я расскажу вам замечательную историю» или «Я расскажу вам нечто необыкновенно интересное». Когда надежды слушателей ни в коей мере не сбываются, неудачливый рассказчик «замечательной истории» оказывается в дурацком положении, которое он вполне заслужил.
— Выражай свои взгляды не слишком уверенно, а к чужим отнесись уважительно; говори, например, «я считал бы», «не будет ли это скорее так?» Не соглашаясь с кем-либо, прибегай к смягчающим выражениям: «может быть, я неправ», «я не уверен, но мне кажется», «я склонен думать, что» и т. п.
«Это отнюдь не означает, — пишет Честерфилд, — что я собираюсь рекомендовать тебе le fade douceux [Приторность (франц.)] нудную мягкость обходительных дураков. Нет, умей отстаивать свое мнение, возражай против мнений других, если они неверны, но чтобы вид твой, манеры, выражения, тон были мягки и учтивы и чтобы это делалось само собой, естественно, а не нарочно.»
Призывая сына держаться в любом обществе как можно более скромно, Честерфилд убеждает юношу «Подлинное достоинство, какого бы рода оно ни было (…) непременно обнаружится, и ничем нельзя его так умалить, как начав им кичиться.» Но, разумеется, не надо думать, что все так просто: выполняй все эти рекомендации и жди, что тебе непременно воздадут должное. Умение поставить себя в обществе заключается и в более тонких, с трудом определяемых оттенках поведения.
Прекрасно понимая это, Честерфилд замечал: «Свет бывает очень покладист и очень легко поддается обману, соглашаясь на ту цену, какую человек сам себе назначает, если только тот не слишком нагл и заносчив и не запрашивает сверх меры. Все зависит от того, как он просит.»
МЫ ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОДПИСЫВАЕМСЯ…
«МЫ ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОДПИСЫВАЕМСЯ
покорнейшими слугами, и, кажется,
никто из этого еще не заключал,
чтобы мы просились в камердинеры.»
А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург.«Не может быть такого случая,
чтобы человеку благородному
пристало прибегать к le tonистало прибегать к le tonистало прибегать к le tonистало прибегать к le ton brusque» (грубости — франц.)rusque» (грубости — франц.)rusque» (грубости — франц.)rusque» (грубости — франц.)
Честерфилд. Письма к сыну.«Ради всего святого, Пелэм, — гони! — вскричал Глэнвил. — Избавь меня от этого гнусного плебея! Торнтон уже перешел аллею и направился к нам; я приветливо помахал ему рукой (я никогда ни с кем не бываю груб) и быстро выехал через другие ворота, сделав вид, будто не заметил, что он хочет поговорить с нами.»
В этом эпизоде из романа Бульвера-Литтона его герой в очередной раз продемонстрировал свое умение выходить из любых положений, не изменив требованиям этикета. Пушкин, рассуждая о пользе придворного этикета, сравнивал его с законом, определяющим обязанности, которые следует выполнять, и границы, которые нельзя преступать. «Где нет этикета, — писал он, — там придворные в поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Нехорошо прослыть невежею; неприятно казаться и подслужливым выскочкою.» Это рассуждение правомерно распространить и на этикет светского общества вообще. В самом деле, точное знание, как и в каком случае следует поступить, избавляет человека от опасности оказаться в неловком положении, быть неправильно понятым. В правилах этикета есть значительная мера чистой условности, в которой странно было бы искать реальное содержание, что иронически подчеркивает Пушкин. Об этом же неоднократно писал сыну Честерфилд, объясняя юноше, что нет решительно ничего зазорного в том, чтобы уметь говорить с разными людьми по-разному, скрывать истинные чувства и с изысканной любезностью беседовать со своим врагом. «Держать себя так человек может, больше того, должен, и тут нет никакой фальши, никакого предательства: ведь это все касается только вежливости и манер и не доходит до притворных излияний чувств и заверений в дружбе. Хорошие манеры в отношениях с человеком, которого не любишь, не большая погрешность против правды, чем слова «ваш покорный слуга» под картелем.»
Готовясь к жизни в свете, дворянский ребенок должен был приучаться выражать любые чувства в сдержанной и корректной форме. Сергей Львович Толстой вспоминал, что самыми серьезными проступками детей в глазах их отца были «ложь и грубость», независимо от того, по отношению к кому они допускались — к матери, воспитателям или прислуге. Столь же недопустимой Толстой считал и грубую фамильярность в отношениях между друзьями, «амикошонство» (т. е. свинская дружба, дружба свиней). «Есть приятели, — объяснял он детям, — которые хлопают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты, мой любезный!» или «Ах ты, милая моя каналья!»
При выяснении отношений в свете допустимы были выражения резкие и по существу оскорбительные; однако по форме они должны были быть безукоризненно вежливыми. Это требовало особого искусства владения языком, знания всех принятых клише светской речи, обязательных вежливых формул. Сам французский язык, в России являвшийся языком общения в высшем свете, помимо прочих функций выполнял и этикетную; придавая беседе — даже предельно острой — изящную форму.
Примером может послужить выпад графа Ю.П. Литты против графа С.С. Уварова, адресата сатирической оды Пушкина «На выздоровление Лукулла». Уваров проявлял непристойное нетерпение, ожидая смерти тяжело заболевшего богача, графа Д. Н. Шереметева, чьим наследником он был. Когда в разговоре о Шереметеве в Кабинете министров кто-то заметил: «qu'il avait la fievre scarlatine» [У него скарлатинная лихорадка (франц.)], Литта, повернувшись к Уварову, громко сказал: «Et vous, vous avez la fievre de l'attente» [А у вас, у вас лихорадка ожидания (франц.)].
Выражения гоголевских дам, типа «обошлась посредством платка», представляют собой неуклюжие попытки имитировать язык высшего общества, богатый эвфемистическими выражениями, но не терпящий жеманства. Светскую речь, как и манеру общения в целом, часто упрекали в лицемерии. (В принципе можно представить себе человека, предпочитающего, чтобы ему искренне и откровенно нахамили, нежели произнесли вежливые слова, за которыми нет подлинного расположения; но этот психологический тип — предмет совсем другого разговора). Как правило, подобные упреки были вызваны либо непониманием условного характера этикета, либо реакцией на чье-то недостойное поведение, прикрываемое внешней любезностью. Однако использование своих знаний и умений, какого бы рода они ни были, всегда остается на совести конкретных лиц. Фальшивыми и лицемерными могут быть люди, но не вежливые обороты речи. Стремление же сознательно и демонстративно нарушать правила этикета обнаруживает в человеке ту черту, которую сегодня мы назвали бы комплексом неполноценности, а Пушкин называл «холопством» или «лакейством». В своей рецензии на книгу Н. Павлова Пушкин отметил в его повести «Именины» одно место, где, с его точки зрения, «чувство истины увлекло автора даже противу его воли.» «<…> несмотря на то, — пишет Пушкин, — что выслужившийся офицер видимо герой и любимец его воображения, автор дал ему черты, обнаруживающие холопа:
«Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть — это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом?»
Честерфилд, обучая своего сына искусству общения, настойчиво предостерегал его от того, чтобы использовать это искусство в дурных целях. По его словам, хорошие манеры — «это необходимые хранители пристойности и спокойствия общества; они должны служить только для защиты, и в руках у них не должно быть отравленного коварством оружия».
В ГОСТИНОЙ СВЕТСКОЙ…
«В ГОСТИНОЙ СВЕТСКОЙ и
свободной
Был принят тон простонародный.»
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.Тон «хорошего общества», при всем его внимании к этикету и строгими требованиями к искусству беседы, вовсе не отличался чопорностью и ханжеством. Напротив, эти качества проявляли те добровольные «опекуны высшего общества», которые никогда в нем не бывали, и потому подделывались «под светский тон так же удачно, как горничные и камердинеры пересказывают разговоры своих господ.» (Это выражения Пушкина, которые он употреблял в ходе своей затяжной полемики с демократическими журналистами, обвинявшими поэта и его единомышленников в «аристократизме».)
В романе Бульвера-Литтона мать героя, леди Пелэм, рассуждает: «Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, нежели они сами. Я сильно опасаюсь, что мы во всем совершенно похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественнее. Ведь чем выше положение человека, тем менее он претенциозен, потому что претенциозность тут ни к чему.» В другом месте сам Пелэм продолжает ту же тему: «Умный писатель, желающий изобразить высший свет, должен следовать одному лишь обязательному правилу. Оно заключается в следующем: пусть он примет во внимание, что герцоги, лорды и высокородные принцы едят, пьют, разговаривают, ходят совершенно так же, как прочие люди из других классов цивилизованного общества, более того, — и предметы разговора большей частью совершенно те же, что в других общественных кругах. Только, может быть, мы говорим обо всем даже более просто и непринужденно, чем люди низших классов, воображающие, что чем выше человек по положению, тем напыщеннее он держится…»
То же самое утверждал и Пушкин: «Почему им знать, что в лучшем обществе жеманство и напыщенность еще нестерпимее, чем простонародность (vulgarite) и что оно-то именно и обличает незнание света?» Пушкин употреблял слова «аристократический» и «простой» как синонимы. Наставляя молодую жену, он, полушутя, грозит: «Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя.»
В «Детстве» Л.Н. Толстого Николенька Иртеньев, сам выросший в культурной дворянской семье, говоря о князе Иване Ивановиче, «человеке очень большого света», замечает: «Свобода и простота его движений поразили меня.» Простота, безыскуственность в манерах, стиле поведения истинных аристократов отмечалась едва ли не всеми писателями и мемуаристами, затрагивавшими эту тему.
Выражение «простонародный», которое употребляет Пушкин применительно к тону, принятому в светской гостиной, нуждается в пояснении. Прежде всего, имелась в виду разговорная речь. Защищаясь против нелепых обвинений в «литературном аристократизме», Пушкин писал: «Не они (т. е. не «аристократы» — О. М.) гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием. (…) Не они поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т. п.» В другом месте он иронически вопрошал: «Почему им знать, что откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы только общую невольную улыбку?»
Историки (в частности, Е. Курчанов) обращают внимание на то, что в России в дворянский салонный быт, при всей его ориентированности на европейский стиль поведения, проникали народные, фольклорные традиции дурачества и гаерства. Так, например, в облике и поведении рафинированного аристократа и блестящего вельможи графа Ф. В. Ростопчина явственно проглядывали черты шута и балагура. Любовь к шутке, резко нарушающей строгость этикета своей подчеркнутой простодушностью, — характерная черта русского дворянского быта. Вспомним известный анекдот об И. А. Крылове. «Однажды приглашен он был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда. «Да откажись хоть раз, Иван Андреевич, — шепнул ему Жуковский, — дай императрице возможность попотчевать тебя». — «Ну а как не попотчует! — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку».
Принятый в свете стиль разговорной речи решительно исключал грубость в смысле хамства, но вполне допускал грубоватые простонародные выражения. (Письма Пушкина к жене, несомненно проникнутые любовью и заботой, порой шокируют неподготовленного читателя подобными выражениями, легко сочетающимися с самыми изысканными комплиментами.) В дворянской среде, включая и великосветские круги, в разговорной речи широко использовались народные пословицы и поговорки с их энергичными, но не всегда изящными оборотами. Честерфилд в своих письмах к сыну строго предостерегает юношу от использования в речи пословиц и поговорок, считая это дурным тоном. Видимо, в этом отношении русские аристократы отличались от английских и, смеем сказать, отличались в лучшую сторону.
Тот оттенок в поведении русских аристократов, который Пушкин с известным эпатажем называет «простонародным», проявлялся не только в их речи, но и гораздо шире — в стиле их отношений с простым народом. Эти отношения отличались такой естественностью и непринужденностью, что это обращало на себя внимание современников из недворянской среды. Очень показательны в этом смысле воспоминания Н. А. Белоголового, в детстве наблюдавшего за жизнью ссыльных декабристов. Особенное впечатление произвел на него князь С. Г. Волконский: «Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки.» В салоне же своей жены князь Волконский, блестяще образованный и в совершенстве говорящий по-французски, выглядел истинно светским человеком, хотя и мог появиться там, «надушенный ароматами скотного двора.» Охотно беседовал князь и с детьми, с которыми был «всегда мил и ласков.»
Обратим внимание, что у Пушкина хозяйкой «светской и свободной» гостиной, образцом безупречного вкуса и хорошего тона становится Татьяна Ларина, — «русская душою», с ее любовью к природе, к своей деревенской няне, ко всем обычаям и преданьям «простонародной старины».
Проявлениям стихийной, органической близости дворян к народной, национальной жизни радостно удивлялся Лев Толстой, любовно подчеркивая это в своих героях.
«Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.
Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.
Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелке и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.» («Война и мир»)
Ю. М. Лотман справедливо называл эту способность без наигрыша, естественно быть «своим» и в светском салоне и с крестьянами на базаре одним из «вершинных проявлений русской культуры». Вершинные проявления, конечно, не могут быть массовыми. Проблемой представляется не то, что таких людей было немного, но то, почему они вообще были возможны, и какие особенности российской жизни они в себе воплощали.
У русского дворянства никогда не было тех проблем в общении с простым народом, которые со всей остротой вставали перед разночинной интеллигенцией, искренне желающей этот народ осчастливить. В отличие от разночинцев дворяне народ очень хорошо знали — они среди него жили. Подавляющее большинство даже тех дворянских семей, которые постоянно жили в Москве или Петербурге, проводило по несколько месяцев в году в деревне, в своих поместьях. Помещики, за немногими исключениями, волей-неволей должны были хоть как-то разбираться в сельском хозяйстве и крестьянской жизни. Военные, естественно, постоянно общались со своими солдатами, в сущности, теми же крестьянами. Наконец, у каждого дворянского ребенка была своя деревенская няня, которую, как правило, он очень любил. Часто няни жили потом в семьях своих уже взрослых питомцев, и взаимная нежная привязанность сохранялась на всю жизнь. Пушкин и Арина Родионовна — отнюдь не исключение, а просто наиболее известный пример. Для верующих людей огромное значение имела общая с народом религия. Но и на тех, кто был равнодушен к религии, оказывали какое-то влияние церковные праздники, соблюдение обрядов, в которых вместе, как бы на равных принимали участие и помещики, и крестьяне. Сам патриархальный семейный быт дворянской, в особенности провинциальной, семьи перекликался с патриархальными традициями крестьянской жизни.
(Отношение к народу дворянства и интеллигенции в России в чем-то напоминает отношение к американским неграм белых южан и северян, известное нам по «Хижине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и «Унесенным ветром» М. Митчел. Как известно, горячие поборники освобождения негров порой решительно не умели с ними обращаться и брезговали дотронуться пальцем до их черной кожи. В свою очередь, были гуманные плантаторы, которые неграми, правда, владели, но относились к ним с большой симпатией, а некоторых своих слуг просто очень любили.)
В отдельных дворянских семьях уважение к крестьянам и крестьянскому труду особо подчеркивалось и сознательно прививалось детям. Подобные примеры мы встречаем в разные эпохи русской жизни, в разной по своим идеологическим воззрениям среде. Сергей Аксаков в детстве считал за счастье поехать вместе с отцом в поле, понаблюдать за работой крестьян. Лев Толстой, и задолго до увлечения теорией опрощения, внушал своим детям особенное уважение к крестьянам, которых неизменно называл «кормильцами». Сыновья великого князя Константина (К. Р.) летом сами участвовали в крестьянских работах: косили, жали хлеб, ухаживали за скотом.
Разумеется, отношения дворянства и крестьянства в России ни в коем случае нельзя изображать идиллией. Дворяне прекрасно видели вопиющее социальное неравенство и с ним, в общем, мирились. Но здесь было другое: осознание общности исторической и национальной судьбы, — чувство, быть может, более глубокое и надежное, чем пресловутая классовая солидарность.
ДВОРЯНЕ — ВСЕ РОДНЯ ДРУГ ДРУГУ
А. А. Блок. Возмездие.
«Поглядишь на теперешних отцов,
и кажется, что не так уж плохо быть сиротой,
а поглядишь на сыновей, так кажется,
что не так уж плохо оставаться бездетным.»
Честерфилд. Письма к сыну.И нравственные нормы, и правила хорошего тона, естественно, усваивались дворянскими детьми прежде всего в семейном кругу. При этом мы должны иметь в виду, что дворянская семья объединяла гораздо более широкий круг людей, нежели современная семья. Не принято было ограничивать число детей; их, как правило, бывало много, самого разного возраста («от двадцати до двух годов», — как насмешливо заметил Пушкин, описывая гостей на именинах у Лариных). Соответственно было много дядей, и тетей, и вовсе бесконечное количество двоюродных и троюродных братьев и сестер. Но эти и сами по себе огромные семьи не ограничивались отношениями лишь с близкими родственниками. Понятие «родни» включало в себя людей, связанных столь отдаленными родственными узами, что современному человеку они, пожалуй, не показались бы даже поводом для знакомства.
Характерный пример традиционного дворянского отношения к родне приводит В. А. Соллогуб, вспоминая об Екатерине Александровне Архаровой. Бывало, к ней являлся с просьбой какой-нибудь помещик из захолустья, которого она видела впервые в жизни. Гостя встречали словами: «Чем, батюшка, могу услужить? Мы с тобой не чужие. Твой дед был внучатым моему покойному Ивану Петровичу по первой его жене. Стало быть, свои.» Часто такой визитер обращался к Архаровой с просьбой пристроить детей в какое-нибудь учебное заведение и присмотреть за ними, на что она охотно соглашалась. «И на другой день помещик приезжал с детками, и через несколько дней деток уже звали Сашей, Катей, Дуней и журили их, если они тыкали себе пальцы в нос, и похваливали их умницами, если они вели себя добропорядочно. Затем они рассовывались по разным воспитательным заведениям и помещик уезжал восвояси, благодарный и твердо уверенный, что Архарова не морочила его пустыми словами и светскими любезностями и что она действительно будет наблюдать за его детьми.» Так оно и было; дети неукоснительно являлись к старухе по воскресеньям и праздникам, сама Архарова регулярно наносила визиты в учебные заведения, где обучались ее подшефные и расспрашивала начальников об их успехах и поведении. Отличившихся она хвалила, виновным делала выговоры; таким образом и вдали от родителей дети находились под опекой и присмотром.
Многочисленные родственники вообще могли довольно активно вмешиваться в воспитание детей; представления о том, что оно является исключительной прерогативой отца и матери, тогда, кажется, не существовало. Правда, и родители в те времена уделяли детям не столь уж много внимания. По воспоминаниям Н.В. Давыдова, «дети тогда, по-видимому не менее любимые родителями, чем теперь (…) не составляли безусловно преобладающего элемента в жизни семьи. (…) Особой диете их не подвергали, да и самоё дело воспитания в значительной степени предоставляли наставникам и наставницам, следя лишь за общим ходом его, а непосредственно вмешиваясь в детскую жизнь лишь в сравнительно экстренных случаях.» Аналогичные свидетельства дошли до нас и в мемуарах В. А. Соллогуба. «Жизнь наша шла отдельно от жизни родителей. Нас водили здороваться и прощаться, благодарить за обед, причем мы целовали руки родителей, держались почтительно и никогда не смели говорить «ты» ни отцу, ни матери [Со временем отношения детей и родителей в дворянских семьях становились проще. М.В. Добужинский, детство которого пришлось на последнюю треть XIX века, обращал внимание на то, что его отец и все дяди и тети говорили «Вы» дедушке и целовали ему руку. В то же время он сам уже обращался к отцу на «ты», и тот со смехом отдергивал руку, когда мальчик в шутку пытался ее поцеловать.].
В то время любви к детям не пересаливали. Они держались в духе подобострастия, чуть ли не крепостного права, и чувствовали, что они созданы для родителей, а не родители для них.» Соллогуб добавляет: «Я видел впоследствии другую систему, при которой дети считали себя владыками в доме, а в родителях своих видели не только товарищей, но чуть ли не подчиненных, иногда даже и слуг. Такому сумасбродству послужило поводом воспитание в Англии. Но так как русский размах всегда шагает через край, то и тут нужная заботливость перешла к беспредельному баловству.» Эта «другая система» возмущала толстовского героя, эгоистичного Стиву Облонского, который замечал, что в Петербурге «не было этого, распространяющегося в Москве (…) дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы.»
Разумеется, нельзя подводить под один шаблон все дворянские семьи, отношения внутри каждой из них определялись, естественно, личными качествами ее членов. Но все же во всем многообразии дворянского семейного быта просматриваются некоторые общие черты.
С одной стороны, воспитание ребенка совершенно беспорядочно: няни, гувернеры, родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, близкие и дальние родственники, постоянные друзья дома — все воспитывают его по своему усмотрению и по мере желания. С другой стороны, он вынужден подчиняться единым и достаточно жестким правилам поведения, которым, сознательно или неосознанно, учат его все понемногу. Такая ситуация могла сложиться лишь внутри сословного и традиционного общества. Беспорядочность различных влияний на ребенка нейтрализовалась, во-первых, принадлежностью всех «воспитателей» к одному и тому же кругу общества, придерживающемуся одной культурной традиции; во-вторых, заметной патриархальностью быта, тяготеющего к воспроизводству в каждом следующем поколении прежней, опробованной системы отношений.
Не случайно, отношения «отцов» и «детей» так резко и болезненно обострились в 1860 — 70-х годах, когда весь прошлый уклад жизни был подвергнут критике и пересмотру. «Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми, — вспоминала Софья Ковалевская. — О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей — отречься от детей.»
Насколько мы можем судить по мемуарам и художественной литературе, дворянство все же сумело сохранить значительную часть своих семейных традиций вплоть до последних лет существования царской России. Однако в наиболее чистом, классическом виде представлены они в конце XVIII — первой половине XIX веков.
Т.П. Пассек в своих воспоминаниях рассказывает забавную историю из жизни кашинского помещика И.И. Кучина. Когда у родителей гостил их сын Александр, конно-артиллерийский офицер, имевший знаки отличия, он часто посещал знакомых, пользуясь экипажем и лошадьми отца. При этом он любил ездить очень быстро, загоняя лошадей до изнеможения. Отец несколько раз делал ему замечание и просил беречь лошадей. Однажды Александр засиделся в гостях за полночь и прискакал домой во весь опор. Отец встретил его во дворе, взглянул на измученных лошадей и покачал головой. Затем он вошел вслед за сыном к нему в комнату и велел ему снять кресты и мундир. Сын в изумлении просил объяснить столь странное требование, но отец настаивал. Когда Александр снял мундир, старик сказал: «Пока на тебе жалованные царем кресты и мундир, я уважаю в тебе слугу царского, когда же ты их снял, то вижу только своего сына и нахожу долгом проучить розгами за неуважение к словам отца.
— Помилуйте, батюшка, — завопил молодой человек, — ведь это ни на что не похоже — сечь как ребенка. Я виноват и прошу вас простить меня.
— Ну, брат, — возразил старик, — если не считаешь долгом исполнить волю мою, ты мне не сын, я тебе не отец. Кто не чтит родителей, тот не будет чтить ни Бога, ни царя и не будет признавать никакого нравственного долга. Теперь как знаешь: или я тебя высеку, или мы навсегда чужие друг другу.»
Кончилось тем, что Александр покорно лег на пол, старик разок стегнул его веником, расплакался и помирился с сыном.
Конечно, подобные случаи и в начале XIX века воспринимались как курьез. Но этот эпизод интересен для нас потому, что старик Кучин наивно и бескомпромиссно следовал принципам взаимоотношений в семье, которые признавались, в общем, всеми, хотя и не доводились до абсурда.
Послушание родителям, почитание старших выступали в качестве одного из основополагающих элементов патриархального иерархического общества. Согласно русской самодержавной мифологии царь являлся «отцом» своих подданных, что устанавливало аналогию между отношениями в семье и в государстве в целом. В почитающей традиции дворянской семье авторитет отца был безусловным и не подлежащим обсуждению.
«— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.
Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.
— Мне?.. Мне?!. Мне тяжело?! — сказала она.
— Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.
— Ты всем хорош, Andre, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве можно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме veneration [Обожания (франц.)], может возбудить такой человек, как mon реге? [Мой отец (франц.)]»
Эта сцена из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» в чем-то перекликается с эпизодом из его повести «Юность», где взрослые дети обсуждают предстоящую женитьбу своего отца, овдовевшего несколько лет назад.
Старший брат Володя говорил о будущей мачехе зло и язвительно, и Николеньке казалось, что брат прав, хотя ему. и странно было слышать, что «Володя так спокойно судит о выборе папа.»
«В это время к нам подошла Любочка.
— Так вы знаете? — спросила она с радостным лицом.
— Да, — сказал Володя, — только я удивляюсь, Любочка: ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни?
Любочка вдруг сделала серьезное лицо и задумалась.
— Володя! отчего же дряни? как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так, стало быть, она не дрянь.
— Да, не дрянь, я так сказал, но все-таки…
— Нечего «но все-таки», — перебила Любочка разгорячившись, — я не говорила, что дрянь эта барышня, в которую ты влюблен; как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты мне не говори, ты не должен говорить.
— Да отчего же нельзя рассуждать про…
— Нельзя рассуждать, — опять перебила Любочка, — нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.»
Характерно, что традиционный тип отношений отстаивают именно женщины, более консервативные, прочнее связанные семейными узами. Сыновья более своевольны и независимы, они позволяют себе как бы проверять на прочность сложившиеся стереотипы поведения. Однако, как известно, тридцатилетний князь Андрей не осмелится ослушаться отца, приказавшего отложить на год его свадьбу с Наташей Ростовой; а мальчики Иртеньевы будут учтивы и почтительны с нелюбимой мачехой. Открытое, демонстративное неподчинение воле родителей в дворянском обществе воспринималось как скандал. Даже если приведенные примеры реально не являлись общей нормой поведения, они помогают нам, уяснить, что вкладывалось в понятие нормы. Заметим, что эта норма делала запретным открытое проявление неуважения к родителям даже при отсутствии у детей истинной привязанности к ним. Пушкин, например, имел основания для критического отношения к своим родителям и никогда не был к ним по-настоящему близок. При этом он пожаловался на несправедливость отца, кажется, только один раз, в письме к Жуковскому; ни одного плохого слова или поступка по отношению к родителям он не допустил. Помимо личных нравственных качеств здесь, видимо, сыграло свою роль и твердое представление о том, что иное поведение было бы недопустимо и просто неприлично.
Принятые в обществе поведенческие стереотипы оказывали заметное влияние на поведение конкретных людей, порой заставляя их идти наперекор своей натуре. С.В. Ковалевская в «Воспоминаниях детства» пишет: «В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.»
В результате генералу В.В. Крюковскому, человеку по натуре, видимо, мягкому и ласковому, удавалось успешно играть роль «сурового отца»: самым тяжким наказанием для его дочери было приказание пойти к отцу и самой рассказать ему о своей провинности.
Насколько оправданным было такое поведение отца — особый вопрос. Искать на него ответ допустимо лишь в пределах системы ценностей дворянского общества. Отношение к детям в дворянской семье с сегодняшних позиций может показаться излишне строгим, даже жестким. Но эту строгость не нужно принимать за недостаток любви. Высокий уровень требовательности к дворянскому ребенку определялся тем, что его воспитание было строго ориентировано на норму, зафиксированную в традиции, в дворянском кодексе чести, в правилах хорошего тона.
Хотя многие дети учились дома, день их был строго расписан, с неизменно ранним подъемом, уроками и разнообразными занятиями. За соблюдением порядка неотступно следили гувернеры. «Родители не жалели денег и устроили нам целую гимназию, — вспоминал К.С. Станиславский. — С раннего утра и до позднего вечера один учитель сменял другого; в перерывах между классами умственная работа сменялась уроками фехтования, танцев, катанья на коньках и с гор, прогулками и разными физическими упражнениями.»
Завтраки, обеды и ужины проходили в кругу всей семьи, всегда в определенные часы. Н. В. Давыдов вспоминает: «Хорошие манеры были обязательны; нарушение этикета, правил вежливости, внешнего почета к старшим не допускалось и наказывалось строго. Дети и подростки никогда не опаздывали к завтраку и обеду, за столом сидели смирно и корректно, не смея громко разговаривать и отказываться от какого-нибудь блюда. Это, впрочем, нисколько не мешало процветанию шалостей, вроде тайной перестрелки хлебными шариками, толчков ногами и т.п.»
«— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташе, — а вот не спросишь!
— Спрошу, — отвечала Наташа.
Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери.
— Мама! — прозвучал по всему столу ее детски-грудной голос.
— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
Разговор притих.
— Мама! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
— Казак! — проговорила она с угрозой. Большинство гостей смотрело на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
— Вот я тебя! — сказала графиня.
— Мама! что пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.»
Собственно, что предосудительного было в этой «выходке» двенадцатилетней Наташи?
У себя дома, на собственных именинах она встала во время обеда и спросила у мамы: что будет на сладкое? Однако ее поступок считается неслыханной дерзостью, и только положение общей любимицы спасает девочку от наказания. Подчеркнем, что это происходит в доброй либеральной семье Ростовых, где детей обожают и балуют.
Еще один характерный пример, на этот раз из повести Л. Н. Толстого «Детство».
«Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке.»
В этом случае даже гостей за столом нет, только мать и отец. Тем не менее, столь скромная просьба требует от старшего брата немалой смелости: проявлять подобную инициативу детям не следовало, они просто подчинялись родительскому решению.
За сколько-нибудь серьезные проступки детей строго наказывали. «Во многих вполне почтенных семьях розга применялась к детям младшего возраста, — вспоминает Н. В. Давыдов, — а затем была в ходу вся лестница обычных наказаний: без сладкого, без прогулки, ставление в угол и на колени, устранение от общей игры и т. п.» Но при этом он добавляет: «Если попадались хорошие наставники (что было нередко), то детям жилось, несмотря на воспрещение шуметь при старших, вмешиваться в их разговоры и приучение к порядку и хорошим манерам, легко и весело.»
В самом деле, обратившись к мемуарам и к русской классической литературе, нетрудно убедиться, что, за редкими исключениями, семейный дом для дворянского ребенка — это обитель счастья, с ним связаны самые лучшие воспоминания, самые теплые чувства. Не случайно, для того, чтобы обозначить строгость предъявлявшихся к детям требований, приходится специально сфокусировать на ней внимание; авторы романов и воспоминаний, как правило, не придают этому значения. Видимо, если строгость не воспринимается как произвол и насилие, она переносится очень легко и приносит свои плоды.
В «Детстве Темы» Гарина-Михайловского наглядно представлена борьба двух подходов к воспитанию ребенка. И мать, и отец в воспитании сына ориентируются, в общем, на один и тот же традиционный идеал. Но отец действует грубо прямолинейно, порой жестоко, а мать добивается своего деликатно и осторожно, щадя самолюбие ребенка. Наверное, именно так умел обращаться со своим сыном Честерфилд. «…мне придется не раз выговаривать тебе, исправлять твои ошибки, давать советы, — писал он, — но обещаю тебе, все это будет делаться учтиво, по-дружески и в тайне от всех; замечания мои никогда не поставят тебя в неудобное положение в обществе и не испортят тебе настроения, когда мы будем вдвоем.»
Не стоит и говорить, что общие принципы воспитания давали прекрасные результаты в тех семьях, где ими руководствовались люди, обладавшие высокой культурой и человеческой незаурядностью. Один из таких примеров — семья Бестужевых. Михаил Бестужев, вспоминая удивительную атмосферу, царившую в их доме, избранный круг посещавших его людей, пишет: «… прибавьте нежную к нам любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного, — тогда можно будет составить некоторое понятие о последующем складе ума и сердца нашего семейства…»
Старший из пяти братьев Бестужевых, Николай, человек редких душевных качеств, был у родителей любимцем. «Но эта горячая любовь, — вспоминал он впоследствии, — не ослепила отца до той степени, чтобы повредить мне баловством и потворством. В отце я увидел друга, но друга, строго поверяющего мои поступки. Я и теперь не могу дать себе полного отчета, какими путями он довел меня до таких близких отношений. Я чувствовал себя под властью любви, уважения к отцу, без страха, без боязни непокорности, с полною свободой в мыслях и действиях, и вместе с тем, под обаянием такой непреклонной логики здравого смысла, столь положительно точной, как военная команда, так что если бы отец скомандовал мне: «направо», я бы не простил себе, если бы ошибся на пол-дюйма.»
В доказательство «всесильного влияния этой дружбы» Николай приводит следующий случай. Став кадетом морского корпуса, мальчик быстро сообразил, что тесные связи его отца с его начальниками дают возможность пренебрегать общими правилами. Постепенно Николай запустил занятия до такой степени, что скрывать это от отца стало невозможным. «Вместо упреков и наказаний, он мне просто сказал: «Ты недостоин моей дружбы, я от тебя отступлюсь — живи сам собой, как знаешь.» Эти простые слова, сказанные без гнева, спокойно, но твердо, так на меня подействовали, что я совсем переродился: стал во всех классах Первым…»
Сын Льва Толстого Сергей вспоминал: «Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т.п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. (…) Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.»
«Родители вели нас так, что не только не наказывали, даже и не бранили, но воля их всегда была для нас священна, — вспоминала дочь Н.С. Мордвинова. — Отец наш не любил, чтоб дети ссорились и, когда услышит между нами какой-нибудь спор, то, не отвлекаясь от своего занятия, скажет только: «Le plus sage-sede» [Самый умный — уступает, (франц.)], — и у нас все умолкнет.»
К. С. Станиславский на всю жизнь запомнил характерный эпизод из своего раннего детства. В ответ на замечание, сделанное ему отцом, мальчик, сконфузившись и рассердившись, начал твердить бессмысленную угрозу: «А я тебя к тете Вере не пущу!» Отец сначала недоумевал, потом сердился, требовал, чтобы сын замолчал, наконец, против своего обыкновения, прикрикнул — все тщетно. Ребенок, что называется, разошелся и с ужасом чувствуя, что его словно подчинила себе какая-то злая сила, с тупым упрямством повторял глупую фразу.
«Костя, подумай, что ты делаешь!» — воскликнул отец, бросая на стол газету.
Внутри меня вспыхнуло недоброе чувство, которое заставило меня швырнуть салфетку и заорать во все горло:
«А я тебя к тете Вере не пущу!»
«По крайней мере так скорее кончится», — подумал я. Отец вспыхнул, губы его задрожали, но тотчас же он сдержался и быстро вышел из комнаты, бросив страшную фразу: «Ты не мой сын»..
Как только я остался один, победителем, с меня сразу соскочила вся дурь.
«Папа, прости, я не буду!» — кричал я ему вслед, обливаясь слезами. Но отец был далеко и не слышал моего раскаянья.»
Такое впечатление, что и Н.А. Бестужев, и Л.Н. Толстой и Н.С. Мордвинов, и С.В. Алексеев в воспитании детей руководствуются теми принципами, которые проповедовал В.А. Жуковский. Воспитатель наследника позволял себе давать советы и его царственным родителям. В частности, он стремился внушить им, что мысль об отце должна быть «тайной совестью» мальчика. Одобрение и наказание должны быть очень редкими, ибо одобрение — величайшая награда, а неодобрение — самое тяжкое наказание. Гнев отца — должен быть для мальчика потрясением, случаем, запоминающимся на всю жизнь; поэтому ни в коем случае нельзя обрушивать на ребенка гнев по несущественным поводам.
Эти примеры никак не подходят под рубрику «типичный случай». Но вне определенной культурной традиции, в другой этической атмосфере подобные отношения были бы невозможны (или, во всяком случае, трудно осуществимы) даже при тех же самых личных качествах отцов и детей.
Скептический афоризм Честерфилда, вынесенный нами в эпиграф этой главы, свидетельствует, что и XVIII веке идеальные семьи встречались крайне редко. Но у нас идет речь не столько о том, как часто идеал осуществлялся, сколько о том, в чем он состоял. Поэтому будет уместно еще раз обратиться к Честерфилду, который со свойственной ему точностью сформулировал принцип отношения к детям, принятый в культурных дворянских семьях: «У меня не было к тебе глупого женского обожания: вместо того, чтобы навязывать тебе мою любовь, я всемерно старался сделать так, чтобы ты заслужил ее.»
«СОММЕ IL FAUT» OU «JE NE SAIS QUOI»
«Как надо» или «Я не знаю, что» (франц.)
… Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut… (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)
А. С. Пушкин. (Евгений Онегин)Шутливая апелляция Пушкина к Шишкову, боровшемуся против использования иностранных слов и выражений, подчеркивает специфический смысл выражения comme il faut. Дословный его перевод: «как надо», но он не передает содержания того понятия, которое обозначалось этой идиомой. «Верный снимок du comme il faut» — это образец прекрасного воспитания, безукоризненных манер, безупречного вкуса. Можно выделить необходимые приметы, отдельные признаки этих качеств, но невозможно определить общее впечатление, которое производили на окружающих люди, в полной мере ими обладающие.
Честерфилд вместо comme il faut часто употреблял выражение je ne sais quoi (я не знаю, что), признаваясь, что это «каждый чувствует, хоть никто и не может описать». В самом деле, Пушкин, описывая Татьяну, перечисляет, главным образом, те качества, которых в ней не было (не холодна, не говорлива и т. д.) Так же и Лев Толстой описывает m-m Берг: «Она вошла ни поздно, ни рано, ни скоро, ни тихо (…) Каждое движение ее было легко и грациозно и свободно (…) Она пошла вперед, не опустив глаза и не растерянно отыскивая в толпе, а спокойно, твердо и легко…» (Из черновиков романа «Война и мир»)
А вот описание леди Розвил из романа Бульвера-Литтона: «Но более всего в леди Розвил пленяла ее манера держать себя в свете, совершенно отличная от того, как держали себя все другие женщины, и, однако, вы не могли, даже в ничтожнейших мелочах, определить, в чем именно заключается различие, а это, на мой взгляд, самый верный признак утонченной воспитанности. Она восхищает вас, но должна проявляться столь ненавязчиво и неприметно, что вы никак не можете установить непосредственную причину своего восхищения.»
В том же духе рассуждает и Честерфилд: «Я знал немало женщин, хорошо сложенных и красивых, с правильными чертами лица, которые, однако, никому не нравились, тогда как другие, далеко не так хорошо сложенные и не такие красивые, очаровывали каждого, кто их видел. Почему? Да потому, что Венера, когда рядом с нею нет граций, не способна прельстить мужчину так, как в ее отсутствие прельщают те.» (Слово «грации» Честерфилд обычно использует как синоним выражения je ne sais quoi). Видимо, то же самое имеет в виду и Пушкин:
…Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрою Невы; И верно б согласились вы, Что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, Хоть ослепительна была. («Евгений Онегин»)Честерфилд замечал: «Пожалуй, ничто не приобретается с таким трудом и ничто столь не важно, как хорошие манеры…» В тон ему восклицал и Пелэм: «Что за редкостный дар — умение держать себя! Сколь трудно его определить, сколь несравненно труднее к нему приобщиться!» Развить в ребенке такой дар, безусловно, стремились все те, кто рассчитывал ввести своего воспитанника в хорошее общество.
(Уместно будет сделать небольшое отступление относительно пределов возможности любой системы воспитания. Наши герои — люди XVIII–XIX веков — были склонны к просветительскому преувеличению роли образования и воспитания, возлагая на них слишком большие надежды. Не удивительно, что Честерфилд, вложивший столько сил в воспитание своего сына, мечтал, что молодой человек будет близок к совершенству… Увы! Филипп Стенхоп не унаследовал ума и обаяния своего отца и, по свидетельству людей, знавших его взрослым, был человеком благовоспитанным, но совершенно заурядным. Это красноречивый пример того, что ни аристократическое происхождение, ни самое лучшее воспитание не могут заменить природных дарований. Но, с другой стороны, здесь есть и обнадеживающий момент: вовсе не обязательно принадлежать к знатному роду, чтобы с толком воспользоваться мудрыми советами графа Честерфилда.)
Пытаясь определить, что есть истинная воспитанность, Честерфилд сравнивал ее с некоей невидимой линией, переступая которую человек делается нестерпимо церемонным, а не достигая ее — развязным или неловким. Тонкость состоит в том, что воспитанный человек знает, когда следует и пренебречь правилами этикета, чтобы соблюсти хороший тон. Лев Толстой любил напоминать детям известный исторический анекдот о Людовике XIV. Король, желая испытать одного вельможу, славившегося своей учтивостью, предложил ему войти в карету первым. Этикет строго обязывал пропустить короля вперед, но тот человек, не колеблясь, первым сел в карету. «Вот истинно благовоспитанный человек!» — сказал король. Смысл этого рассказа: хорошее воспитание призвано упрощать, а не усложнять отношения между людьми.
Обучить неуловимому comme il faut с помощью каких-то конкретных отработанных приемов, гарантирующих искомый результат, было, естественно, невозможно. Честерфилд писал сыну: «Если ты спросишь меня, как тебе приобрести то, что и ты, и я не способны ни установить, ни определить, то я могу только ответить — наблюдая.»
Очевидно, умение держать себя — из тех умений, что передается только из рук в руки, путем наблюдения и непроизвольного подражания, впитывания в себя атмосферы той среды, где это умение было развито до уровня искусства. Честерфилд деловито советовал сыну: «По вечерам советую тебе бывать в обществе светских дам, они заслуживают твоего внимания, и ты должен им его уделять. В их обществе ты отшлифуешь свои манеры и привыкнешь быть предупредительным и учтивым…» Совершенно в том же духе рассуждал и В. А. Соллогуб: «Если настоящие строки попадутся на глаза молодого человека, вступающего на житейское поприще, да не побрезгует он моим советом всегда остерегаться общества без дам, разумею — порядочных. При них невольно надо держаться осторожно, вежливо, искать изящества и приобретать правильные привычки. Уважением к женщине упрочивается и самоуважение.»
У молодых людей, «вступающих на житейское поприще» в России 1830 — 40-х годов, были широкие возможности последовать таким советам, посещая блестящие салоны, которыми славились обе столицы. Вспоминая об этих салонах, К. Д. Кавелин писал, что, помимо прочего, они были очень важны «именно как школа для начинающих молодых людей: здесь они воспитывались и приготовлялись к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев, юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах.» Кавелин писал эти строки в 1887 году и горестно добавлял: «Теперь не слышно более о таких салонах, и оттого теперь молодым людям гораздо труднее воспитываться к интеллигентной жизни….»
(Здесь не место вдаваться в анализ причин, по которым такие кружки и салоны с трудом укоренялись в русской жизни. Но очевидно, что размышления Кавелина нельзя относить лишь на счет обычной элегической тоски по дням своей молодости. Последующие сто с лишним лет убедительно демонстрируют, что «воспитываться к интеллигентной жизни» становилось в России все труднее и труднее.
То неуловимое «je ne sais quoi», особенное обаяние людей из «хорошего общества», во многом заключалось именно в простоте и непринужденности их поведения, о которой у нас уже шла речь. Пушкин любил слово «небрежно», употребляя его в значении «непринужденно», «изящно»
Когда за пяльцами прилежно Сидите вы, склонясь небрежно, Глаза и кудри опустя…Но недаром эта простота и непринужденность оказывались так недоступны для подражания, так мучительно недосягаемы для людей другого круга, которые в светских салонах становились или скованны, или развязны. Многие из них теоретически прекрасно знали правила поведения, но, как справедливо заметил Честерфилд, «Надо не только уметь быть вежливым, (…) высшие правила хорошего тона требуют еще, чтобы твоя вежливость была непринужденной.» Легко сказать!..
Я ПОНИМАЮ, ВЫ НЕСЧАСТНЫЕ…
«Я ПОНИМАЮ, ВЫ НЕСЧАСТНЫЕ люди:
запоминать вам наш этикет гораздо труднее,
чем Бисмарку подчинить себе весь мир,
вы напрягаетесь, стараетесь, но это не в вашей силе…
Но, мой друг, кураж, кураж, зачем падать духом?»
Н. Г. Гарин-Михайловский. Студенты.Естественность и непринужденность, с которой светские люди выполняли все требования этикета, была результатом целенаправленного воспитания, сочетавшего в себе внушение определенных этических норм и усердную тренировку.
Для того, чтобы быть всегда доброжелательным и любезным, оказывать окружающим знаки внимания и говорить им приятное, необходимо было преодолеть в себе то, что называется mauvais honte [Ложный стыд (франц.).]. Зная, что именно этот ложный стыд часто мучает молодых людей, Честерфилд заклинал своего сына: «Прошу тебя, никогда не стыдись поступать так, как должно: у тебя были бы основания стыдиться, если бы ты оказался невежей, но чего ради тебе стыдиться своей вежливости? И почему бы тебе не говорить людям учтивые и приятные слова столь же легко и естественно, как ты бы спросил их, который час?»
Как известно, человек хорошо воспитанный не будет откусывать от целого бифштекса или облизывать пальцы, даже если он обедает в полном одиночестве. Помимо прочего, в этом есть и элемент тренировки: правила хорошего тона должны стать привычкой, выполняться машинально. Честерфилд предупреждал сына, что нельзя держать хорошие манеры про запас, для торжественных дней, они должны сопутствовать человеку постоянно, иначе они покинут его в ответственный момент. Соответствующие привычки прививались с раннего детства, и рядом с каждым дворянским ребенком неизменно присутствовал гувернер или гувернантка, бдительно следящие за каждым его шагом.
«Едва летом, на даче, могу подышать свободно и весело, да и тут мешает мне теперь madame Pointue; все ходит за мной и говорит: «Держитесь прямо. Не смейтесь. Не говорите громко. Не ходите скоро. Не ходите тихо. Опускайте глаза…» Да к чему это?.. Хоть бы поскорее быть совсем большой!» — негодует юная героиня повести В. А. Соллогуба «Большой свет». В тон ей жалуется Николенька из толстовского «Детства»: «Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрерывно приставала: «Parlez done fracais» [Говорите же по-французски], а тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом — только войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez done avec du pain» [Ешьте же с хлебом.] или «Comment се que vous tenez votre fourchette?» [Как вы держите вилку? (франц.).]
Забавно, что во всех воспоминаниях и художественных произведениях гувернер — неизменно отрицательный персонаж. (В противоположность няне — персонажу всегда положительному.) Наверное, среди гувернеров и гувернанток было достаточно людей нудных и несимпатичных. Но трудно вообразить, чтобы все они поголовно были такими бессердечными мучителями, какими их рисуют их воспитанники. Скорее всего, дело в том, что у гувернера была уж очень неблагодарная роль: постоянно, ежечасно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал правила поведения в обществе. (Кстати сказать, гувернеры избавляли от этой утомительной обязанности родителей, которые могли себе позволить не досаждать детям такого рода замечаниями.) Но зато, когда нетерпеливый питомец вырывался наконец из-под опеки madame или monsieur, в свои 16–17 лет он не только свободно говорил по-французски, но и легко, автоматически выполнял все правила хорошего тона.
Судя по воспоминаниям В. Н. Карпова, в некоторых учебных заведениях для дворянских детей- устраивались так называемые soirees avec manoeuvre [Вечера с упражнениями (франц.).]. Так, в харьковском пансионе мадам Ларенс два-три раза в году проводились своеобразные тренировки, на которых начальница заставляла воспитанниц «проделывать различные приемы из светской жизни».
— «Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы должны это сделать?
И девица, как бы входя в зал из другой комнаты, шла по направлению к начальнице, делала реверанс и садилась на какой-нибудь стул.
— Так! Хорошо! — говорила начальница, поощряя свою понятливую воспитанницу. (…) Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или дедушкой.» Каждое такое занятие длилось по нескольку часов и напоминало репетицию спектакля.
Показательно, что после революции 1917 года, когда все былые правила поведения в обществе стали решительно вытесняться из реальной жизни в область театральных представлений, А. А. Стахович обучал хорошему тону учеников театральной студии и при этом использовал те же методы. Он объяснял, «как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать.» Потом он просил кого-нибудь из студенток показать все это самой, указывал на ошибки. Одна из его учениц, героиня «Повести о Сонечке» М. Цветаевой, рассказывала: «Объяснял (…) как себя вести, если на улице спустится чулок или что-нибудь развяжется: «С кем бы Вы ни шли — спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок… Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спо-кой-но, спо-кой-но… Покажите Вы, Голидэй! Мы идем с Вами вместе по Арбату, и Вы чувствуете, что у Вас спускается чулок, что еще три шага — и совсем упадет… Что Вы делаете?» И — показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спо-кой-но, спо-кой-но… «Браво, браво, Голидэй, Соня!»
Чтобы уверенно играть свою роль — держатся свободно, уверенно и непринужденно — светскому человеку, как актеру, нужно было уметь хорошо владеть своим телом. В этом отношении особое значение имели уроки танцев. Танцам обучали всех дворянских детей без исключения, это был один из обязательных элементов воспитания. Молодому человеку или девушке, не умеющим танцевать, было бы нечего делать на бале; а бал в жизни дворянина — это не вечер танцев, а своеобразное общественное действо, форма социальной организации дворянского сословия. Танцы же являлись организующим моментом бального ритуала, определяя и стиль общения, и манеру разговора.
В современном представлении любовь к танцам связывается с образом человека веселого, общительного и, скорей всего, несколько легкомысленного. Между тем, серьезный и суховатый князь Андрей Болконский, склонный к мизантропии и философическим размышлениям, «был одним из лучших танцоров своего времени» и на балах всегда много и с удовольствием танцевал. (Поэтому, как мы помним, Пьер и попросил его пригласить на вальс Наташу Ростову.) Этот маленький штрих к портрету толстовского героя помогает нам представить себе тип поведения русского аристократа первой половины XIX века.
(Отказ от участия в танцах имел значение общественного и даже политического поступка, определенного вызова общественному мнению. Так, демонстративно не танцевали будущие декабристы и фрондеры 1820-х годов.) Сложные танцы того времени требовали хорошей хореографической подготовки, и потому обучение танцам начиналось рано (с пяти-шести лет), а учителя были очень требовательны, порой даже чрезмерно. Видимо, не случайно составитель «Правил для благородных общественных танцев… (1825 г.) Л. Перовский считал нужным предупредить: «Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье».
В богатых домах устраивались танцевальные вечера для детей, в Москве раз в неделю давал свои знаменитые детские балы Йогель, описанный в романе «Война и мир». Если небольшой бал устраивался в родительском доме, дети 10 — 12-ти лет не только присутствовали на нем, но и танцевали вместе со взрослыми. Вспомним маленькую Наташу Ростову, которая забавляла взрослых, важно танцуя в паре с огромным Пьером Безуховым, или Николеньку Иртеньева, который раздосадовал взрослого молодого человека, успев первым пригласить на танец его даму.
Дочь Н. С. Мордвинова вспоминала, как на домашних балах совсем маленькие дети с нянюшками стояли у дверей и смотрели на танцующих. А отец, бывало, «брал на руки меньшую дочь, Наташу, и с нею танцевал кругом залы несколько раз.»
Н. В. Давыдов в своих воспоминаниях отмечает, что уроки танцев проходили, как правило, вместе с детьми из других семей, и «подростки обоего пола заблаговременно обучались не только хорошим манерам и грации, но и искусству флирта.»
Пушкина и его сестру Ольгу в детстве возили на уроки танцев в дом князя И. Д. Трубецкого. Дочери Трубецкого, ровесницы Пушкина, (им всем было не более 10 лет) позже вспоминали, что Александр собирал девочек вокруг себя и смешил своими эпиграммами.
Безусловно, этому искусству дети обучались и на «взрослых» балах, невольно или сознательно подражая взрослым. Один такой трогательный эпизод рассказал В. А. Соллогуб. Петинька Бутурлин, мальчик лет тринадцати, носивший еще коротенькую курточку, был, по тогдашним понятиям, балованным ребенком, и ему позволялось оставаться на бале до мазурки. В тот вечер Соллогуб танцевал мазурку с Натальей Николаевной Пушкиной. Он пошел искать свою даму, «она сидела у амбразуры окна и, поднеся к губам сложенный веер, чуть-чуть улыбалась; позади ее, в самой глубине амбразуры, сидел Петинька Бутурлин и, краснея и заикаясь, что-то говорил ей с большим жаром. Увидев меня, Наталья Николаевна указала мне веером на стул, стоявший подле и сказала: «Останемтесь здесь, все-таки, прохладнее»; я поклонился и сел. «Да, Наталья Николаевна, выслушайте меня, не оскорбляйтесь, но я должен был вам сказать, что я люблю вас, — говорил ей между тем Петинька, который до того потерялся, что даже не заметил, что я подошел и сел подле, да, я должен был это вам сказать, — продолжал он, — потому что, видите ли, теперь двенадцать часов, и меня сейчас уведут спать!» Я чуть удержался, чтобы не расхохотаться, да и Пушкина кусала себе губы, видимо, силясь не смеяться; Петиньку, действительно, безжалостно увели спать через несколько минут.»
(Знаменитый «первый бал» в жизни дворянской девушки, строго говоря, не был первым; к 16 — 17-ти годам, когда ее начинали «вывозить», она уже прекрасно умела не только танцевать, но и вести себя в специфической обстановке бала. Но первый бал — это первый официальный раут, в котором она участвовала на правах взрослой и должна была заявить о себе и начать завоевывать положение в свете.)
На уроках танцев дети учились не только танцевать. «Помни, — наставлял сына Честерфилд, — что изящные движения плеч, умение подать руку, красиво надеть и снять шляпу — все это для мужчины является элементами танцев. Но самое большое преимущество танцев в том, что они всегда учат тебя иметь привлекательный вид, красиво сидеть, стоять и ходить, а все это по-настоящему важно для человека светского.»
Характерен в этом отношении эпизод из романа Стендаля «Красное и черное»: «…добрый аббат был сам слишком большой провинциал и не мог заметить, что у Жюльена еще осталась привычка вертеть на ходу плечами, что в провинции считается весьма элегантным и внушительным. На маркиза, когда он увидел Жюльена, его элегантность произвела совсем иное впечатление, нежели на доброго аббата.
— Вы не стали бы возражать против того, чтобы господин Сорель брал уроки танцев? — > спросил он аббата.
Аббат остолбенел.
— Нет, — вымолвил он наконец. — Жюльен не священник.»
С. Н. Глинка, вспоминая о своем учителе танцев, господине Надене, писал: «Ремесло свое он почитал делом не вещественным, но делом высокой нравственности. Ноден говорил, что вместе с выправкою тела выправляется и душа.» Преданный своему делу учитель танцев не был особенно оригинален в своих суждениях: тенденция усматривать связь между внешним обликом и нравственными качествами была закономерна для эстетизированной жизни светского общества.
Лев Толстой в незавершенном романе «Декабристы» описывает одну из жен декабристов, проведшую долгие годы вдали от света, в крайне тяжелых бытовых условиях. При этом, пишет Толстой, «нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было — не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для тех, которые могли пользоваться ее видом.» Ю. М. Лотман точно обозначил специфический угол зрения, продемонстрированный писателем: «способность споткнуться связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключают возможность неточных или некрасивых движений и жестов.»
Для достижения этого изящества, свободы и непринужденности, считавшихся идеалом аристократической манеры держать себя, недостаточно было бдительной опеки учителей и воспитателей, немало усилий требовалось и от самого воспитанника. Мужество, настойчивость и умение подчиняться долгу были необходимы ему и в такой, кажется, безразличной ко всем этим качествам области, как обучение светскому этикету.
«Я уверен, и уж во всяком случае надеюсь, — писал сыну Честерфилд, — что ты никогда не употребишь глупых слов, которые очень любят дураки и тупицы, нелепым образом стараясь ими себя оправдать: «Я не могу это сделать», когда речь идет о вещах, которые ни в силу физических, ни в силу моральных причин не являются невозможными. (…) Стыдно и нелепо говорить, что ты не в состоянии делать то, что все другие люди вокруг тебя делают каждодневно.» Резкие выражения, к которым не так часто прибегает Честерфилд в своих письмах к сыну, видимо, призваны здесь задеть мальчика, апеллировать к его гордости и честолюбию. Желая, чтобы его сын овладел всеми правилами хорошего тона, Честерфилд внушает ему, что не суметь овладеть ими — стыдно и унизительно.
Чтобы вести себя так, как подобает светскому человеку, юный дворянин должен был еще и преодолеть стеснительность — мучительное чувство, так свойственное подросткам независимо от их социального положения.
Вспомним страдания Николеньки Иртеньева на бале в доме бабушки, когда он каждую минуту ощущает свою неловкость и неуклюжесть, или переживания Темы Карташева, впервые принимающего у себя в доме друзей и, от смущения, все делающего невпопад. Застенчив в подростковом возрасте был даже наследник престола Александр Николаевич, неизменно окруженный почтительным вниманием и обладавший безусловно привлекательной внешностью. Вот один из маленьких эпизодов, увиденный глазами его умного и чуткого наставника, В. А. Жуковского: «Нынче на бале императрица послала великого князя вальсировать. Он вальсирует дурно оттого, что, чувствуя свою неловкость, до сих пор не имел над собою довольно сил, чтобы победить эту неловкость и выучиться вальсировать как должно. Будучи принужден вальсировать и чувствуя, как смешно быть неловким, он в первый раз вальсировал порядочно, потому что взял над собою верх и себя к тому принудил. Самолюбие помогло.»
Здесь достойна внимания каждая деталь.
Императрица велит сыну танцевать, хотя он сам, очевидно, этого не хочет. Наследнику не приходит в голову отказаться, и он послушно подчиняется желанию матери. Мучаясь сознанием своей неловкости, он, однако, преодолевает ее усилием воли и танцует лучше, чем обычно. Характерно убеждение Жуковского, что вальсировать следует «как должно», что неловкость и стеснительность можно и нужно «победить», и что подлинное самолюбие проявляется не в том, чтобы потакать своим слабостям, а в том, чтобы брать над ними верх.
Уверенность в себе зависит от многих обстоятельств, но какое-то значение имеют, очевидно, и прямой призыв верить в свои возможности, и убеждение в том, что это гарантирует нужный результат. Зная это, Честерфилд настойчиво убеждает сына: «Ничто так не роняет молодого человека и не толкает его в дурную компанию, будь она мужская или женская, как робость и неверие в собственные силы. Если сам он думает, что не понравится даме, можно быть уверенным, что так оно и будет. Но стоит ему приложить надлежащие старания, чтобы понравиться и в известной степени проникнуться этой убежденностью самому, и он, вне всякого сомнения, добьется успеха.»
Блестящим молодым людям из высшего света было свойственно то, что называлось «кураж» — храбрость с оттенком дерзости, уверенность в своем обаянии. (Но не забудем, что это сочеталось со всеми другими особенностями поведения, о которых у нас шла речь: сдержанность, приветливость, любезность.)
Так формировался неповторимый тип человека, который уже во второй половине XIX века казался Льву Толстому уходящим в прошлое. Для героя «Детства» таким был его отец. «Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула.»
ТОГО, ЧТО МОДОЙ САМОВЛАСТНОЙ…
«ТОГО, ЧТО МОДОЙ САМОВЛАСТНОЙ
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar…»
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.Вставив в строку это английское слово, Пушкин снова шутливо жалуется:
… не могу… Люблю я очень это слово, Но не могу перевести.Слова, адекватно передающего смысл английского vulgar, в русском языке не было, и точнее всего можно было передать его разве что описательным выражением: то, что разительно противоречит нормам хорошего тона. Характерно, что описывая Татьяну Ларину, Пушкин, как бы исчерпав все возможности в словесном изображении comme il faut, заключает, что в ней не было ни капли vulgar.
В одном из писем к жене Пушкин раздраженно заметил: «… ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar…» Эти два типа поведения оценивались как диаметрально противоположные, исключающие друг друга.
Выразительна в этом отношении одна из записей Пушкина в «Таblе-Talk»: «Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный.» Очевидно, было не принято оказывать подобные услуги нестарому мужчине; и эта, незначительная для людей другого круга, деталь для Пушкина становится выразительнейшим штрихом в уничтожительной характеристике Надеждина. Слово «простонародный» в данном случае так же как и слово vulgar обозначает облик и поведение человека невоспитанного, не имеющего представления о «приличиях».
Отсылка Пушкина к «высокому лондонскому кругу» позволяет полнее раскрыть смысл, который вкладывался в понятие vulgar. В романе Бульвера-Литтона леди Пелэм делится соображениями на этот счет со своим юным сыном: «Вот основная причина, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным.» Заметим, что Пушкин, говоря о Татьяне, особо выделяет:
Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей…Следовательно, вульгарность — это неуклюжее подражание, манерность и неестественность, противоположные благородной простоте и непринужденности аристократических манер.
К. С. Станиславский с возмущением писал о меломанах, которые «ввели у нас дурной шик приезжать в театр с большим опозданием, входить, усаживаться и шуметь в то время, как великие певцы оттачивают серебряные ноты или заставляют замирать дыхание напиано-пианиссимо. Такой плохой шик напоминает зазнавшуюся горничную, которая считает высшим тоном всем пренебрегать и на все фыркать.» Станиславский не употребляет слова «вульгарность», но его выражение «плохой шик» характеризует именно вульгарный стиль.
Честерфилд в своих письмах к сыну дает развернутое представление о вульгарном, с точки зрения английского джентльмена, поведении.
«Человек вульгарный придирчив и ревнив, он выходит из себя по пустякам, которым придает слишком много значения.» Ему постоянно кажется, что он находится в центре внимания: говорят о нем, смеются над ним, пренебрегают им. Человеку светскому ничего подобное даже в голову не придет; кроме того, он вообще выше мелочей и всегда готов скорее уступить, чем пререкаться из-за ерунды. По наблюдению Честерфилда, вульгарный человек больше всего любит говорить о своих домашних делах и соседях, причем он «привык обо всем этом говорить с пафосом, как о чем-то необыкновенно важном.» Речь вульгарного человека характерна тем, что у него всегда есть какое-нибудь любимое словечко, которое он употребляет на каждом шагу.
Нетрудно заметить, что вульгарность для Честерфилда — синоним невоспитанности, все то, что противоречит светскости, хорошему тону. Однако, стремясь объяснить сыну, что такое вульгарность, он прибегает все-таки к описаниям и примерам, а не ищет точных определений и исчерпывающих формулировок. Так же, как и comme il faut, его альтернатива vulgar принадлежит к той зыбкой сфере отношений, которая с трудом переводится в чисто логический план. Смысл этих понятий неожиданно ярко проясняется в конкретных ситуациях порой, кажется, никак не связанных с такого рода проблемами.
Приведем в качестве примера одну маленькую историю, рассказанную автору этих очерков одним из очевидцев. Связана она с ситуацией более чем далекой от быта великосветских салонов.
В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, разумеется, не это, привычное для всех, обстоятельство привлекало общее внимание, а то, что на базу, в составе одной из экспедиций, должен был приехать потомок древнего княжеского рода. «Мы-то, ладно, потерпим, — шутили геологи, — но что будет делать Его светлость?!» «Его светлость», приехав, сделал то, что многих обескуражило: спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл загаженную уборную…
Это и был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь — не стыдно, стыдно жить в грязи.
.. НЕ ТО ЧТО СОВСЕМ НИГИЛИСТ…
«… НЕ ТО ЧТО СОВСЕМ НИГИЛИСТ,
но, знаешь, ест ножом…»
Л. Н. Толстой. Анна Каренина.«Хорошее общество» было лишь малой частью русского общества, неизменно бурлящего в противоборстве различных идеологических и политических сил. Дворянская культура уже с начала 1830-х годов испытывает сильнейшее давление со стороны «демократической» культуры; иначе говоря, начинается напряженное соперничество между старым дворянством и все громче заявляющей о своих правах разночинной интеллигенцией. Если в 1830 — 40-е годы это соперничество открыто проявляется, в основном, в сфере литературной и журнальной полемики, то в 1860 — 70-е годы оно выливается в ожесточенную политическую борьбу, накладывающую свой отпечаток едва ли не на все сферы жизни общества, включая и быт, нормы поведения. При всем накале общественных страстей и болезненности конфликтов соперничество имело реальные шансы не вылиться в войну на уничтожение, хотя именно так интерпретировались события в радикальных кругах. Как мы уже говорили, «хорошее общество» охотно принимало в свой круг выходцев из «низших» слоев, если они были людьми одаренными и порядочными, а последние, в свою очередь, жадно впитывали в себя утонченную культуру дворянской элиты. Впоследствии многие русские интеллигенты по части «хорошего тона» не уступали урожденным князьям. Выигрывали от такого общения и аристократы: новые друзья вносили в их замкнутую размеренную жизнь свою энергию и энтузиазм, помогали им адаптироваться к неизбежным и необходимым переменам. Таким образом, своеобразное культурное сотрудничество, которое шло незаметно в дворянских гостиных, могло стать весьма плодотворным для русского общества; именно таким путем культурная элита могла бы постепенно расширять свой круг, укреплять свои позиции в обществе, не снижая при этом уровня требований. [Эпизоды детства К. С. Станиславского приводятся здесь не по ошибке: они доказывают, что принципы воспитания детей в образованной и культурной семье из купеческой среды были уже теми же, что и у дворянства.]
Но нельзя забывать: культурная элита России была, во-первых, не очень многочисленна, а, во-вторых, жила по своим законам, заметно отличающимся от тех, которыми руководствовалась основная масса общества. За пределами родного дома и избранного круга дворянская молодежь сталкивалась с иными жизненными ценностями, иным стилем поведения, нежели тот, к которому их тщательно приучали с детства. Это важно иметь в виду, дабы у нас не сложилось ошибочное представление, что жизнь дворянского подростка и юноши проходила в каких-то оранжерейных условиях, под надежным кровом незыблемых и общепринятых традиций. Напротив, следование этим традициям часто отстаивалось во враждебной к ним среде и требовало немалого упорства. В частности, было немало искушений отказаться и от соблюдения правил хорошего тона.
Переживания Темы Карташева, героя трилогии Гарина-Михайловского, разрывающегося между своей семьей и своими товарищами по гимназии, очевидно, достаточно характерны для мальчика из дворянской семьи. Как многие мальчики, он хотел быть таким же, как все; а все — откровенно смеялись над теми правилами поведения, к которым приучали его дома. Дома же — мать и сестры обижались и возмущались, видя его пренебрежение к тому, что для них дорого. Тема чувствовал себя виноватым перед ними, но «вся сеть условных приличий» начинала его раздражать. «У тебя все принято, не принято, — горячо говорил он сестре, — точно мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда… яйца выеденного не стоит.»
Мать настойчиво убеждала сына, что нельзя отрекаться от всего того, «что в тебя вложено поколениями.» — «Какими поколениями? Все от Адама…» — возражал Тема.
«— Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои представления о чести тоньше, чем у Еремея. Для него недоступно то, что понятно тебе.
— Потому что я образованнее.
— Потому что ты воспитаннее… Образование одно, а воспитание другое.»
В этом диалоге четко обозначен один из главных предметов спора между, условно выражаясь, аристократами и демократами. Разночинцам свойственна была тенденция (живущая и по сей день) противопоставлять образование и воспитание, как действительную и мнимую ценности. Однако самая постановка вопроса совершенно неправомерна: нельзя сравнивать и противопоставлять вещи несопоставимые, обладающие собственной абсолютной ценностью. Стремление вытеснить все, что связано с воспитанием, в область внешнего, вторичного и второстепенного было вызвано глубоким мировоззренческим кризисом [Лев Толстой в повести «Юность» делает неожиданно резкий выпад против светской манеры поведения. Подросший Николенька Иртеньев заявляет, что commel il faut — «было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.» Правда, из его изложения выясняется, что в данном случае он имеет в виду лишь чисто внешние признаки, причем в восприятии Иртеньева им придается гипертрофированное, самодовлеющее значение. Позиция толстовского героя, безусловно, связана с тем острым конфликтом внутри русского общества, о котором шла речь выше. Но она не может быть поставлена в общий ряд и рассмотрена в качестве исторического примера, ибо она обусловлена прежде всего сложными духовными исканиями самого Льва Толстого.].
«Передовая» молодежь, увлекающаяся Писаревым, выступала против всякой эстетизации жизни, как в искусстве, так и в быту. В «Студентах» Гарина-Михайловского один из приверженцев этой теории назидательно поучает Тему Карташева: «… жизнь не форма, и за каждое предпочтение формы перед сутью приходится дорого платить.» Хорошие манеры — это, в сущности, тоже красивая форма, в которую облекались человеческие отношения; не удивительно, что в соответствующем кругу они не просто не соблюдались, но демонстративно, вызывающе отвергались. Вскользь брошенная толстовской героиней реплика о молодом докторе, который «не то что совсем нигилист, но ест ножом», свидетельствует, что четкая связь между идейными позициями и бытовыми навыками была закреплена на уровне обыденного сознания.
Теория утилитаризма при всей соблазнительной простоте и кажущейся убедительности оказалась совершенно несостоятельной. И в искусстве, и в жизни отношения формы и содержания являются куда более сложными, чем это представлялось поклонникам Писарева. Студент из повести Гарина-Михайловского был убежден, что придется «дорого платить» за «предпочтение формы перед сутью»; возможно, ему не довелось узнать, что за небрежение к форме пришлось заплатить не менее дорого.
В «Повести о Сонечке» М. Цветаевой студиец Володя А., рассуждая об уроках хорошего тона, которые давал Стахович, говорит: «И я уже много понял, Марина Ивановна, и скажу, что это меньше всего — форма, и больше всего — суть. Стахович нас учит быть. Это — уроки бытия. Ибо — простите за грубый пример — нельзя, так поклонившись, заехать друг другу в физиономию — и даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их подумать нельзя — я уже другой человек, поклон этот у меня уже внутри.»
Допустим, герой цветаевской повести несколько преувеличивает, выдает идеальный случай за общее правило, но глубинная связь между внешним и внутренним в человеческой личности подмечена им совершенно верно.
В жарких спорах I860 — 70-х годов подчас решались вопросы более важные, нежели это представлялось большинству участников спора. Так, проблема «формы» в самом широком смысле этого слова имела особое значение для русской жизни, с ее извечной стихийностью и неупорядоченностью. Напор мощной, но не организованной силы, постоянное брожение и склонность к крайностям — все это повышало значение внешних форм организации жизни, будь это формы государственного устройства или формы быта. В этом контексте и частный, казалось бы, спор об этикете и воспитании обнаруживает глубокий смысл.
Честерфилд, терпеливо обучая своего сына всем тонкостям хорошего тона, замечал, что наверняка найдутся «угрюмые люди», которые отнесутся ко всем этим советам с «величайшим презрением» и скажут, что все это просто не заслуживает внимания. «Я скажу этим самоуверенным господам, — заявлял он, — что все эти с их точки зрения пустяки, вместе взятые, образуют то приятное je пе sais quoi, тот ensemble [Целое (франц.)], к которому они начисто глухи и в себе и в других. В лексиконе их нет слова aimable [Любезный (франц.)], а в поведении того, что это слово выражает.»
Честерфилду, наверное, не могло присниться и в страшном сне, чтоб эти угрюмые и самоуверенные люди получили возможность силой навязывать всем свои взгляды. Не так уж удивительно, что преуспели они именно в России, где культурная элита не имела ни достаточно прочного положения в государстве, ни реального влияния на народ. В самом деле, вместе со словом «любезность» ушло из повседневного обихода то, что это слово выражает; вместе с поклонами и прочими «пустяками» ушли оттенки чувств и отношений, которые только эти «пустяки» и способны были передать. Грандиозный «воспитательный» эксперимент, поставленный в России, дал свои очевидные и удручающие плоды. Хорошо еще, если мы вынесем из него хоть какие-то уроки. Например, избавимся от обыкновения загонять жизнь в схему очередной полюбившейся теории и не будем перегружать идеологией вещи, не имеющие к ней никакого отношения.
… А есть ножом просто неудобно и некрасиво — вот и все.
МЕЧТАНЬЕ ЗЛОЕ ГРУСТЬ ЛЕЛЕЕТ…
«МЕЧТАНЬЕ ЗЛОЕ ГРУСТЬ ЛЕЛЕЕТ
В душе неопытной моей…»
М. Ю. Лермонтов. Весна.«Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы. — Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.» (Л. Н. Толстой. Детство)
Как это трудно — взрослеть! Незначительная, кажется, обида может мгновенно переполнить отчаяньем душу впечатлительного ребенка, и тогда ему приходят в голову самые дикие мысли. У Николеньки Иртеньева неудачный гувернер — он бестактен и глупо придирчив. Не замечаемая ни кем война между бездарным воспитателем и его подопечным оборачивается для мальчика подлинной личной драмой с приступами ненависти и горя, жаждой мести и желанием умереть.
«Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.
— Бей меня еще, — говорил я сквозь слезы, — крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!
— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.
— Нет, ни за что не пойду, — сказал я, цепляясь за его сюртук. — Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я… с… ним… ради Бога, высеки… за… что… му…чат.
Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.»
Когда читаешь эти страницы толстовского «Детства», кажется, что ни непреложные нравственные принципы, ни строгие правила поведения, в которых воспитывался дворянский ребенок, ничем не могли помочь ему в подобных случаях. Но посмотрим на это глазами другого великого писателя, имевшего возможность сравнивать разные культурные и психологические типы, представленные в русской жизни последних десятилетий XIX века.
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год подробно останавливается на одном трагическом, но, на первый взгляд, совершенно особом, частном случае: покончил с собой двенадцатилетний гимназист. Мальчик не выучил урока и был наказан: оставлен в классе до пяти часов вечера. Он походил по пустому классу, нашел какую-то бечевку, привязал к гвоздю и повесился… Мальчик был спокойного нрава, из благополучной семьи и учился вообще хорошо; в этот день были его именины. Достоевский несколькими штрихами набрасывает картину возможного душевного состояния несчастного мальчика, хорошо понимая, почему он мог решиться на самоубийство. Но затем писатель предлагает сравнить этот случай с эпизодом из «Детства» Л. Н. Толстого, где провинившийся и запертый в чулане Николенька мечтает о том, как его найдут здесь мертвым. Переживания детей в обоих случаях, вероятно, были очень близки и похожи, но в истории с гимназистом, по мнению Достоевского, «есть и черты какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, историком которого явился у нас граф Лев Толстой… (…) Есть тут, в этом случае с именинником, одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как они войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его мечту до дела, а тут — помечтал, да и сделал.
Достоевский пишет далее, что наша «общественная жизнь пребывает в хаосе», что в ней нельзя отыскать «нормального закона» и «руководящей нити»; что вокруг нас одновременно и «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах», и все эти слова, написанные более ста лет тому назад, кажутся как нельзя более подходящими для характеристики нашей эпохи. Не есть ли в этом свидетельство тому, что очень непрочны нравственные и идейные основы русского общества, и поэтому так легко ввергается в хаос наша общественная жизнь?
Достоевский придает истории о маленьком самоубийце символическое значение, видя здесь крайнее и болезненное выражение неуверенности и неприкаянности, характерных для людей, не имеющих опоры в традиции, воспитании, семейном укладе. Дворянская семья была тем островком в волнующемся океане русской жизни, который дарил своим обитателям спасительную уверенность, спокойствие и твердость. Но и эти островки вскоре захлестнули волны народной смуты.
LA NOBLESSE OBLIGE
Положение обязывает, (франц.)
Поговорка.
Французское слово noblesse имеет два значения: «дворянство» и «благородство». Известную поговорку точнее было бы перевести: благородное происхождение обязывает. Возможно, таков и был ее первоначальный смысл. К чему же оно обязывает? Собственно, ко всему тому, о чем у нас шла речь, и ко многому другому, о чем мы не успели сказать.
«В погожий летний день тут настоящее светское гулянье: прохаживаются и сидят люди с отличными манерами. Они учтиво друг с другом раскланиваются, благовоспитанно разговаривают вполголоса, нередко вставляя французские слова. Если случится пройти тут даме из женбарака, знакомые очень изысканно целуют ей руку. У большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный, на них одежда, обтершаяся на тюремных нарах, но держатся они чопорно и даже надменно. Это — защитная реакция упраздненных, попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины, предохранить что-то свое от размывания мутной волной обстановки, прививающей подлую рабскую психологию. Хлипкая внешняя преграда…»
Странная сцена, словно приснившаяся во сне… Но режущее слух словосочетание «дама из женбарака», вместившее в себя трагедию и уродство нашей жизни, подсказывает, что это не сон, и не фантазия, а российская действительность 1920-х годов. О. В. Волков, один из членов соловецкого «дворянского собрания», описал его в своей книге «Погружение во тьму». А уже в наши дни, глубоким стариком, Олег Васильевич заметил: «Иногда мне кажется, что я сумел выдержать все это потому, что ни разу не позволил себе крепко выругаться».
La noblesse oblige, — может быть, особенно ярко раскрылся глубокий смысл этого изречения именно в тех обстоятельствах жизни, на которые было никоим образом не рассчитано дворянское воспитание. В советской России в этих обстоятельствах оказались сразу тысячи людей, и они повели себя по-разному. Далеко не все смогли сберечь честь в том смысле, который вкладывали в эти слова их предки; не нам их судить. Вспомним о других, людях особого типа.
Они жили в перенаселенных коммуналках (нередко переделанных из их собственных роскошных квартир), ездили в набитых трамваях, выстаивали в бесконечных российских очередях — и не унижались настолько, чтобы придавать всему этому слишком много значения. Нужно было зарабатывать себе на жизнь — они учили детей музыке и французскому языку, а, впрочем, брались за любую работу и, кажется, неплохо справлялись. Их детям необходимо было «пролетарское» происхождение, чтобы получить высшее образование — бывшие барыни становились швеями и поварихами. Многим из них выпал и вовсе страшный опыт, опыт, призванный растоптать в душе не только все «благородное», но просто все человеческое. И все же находились люди, которые возвращались из ссылок и лагерей, не утратив ни собственного достоинства, ни правильной русской речи, ни даже безукоризненно хороших манер/ Многие из нас еще успели их застать, хотя и не успели оценить. Ну что ж, пусть только на этих страницах, воздадим должное памяти тех последних русских дворян, которые сумели остаться до конца верными старинному правилу своего сословия: la noblesse oblige.
ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ…
ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ
Смешным и устарелым нам,
Но, право, может только хам
Над русской жизнью издеваться.
Она всегда — меж двух огней,
Не всякий может стать героем,
И люди лучшие — не скроем –
Бессильны часто перед ней…
А. А. Блок. Возмездие.Эпилог.
По всем внешним и очевидным признакам российское дворянство потерпело сокрушительное историческое поражение. Нравственные принципы, правила поведения, дворянский кодекс чести оказались лишними в круто изменившейся жизни. Все эти ценности были отвергнуты как смешные предрассудки и решено было обойтись без них. Но, рано или поздно, пришла пора задуматься: правы ли победители, виновны ли побежденные? Что же представляла собой русская дворянская культура: красивый, но нежизнеспособный цветок, высаженный в неподходящую для него почву, или здоровое растение, которому суждено было еще развиться и пустить глубокие корни? А дворянское воспитание, с его установкой на идеал, — это блистательный опыт, продемонстрировавший, какой тип личности может быть сформирован в русском обществе, или очередная российская утопия, заведомо обреченная на провал?
Независимо от того, как мы ответим на эти и подобные им вопросы, нам стоит попытаться осознать жизнь русского дворянства частью своего собственного прошлого. Быть может, тогда и в нас, как в толстовском мальчике, отзовется прочный и строгий, исторически сложившийся строй той жизни и удержит от отчаянных и непоправимых решений.


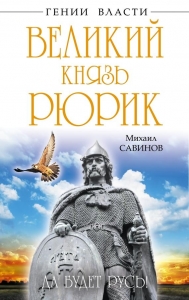



Комментарии к книге «Как воспитывали русского дворянина», Ольга Сергеевна Муравьева
Всего 0 комментариев