Историческая неизбежность? Ключевые события русской революции
Переводчики Любовь Виноградова, Любовь Сумм
Редактор Наталья Нарциссова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры С. Чупахина, М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайнер обложки Ю. Буга
Иллюстрация на обложке ShutterStock
© Profile Books Ltd, 2016
© Под редакцией. Tony Brenton, 2016
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
…русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
А.С. ПушкинПояснение для читателя
До февраля 1918 г. Россия жила по юлианскому календарю (так называемый старый стиль, с.с.), который на 13 дней отставал от григорианского календаря (новый стиль, н.с.), а затем перешла на общий с Западом отсчет времени. В этой книге события в России до февраля 1918 г. датируются по старому стилю, а далее – по новому стилю. В неоднозначной ситуации мы указываем, о каком календаре идет речь.
Хронология
1905
9 января: Кровавое воскресенье.
10 января: мощная волна забастовок и мятежей (продолжались весь год).
14 мая: Цусимская битва, тяжелое поражение России в войне с Японией.
5 сентября (н.с.): Русско-японская война завершилась Портсмутским миром.
15 октября: Витте предлагает царю проект политических реформ.
17 октября: царь объявляет о начале политических реформ, включая создание Думы.
1906
16 апреля: Витте, утратив доверие царя, уходит с должности премьер-министра.
26 апреля: опубликованы новые законы; министром иностранных дел назначен Столыпин.
27 апреля: открывается заседание Первой Государственной думы.
8 июля: Первая дума распущена, Столыпин становится премьер-министром.
Август – ноябрь: первый этап Столыпинских реформ.
1907
20 февраля: открытие Второй Государственной думы.
Март: Столыпин объявляет о дальнейших реформах.
2 июня: Вторая дума распущена, новый закон о выборах.
7 ноября: открытие Третьей Государственной думы, работала до 1912 г.
1911
1 сентября: Столыпин ранен и спустя четыре дня умирает.
1912
15 ноября: открытие Четвертой Государственной думы.
1914
29 июня: покушение на Распутина.
1 августа (н.с.): Германия объявляет войну России.
Конец августа: тяжелые поражения русской армии в Германии.
1915
Апрель – июль: немцы вторгаются в Польшу. Ряд министров, в том числе военный, сменены царем.
19 июля: Дума собирается на шесть недель.
21 августа: министры тщетно просят царя позволить Думе сформировать кабинет.
22 августа: царь возглавляет вооруженные силы и переезжает в Ставку в Могилев. Начинается «правление царицы».
3 сентября: работа Думы приостановлена.
1916
Январь – ноябрь: по воле царицы (и Распутина) люди на министерских постах быстро сменяются, в том числе военные министры, министры внутренних дел и премьеры (дважды).
1 ноября: новый созыв Государственной думы. Керенский яростно нападает на Распутина, Милюков говорит о «глупости или измене» в высших эшелонах власти.
17 декабря: убийство Распутина.
27 декабря: назначен очередной премьер-министр.
1917
14 февраля: собирается Государственная дума.
23–24 февраля: в Петрограде проходят демонстрации, спровоцированные перебоями с поставками хлеба.
25 февраля: демонстрации перерастают в беспорядки. Царь отдает из Могилева приказ подавить их.
26 февраля: армия стреляет в толпу, 40 человек убиты. Часть гарнизона взбунтовалась. Царь отмахнулся от телеграммы Родзянко с просьбой срочно назначить новое правительство, сочтя, что Родзянко напрасно паникует.
27 февраля: почти весь Петроград в руках восставших толп. Дума распущена, однако создает Временный комитет. Правительство уходит в отставку. Царь направляет генерала Иванова в Петроград с приказом подавить восстание. Оргсобрание Петроградского совета.
28 февраля: царь выезжает в Царское Село. Первое заседание Петроградского совета. Волнения распространяются на Москву.
1 марта: царский поезд вынужден направиться в Псков и прибывает туда к вечеру. По настоянию Алексеева Николай соглашается предоставить Думе назначение министров и отменяет приказ Иванову. Тем временем Дума и Совет согласовали принципы формирования Временного правительства. Формируется Московский совет. «Декрет № 1» по сути лишает офицеров власти и авторитета.
2 марта: сформировано Временное правительство во главе с князем Львовым. Родзянко дает телеграмму Рузскому в Псков, уверяя в необходимости отречения монарха. Утром Алексеев и другие военачальники соглашаются с этим советом. Николай принимает решение и посылает телеграммы, провозглашающие царем Алексея. Но после приезда представителей Думы меняет свое решение и назначает преемником великого князя Михаила.
3 марта: Михаил решает не принимать корону. Конец династии Романовых.
8 марта: Николай возвращается в Царское Село под арест.
Конец марта: Великобритания отказывается принять царскую семью и предоставить ей убежище.
3 апреля: Ленин возвращается в Петроград и выдвигает лозунг «Вся власть Советам!».
20–21 апреля: «апрельские дни» – бунты в Петрограде, поддерживаемые большевиками и направленные против Временного правительства, в особенности против министра иностранных дел Милюкова.
4–5 мая: формирование коалиционного правительства с участием вождей социалистов. Керенский становится военным министром.
16 июня: начало «наступления Керенского», которое обернется провалом.
20–30 июня: в Петрограде нарастает напряжение, войска не желают отправляться на фронт.
3–4 июля: «июльские дни» – солдатские бунты. Петроград захвачен демонстрантами, они угрожают свергнуть правительство. Ленин не сумел встать во главе восстания. Демонстрации затихают. Прибывают верные правительству войска.
5 июля: Ленин снова скрывается, другие лидеры большевиков арестованы.
7 июля: Львов уходит в отставку, назначив Керенского премьер-министром.
18 июля: Корнилов назначен главнокомандующим.
31 июля: царская семья отправлена в Тобольск.
9 августа: выборы и созыв Учредительного собрания отложены до ноября.
26–27 августа: Керенский получает диктаторские полномочия, объявляет Корнилова изменником. Корнилов восстает против Керенского.
30 августа: арестованные большевики отпущены.
1 сентября: арестован Корнилов.
10 октября: большевистский Центральный комитет в присутствии Ленина голосует за резолюцию о готовности взять власть.
20–25 октября: большевики берут под контроль Петроградский гарнизон.
24 октября: Ленин (переодетый) вечером пробирается в Смольный. Убеждает большевиков отважиться на переворот.
25–26 октября: «штурм Зимнего дворца». Керенский бежит на фронт в надежде найти там поддержку. Остальные министры арестованы. Небольшевистские партии в знак протеста покидают съезд Советов. Формируется правительство большевиков (Совнарком) во главе с Лениным.
27 октября: запрещена оппозиционная пресса.
28 октября – 2 ноября: подавлены антибольшевистские забастовки и выступления военных (главным образом в Москве).
12–30 ноября: выборы в Учредительное собрание. Эсеры набирают 40 %, большевики – 25 %.
20 ноября (с.с.): начались мирные переговоры в Брест-Литовске.
28 ноября: демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Партия кадетов запрещена, ее лидеры арестованы.
7 декабря: создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК).
Конец декабря: генералы Алексеев и Корнилов создают «Добровольческую» (белую) армию.
1918
5 января: первое заседание Учредительного собрания. Демонстрации в его поддержку подавлены. Заседание закончилось поздно вечером, а наутро депутатов не пустили в зал.
15 января – 3 марта: заключен Брест-Литовский мир. Ленин убеждает коллег принять тяжелые условия мира, но настоять на своем ему удается, лишь когда немцы возобновляют наступление и требуют новых уступок.
Начало марта: большевистское правительство переезжает в Москву в связи с приближением немцев к Петрограду.
9 марта: союзнический контингент высаживается в Мурманске. Это первая из целого ряда попыток вмешаться на стороне белых в происходящие события. Интервенции произойдут также на северо-востоке России, в Украине и на Дальнем Востоке. Окончательно союзники уйдут с запада страны в августе 1919 г., а японцы будут оставаться во Владивостоке до 1922 г.
26 марта: Троцкий назначен военным комиссаром. За несколько недель он преодолеет яростное сопротивление однопартийцев и начнет вербовать в Красную армию бывших царских офицеров.
12 апреля: Корнилов убит на фронте. Командование переходит к Деникину.
26 апреля: Николай вместе с семьей отправлен в Екатеринбург.
9 мая: первая попытка большевиков реквизировать зерно у крестьян.
29 мая: чехословацкий легион в Челябинске отказывается разоружаться, присоединяется к белым и берет под контроль Транссибирскую магистраль.
8 июня: чехи занимают Самару. Формируется Комуч.
12–13 июня: великий князь Михаил убит в Перми.
16–17 июля: Николай II и вся его семья убиты в Екатеринбурге.
30 августа: покушение Фанни Каплан на Ленина.
5 сентября: начало Красного террора. Массовые убийства заключенных и заложников.
23 сентября: в Омске сформировано антибольшевистское Временное всероссийское правительство, номинально подчиненное Комучу.
11 ноября: Первая мировая война завершается подписанием мирного договора. Германия стремительно теряет все завоеванное в Восточной Европе, и в следующие два года Россия возвращает себе большую часть этих территорий.
18 ноября: в результате переворота, организованного в Омске, Колчак становится военным диктатором и лидером Белого движения.
1919
Январь: официально вводится продразверстка – политика изымания зерна у крестьян.
Март – май: Колчак разворачивает наступление в Сибири, поначалу успешное. Он почти доходит до Волги, но в середине мая его останавливают, а затем вынуждают начать отступление.
Июль – октябрь: Деникин наступает на красных с юга, Юденич – с северо-запада. Оба они уверенно продвигаются, Деникин приближается к Туле, Юденич едва не захватывает Петроград, но к октябрю армии обоих военачальников теряют завоеванные позиции и начинают отходить назад.
14 ноября: Колчак направляется в Иркутск. Юденич распускает свою армию.
17 декабря: Колчак вынужден сложить полномочия. Позже он будет выдан большевикам и расстрелян (7 февраля 1920 г.).
1920
27 марта: на посту командующего Деникина сменяет Врангель.
Август: начинается Тамбовское восстание крестьян против продразверстки, ширятся волнения в других регионах.
7 ноября: белая армия Врангеля эвакуируется из Крыма. Конец гражданской войны.
1921
Март: демонстрации, вызванные нехваткой продовольствия, перерастают в мятеж кронштадтских матросов, жестоко подавленный большевиками. РКП(б) запрещает любые внутрипартийные фракции, создав таким образом возможность тоталитарной диктатуры. Вместе с тем партия отказывается и от продразверстки и переходит к новой экономической политике (НЭП).
1922
16 февраля: большевистская кампания против церкви открывается Декретом о земле. Патриарх Тихон публично противостоит этой кампании.
3 апреля: Сталин становится генеральным секретарем РКП(б), тем самым закладываются основы его будущей власти.
26 мая: первый инсульт у Ленина.
Июнь: митрополит Вениамин и ряд других священнослужителей осуждены за контрреволюционную деятельность и впоследствии расстреляны.
Декабрь: создается Союз воинствующих безбожников.
1924
21 января: после нескольких инсультов Ленин умирает. В завещании он с оговорками рекомендует в качестве преемника Троцкого, настаивая на устранении Сталина от власти.
Благодарности
Прежде всего я благодарю авторов, предоставивших свои статьи для этой книги. Они согласились принять участие в проекте для профессиональных историков – не вполне обычном, если не сказать сомнительном, – и справились с поставленной задачей блестяще.
Особая благодарность двоим из участников: Орландо Файджес с самого начала поверил в этот проект и помог мне в поисках авторов, а Доминик Ливен согласился прочесть мою главу в черновике и выправить ошибки дилетанта (разумеется, все оставшиеся в тексте ошибки – мои собственные).
Для послесловия мне нужна была помощь специалиста, разбирающегося в современной России. Дункан Аллан оказался именно тем человеком, к кому следовало обратиться. Опять-таки все оставшиеся в тексте ошибки – исключительно мои собственные.
Прекрасно поработала вся команда издательства Profile, но два имени мне хотелось бы упомянуть особо. Покойный Питер Карсон с энтузиазмом воспринял мою затею и сделал все, чтобы она осуществилась. Многие люди, в том числе и я, ощущают, как его недостает. Ник Ширин подхватил из его рук этот проект и, не жалея сил, довел до завершения. Я с полным правом могу назвать его соавтором и партнером.
И наконец, благодарности семье: Сью, Тиму, Кейт и Дженни. Из-за моего увлечения Россией им пришлось претерпеть многое. Эту книгу я посвящаю им.
Вступление Тони Брентон
I
Мы стоим на пороге 100-летней годовщины русской революции. И если бы нужно было выбрать одно событие, оказавшее наибольшее влияние на историю XX в. и на весь наш мир начала XXI в., то, несомненно, таким событием следовало бы считать именно русскую революцию. В результате нее установился тоталитарный коммунистический строй, под властью которого одно время находилась треть населения земного шара. Она привела к подъему нацизма в 1930-х, а значит, и ко Второй мировой войне и создала сильнейшего противника, которому Запад противостоял в течение 40 лет холодной войны. Сложно найти другой пример, когда события нескольких лет, сосредоточенные в одной стране, и в основном в одном городе, имели бы такие масштабные исторические последствия. К тому же то, что происходило в 1917-м, стало предметом ожесточенных споров историков. В течение 70 лет советская идеология основывалась на том представлении, что революция была триумфальным результатом действия неотвратимых исторических сил. Сейчас эта точка зрения может казаться странной, однако, пусть и в более мягкой форме, она довольно долго была популярна и среди западных историков. Согласно этой точке зрения, царизм прогнил и был обречен, а социализм, даже большевизм, предлагал России яркое новое будущее, но Сталин испортил мечту. Однако многие другие историки занимают иную позицию. Они доказывают, что существовала либеральная альтернатива царизму, задушенная большевиками в зародыше, и что диктатуру и террор создал Ленин, а Сталин был всего лишь его способным учеником. Согласно еще одной точке зрения, царизм начал модернизацию России и туда непременно пришел бы либерализм, если бы революция не остановила этот процесс. А согласно другой, вся историческая традиция России основана на тирании государства и Ленин лишь продолжил ее и поднял на следующую ступень.
Выбор позиции в этом вопросе зависит от того, как вы видите происходившее в России до 1917 г. и в течение нескольких лет после него. Могли ли события развиваться иначе? Случались ли моменты, когда единственное решение, будь оно иным, – непредвиденное происшествие, выстрел, попавший в цель или, наоборот, неточный, – могли бы изменить ход русской, а значит, и европейской истории? Эта книга посвящена именно таким моментам в истории революции, когда ощущение случайности происходящего особенно сильно. На этом пути были развилки, когда возникал вопрос, как именно события могут пойти дальше. Мы попросили известных историков описать каждый из таких моментов, его исторический фон, значение и последствия, а также поразмышлять на тему того, какой могла быть историческая альтернатива. Эта книга – не полная хронологическая история революции (на эту тему есть много прекрасных книг), а скорее серия моментальных фотографий, запечатлевших запутанный клубок событий, происходивших в тот период. Глядя на эти «фотографии», задаешься вопросом, могла ли история в те моменты пойти иным путем.
II
Но прежде чем представить читателю наши «моментальные снимки», стоит рассказать о том, что им предшествовало. Революция не разразилась как гром среди ясного неба. Проблемы отсталого самодержавия, старающегося удержаться на плаву в период стремительных социальных и экономических перемен, были не уникальны для России. Они уже вызывали революции, в первую очередь во Франции (и об этом примере постоянно помнили русские революционеры). В России генеральная репетиция событий 1917 г. прошла в 1905-м. В 1904-м разразилась настоящая буря: страна потерпела поражение в войне с Японией, крестьяне обнищали, условия для жизни и работы в городах были чудовищны, социалистические и демократические идеи распространялись, часто в чрезвычайно заразной форме, среди интеллигенции. Потом случилось Кровавое воскресенье (9 января 1905 г.), когда царские войска в Петербурге расстреляли сотни безоружных демонстрантов, чем подорвали веру народа в Николая II и его режим. Масштабные, охватившие всю страну стачки и демонстрации заставили царя согласиться на первый представительный законосовещательный орган в истории России – Государственную думу. Эта уступка дала несколько лет непрочной стабильности. В нашем первом «моментальном снимке» Доминик Ливен анализирует, как могли бы развиваться события, если бы революция 1905 г. вызвала полномасштабный коллапс в обществе, как произошло 12 лет спустя.
В следующие несколько лет шла борьба между царем, который, под влиянием бескомпромиссной жены и «домашнего святого» – Распутина, твердо намеревался удержать свою автократическую власть, и несколькими Думами. Они регулярно распускались и вновь созывались Николаем, недовольным их составом, но продолжали требовать экономических и политических реформ. Единственным государственным деятелем того периода, продемонстрировавшим способность справиться с этими конфликтующими силами, был Петр Столыпин – премьер-министр в 1906–1911 гг. «Авторитарный модернизатор», которым восхищается, в частности, Владимир Путин, Столыпин попытался использовать авторитет царя для проведения экономических реформ, в которых так нуждалась Россия. Эти попытки прекратились с убийством Столыпина в 1911 г. Саймон Диксон в своей главе рассматривает роль Столыпина и размышляет над тем, как могли бы пойти события, если бы в роковой вечер тот не поехал в Киевскую оперу.
После отказа от серьезных попыток реформ единственным, что смогло на время снять растущее напряжение в обществе и недовольство народа, стало вступление России в Первую мировую войну в 1914 г. Как это часто бывало и как происходит и теперь, российское общество мобилизовалось и сплотилось перед лицом общего врага. Забастовки прекратились, агитаторов посадили в тюрьму, прошли многолюдные патриотические демонстрации. Однако продолжение войны, поражения армии и растущие экономические проблемы стали последним гвоздем, вбитым в гроб царского режима.
Дуглас Смит рассматривает роль Распутина, о которой мало кто знает: тот убедил Николая не вступать в Балканскую войну. Пытался он переубедить царя и в 1914-м. Не только Россия, но и весь мир были бы совсем другими, если бы ему это удалось.
Но этого не случилось. Война заставила Николая покинуть Петроград (это было новое, патриотичное название Санкт-Петербурга), чтобы командовать войсками. Бразды правления остались в неумелых руках императрицы Александры и Распутина, о которых ходили всевозможные слухи. Авторитет царя упал так сильно, что даже члены его собственной семьи устраивали заговоры с целью отстранить Николая от власти. Недовольство народа росло и достигло пика с началом хлебных бунтов в Петрограде в феврале 1917-го. Были предприняты попытки подавить бунты, однако солдаты присоединились к восставшим. Николай, находившийся в Ставке, отправил в помощь Петрограду войска, но и тут потерпел неудачу. Его же генералы стали советовать ему отречься от престола в пользу сына Алексея, говоря, что это единственный путь к спасению династии и России. Опасаясь за здоровье Алексея, Николай отрекся в пользу своего брата Михаила, однако того сочли неприемлемой кандидатурой гражданские политики в Петрограде, которые вскоре пришли к власти в составе Временного правительства. В главе, написанной Дональдом Кроуфордом, рассказывается, как закончилось 300-летнее правление династии Романовых.
Падение самодержавия ускорило появление в Петрограде и других крупных городах Советов рабочих и крестьянских депутатов (избираемых путем прямого голосования). По мере того как ухудшалась политическая ситуация, советы становились все более и более радикальными. Особенно же влиятельной стала экстремистская фракция большевиков. Временному правительству, состоявшему из традиционных политиков царской эпохи, пришлось работать совместно с Петроградским советом, а тот в любой момент мог остановить жизнь города забастовками и демонстрациями. В этот момент Министерство иностранных дел Германии, стремясь к тому, чтобы Россия вышла из войны, организовало возвращение туда лидера большевиков – Владимира Ленина – в знаменитом «пломбированном вагоне». Ленин быстро преодолел негативное отношение товарищей-большевиков и наэлектризовал политическую обстановку своими резкими (однако нашедшими широкую поддержку) требованиями свергнуть Временное правительство и закончить войну. Благодаря немецкому финансированию он сумел добиться широкой поддержки для большевиков и организовать их сторонников на улицах (создать так называемую «красную гвардию»). Большевики начали вести пропаганду в войсках и еще активнее разваливать вооруженные силы, способствуя таким образом военным поражениям России и инициируя мятежи. Эта деятельность достигла пика в июле, когда большевики попытались захватить власть, но потерпели неудачу. Многие из них были арестованы, Ленин снова покинул страну. Шон Макмикин анализирует роль Ленина в эти месяцы и пытается ответить на вопрос, как могли бы развиваться события, не будь «пломбированного вагона».
Неудавшийся большевистский переворот усилил взаимные подозрения между левыми (представленными в Петроградском совете) и правыми (представленными во Временном правительстве). Харизматичный левый политик Александр Керенский, имевший серьезный министерский послужной список, возглавил Временное правительство в июле. Он был единственной фигурой, приемлемой для обеих сторон. Новым командующим вооруженными силами Керенский назначил всеми уважаемого патриота генерала Корнилова, которому было поручено восстановить дисциплину в войсках и продолжить военные действия. К сожалению, после целого ряда недоразумений, о которых рассказал в своей главе Ричард Пайпс, Керенский начал видеть в Корнилове потенциального военного диктатора. Он склонился в сторону левых и, чтобы найти широкую поддержку в борьбе против «контрреволюции», выпустил на свободу недавно арестованных большевиков, хотя Ленину вернуться не разрешили. В конце августа 1917 г. Корнилов был снят с поста главнокомандующего и арестован. За это Керенский дорого заплатил: его правительство утратило поддержку армии и стало заметно уступать в популярности большевикам, у которых к тому времени появилось большинство в Петроградском совете. Теперь путь к захвату власти был открыт.
Решающий момент настал вечером 24 октября 1917 г. На следующий день в Смольном должен был собраться съезд Советов со всей страны. По его результатам Временное правительство должно было потерять власть и быть замещено коалицией всех социалистических партий (не только большевиков). Тайно вернувшийся в Петроград Ленин был твердо намерен не допустить этого. Переодевшись рабочим, он отправился через весь город в Смольный. Полицейский патруль остановил его, но не узнал. В Смольном он заставил лидеров большевиков, которые в тот момент вели активные переговоры о коалиции, начать немедленный захват власти. Переворот, в том числе знаменитый «штурм Зимнего», произошел на следующий день. Россией стала править не социалистическая коалиция, а одни лишь большевики. Орландо Файджес в своей главе рассуждает о том, что было бы, узнай военный патруль Ленина и арестуй его.
До этого момента большевики контролировали лишь Петроград, затем (после нескольких дней боев) взяли власть в Москве. Однако с непоколебимой жестокостью (в декабре 1917 г. была учреждена ВЧК – наводящая ужас советская тайная полиция) они постепенно усиливали свою хватку и расширяли влияние. В Москве большевики выдавили из политического процесса партии-соперники и арестовали многих из их лидеров. В губерниях воевали против «белых» – разнородных антибольшевистских сил, возглавляемых бывшими царскими генералами и политиками, которые получали поддержку из-за границы. В этот момент большевики поняли, насколько опасен для них царь, находившийся с семьей на Урале. Николай становился «живым символом», вокруг которого могла сплотиться контрреволюция. Эдвард Радзинский рассматривает моменты, когда царь мог бежать и сыграть именно такую роль. Этого большевики и боялись, поэтому в июле 1918 г. в Екатеринбурге убили царя и его семью.
Одно из главных обещаний, данных в феврале Временным правительством, у которого, конечно, не было выборного мандата, касалось созыва Учредительного собрания. Надежды политиков уже давно были сосредоточены на Собрании – органе, который должен был создать конституцию для постромановской России и сформировать легитимное демократическое правительство. Однако приготовления заняли много времени. Долгожданные выборы в Учредительное собрание, которые даже большевики не могли отменить, хотя уже находились у власти, начались только в ноябре. Большевикам досталась лишь четверть голосов. Ленин осудил результаты выборов под предлогом того, что интересы революции были выше «буржуазной демократии».
Учредительное собрание созвали в Петрограде в январе 1918-го, однако уже на второй день работы оно было закрыто Красной гвардией и больше не собиралось. В своей главе я задаюсь вопросом, насколько иначе все могло быть, если бы Временное правительство действовало быстрее.
Усиливающиеся политические репрессии, гражданская война и проблемы в экономике не могли не породить оппозицию большевистскому режиму. Наиболее драматично это проявилось в покушении 30 августа 1918 г. на Ленина. Он был серьезно ранен, но выжил. Покушение использовали для оправдания Красного террора, во время которого ВЧК арестовала и казнила десятки тысяч противников режима (и создала прецедент для сталинского Большого террора). Ранение, вероятно, стало одной из причин ранней смерти Ленина в 1924 г., открывшей путь во власть Сталину. Мартин Сиксмит рассказывает историю покушения и задается вопросом, какими могли быть его последствия, если бы выстрел оказался точнее.
Победа большевиков в гражданской войне вовсе не была предопределена. Хотя к началу 1918 г. под их контролем находилась основная часть Центральной России, на востоке и юге они столкнулись с анархией и повсеместным сопротивлением, в том числе со стороны крестьян. «Позорный» мирный договор с Центральными державами в марте 1918 г., отдавший Украину и большую часть Западной России под немецкую и австро-венгерскую оккупацию, не прибавил им привлекательности в глазах крестьянства. Сопротивление большевикам возглавили несколько белых генералов, имевших поддержку за границей, и базировавшийся в Сибири Комуч – группа политиков, в том числе и левых, объявивших себя Временным всероссийским правительством на том основании, что они были членами распущенного Учредительного собрания. Однако Комуч пошел ко дну из-за несогласий и конфликтов между его правым и левым крылом. В результате переворота 17 ноября 1918 г. на смену ему пришла диктатура адмирала Колчака. Теперь правое крыло возглавило все антибольшевистские силы, однако политическая программа Колчака была реакционной, и крестьянам он не мог предложить ничего. Поэтому большинство из них встали на сторону большевиков и помогли им завоевать окончательную победу. Эван Модсли разбирает эти события и пытается ответить на вопрос, возможна ли была на тот момент какая-либо историческая альтернатива.
Одним из порождений гражданской войны стал военный коммунизм – политика тотального контроля большевиков над экономикой и населением России, сопровождавшаяся массовыми арестами и убийствами. Военный коммунизм во многом предвосхитил сталинизм. Ключевым его моментом была продразверстка – масштабное изъятие зерна у крестьян, часто приводившее к массовому голоду. В 1919–1920 гг., когда гражданская война приближалась к концу, продразверстка стала причиной многочисленных бунтов среди крестьян, и не только (так, в феврале 1921 г. восстал гарнизон Кронштадта, прежде бывшего одним из оплотов революции). В 1921 г. режим был вынужден отказаться от продразверстки. Это стало важнейшим первым шагом в направлении НЭПа – новой экономической политики, короткой «оттепели» и частичного возврата к рыночной экономике. Благодаря НЭПу прекратились протесты, экономика стала восстанавливаться. Однако значительная часть партийцев ненавидела НЭП по идеологическим соображениям. В 1928 г. пришедший к власти Сталин положил конец НЭПу и возродил реквизицию зерна. В своей главе Эрик Ландис задается вопросом, мог ли быть другим путь, приведший к сталинизму, если бы, как предлагал в то время Троцкий, разверстку отменили на год раньше.
Большевики, конечно же, исповедовали радикальный и агрессивный атеизм. Их стиль правления наглядно демонстрируют отношения с Русской православной церковью. Хотя идеологическая враждебность по отношению к церкви сохранялась в течение всего периода правления коммунистов, период активных репрессий был всего один, и начался он с изъятия церковных ценностей в 1922 г. Катриона Келли анализирует этот эпизод и задается вопросами, как он раскрывает перед нами другие черты большевистского правления и какими могли быть последствия иного подхода к отношениям церкви и государства.
Конечным итогом революции стал, разумеется, тоталитарный коммунистический строй. Власть оказалась в руках единственной правящей партии, жестко централизованной, непрозрачно управляемой и погрязшей в бюрократии, а также зависящей от обширного репрессивного аппарата. Широкие дебаты с участием общественности исключались и сурово наказывались, об оппозиции говорить не приходилось. Многие пытались доказать, что такой результат был неизбежен, раз власть захватила экстремистская фракция, представлявшая незначительную группу населения и движимая эсхатологической идеологией. Неудивительно, что в условиях враждебности к внешнему миру, внутренней гражданской войны и экономического коллапса этой фракции приходилось держаться за власть буквально зубами. В самом начале, однако, была надежда на альтернативу, при которой, даже если исключить демократию за пределами партии, она могла бы существовать внутрипартийно. Ричард Саква рассматривает альтернативные варианты и задается вопросом, позволили ли бы они избежать прихода к тоталитаризму.
III
Сложно не видеть, насколько трагичен ход русской революции. Страна, которая хоть и скачкообразно, но, несомненно, развивалась, столкнувшись с силами, вдохновленными самыми высокими надеждами человечества, погрузилась в мрачные глубины тирании и массовых убийств. Даже традиционные историки-марксисты (исчезающий вид) допускают теперь, что дорога утопий завела совсем не туда. Однако насколько «неизбежна» была эта трагедия? Позвольте мне объяснить, каким подходом в этом вопросе оперирует данная книга. Сейчас в сообществе историков идут настоящие бои по поводу «альтернативной истории». Отчасти в ответ на хорошо принятую книгу очерков по альтернативной истории под редакцией Нила Фергюсона профессор Ричард Эванс недавно написал работу, в которой выразил свое отношение к альтернативной истории. С его точки зрения, это в основном развлечение правых, выдающих желаемое за действительное, что часто выглядит забавно, однако на практике не дает ничего для настоящего понимания прошлого. В самом деле, когда я искал авторов для этой книги, несколько именитых историков отказались участвовать в проекте именно потому, что не хотели «играть» в альтернативную историю. Прекрасно. Однако, мысля логически, мне очень трудно понять, как неизбежность исторического события или ее отсутствие можно оценить, не проанализировав те моменты, когда дорога могла повернуть совсем в другую сторону. Авторы этой книги решили поставленную перед ними задачу по-разному. Некоторые повели нас по пути, очень отличному от того, которым в конечном итоге пошла история. Некоторые сосредоточились на тех моментах, когда роль случая была необычайно велика и даже небольшое изменение обстоятельств могло привести к совершенно иному историческому результату. Некоторые рассказали о происшествиях и недоразумениях, приведших к определенному результату, предоставив читателям размышлять о том, каким еще он мог быть. Другие же проанализировали широко разрекламированные альтернативы того пути, по которому в конечном итоге пошли события, лишь для того, чтобы заключить, что на самом деле ни одна из этих альтернатив не была очень уж вероятна. Все эти подходы, как мне кажется, работают. И все вместе они ведут к вопросу, насколько неизбежным, c разных точек зрения, был российский трагический XX в. Традиционная хронологическая история едва ли подвела бы нас к этому вопросу.
Гегель когда-то сказал: «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории». Надеюсь, он был неправ. В моей дипломатической карьере я часто не имел иного ориентира для анализа конкретной задачи или ситуации, кроме каких-либо исторических событий. В особенности в России с ее печально известным непрозрачным стилем правления – стране, где я много работал, – знание российской истории часто становилось важнейшим источником понимания текущей ситуации. Сами русские также полагаются на историю, когда пытаются разобраться, куда движется мир. Для революционеров 1917-го главным историческим прецедентом, одновременно позитивным и негативным, стала Французская революция, а основной задачей было избежать появления – как это случилось во Франции – военного диктатора, «Наполеона». И это им удалось. Но вместо Наполеона они получили Сталина. Было ли это неизбежно? Судить об этом я предоставляю читателю.
1. Возможность интервенции и ее долгосрочные последствия 1900–1920 гг. Доминик Ливен
Когда в 1970-х гг. я занялся историей последнего периода существования Российской империи, основной темой для английских и американских исследователей в этой области был диспут так называемых оптимистов и пессимистов. Оптимисты считали, что конституционный строй, укреплявшийся в России в 1906–1914 гг., знаменовал ее сближение с западной либеральной демократией и этот процесс мог бы увенчаться успехом, если бы Первая мировая война не оборвала его, дав Ленину возможность совершить в октябре 1917 г. «большевистский переворот» – именно так именовали это событие оптимисты. Пессимисты, напротив, считали царизм заведомо обреченным, а большевизм – наиболее вероятным победителем в неизбежном революционном кризисе России.
Мне представляется, что подобный «выбор» судьбы для России в 1914 г. – между демократией и коммунизмом – отражает в гораздо большей степени контекст холодной войны, в котором происходил этот спор, чем российские реалии начала XX в. Это не столько спор о российской истории, сколько борьба между конкурирующими западными идеологиями, перенесенная на российскую почву. Терминология этого диспута сама по себе демонстрировала, как сильно влияет на мышление историков настоящее с его заботами, особенно в такой чрезвычайно важной и политически напряженной области, как изучение российской истории в пору холодной войны.
Думать, будто Россия могла осуществить мирный переход к либеральной демократии, – значит тешить себя иллюзиями. Россия была огромной многонациональной империей, одной из многих, деливших между собой в 1900 г. земной шар. Ни одна из этих империй не сохранилась, и ни одна не исчезла без борьбы. Кроме того, Россия находилась на бедной и наименее развитой окраине Европы, где средние классы были слабее и права на собственность не так надежно гарантированы, как на основной части континента. И политическая конфронтация с массами оказалась для элит на периферии намного более опасной, чем в центре Европы. Эту периферию я называю вторым миром. Большинство государств второго мира жили после 1918 г. при авторитарном режиме, и часть из них освободилась от него только в 1945 г. – не столько собственными усилиями, сколько благодаря победе союзников во Второй мировой войне. Если уж Испания и Италия, где либеральные институты и ценности были укоренены гораздо прочнее, чем в России, охотно приняли в 1920-е гг. авторитарные и даже тоталитарные режимы, о каком шансе для российской демократии можно говорить?! Победа большевистской революции в Российской империи начала XX в. была более вероятной, чем победа либеральной демократии, но тем не менее большевизм не был самым предсказуемым исходом – причем по ряду причин, самая важная среди которых, пожалуй, международное положение. Мне кажется фантастической мысль, будто европейские державы могли допустить, чтобы режим – любой режим – в России вышел из системы международной безопасности, превратился в штаб мировой социалистической революции и вдобавок отрекся от долговых обязательств (в триллионы долларов на современные деньги) перед гражданами этих великих держав.
Так мы сразу же подбираемся к основной задаче этой главы: подчеркнуть ключевое влияние международной ситуации на российскую революцию и разобрать ряд гипотетических путей развития, которые также могли сложиться под влиянием «международных факторов». Для полного освещения темы следует начать с 1905–1906 гг.
В эти годы Россию сотрясла революция, которая чуть было не свергла монархию. Если оглядываться на эти события с точки зрения революционеров или либералов, мои слова могут показаться преувеличением: режим оказался очень прочным. Однако, если посмотреть на ситуацию в высших слоях российской власти глазами тогдашних государственных деятелей, сложится иное впечатление. Эти круги охватил страх перед возможным падением режима. Самая тяжелая пора длилась с октября 1905 г., когда Николай II даровал стране Конституцию, до июля 1906 г., когда он благополучно распустил Первую думу.
Манифест 17 октября, обещавший в числе прочего Конституцию, ни в малейшей степени не удовлетворил российских либералов. Партия конституционных демократов (кадетов) настаивала на всеобщем праве голоса для мужчин, на формировании правительства, подотчетного парламенту, на экспроприации значительной части дворянских земель и амнистии всем политическим заключенным. Революционные партии социалистов были с точки зрения режима (и тут власти не ошибались) и вовсе непримиримыми и пользовались широкой поддержкой заводских рабочих. В то же время бунтовало и село: крестьяне сжигали усадьбы, захватывали урожай и терроризировали землевладельцев и управляющих поместьями. Положение правительства осложнялось также растерянностью в его собственных рядах: после Октябрьского манифеста департамент полиции при Министерстве иностранных дел, которому полагалось направлять и координировать подавление революции, находился в смятении, чиновники перестали понимать, какие действия от них требуются, агенты и информаторы перестали работать. Основная часть флота и многие армейские подразделения не выглядели надежной опорой режима. Даже в армии происходили бунты, и существовала вероятность того, что солдаты скорее перейдут на сторону революции, чем будут служить властям. Во многих полках лояльность висела на волоске: сегодня они могли выйти на подавление бунта, а завтра – отказаться. Правительство понимало, какие надежды возлагали на Первую думу крестьяне, из которых в основном и состояла армия: они ждали полной экспроприации дворянских угодий. По мере того как приближалось время распускать Думу, страх нарастал. 11 июня 1906 г. первый батальон Преображенского гвардейского полка, самого элитного подразделения российской армии, взбунтовался. Генерал Александр Киреев, обычно большой оптимист, записал в дневнике: 'Nous y voila!' («Вот оно!» – франц.){1}
Что могло произойти, если бы верность армии режиму поколебалась и большинство подразделений отказались исполнять приказы или вовсе перешли на сторону революции? Процесс радикализации пошел бы по спирали, как во Франции 1789 г., но только еще более радикально и стремительно. У либеральных лидеров-кадетов не было бы ни малейшего шанса контролировать этот процесс или ограничить его какими-то рамками. В отличие от Французской революции, теперь уже существовали социалистические учения и партии социалистов-революционеров, более того, они пустили глубокие корни в среде российской интеллигенции. Большинство крестьян, мечтавших об уничтожении дворянского землевладения, также были стихийными социалистами, и многих рабочих привлекла распространявшаяся революционерами пропаганда социалистического учения. В местах проживания инородцев разразился бы хаос: зимой 1905–1906 гг. Закавказский регион и так ускользал из-под влияния центральных властей. Если бы режим тогда пал, процесс дезинтеграции пошел бы дальше, социальная революция вскоре приобрела бы дополнительный аспект межэтнических войн. Движение за полное отделение от России оформилось бы лишь в Польше и, возможно, в Финляндии, но в других нерусских регионах прозвучали бы требования большей или меньшей локальной автономии. Неизбежные крайности революции спровоцировали бы реакцию – это и в самом деле случилось в 1905–1907 гг., когда широкую поддержку получили черносотенцы. Если бы этот процесс внутреннего конфликта развивался дальше, трудно предсказать, когда он мог бы закончиться и какие силы в итоге взяли бы верх.
Но в реальности внешние силы не могли бы допустить, чтобы распадающаяся Россия сама решала свою судьбу, и с большой вероятностью их вмешательство изменило бы ход событий – по крайней мере на ближайшее время. Интервенцию почти неизбежно возглавила бы Германия, поскольку она граничила с Россией и имела самую сильную армию в Европе. Правда, канцлер Германии Бернгард фон Бюлов страшился такой перспективы. Он помнил о последствиях иностранного вторжения во Францию в 1792–1793 гг.: в результате национальное чувство французов объединилось с революционным движением и начался террор. Бюлов также понимал, что и немецкие социалисты будут решительно против контрреволюционного вторжения в Россию. Но когда Россия начала бы соскальзывать в бездну анархии и социализма, и у Бюлова, и у других европейских правителей не осталось бы выбора. Едва ли какой-либо российский режим отважился бы в мирное время на самоубийственный отказ платить по долгам и навлек на себя, таким образом, иностранную интервенцию, но ширящаяся революция вызвала бы экономический крах и бегство капитала, и страна вынуждена была бы объявить дефолт по международным обязательствам. В эпоху до 1914 г. капиталисты и стоявшие за их спиной великие державы обходились с банкротами круто. Держатели российских государственных облигаций оказали бы мощное давление на правительства своих стран, требуя защитить инвестиции и способствовать установлению в России стабильного несоциалистического режима. Особенно активно эти требования прозвучали бы во Франции, граждане которой понесли бы наибольшие потери. Если бы немецкая армия возглавила вторжение в Россию для защиты французских кредиторов, это могло бы на время вызвать небывалую солидарность между французами и немцами, однако в Париже радость существенно перевешивал бы страх при мысли об исчезновении – в обозримом будущем – Российской державы как гаранта французской безопасности и равновесия сил в Европе.
Дефолт вынудил бы к какой-то форме интервенции, но к еще более решительным и жестким мерам побудило бы европейские державы ширящееся насилие против иностранцев и их собственности в России. Уже тогда, зимой 1905–1906 гг., британский консул в Риге (привожу один пример из множества) требовал немедленной высадки десанта Королевского флота для защиты британских подданных. Но и здесь ведущая роль принадлежала бы немцам, поскольку в России этнических немцев проживало гораздо больше, чем французов, англичан, итальянцев или австрийцев. Многие немцы были российскими подданными, в том числе элита прибалтийских провинций – землевладельцы, предприниматели, специалисты с высшим образованием. У земельной аристократии Балтии имелись обширные связи в Берлине. В разгар революции 1905 г. император Вильгельм II заявил профессору Шиману, самому известному представителю прибалтийской интеллигенции в Берлине, что в случае падения царя и распространения анархии в этих провинциях немецкая армия готова вмешаться. Разумеется, нельзя приравнивать посулы императора к государственной политике, но трудно вообразить, чтобы немецкое правительство любого состава оставалось в стороне, когда в соседнем регионе этнических немцев начали бы лишать собственности, сжигая усадьбы, а зачастую и убивать. Такого рода беспорядки уже начинались в Прибалтике, однако их удалось пресечь в начале 1906 г. карательными экспедициями российской армии. Но если бы монархия пала и вместе с ней распалась армия, тогда поджоги, убийства и хаос распространились бы повсеместно и немецкое вторжение оказалось бы практически неизбежным.
Каков был бы результат иностранной интервенции? Привела бы она, как во Франции 1792–1793 гг., к сплочению радикалов и националистов на стороне революции? Возможно, хотя и очень трудно представить себе, как российские землевладельцы объединились бы с социалистическим режимом, планирующим экспроприацию имений. Возможно, российская контрреволюция объединилась бы с иностранной интервенцией, как поступили в 1936 г. франкисты в Испании, при всей своей националистической идеологии. Вероятно, лучше всего сравнить эту ситуацию с вторжением России в Венгрию в 1849 г. Господствующей идеей российского консерватизма к 1900 г. стал национализм: российские элиты глубоко верили в мощь своей страны, ее статус в мире, во всеобщее уважение к ней. Если бы их власть была восстановлена германскими штыками, унижение было бы нестерпимым и, возможно, как Австрия после 1849 г., так теперь консервативная Россия обратилась бы против своих спасителей, изумив мир (воспользуемся выражением Феликса Шварценберга) своей неблагодарностью. Следует также учесть тяжелые последствия российского краха и немецкой интервенции для международных отношений в Европе и для европейского баланса сил. Российский посол в Лондоне в 1903–1916 гг. граф Александр Бенкендорф полагал, что немедленным последствием такого распада и немецкого вмешательства будет альянс Франции и Британии, который с большой вероятностью приведет в скором времени к общеевропейской войне. Теперь уже невозможно оценить, в какой мере этот прогноз был точен. С уверенностью можно сказать лишь, что России понадобилось бы гораздо больше времени на восстановление после распада и интервенции, чем ушло на укрепление режима после 1906 г. В этот период восстановления мощь Германии существенно возросла бы, и, если бы восстановлению России сопутствовал направленный против немцев национализм (а его в 1906–1914 гг. было предостаточно и без всякой интервенции), едва ли Берлин устоял бы перед искушением использовать такую возможность и вступить в войну, чтобы обеспечить себе гегемонию в Европе и полную безопасность на долгие годы. Тут читатель может задать вопрос: так ли уж этот гипотетический сценарий отличается от реальных событий? Ведь в 1914 г. и в самом деле разразилась война. Ключевое отличие в том, что в предложенном мной варианте у Германии имелись все шансы выиграть войну.
Может показаться, что альтернативный сценарий событий в России начала XX в., предлагающий подробный анализ международной обстановки, должен сосредотачиваться на ключевом событии той эпохи, т. е. начале Первой мировой войны. Ведь вопрос «Произошла бы революция без войны?» задается историками вновь и вновь. И он кажется тем более актуальным при нынешней тенденции в изучении Первой мировой войны подчеркивать преемственность событий и доказывать, что войны можно было избежать. С этими выводами я отчасти согласен: если бы Франц Фердинанд не был убит в Сараево, с большой вероятностью война в 1914 г. не началась бы. Первой решение приняла Вена: столкнувшись с геополитическим упадком и растущим национализмом на местах, правительство Австрии поддалось отчаянию, проявило самонадеянность и положилось на неверные расчеты. Здесь можно провести немало параллелей с поведением других имперских элит в подобных обстоятельствах. Во многих отношениях таким «1914 годом» для Британской и Французской империй стал Суэцкий кризис, но ключевое различие между 1914 и 1956 гг. состоит в том, что Вашингтон пресек планы Лондона, а Берлин не только допустил, но и поощрял австрийскую авантюру. Как только 22–23 июня 1914 г. Германия выдала Австрии карт-бланш, самым вероятным исходом стала война.
Глубинными ее причинами была борьба империй и национальных характеров, которая в различных формах сделалась одним из основных факторов истории XX в. В этом смысле Первая мировая отнюдь не была громом среди ясного неба, как нередко изображают ее в литературе. В том самом 1914 г., когда борьба вылилась в войну на юго-востоке Европы, такие же точно проблемы парализовали британское правительство и грозили гражданской войной в Ирландии. К Первой мировой войне привели огромные, едва ли преодолимые проблемы, сопутствовавшие упадку и приближавшемуся разрушению Османской и Габсбургской империй. Единственная возможность мирного управления этим процессом крылась в сотрудничестве России и Германии. Так называемая «немецкая» партия в российском правительстве настаивала на возобновлении союза с Берлином, но в начале века антагонизм между Россией и Германией по ряду причин нарастал, и преодолеть его было бы непросто.
Даже если бы удалось избежать столкновения в 1914 г., в ближайшие годы война, с большой вероятностью, все равно началась бы, но это вполне могла быть другая война, в которой Британия соблюдала бы нейтралитет. К 1914 г. появились явные признаки сближения Лондона с Берлином и возрастающего недоверия к России. Все это вынуждает нас вернуться к альтернативному варианту развития событий: что, если бы Германия выиграла войну? Если бы Англия оставалась нейтральной, что в таком сценарии вполне вероятно, у Германии появился бы существенный шанс победить. И для того чтобы вообразить такой исход, даже не обязательно исключать из европейского конфликта англичан, поскольку Германия и так едва не вышла из Первой мировой победительницей.
Зима 1916–1917 гг. стала поворотным моментом истории. Если бы немцы не вовлекли в конфликт Соединенные Штаты – в тот самый момент, когда революция предвещала крах России, – они с большой вероятностью одержали бы в Первой мировой войне верх (со всеми вытекающими из этого последствиями для России и Европы в целом). Итак, «альтернативный» вопрос имеет смысл формулировать так: что, если немецкое правительство не перешло бы зимой 1916–1917 гг. к полномасштабной войне подлодок, втянув таким образом в конфликт Соединенные Штаты? При этом ключевой момент, который следует держать в уме: для победы в Первой мировой войне Германии не требовалось сломить противника на Западном фронте – там достаточно было бы затянувшей патовой ситуации при условии окончательной победы Германии на востоке. Итогом такой победы стало бы возвращение к чему-то вроде довоенного статус-кво на западе и сохранение условий Брест-Литовского мира на востоке (которым и завершилось германо-российское противостояние в марте 1918 г.). И если бы немцы не вынудили Америку вступить в войну, такой результат был бы им почти гарантирован. Без американских или российских союзников Франция вместе с Великобританией не сумели бы одолеть Германию. К зиме 1916 г. казалось вполне вероятным, что правительство Соединенных Штатов лишит Англию и Францию возможности финансировать военный бюджет, наращивая займы на американском рынке. Одного этого было бы недостаточно, чтобы вынудить Англию и Францию пойти на уступки и заключить мир, но в сочетании с распадом России победа Антанты сделалась бы немыслимой. Вступление американцев в войну не только существенно улучшило финансовое положение стран Антанты, но и подняло их боевой дух в тяжелую пору 1917 г. и начала 1918-го. Ко второй половине 1918 г. американская армия уже играла на Западном фронте ключевую роль, и мысль о почти неисчерпаемых ресурсах, которые может привлечь на фронт Америка, если борьба затянется, существенно повлияла на решения, принимавшиеся германским командованием в 1918 г., и в целом лишила Германию уверенности в благополучном исходе войны. Брест-Литовский мир позволил установить в Центральной и Восточной Европе «немецкий порядок», что имело огромное значение для всех народов континента. В XX в. Германия и Россия оставались (как минимум потенциально) двумя самыми сильными державами континентальной Европы, и обе мировые войны были вызваны главным образом соперничеством между ними. Если бы одна из сторон существенно ослабла, другая смогла бы полностью контролировать Восточную и Центральную Европу, если бы только американцы не взяли на себя всю ответственность за поддержание европейского равновесия – но такое произошло лишь в 1945 г., а в ту пору было еще немыслимо. В 1918 г. крах России позволил Германии завладеть восточной частью Центральной Европы и тем самым сделаться безоговорочно сильнейшей страной на континенте. В 1945 г. та же ситуация повторилась с точностью до наоборот, а вторичный крах российского могущества в 1989–1991 гг. привел к объединению Германии. И в числе прочих последствий мы теперь вынуждены (но на данный момент в гораздо менее угрожающем контексте) искать способы адаптироваться к лидерству Германии в Европе, так, чтобы оно сдерживалось другими силами и чтобы способы эти были приемлемы для всех европейцев, включая немецкий народ. В силу исторических причин и современной политико-экономической ситуации эта задача очень непроста, и отсюда проистекает большинство проблем современной Европы.
Брест-Литовский мир лишил Россию всех территорий, приобретенных после царствования Петра I, т. е. заключил ее в тех границах, в каких Российская Федерация находится сейчас, и главной проблемой для нее была даже не утрата земель, завоеванных Петром и его последователями, а провозглашение независимости Украины, территории¸ подвластной царям еще с XVII в. В начале XX в. без Украины Россия не могла бы претендовать на статус великой державы. В тот момент Российская империя конкурировала с Соединенными Штатами за место крупнейшего в мире экспортера зерна, а выращивала экспортную пшеницу главным образом Украина. Экспорт зерна играл ключевую роль в положительном балансе международной торговли России и в государственной стратегии экономического развития, которая в ближайшей и среднесрочной перспективе предусматривала привлечение иностранных капиталов и технологий благодаря экспорту зерна. Также Украина поставляла большую часть добываемых в Российской империи угля и железа, здесь же была сосредоточена металлургическая отрасль. Жизненно важная роль Украины в российской экономике обуславливалась еще и тем, что Урал, где Петр Великий развивал металлургическую и оборонную промышленность, уже 100 лет как пришел в упадок, и возродиться ему было суждено лишь в пору сталинской индустриализации 1930-х гг.
Если бы Украина отделилась от России, Германии было бы обеспечено господство в Европе, тем более что независимая от России Украина могла существовать лишь в качестве сателлита Германии. Российское правительство – при любом режиме – не согласилось бы терпеть независимость Украины, и только Германия могла бы защитить ее от восточного соседа. Помимо геополитической уязвимости Украину ожидали и серьезные внутренние проблемы: при столкновении с большевистской Россией независимая Украина никак не могла бы положиться на лояльность коммунистов, русских рабочих из городов на восточной границе и шахтеров, а также большинства евреев. В совокупности эти группы составляли значительную часть населения, а во многих восточных регионах даже большинство. Хуже того, украинский национализм был уделом меньшинства даже в коренных центральных областях Украины. Крестьяне по большей части не воспринимали себя как украинцев, их идентичность определялась принадлежностью к деревенской общине и православной церкви, а если у них имелась более широкая политическая идентичность и представление о государственной лояльности, то они традиционно соотносили ее с царем, защитником православной веры. В предвоенные десятилетия в среде местной интеллигенции нарастал ожесточенный конфликт именно по вопросу, считать ли украинцев отдельным народом или частью большого русского этноса. Противоборство разворачивалось по обе стороны российско-австрийской границы, поскольку более четверти населения, которое мы теперь называем украинским, находилось под властью Габсбургов и средоточием украинского национального движения была австрийская Галиция. И Вена, и Петербург прекрасно понимали значение этой борьбы за формирование украинской идентичности и за то, чтобы привить эту идентичность массам, превращавшимся из неграмотного крестьянства в современных горожан. Хотя англоязычная историография, разбирая истоки Первой мировой войны, почти не уделяет внимания украинскому вопросу, именно из-за него все более обострялись отношения между Россией и Австрией.
Говоря, что Украина могла существовать лишь в качестве немецкого протектората, я не имел в виду, что это государство было нелегитимно. Со временем украинская власть могла бы обеспечить себе достаточный контроль над системой образования и привить большинству граждан сознание украинской идентичности. Независимая Украина в любом случае была гораздо более правомочным государством, чем, например, Ирак, выкроенный Великобританией из остатков Османской империи главным образом с целью обеспечить себе доступ к месторождениям нефти. Фундаментальная проблема для большинства постимперских государств заключается в том, что внутри империи множество народов перемешиваются исторически и географически и процесс разделения происходит сложно, зачастую жестоко. Менее всего для решения этих проблем годится политика, сочетающая Вестфальскую идею абсолютно суверенных государств с присущей европейскому национализму одержимостью общим языком, историей и происхождением. Итак, независимая Украина в первые десятилетия своего существования при слабости нового режима страдала бы от внутренних конфликтов, однако, заручившись покровительством Германии, это государство вполне могло бы существовать.
Тогда основной вопрос заключается в том, насколько устойчив был бы союз Украины с Германией и в целом немецкий порядок на востоке Центральной Европы. Нужно ведь понимать, что создание военной базы империи или хотя бы альянса лишь первый шаг, причем, как правило, самый легкий. Для сохранения империи требуется второй, зачастую более трудный, этап политической консолидации, создание соответствующих институтов и легитимация. В этом имел возможность убедиться Наполеон, как и англичане, которые к 1763 г. создали империю в Северной Америке – лишь затем, чтобы через 20 лет потерять там почти все территории. Даже выйдя победительницей из Первой мировой войны, Великобритания испытывала серьезные проблемы именно с консолидацией уже существовавшей на тот момент империи. В Египте и Индии английское господство удалось сохранить, хотя и ценой серьезных уступок, но в Ирландии империя потерпела поражение. И хотя послевоенные соглашения фактически допускали включение значительной части ближневосточных территорий в состав Британской империи, здесь проблем тоже хватало: например, местные восстания и недостаток финансов принудили Лондон перевести Ирак на подконтрольное самоуправление. А попытки овладеть Константинополем и Кавказом оказались империи не по силам, и британские войска вынуждены были отступить.
Итак, вопрос в том, смогла бы Германия успешно осуществить второй этап строительства империи в Восточной Европе, т. е. добиться политической консолидации. Опыт построения Германской империи в 1917–1918 гг. не внушает оптимизма. Не то чтобы немецкие правители были безнадежно глупы или бесчеловечны. Глава гражданской администрации, сформированной немцами на территории Украины, был как раз человеком порядочным и разумным и пытался применить здесь уроки, которые усвоил перед войной, изучая земельную реформу в Ирландии, а также собственный опыт управления японскими железными дорогами в Корее. Это помещает деятельность немцев в Восточной Европе во вполне приемлемый контекст. Но в целом немецкая администрация отпугивала местное население своей авторитарностью и жесткостью. Между немцами и местными националистами постоянно происходили стычки. Лишь на самой периферии новой империи, в Финляндии и Грузии, немецкое вмешательство приветствовалось и принесло некоторый успех. В Финляндии немцы служили местным элитам и среднему классу защитой от российских большевиков и воспринимались как естественный союзник. Та же формула оказалась применима и в Грузии, где немцы казались щитом против их же союзников, турок, продвигавшихся в Закавказье.
Однако нужно учитывать ситуацию, в которой приходилось действовать немцам. Чтобы создать прочный фундамент империи, требуется немало времени. Так, в Ираке англичанам пришлось в 1918–1922 гг. сначала подавить крупное восстание и пересмотреть целиком свою политическую стратегию, прежде чем удалось установить стабильный имперский строй, приемлемый и для них самих, и для местных элит. Германия в 1917–1918 гг. оказалась в Восточной Европе в крайне неблагоприятных условиях. Приоритетной задачей была победа в войне, и с ней следовало поспешить, пока население страны не начало голодать и пока американское подкрепление не обеспечило победу Антанте. Этой задаче были подчинены все прочие, и германское правление в Восточной Европе в основном сводилось к широкомасштабной, однако не слишком успешной фуражировке. Устраните из этого уравнения американское вмешательство и подставьте взамен мир в результате патовой ситуации на Западном фронте – и расклад сил заметно изменится. Тогда Германская империя смогла бы применить в Восточной Европе не только военную силу, но также экономические и культурные рычаги для укрепления своей власти. Для значительной части этого региона Германия была естественным экономическим партнером и культурным образцом. С другой стороны, подчас нелегко было бы согласовать некоторые ключевые для немцев интересы с политикой, обеспечивающей поддержку на востоке Центральной Европы: как обычно, германское аграрное лобби оказалось бы самым напористым и наименее конструктивным.
Успех германского правления зависел бы от того, насколько разумно (или неразумно) немцы подошли бы к строительству своей империи. Подавляющее большинство гражданских чиновников, а также лидеры центристских и умеренно левых политических партий сознавали, что успешная империя на востоке может быть только «неформальной», вынужденной учитывать местное национальное самосознание и сотрудничать с местными элитами. Военное руководство действовало грубее и вместе с некоторыми своими сторонниками из числа гражданских лиц нацеливалось на дальнейшую аннексию. Практически невозможно угадать, каков был бы итог политических игр с участием различных группировок внутри победоносной Германии и к чему привело бы столкновение германского руководства с реалиями Восточной и Центральной Европы. С окончанием войны генштаб должен был отчасти утратить свое влияние, но всякий раз, когда стратегические интересы империи или немецкого меньшинства в регионе сталкивались бы с местными интересами – в Латвии, Эстонии и Польше, в Берлине с большой вероятностью одерживали бы верх сторонники максимально жесткой линии.
Насколько приемлемой была бы неформальная империя для населения Восточной Европы? От такого вопроса местных националистов может хватить удар – и не без причины: для поляков господство немцев в регионе означало бы серьезное препятствие для их собственных планов национального строительства, в особенности если немцы сочли бы для себя полезным поддержать украинцев в ожесточенном польско-украинском споре о судьбе Восточной Галиции. Столь же неприятна была бы победа Германии латышам и эстонцам, желавшим избавиться от засилья немецкой элиты в Прибалтике. Учитывая убыль латышского населения (как на войне, так и в результате эмиграции), целенаправленная политика немецкой колонизации могла бы даже привести к формированию в этой небольшой стране немецкого большинства. В пределах Австро-Венгерской империи победа Берлина укрепила бы австро-немецкое управление и приоритет немецкого языка в образовании и делопроизводстве, однако, если бы Габсбурги сохранили власть (а победа немцев как раз этому и способствовала бы), они не допустили бы крайних форм немецкого национализма на подвластных им землях, потому что это грубо противоречило бы основным принципам династии. Более того, для некоторых групп населения Восточной Европы (самая заметная из них – евреи) такая неформальная Германская империя была бы весьма привлекательна.
Гипотетическую Германскую империю в Восточной Европе стоит сравнивать не с нынешней ситуацией в регионе, а с судьбой Восточной Европы на протяжении основной части XX в. Главное, что следует учитывать: в 1918 г. было установлено всего лишь перемирие, а не прочный мир. Отчасти это произошло потому, что коалиция победителей, которая диктовала условия в Версале, вскоре распалась, устранив, таким образом, те политические и силовые основания, на которых держалось соглашение. Соединенные Штаты вновь отошли от европейских дел, а Великобритания отказалась от военного союза с Францией и отменила всеобщую воинскую повинность, без которой такой союз не имел реального смысла. Элементарные ошибки, от которых содрогнулись бы государственные мужи, заседавшие в Вене в 1815 г. Но и без таких глупостей Версальский мир был бы очень хрупок. Как уже отмечалось, Первая мировая война вспыхнула на востоке Европы, и основным ее движителем было соперничество Германии с Россией за господство в этом регионе. В итоге проиграли обе – и Германия, и Россия, и Версальский мир был заключен за их счет. Но Россия и Германия сохранили потенциал для того, чтобы вновь стать самыми могущественными державами не только Восточной и Центральной Европы, но и всего континента. По этой причине у Версальского договора почти не было шансов, тем более с учетом огромной геополитической дыры, оставленной исчезновением Габсбургов. По всем перечисленным причинам новая глобальная война на востоке Европы назревала уже с 1918 г. Эта война причинила огромные страдания всем, жившим в регионе, и в итоге основная часть населения оказалась под властью сталинской России. Могла ли победа Германии в 1918 г. обеспечить стабильность на востоке Центральной Европы и уберечь континент от повторения глобальной великой войны? Знать это наверняка мы не можем, но шансы на мирный исход, по сравнению с версальскими договоренностями, повысились бы. Оказалось бы немецкое правление не столь жестоким, как режим Сталина? Опять-таки судить невозможно, однако, безусловно, следует воздержаться от приравнивания кайзеровской Германии к гитлеровской, в особенности в части политики на востоке Европы. В кайзеровской Германии хватало весьма неприятных, авторитарных, националистических и даже расистских элементов, и победа укрепила бы их, но не могла бы ожесточить так, как это сделала горечь поражения. Во время Первой мировой войны не обошлось без злодейств со стороны немцев, а международное право нарушалось многократно. Однако ни одна из сторон конфликта не была совершенно чиста в этом отношении, и жестокости немцев несопоставимы с тем, как Россия обходилась с евреями в восточной зоне конфликта, как Австрия подавляла сербов, не говоря уже о таких преступлениях, как резня армян в Османской империи. Германская политика на востоке в 1914–1918 гг. даже отдаленно не напоминает неистовую жестокость и геноцид 1941–1945 гг.
Как соотнести общую международную ситуацию 1914–1918 гг. с судьбой России и конкретно с исходом революции? Очевидно, что эта ситуация сыграла ключевую роль, и столь же очевидна цепочка факторов, приведших к такому исходу. Как говорилось выше, если бы российская монархия пала в 1906 г., Германия с большой вероятностью возглавила бы международные силы вторжения и поспособствовала торжеству контрреволюции, по крайней мере, на какое-то время. Вместо этого в ходе Первой мировой войны Германия приложила все силы к тому, чтобы ускорить развитие революции в России. Ленин прибыл в Петроград в знаменитом «пломбированном вагоне», которому было позволено проехать через всю подчинявшуюся Германии Европу. Как только Ленин добрался до столицы, немцы постаралась всячески способствовать революции, чтобы вывести Россию из войны. Ленину здорово повезло с Брест-Литовским миром: потерпев поражение на Западном фронте, Германия вынуждена была отказаться от результатов этого соглашения, и большевистская Россия вновь присоединила Украину, сохранив таким образом основную часть империи уже с новой, социалистической идеологией. Не слишком активная интервенция западных союзников и действия их не испытывавших ни малейшего энтузиазма армий на периферии гражданской войны в России лишь слабая тень той интервенции, которая могла бы осуществиться в мирное время во главе с немецкой армией. В любом случае война, поддержка Берлина и последовавший крах Германии обеспечили большевикам свободу действий на тот все решивший год, когда они сформировали свой режим и укрепили власть над геополитическим ядром России, где сосредотачивались основные массы населения, оборонные ресурсы и центры коммуникации. Это, вероятно, основной фактор, который можно выделить среди прочих причин победы большевиков в гражданской войне. В мирное время контрреволюция при поддержке иностранной интервенции, скорее всего, лишила бы революционное правительство такой передышки. Без Первой мировой войны нечто вроде левого социалистического, большевистского революционного правительства 1917 г. могло бы прийти к власти, но едва ли сумело бы удержать ее.
Отдельный интересный вопрос – отношения Германии в роли победительницы и России. Во время войны геополитические интересы естественно взяли верх над идеологическим отвращением немецких элит к большевизму. Но стала бы Германия терпеть большевистскую власть в Москве, если бы вышла из войны победительницей? Ответить на этот вопрос не так-то просто. У немецкого правительства хватало бы проблем как внутри страны, оправляющейся от последствий войны, так и в Восточной Европе, где предстояло бы укреплять свое господство. Что ему вовсе не было бы нужно, так это еще одна война в России. Берлину также предстояло бы заново встраиваться в международную экономику. Благоразумное немецкое правительство не только отвергло бы саму мысль о каких-то территориальных приобретениях во Франции и Бельгии, но даже пошло на незначительные уступки в Эльзасе, чтобы ублаготворить Францию. Завладев всей Восточной Европой, Берлин мог бы позволить себе такое великодушие (хотя маловероятно, чтобы он оказался способен на подобные жесты сразу после войны). Если бы Соединенные Штаты не вмешались в конфликт, сразу же после заключения мира возобновилась бы трансатлантическая торговля, что принесло бы Германии огромную выгоду.
Со временем англичане и французы могли бы смириться с гегемонией Германии на востоке. И в самом деле, на всем протяжении XX в. Франция и Великобритания не имели достаточных сил (а в случае Великобритании также и желания) активно вмешиваться в судьбы этого региона. Неудачные попытки Запада «спасти» Польшу в 1939 г. и 1944–1945 гг. это подтверждают. «Компромиссный» мир с Германией, вероятно, побудил бы Англию и Францию заключить оборонительный союз, но Германия, укрепив свое владычество на востоке, едва ли стала бы пересматривать свои западные границы. Зачем ей французский уголь и железная руда, если в ее распоряжении оказались бы ресурсы Восточной Украины?
Единственная угроза немецкому господству на востоке исходила бы от России. Если бы немцам удалось закрепиться в Восточной Европе, в особенности если бы в Киеве обосновался стабильный и лояльный по отношению к Германии режим, России понадобилось бы много времени, прежде чем она сумела восстановить свою мощь до такого уровня, чтобы бросить вызов Германии (а может быть, этого не произошло бы никогда). В 1918 г. немцы предпочли поддержать российских большевиков, а не контрреволюционеров, потому что последние были верны союзническим обязательствам и продолжили бы войну с Германией. Одержав победу, Германия получила бы возможность сталкивать между собой в России противоборствующие стороны. Берлин мог бы уже не опасаться революции у себя дома и, если понадобилось бы, потерпел бы большевистский режим в Москве. А если бы этот режим вздумал досаждать Германии, достаточно было бы пригрозить ему, что Берлин окажет поддержку силам контрреволюции.
Немцы полагали, что большевистский режим всегда будет неустойчивым и слабым, и тут они просчитались. Но зато не ошиблись в том, что Франции и Великобритании будет гораздо труднее сблизиться с большевистской Россией, чем с Россией после победы контрреволюции. Итак, в обозримом будущем Германия, скорее всего, относилась бы к власти Ленина терпимо. Если бы немцы победили и установили в Европе свой порядок, это с большой вероятностью уберегло бы Европу от Гитлера и Второй мировой войны, однако едва ли уберегло бы Россию от Сталина.
Как в случае с любым альтернативным историческим сценарием, эти выводы не более чем обоснованная гипотеза. Такие сценарии позволяют дать волю воображению, однако этим их роль не ограничивается. Верить в неизбежность всех исторических событий – роковое заблуждение. Это не просто противоречит фактам, но и ведет к моральному упадку и бездействию в политике. Я постарался разобрать здесь ряд альтернативных и вполне возможных событий, которые могли бы радикально изменить ход как российской, так и общеевропейской истории в пору большевистской революции. Это упражнение фантазии тем более полезно, что оно выявляет тесную взаимосвязь истории России и Европы в целом. С одной стороны, эволюция Российской империи определяется главным образом борьбой за место среди европейских великих держав, а с другой – невозможно разобраться в европейской и мировой истории, если пренебречь существенной ролью в ней царской России. И едва ли в какой-либо другой момент судьбы России и Европы в целом были так тесно переплетены, как в 1900–1920 гг.
2. Покушение на Столыпина Сентябрь 1911 г. Саймон Диксон
С того самого дня, 1 сентября 1911 г., когда Петр Аркадьевич Столыпин был застрелен в киевском городском театре, вокруг этого убийства не утихали споры. Единственное, что не вызывало сомнений, – личность убийцы, стрелявшего в премьер-министра: Дмитрий Богров, 24-летний юрист, примкнувший к движению эсеров, дважды почти в упор разрядил свой браунинг в Столыпина. Но зачем он это сделал? Было ли это искупительным жертвоприношением, совершенным по требованию товарищей-террористов, которые узнали, что Богров выдал их полиции (за деньги, чтобы покрыть накопившиеся за время учебы карточные долги)? Или он сделался двойным агентом и действовал по приказу таившихся в тени правых, возмущенных земельной реформой Столыпина и считавших, что она играет на руку еврейским спекулянтам? А может быть, Богров, напротив, отстаивал интересы своего еврейского семейства, видя угрозу в поощряемом Столыпиным великорусском национализме? (Такую версию выдвигает Александр Солженицын в беллетризованном рассказе об этом покушении в «Красном колесе».) И главный вопрос, над которым ломали голову и следующие поколения: могла ли история пойти иным путем, останься Столыпин в живых? Могла ли его программа широких преобразований предотвратить революцию 1917 г.? Могла ли пресловутая «ставка на сильных» – попытка превратить обнищавшее российское крестьянство в зажиточную аграрную буржуазию – заложить основы стабильной эпохи мира и процветания, надежды на которую столь жестоко лишили страну большевики? Очевидная идеологическая нагрузка такого вопроса способствовала тому, что он обретал актуальность вновь и вновь. На Западе репутация Столыпина впервые «политизировалась» во времена холодной войны, когда то меньшинство историков, которое не симпатизировало левым, дополнительно раскололось: горстка так называемых оптимистов доказывала, что революция не была для России неизбежностью, а перевешивавшие их числом скептики, в том числе консультанты, готовившие Маргарет Тэтчер к встрече с Михаилом Горбачевым в Москве весной 1987 г., настаивали на том, что Столыпин был лишь временной фигурой и неуспех его преобразований сам по себе доказывает невозможность радикального реформирования в Российской империи{2}. В самой России крах Советского Союза побудил обратиться к наследию Столыпина как части политического прошлого, которая еще могла пригодиться. С 1991 г. Столыпин был реабилитирован и превратился в пророка того консервативного и патриотического консенсуса, на который многие россияне возлагали надежды в начале XXI в.: восстановить национальную гордость с помощью разумных экономических реформ, не прибегая к репрессиям, как при Сталине. Когда в декабре 2008 г. государственный телеканал «Россия» провел опрос, кого следует считать самым великим русским историческим деятелем (в опросе приняло участие более 50 млн человек), Столыпин занял второе место, уступив лишь средневековому полководцу князю Александру Невскому. Сталина он подвинул на третье место; среди кандидатов значились также Пушкин, Петр I и Ленин.
Каким образом премьер-министр царской России, при советской власти полузабытый и резко критикуемый, вдруг приобрел такую репутацию? Отчасти ответ заключается в той массе документов, биографий и монографий, которую удалось опубликовать за последние четверть века{3}. Современные проблемы явно повлияли на попытки многих ученых представить Столыпина умеренным консерватором в поисках консенсуса, а не контрреволюционером бонапартистского толка, каким изображал его Ленин, или предтечей Муссолини, которого видели в нем первые русские фашисты 1920-х гг. И все же титанические усилия академических исследователей едва ли могли обеспечить Столыпину такой уровень популярности – 523 766 голосов, поданных за него участниками опроса 2008 г. Невозможно списать столь массовую популярность и на публичные дебаты, сколь угодно содержательные, поскольку их целевой аудиторией была главным образом интеллигенция. Не все современные российские комментаторы благосклонно принимали наследие Столыпина. Так, Сергей Кара-Мурза, неутомимый разоблачитель прогрессизма как в марксистском, так и в либерально-капиталистическом изводе, считал прямым последствием реформы роковую для страны дестабилизацию. Опубликованная в 2002 г. книга Кара-Мурзы «Столыпин: отец русской революции» к 100-летию со дня убийства была переиздана под еще более красноречивым названием: «Ошибка Столыпина: премьер, перевернувший Россию»{4}. Но Сергей Кара-Мурза остался в меньшинстве, верх одержала вера в проницательность и даже пророческий дар Столыпина, который прославляет, к примеру, монах Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде: в его краткой версии биографии Столыпина, опубликованной в 2013 г., премьер-министр предстает жертвой «темных сил», которые его-де ненавидели. «Осиротевшая» с его смертью Россия попала в «руки разрушителей», ибо «только он знал, что нужно сделать для благоденствия России»{5}.
Как массовый интерес к Столыпину, так и желание разоблачить его в значительной степени были вызваны тем, что с этой исторической фигурой отождествлял себя другой самопровозглашенный «избранник судьбы» – Владимир Путин. Выстраивая собственный образ модернизатора консервативного уклона и всячески стараясь затушевать авторитарные поползновения Столыпина, Путин постоянно выражал уважение к его патриотизму, твердости убеждений и чувству ответственности. По слухам, он даже повесил его портрет у себя в кабинете (Ангела Меркель, видимо, предпочитает образ Великой Екатерины). Еще в 2000 г., во время своего первого президентского срока, Путин проводил явные параллели между собственными планами устойчивого экономического роста и попытками Столыпина сочетать гражданские свободы и демократизацию политики с преимуществами сильного национального государства. И это не было мимолетным увлечением: в 2012 г., готовясь отмечать 150-летие со дня рождения Столыпина, Путин призвал всех членов правительства пожертвовать как минимум месячный оклад на строительство памятника перед зданием российской Думы. Итак, рассуждения о том, каким путем могла бы пойти Россия, если бы реформы Столыпина полностью осуществились, и о том, был ли у премьер-министра шанс достичь поставленных целей, если бы он уцелел при покушении, – это не просто умственная забава.
Столыпин приехал в Киев в конце августа 1911 г., чтобы принять участие в торжественном открытии памятника Александру II (годы царствования 1855–1881). Памятник был установлен по воле внука царя, Николая II (годы царствования 1894–1917). Церемония открытия памятника может показаться довольно заурядным событием – в конце концов, это было всего лишь заключительное мероприятие в целом ряду торжеств, посвященных 50-летию отмены крепостного права (19 февраля 1861 г.), – но на самом деле Николаю II не так-то легко давались празднества в честь «царя-освободителя», чьи представления о национальном величии России принципиально отличались от его собственных. Чтобы исцелить страну и династию от унижения, которое они претерпели, проиграв Крымскую войну, Александр II выбрал путь европейски ориентированных реформ и ввел в стране такие западные институты, как, например, суд присяжных. Однако надежды на мирный рост гражданского национализма были уничтожены вместе с самим царем, когда 1 марта 1881 г. террористы, недовольные медленным темпом перемен, бросили в Александра II бомбу. Николай II упорно придерживался принципиально иной системы взглядов – того «неорусского стиля», начало которому положил его отец, Александр III (годы царствования 1881–1894). После 1881 г. два последних российских императора, что и неудивительно, стремились, главным образом, к поддержанию существующего порядка – любовь к стабильности им обоим привил их наставник, Константин Победоносцев. Николай зашел дальше своего отца: он жаждал восстановления полной автократии и представления о царе как о помазаннике Божьем и стремился вернуться к существовавшему до Петра I (годы царствования 1682–1725) давно исчезнувшему «Московскому царству». Это противопоставление подчеркивалось визуальными образами: например, на маскараде в честь 200-летия Петербурга в 1903 г. Николай II выбрал костюм не основателя новой столицы, неумолимого «западника» Петра, а его набожного отца, московского царя Алексея Михайловича. Если бы это не требовало непосильных расходов, Николай был бы готов вовсе отказаться от мундиров западного образца и навсегда переодеть свой двор в старомосковские наряды{6}. Основной политической проблемой для российской власти начала XX в. стал вопрос, возможно ли примирить эти два конкурирующих мировоззрения. Назначение Столыпина министром внутренних дел в апреле 1906 г. и повышение его до статуса премьера в июле того же года сулило надежду тем, кто желал такого примирения. Имя Столыпина ассоциировалось, прежде всего, с решительными мерами по восстановлению порядка: он произвел на царя благоприятное впечатление еще в 1903 г., когда справился с наиболее беспокойной Саратовской губернией. Но хотя Столыпин не чурался самых жестоких мер для подавления революционных беспорядков (настолько, что его именем даже назвали петлю палача – «столыпинский галстук»), он вовсе не был заурядным реакционером. На самом деле его едва ли можно даже причислить к таковым. Незадолго до своего 40-летия, в 1902 г., Столыпин стал самым молодым во всей империи губернатором: ему была доверена Гродненская губерния именно потому, что Петр Аркадьевич предлагал новаторские решения некоторых самых мучительных для России социальных проблем. Он родился через год после отмены крепостного права, изучал естественные науки в Петербургском университете (необычный выбор для молодого аристократа) и через полтора года службы в Министерстве внутренних дел попросил в 1885 г. о переводе в департамент статистики Министерства сельского хозяйства, где и приобрел интерес к развитию частного землевладения. В 1889 г., вместо того чтобы делать традиционную чиновничью карьеру в столице, Столыпин предпочел вернуться в родную Ковенскую губернию (ныне это литовский город Каунас) и занялся управлением своими имениями, а также в должности председателя мирового суда решал сложные вопросы о праве собственности на землю. Политическими вопросами он занимался сначала как предводитель уездного дворянства, а затем как глава губернского дворянского собрания. Председательствуя на банкете в честь 50-летия отмены крепостного права в феврале 1911 г., Столыпин мог с полным правом заявить, что почти всю свою сознательную жизнь работал с институтами, управляющими крестьянством. То есть это был тот самый тип энергичного аграрного технократа, о котором мечтали те, кто ждал российского Бисмарка{7}.
Тем не менее между царем и новым премьер-министром достаточно скоро обнаружились разногласия, которые испортили их взаимоотношения{8}. Николай II верил в освященный свыше союз царя и народа, а Столыпин задумывал национальное единство, воплощенное в обезличенном государстве. Этот замысел побуждал его искать поддержку у двух прозападных группировок, которые вызывали наибольшее недоверие царя: у высшей бюрократии и у «просвещенного общества» («общественности»), т. е. у образованных людей, активно вовлеченных в публичную жизнь благодаря дарованным при Александре II гражданским свободам. Теперь эти люди впервые получили шанс приобрести политическое влияние, избираясь в Думу – первый русский парламент, созданный на гребне революции 1905 г.{9} Во имя национального единства Столыпин также пытался стереть границы между этническими группами Российской империи и между сословиями (большинство ее подданных по факту рождения получали тот или иной социальный статус).
Из всех сословий самым слабым звеном русского народа Столыпину виделось обедневшее крестьянство. На основе собственного опыта управления Саратовской губернией, где крестьянство крайне обнищало и нищета с неизбежностью приводила к бунтам, Столыпин пришел к выводу, что простой народ станет надежной опорой царского режима лишь при условии, что получит свою долю частной собственности и политические свободы, которых ему не дала даже реформа 1861 г. Отсутствие политических прав отрезало крестьян от большинства новых институтов, которые управляли Россией, оставив их «пленниками» общины. Соответственно, краеугольным камнем в программе Столыпина на посту премьер-министра стала реформа, позволяющая главам крестьянских домохозяйств в любой момент выходить из общины (Аграрная реформа 9 ноября 1906 г.). В следующем году были организованы местные комитеты, которые помогали крестьянам получить в виде единого надела («отруба») свою долю из той чересполосицы, которая обычно возникала при распределении земли в общине. Фундаментальные экономические перемены имели также и политическое измерение: Столыпин не только настоял на максимальном благоприятствовании частному землевладению, облегчив условия кредита в Крестьянском земельном банке, но и подчеркивал, что улучшение экономического положения крестьян немыслимо без свободы и просвещения. Итак, Аграрная реформа была дополнена законодательными актами, освобождавшими крестьян от плотной опеки различных надзорных органов, о деятельности которых Столыпин был прекрасно осведомлен благодаря своему опыту работы в Ковенской и Гродненской губерниях. Отныне крестьяне получали беспрецедентные социальные права, в том числе свободу передвижения. Одного этого хватило бы, чтобы Николай II насторожился, и к тому времени, когда император со свитой отправился в Киев, отношения между ним и премьер-министром явно были испорчены. Николай использовал визит в провинцию, чтобы продемонстрировать свое неприятие чуждых ценностей Санкт-Петербурга и подчеркнуть духовную близость к простому народу. Киев был особенно благоприятной почвой для такого рода стратегий, поскольку здесь развивалось чрезвычайно организованное националистическое движение, делившееся (но вовсе не ослабленное таким разделением) на элитарный киевский Клуб русских националистов и популистский Союз русского народа. Обе организации соперничали за право принять у себя царя{10}. Для Столыпина же главной задачей в этой поездке была встреча с депутатами шести западных губерний, в которых он весной 1911 г., вопреки ясно выраженным желаниям царя и Государственного совета, организовал земства – выборные органы местного самоуправления, созданные реформой Александра II в 1864 г., однако до той поры не распространявшиеся на западные губернии из опасения, что в этих органах большинство достанется польским землевладельцам.
Столыпин не играл на руку польской партии. Предложенные им избирательные законы предусматривали сложную систему этнических квот, направленных на блокирование польского влияния в земстве. Если бы ему удалось гарантировать русским перевес и в трех других губерниях на северо-западе, в родных Столыпину местах – Витебской, Гродненской и Ковенской губерниях, он бы и там настоял на создании земств. Тем не менее российская земельная аристократия принимала его планы с изрядным подозрением, поскольку в качестве противовеса польской элите он наделял правом голоса широкие массы русских крестьян – неслыханная демократическая мера, которую Столыпин явно внедрял в качестве троянского коня, собираясь в дальнейшем демократизировать и земства внутренних губерний.
Во время поездки в Киев разногласия внутри элиты можно было до некоторой степени замаскировать, поскольку формат высочайших визитов, установленный еще Петром I и усовершенствованный за следующие два столетия, предписывал проведение множества пышных и отвлекающих внимание мероприятий – от военных парадов до церковных служб. Из всех этих официальных мероприятий полное единодушие у императорской свиты вызывало одно: опера. Там все дружно скучали. Так что в городской киевский театр на «Сказку о царе Салтане» Римского-Корсакова приближенные царя явились вечером 1 сентября, скорее исполняя общественный долг, чем в предвкушении удовольствия от музыки.
Столыпин сидел в первом ряду партера, неподалеку от барона Фредерикса, министра императорского двора, и военного министра генерала Сухомлинова. В антрактах они поднимались размять ноги, поворачивались спиной к оркестру и беседовали с соседями. Вдруг во втором антракте молодой человек в вечернем штатском костюме, выделявшем его на фоне затянутой в мундиры свиты царя, спокойно прошел по проходу, вытащил из-под программки браунинг и дважды выстрелил в премьер-министра. Одна пуля попала в правую ладонь, вторая угодила справа под ребра (Столыпин демонстративно отказывался носить бронежилет, хотя прекрасно понимал, что террористы охотятся на него – одна из его дочерей осталась калекой после взрыва бомбы, уничтожившей его дом в августе 1908 г.). Обернувшись к Николаю II, который вместе с дочерьми вернулся в ложу, когда услышал из примыкавшей к ней гостиной выстрелы, Столыпин перекрестил его (многие истолковали это как предсмертное благословение царю) и рухнул в кресло. Поначалу казалось, что этот высокий и крепкий человек оправится от раны. Врачи не стали извлекать пулю и считали его состояние стабильным; в больнице его навещала жена, а также министр финансов Владимир Коковцов, с которым Столыпин оживленно обсуждал государственные дела. Но к ночи 3 сентября началось воспаление, и состояние пациента ухудшилось. Он то впадал в бессознательное состояние, то бредил, и единственное слово, которое окружающим удалось разобрать, было «Финляндия» – Столыпин приложил немало усилий к тому, чтобы лишить это великое княжество на западной границе политической автономии. К вечеру 5 сентября Столыпин скончался.
Документы, проливающие свет на это убийство, были опубликованы в сильно отредактированном виде уже в 1914 г., а недавно вышли полностью на 700 с лишним страницах мелким шрифтом{11}. И тем не менее многие вопросы так и остались без ответа. Поскольку вина Богрова была очевидна, его быстро приговорили к смерти и казнили. Но каков был мотив? Утверждение Солженицына, будто роль сыграло еврейское происхождение Богрова, неубедительно: проживавшая в Киеве семья была богата и давно ассимилировалась с местными элитами. Труднее опровергнуть слухи о заговоре правых, поскольку у Столыпина безусловно имелись враги среди высшей бюрократии, и один из злейших его врагов, министр внутренних дел (непосредственно подчиненный премьеру), отвечал за безопасность во время визита в Киев. Петр Курлов занимался вопросами личной безопасности царя с 1909 г., когда Николай впервые после революции 1905 г. совершил официальную поездку для празднования победы Петра Великого над шведами под Полтавой. В результате генерал-губернатор Киева, который при обычных условиях мог бы ожидать в результате благополучного визита царя повышения по службе или награждения, был поставлен в неприятное положение: ему не поручалось ничего, кроме покупки автомобиля для загородных поездок, и это задание оказалось тем более унизительным, что выделенных правительством 8000 рублей оказалось недостаточно и пришлось добавить из местного фонда на чрезвычайные расходы. Но хотя Курлов постоянно интриговал против Столыпина при дворе, совокупность фактов с большей вероятностью указывает не на соучастие тайной полиции, а на ее вопиющую некомпетентность. Основная вина лежит на полковнике Кулябко, главе киевской охранки (тайной полиции), перед которым Богров лично отчитывался как агент-провокатор. Легковерный Кулябко снабдил Богрова билетом на «Царя Салтана», поскольку тот обещал опознать на спектакле двоих (вымышленных им) террористов, якобы готовивших покушение на Столыпина. Хотя следствие обнаружило явные промахи Курлова и Кулябко, они, безусловно, остались безнаказанными не потому, что царь разделял их неприязнь к премьер-министру (даже если он разделял ее), но потому, что властям было бы весьма неудобно публично признаться в таком провале{12}.
Легко понять, в чем заключается привлекательность «ставки на сильных» для российских консерваторов начала XXI в. Даже если бы удалось сформировать в России процветающую аграрную буржуазию, это едва ли полностью устранило существовавшую напряженность между богатыми и бедными крестьянами и сельские жители по-прежнему предпочитали бы запасаться зерном, а не снабжать им горожан. Однако, поскольку реформа позволила бы избежать голода и создать более продуманную систему распределения в неурожайные годы, не было бы той ожесточенной крестьянской войны, которая прокатилась по российским провинциям с 1918 по 1920 г., и не было бы надобности ни в сталинской коллективизации, уничтожившей самостоятельное крестьянство на исходе 1920-х гг., ни в экстравагантных (а в итоге тщетных и расточительных) планах вроде хрущевской кампании по распашке целины 30 лет спустя. А главное, не было бы нужды в Сталине и Хрущеве, поскольку быстро развивающийся класс независимых фермеров, о котором мечтал Столыпин, с большой вероятностью сохранил бы лояльность царскому режиму, получив достаточное представительство в управлении. И если бы такой консервативный союз постепенно укреплялся на протяжении долгого времени, в обеих мировых войнах население России лучше понимало бы, не только против чего оно сражается, но и за что. Другой вопрос, в какой мере стране с преимущественно аграрной экономикой удалось бы развить оборонную промышленность, сравнимую с той, которую в результате насильственной индустриализации создал в 1930-х гг. Сталин. Однако если бы политика интеграции, проводившаяся по настоянию Столыпина в Финляндии и других областях, обеспечила империи полный контроль над пограничными территориями, то такая политически и экономически стабильная Россия оказалась бы для любого агрессора гораздо менее соблазнительной мишенью, чем многонациональный Советский Союз, где значительная часть населения западных регионов вовсе не так уж враждебно встретила немцев в 1941 г. Словом, мы вправе допустить, что полное осуществление мечты Столыпина привело бы к созданию сильного, стабильного и более-менее самодостаточного строя, с надежной опорой на сельское население от Дальнего Востока до границ с Германией. Это воображаемое будущее в целом мало чем отличается от утопии евразийских философов 1920-х гг. и неоевразийцев 1990-х гг., однако не столь откровенно враждебно по отношению к европейской цивилизации.
Беда в том, что для столь масштабных социальных и экономических перемен, какие замышлял Столыпин, требовалось несколько поколений, а условия в России на тот момент были крайне неблагоприятными. В интервью 1909 г. Столыпин сам признал, что успешное осуществление реформ возможно лишь в условиях 20 лет непрерывного мира. Учитывая отсталость российской экономики и общества, это был, пожалуй, чересчур оптимистичный прогноз: в 1906 г., когда Столыпин занял должность премьера, империя еще не оправилась от революции и военного поражения. Суровый климат России делал сельское хозяйство не слишком прибыльным. В царский период основные доходы зависели от импорта зерна (даже в пору голода, что никак не могло устраивать российских крестьян) и от продажи водки, благо расходы на ее транспортировку ниже, чем на перевозку зерна. Надеяться даже на 20 лет устойчивого развития в стране, которая была известна резкими политическими зигзагами вроде реакции после убийства Александра II, тоже едва ли стоило. И хотя Столыпину на момент его гибели не исполнилось еще и 50 лет, останься он в живых, едва ли бы ему удалось еще долго занимать должность премьера. Он и так пробыл на ней пять лет, с 1906 г. по 1911 г., дольше большинства своих предшественников. И не было никаких гарантий того, что преемник окажется достаточно умен и тверд, чтобы продолжить намеченную Столыпиным линию.
В силу перечисленных причин чем дальше мы уходим от 1911 г., тем менее точными становятся наши альтернативные прогнозы. Даже в краткосрочной перспективе постоянно возникают многочисленные «если» и «но». Американский биограф Столыпина Абрахам Ашер справедливо предполагает, что премьер попытался бы предотвратить вступление России в войну в июле 1914 г.{13} Другой вопрос – удалось бы ему это или нет. Международная конкуренция нарастала, и все вело к крупному вооруженному конфликту в Европе, а поскольку разведки всех великих держав знали, что военные реформы, ускоренные Сухомлиновым после Русско-японской войны, должны завершиться к 1917 г., противникам имело смысл нанести опережающий удар. И когда бы ни началась война, России в любом случае пришлось бы столкнуться с геополитическими проблемами, настигавшими ее всякий раз при конфликтах с Западом начиная с XVII в.: из-за огромных расстояний мобилизация происходила неэффективно, и царские армии разворачивались слишком медленно. Это классический случай, когда даже «великий человек» едва ли мог повлиять на ход событий.
Но у нас даже нет необходимости строить догадки на этот счет, поскольку политический капитал Столыпина был израсходован задолго до его гибели, и свидетельств тому хватает. А потому главный вопрос не в том, что могло бы случиться между 1911 и 1914 гг., а в том, что реально произошло между 1906 и 1911 гг. Прежде всего, сами крестьяне относились к реформам Столыпина без особого энтузиазма{14}. Решение приватизировать землю принималось добровольно (за исключением ситуаций, когда выход из общины ряда домохозяйств оказывал эффект домино на соседей). Только в Прибалтике, испытывающей сильное влияние немецкой культуры, и в прилегающих к ней северо-восточных губерниях, где Столыпин начинал свою деятельность, достаточно много хозяев выбрало как способ хозяйствования хутор – идеальный, с точки зрения Столыпина, вариант. Хутор представлял собой маленькую частную ферму, длина участка не должна была более чем втрое превышать ширину, он находился во владении одной семьи, и в центре этого единоличного цельного участка помещались жилые и хозяйственные постройки. Чаще крестьяне предпочитали иную форму, отруб, т. е. им выделялся в собственность участок земли, но жить они оставались все вместе в деревне. Однако ни тот ни другой выбор сам по себе не означал, что крестьянство разделяло представления Столыпина о преимуществах частного землевладения и сопряженных с ним более широких обязанностях и ответственности. Русский крестьянин, с присущей ему изворотливостью, чаще использовал новые законы для того, чтобы поквитаться с собственными родственниками или насолившими ему соседями. Так что, хотя поклонники Столыпина считают успехом переход 2,5 млн домохозяйств к частному землевладению за первое десятилетие реформы (более одной пятой всех домохозяйств в стране по состоянию на 1916 г.), критики возражают, что темп приватизации заметно снизился еще до того, как реформу задним числом собрались проводить через Думу летом 1910 г. Более того, из земель, продававшихся через Крестьянский земельный банк, менее половины было приобретено индивидуальными домохозяйствами – чаще в роли покупателей выступали сельские общины и кооперативы. К 1916 г. 61 % домохозяйств по-прежнему состоял в общине, и, когда в 1917 г. им был предоставлен выбор, свыше 95 % крестьян предпочли вернуться к общинному землевладению – очевидное свидетельство устойчивости коллективистского идеала в среде российского крестьянства.
Проблемы иного уровня возникли в сфере государственной политики, когда Столыпин попытался законодательно оформить более широкое применение своей реформы. Пока большинство голосов в Думе принадлежало двум левоцентристским партиям, как при первых двух созывах, шансов на сотрудничество парламента и правительства не оставалось. Одна из этих партий, либеральные кадеты (конституционные демократы), отравляла Столыпину жизнь еще в Саратовской губернии, где партия вступила в альянс с радикальной интеллигенцией – на редкость прочный. Второй партией были трудовики («Трудовая группа»), и их успех на выборах продемонстрировал, сколь ошибочны были надежды царя на лояльность крестьянства. В результате Столыпин изначально полагался главным образом на репрессивные методы, сослужившие ему неплохую службу в Саратове. К более миролюбивому осуществлению реформ удалось вернуться, лишь когда благодаря новому избирательному закону от 7 июня 1907 г. Столыпин получил нужный ему состав Думы. В Думе третьего созыва (первое заседание состоялось 1 ноября) большинство принадлежало консерваторам-октябристам (трехкратный прирост мест, всего 154 мандата или 35 % от общего состава), также в нее вошли 147 представителей правого крыла вплоть до крайне правых. Кадеты потеряли половину голосов, численность трудовиков сократилась в десять раз{15}. Но даже при таком с виду благоприятном раскладе, которого Столыпин добился главным образом сам, своими ухищрениями, он не обеспечил себе в Думе рабочее большинство. Произошло это отчасти потому, что октябристы и правые оказались политически не так уж едины, но главным образом потому, что каждая из предложенных премьер-министром реформ задевала интересы могущественных группировок, которые скорее теряли, чем выигрывали, в случае, если бы в стране наступило верховенство закона и возник новый класс независимых крестьян.
Замечательный пример – реформа в сфере религии. О прекращении преследований старообрядцев (заведомо склонных к консерватизму) заговорили еще в конце 1850-х гг., и теоретически это намерение подтверждалось указом о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. (символическая дата – Пасха). Впервые в истории России ее жителям была предоставлена свобода вероисповедания. Однако едва угроза революции миновала, усилия Столыпина закрепить эти уступки наткнулись на яростное сопротивление православных иерархов из Государственного совета. Не лучше принимали и другие предложения Столыпина не столько потому, что они были так уж новы – по большей части они, как и религиозная реформа, обсуждались не первый год, – но потому, что решимость Столыпина и его напор грозили реальными переменами. Аристократы препятствовали предлагавшимся реформам местного самоуправления, опасаясь, что их влияние будет сведено к нулю, когда, с одной стороны, укрепится крестьянская демократия, а с другой – будут расширены полномочия губернаторов. Тормозя расширение крестьянской демократии, дворянство фактически срывало и земельную реформу. Не устраивала знать и перспектива появления новых местных судов, под чью юрисдикцию попадало все население, включая крестьян: аристократы опасались, что в судьи пойдут либеральные интеллигенты, и в итоге Государственный совет создал крестьянские суды, с судьями из крестьян, которые должны были решать только дела крестьян и оставаться в максимальной изоляции от основных институтов власти и права. В то же время любая попытка компромисса с землевладельцами встречала отпор промышленников, которых к тому же не устраивало намерение Столыпина ввести для рабочих страховку от несчастного случая и болезней. В итоге эти страховки появились не только с большой отсрочкой (пособие по болезни стали выплачивать и вовсе уже после убийства премьер-министра), но и обходились рабочим намного дороже, чем планировал Столыпин{16}.
Чтобы лавировать между этими конфликтующими группами интересов, требовались большая гибкость и большая сила убеждения, чем те, что имелись у Столыпина. Хотя Столыпин и отдавал себе отчет в необходимости склонить общественное мнение на сторону своих реформ, он все же был в первую очередь бюрократом, а не политиком. Правые экстремисты, оплачиваемые правительством Столыпина, оказались специалистами по сенсационному, таблоидному журнализму, чем сослужили ему дурную службу. Более традиционные политические партии благодаря ослаблению цензуры после 1905 г. могли рассчитывать на поддержку солидных газет, но Столыпин видел в прессе скорее орган правительственной информации, а о собственной партии никогда и не думал. Это, но далеко не только это, отличает его от Муссолини: Столыпин – прямая противоположность харизматичному лидеру. Стиль его письменной речи был искажен удушающими ограничениями российского официоза; оратором он тоже был скверным: голос металлический, язык тела скуден. Выслушав обращение Столыпина к Думе, один из самых знаменитых и своеобразных русских журналистов Василий Розанов описал его так: «Большой и сильный сом плавает в варенье»{17}. Психологически он также не был готов иметь дело с зарождавшейся массовой политикой, и в особенности его тревожила внепарламентская активность. Харизматичный молодой монах Илиодор (Труфанов) постоянно наскакивал на премьер-министра, на Четвертом монархическом съезде в 1907 г. сравнил его с Понтием Пилатом, а в 1911 г. возглавил популистский крестовый поход по Волге, отчеты о котором заполонили все газеты в период между празднованием 50-летия со дня отмены крепостного права и убийством Столыпина. Когда Илиодор начал столь же широко разрекламированную голодовку в Царицыне в окружении тысяч восторженных женщин, Столыпин отправил войска с приказом занять его монастырь{18}. Тот же авторитарный инстинкт в еще большей мере подводил премьер-министра в отношениях с Думой и Государственным советом. Даже две его главные меры – Аграрную реформу, утвержденную 9 ноября 1906 г., и закон о земствах в западных губерниях 1911 г. – пришлось пропихивать по 87-й статье Основных законов (принятых 23 апреля 1906 г.), хотя право императора принимать срочные законы в перерывах между сессиями Думы предусматривалось именно на крайний случай. Роспуск Второй думы в мае 1907 г. и продавливание избирательного закона от 7 июня также самым возмутительным образом нарушали принцип, согласно которому все новые законы должны были теперь сначала получить одобрение парламента. С точки зрения даже наиболее лояльных либералов из элиты, готовность Столыпина в любой момент пренебречь фундаментальными конституционными принципами лишала его всякой легитимности. Граф Иван Толстой, единственный член кабинета Витте, поддержавший в 1905 г. концепцию полной толерантности по отношению к евреям, наотрез отказался признавать Столыпина талантливым государственным деятелем. «Он всегда и в моих глазах останется временщиком, карьеристом, со всеми недостатками такового», – писал он вскоре после убийства Столыпина. «Энергию и решительность премьер-министра» он сопоставлял с его «несравненно более серьезными недостатками: отсутствием критического ума, узостью политического кругозора». Возможно, Толстой и в самом деле уловил присущее Столыпину честолюбие, но его вердикт явно не воздает должного независимому уму Столыпина и его тонкому пониманию (в этом едва ли кто из современников мог с ним сравниться) взаимодействия общества, экономики и политики. И все же враждебное отношение к нему Толстого свидетельствует о глубине недовольства кадетов премьер-министром (который платил им столь же беспощадным презрением). Толстой, разумеется, был не одинок среди либералов в своем убеждении, что преемники Столыпина если вздумают продолжить его политику, от которой польза только «подонкам» и «прихлебателям», то в итоге лишь восстановят тень дискредитировавшей себя эпохи до 1905 г., а хуже этого ничего и представить себе было нельзя{19}.
В то время как либералов Столыпин отпугнул все более отчаянными попытками привлечь на свою сторону правых, для чего ему приходилось поддерживать шовинистический национализм, сами правые и в особенности правые радикалы, погромный Союз русского народа, считали, что Столыпин предал царя, встав на сторону незаконного парламентского режима. Митрополит Волынский Антоний (Храповицкий), противоречивая фигура, сторонник Союза русского народа, рифмовавший «конституцию» с «проституцией», отказывал Столыпину в доверии, поскольку при всех своих конфликтах с Думой премьер видел в ней неотъемлемый элемент российского законодательного процесса. Сомнения в рядах правых зародились очень рано. Хозяйка петербургского салона Александра Богданович уверилась в лицемерии Столыпина, едва он был назначен на должность. «По-видимому, Столыпин – и нашим и вашим; утром он – либерал, вечером – наоборот»{20}, – записала она в дневнике 29 апреля 1906 г. В следующие пять лет в ее салоне собиралась целая плеяда недовольных лидеров правых и разбирала двуличие Столыпина. Даже старик-генерал Александр Киреев, более других уважавший Столыпина, вскоре утратил к нему доверие. При первой встрече в мае 1906 г. только что назначенный министр внутренних дел «производил прекрасное впечатление… рассудительный, благожелательный, понимает положение дел… У нас мнения очень близкие»{21}. Полгода спустя Киреев все еще утверждал, что Столыпин – безусловный gentleman (и это для него важно), однако общности взглядов уже не чувствовалось. Разговор, запечатленный в генеральском дневнике незадолго до проведения Аграрной реформы, обнажает ту бездну, которая отделила премьер-министра от многих потенциальных союзников справа, более всего страшившихся еврейских спекуляций землей:
С [толыпин]. Вы меня браните за права, данные раскольникам и старообрядцам?
Я. Нет, нисколько, я Вас браню за уничтожение общинного землевладения.
С [толыпин]. Его нельзя не изменить! Я его видел, знаю и знаю тоже разницу его с владением хуторским. Россия сразу обогатится.
Я. Вы забыли, что независимо от вопроса денежного – это еще и вопрос политический (Вы создаете массу пролетариев-батраков). Вся земля крестьян будет скуплена жидовством!
С [толыпин]. Пока я буду на моем месте, этого не будет. Черта еврейской оседлости не будет уничтожена.
Я. А Вы вечны?{22}
Столыпин не был вечен, более того, как верно заметил Александр Гучков, политическая его смерть произошла задолго до убийства. Лидер октябристов, наследник известного старообрядческого рода имел все основания восхищаться премьер-министром, отстаивавшим гражданские права для инаковерующих. Гучков сделался ближайшим сподвижником Столыпина в парламенте и оставался им, по крайней мере, до кризиса в связи с западными земствами в марте 1911 г., когда октябристы окончательно утратили доверие к Столыпину и он вынужден был полагаться почти исключительно на националистов. Уже в 1909 г. укрепившаяся связь Столыпина с националистами, которые беспокоились главным образом о защите интересов русских на окраинах империи, обозначала уход от прежней сосредоточенности на экономической и политической реформе. Ни октябристы, ни националисты не имели достаточно стабильной базы для широкого консенсуса, без которого невозможны были и фундаментальные перемены. Ожесточенные личные распри также снижали возможность новых союзов. Провинциал и «чужак», Столыпин давно вызывал подозрения у петербургского света. Петр Дурново, предшественник Столыпина на посту министра внутренних дел, возненавидел его с первого взгляда, Витте – блистательный, заносчивый, обозленный вынужденной отставкой с поста премьера в 1906 г. – вел беспощадную вендетту против своего преемника, достигшую пика в 1911 г., когда в Государственном совете спор о западных земствах привел к кризису. И что характерно для отравленной атмосферы российской политики тех лет, враги стремились первым делом испортить отношения Столыпина с тем человеком, от которого в стране зависело почти все, – с царем.
В итоге сам же Николай II главным образом и препятствовал деятельности своего премьер-министра. Хотя реформы Столыпина могли продлить жизнь династии, царь (вполне справедливо) видел в них угрозу своему статусу самодержца – статусу, который он был твердо намерен сохранять вопреки всему. Министры готовы были смириться с идеей самодержавия, если бы она сводилась к вере в божественное помазанничество царя, но в глазах Николая II это означало ни больше ни меньше как абсолютную и нераздельную власть. Итак, в то время как общество приветствовало Октябрьский манифест, видя в нем зарю новой, конституционной эпохи, сам царь видел в Манифесте личный дар своему народу (дар, который можно и отобрать). По той же логике и Думу, учреждение которой было обещано Манифестом, он воспринимал как продолжение своей самодержавной воли. По этой причине царь не доверял сильным министрам и позаботился о том, чтобы ни Витте, ни Столыпин не имели шанса сделаться российским Бисмарком. Чем прислушиваться к министрам, царь полагался на закулисных советников, первым из которых стала царица, разделявшая политические убеждения мужа и умевшая сформулировать их так, как он сам не умел. Благодаря царице приобрел сильное влияние на царя и Распутин, полная противоположность чиновнику западного типа, воплощение идеализированного русского мужика (навязчивый образ в сознании царя). В итоге царь, склоняясь на сторону Распутина и Союза русского народа (и под более тонким влиянием Петра Курлова), укрывал от цензуры непочтительного монаха Илиодора, чем, разумеется, наносил оскорбление собственному премьер-министру. Гучков полагал, что ко времени визита Столыпина в Киев, т. е. к августу 1911 г., поддержка, оказываемая Николаем этому фанатику, уже побуждала Столыпина задумываться об отставке.
В итоге мало кто проливал слезы после гибели Столыпина, и даже ближайшие преемники почти никогда не упоминали о нем. Новый премьер, Коковцов, заявил совету министров, что их «моральный долг» – сохранять, продолжать и воплощать возвышенные принципы, которыми был пронизан весь труд Столыпина. Но под этим подразумевалась всего лишь вера во «благо России», в ее «мощь и великое будущее»{23}. Никаких обязательств развивать реформу Коковцов не принимал на себя, да и не мог, поскольку вовсе не был таким «доминантным» премьер-министром, каким удалось ненадолго стать Столыпину.
В российской истории немного эпизодов так часто рассматриваются с точки зрения альтернативных путей развития, как убийство Столыпина. А при переоценке прошлого Российской империи в XXI в. едва ли какое-нибудь другое событие изучалось активнее. Но, как ни парадоксально, это, видимо, тот случай, когда чем больше внимания уделяется теме, тем менее убедителен результат. В прошлом России найдется немало точек, в которых история могла принять иное направление, но убийство Столыпина к таковым не относится.
3. Григорий Распутин и начало первой мировой войны Июнь 1914 г. дуглас смит
С первого взгляда он принял ее за нищенку. Утром 29 июня 1914 г. Григорий Распутин, недавно вернувшийся из столицы в родную деревню Покровское в Западной Сибири, отобедав с семьей, собрался на почту отправить телеграмму. Как только он вышел за калитку на дорогу, она подскочила к нему. Распутин сунул руку в карман за кошельком с мелочью, и тут женщина выхватила из-под юбки длинный нож и воткнула его Распутину в живот. Распутин согнулся от боли, простонал: «Я ранен! Она меня зарезала!» – и побежал по улице прочь от убийцы. Через 20 шагов он обернулся. Женщина была вся в черном, а лицо ее, за исключением только глаз, полностью закрывал белый платок. Она гналась за ним, правой рукой занося окровавленный нож. Распутин побежал дальше в сторону деревенской церкви, потом остановился и подобрал с земли большую палку. Женщина добежала до него, и Распутин со всей силы хватил ее палкой по голове, так что убийца рухнула наземь. На шум выбежали соседи, схватили женщину и поволокли ее в дом, где находился местная администрация Покровского{24}.
Распутину помогли добраться до дому, уложили на скамью. Его родные метались и рыдали. Вызвали местного фельдшера, он перевязал рану, чтобы остановить кровотечение. Дали телеграмму Александру Владимирову, главному врачу Тюмени, ближайшего (примерно в 100 км от села) города, и тот немедленно выехал в Покровское. Распутин время от времени впадал в беспамятство. В какой-то момент он попросил позвать священника. Тем, кто столпился вокруг раненого, казалось, что надежды на спасение почти нет.
Владимиров и его ассистент прибыли рано утром 30 июня. Быстро обследовав пациента, они приняли решение немедленно оперировать, поскольку до Тюмени Распутин не доехал бы живым. Его усыпили хлороформом, врач сделал десятисантиметровый разрез от пупка к ране. Пришлось ушивать поврежденный отдел тонкого кишечника. Рана оказалась чрезвычайно тяжелой, и была велика опасность заражения. Пришлось довольно долго ждать, прежде чем врачи смогли утверждать, что больной находится вне опасности{25}.
Нападавшую звали Хиония Гусева, 33 лет, незамужняя, жительница города Царицына (ныне Волгоград), портниха. Белый платок, которым она обвязала лицо, скрывал страшное уродство: у Гусевой не было носа. Ее допрашивали два дня, она сразу же созналась в покушении, пояснив, что Распутин – лжепророк, клеветник, насильник и растлитель юных девушек. Вскоре стало известно, что Гусева – приверженка радикального монаха Илиодора, крайне правого по убеждениям, который когда-то был одним из самых заметных сторонников Распутина, а теперь сделался его заклятым врагом. Гусева утверждала, что действовала самостоятельно и к намерению убить Распутина ее никто не подталкивал, хотя и полиции, и самому Распутину была очевидна роль Илиодора в этой истории. Но прежде, чем того удалось арестовать, он, переодевшись в женское платье, скрылся из своего дома и бежал за границу. Что касается Гусевой, после длившегося целый год следствия и суда ее признали невменяемой и поместили в Томскую окружную лечебницу для душевнобольных. Там она пребывала до марта 1917 г. и была освобождена по указу Временного правительства: новое руководство России сочло нападение на Распутина героическим актом патриотизма{26}.
Почти сразу после покушения дочь Распутина Матрена отправила Николаю и Александре телеграмму с сообщением об этом происшествии и «чудесном спасении» своего отца{27}. Царская семья плавала по финским шхерам на яхте «Штандарт», когда ее настигло это известие. Александра в ответ телеграфировала: «Глубоко возмущены. Скорбим с Вами, молимся всем сердцем»{28}.
Покушение это стало тяжелым ударом для царской семьи, которая привязалась к Распутину с тех самых пор, как в ноябре 1905 г. он явился ко двору. Родившийся в январе 1869 г. в простой крестьянской семье села Покровское, к 1914 г. Распутин стал самым известным (печально известным) человеком в стране после царя. О его жизни до Петербурга сведений немного. После бурной молодости в 1890-е гг. Распутин, по его словам, пережил религиозное возрождение. Он оставил жену и присоединился к «странникам», особой породе русских паломников, долгие месяцы бродил вдалеке от родных мест по огромной России, перебираясь из монастыря в монастырь в поисках откровения. Со временем весть о сибирском святом, обладающем глубокой христианской духовностью и мистическим даром исцеления и пророчества, дошла до Санкт-Петербурга. На Распутина обратили внимания клирики из столичной богословской академии, затем он свел знакомство с «черными принцессами», Милицей и Анастасией, дочерями короля Черногории, и те представили Распутина Николаю и Александре.
Царская чета и в особенности императрица давно проявляли интерес к мистике и народным «святым» (этот интерес разделяли многие в Петербурге). Со временем Распутин сделался для царя и царицы одним из немногих близких людей. Они были убеждены, что с ним можно откровенно говорить обо всем, что он приобщит их к преобразующей жизнь красоте православной веры и силой своей молитвы облегчит страдания больного гемофилией царевича Алексея. Постепенно Александра уверилась, что Распутин чудесным образом разбирается во всем: и в вопросах религии, и в политике, и даже в военном деле. Однако в глазах большинства жителей России он оставался весьма противоречивой фигурой. Хотя никто не знал в точности, на чем держатся его отношения с царской семьей, свое мнение имелось у каждого. Многие считали Распутина шарлатаном, лжесвятым, опасным сектантом, развратником, неутомимо преследующим женщин и ловко использующим влияние при дворе для обогащения и уничтожения противников. Иными словами, этот человек сделался несмываемым пятном на репутации Романовых{29}.
Покушение Гусевой попало в международные новости. О состоянии Распутина писали в газетах континентальной Европы и Великобритании, The New York Times вынесла этот сюжет на первую полосу{30}. Россия недели напролет следила за развитием этой истории, и какое-то время здоровью Распутина уделялось больше внимания, чем событию, на которое вскоре переключилась Европа, т. е. гибели эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня в Сараево от руки сербского националиста Гаврилы Принципа.
Такое совпадение во времени покушений на Распутина и эрцгерцога породило прискорбную путаницу и даже ложь в исторических сочинениях и биографиях. На первый взгляд кажется странным, что оба покушения произошли почти одновременно (28 и 29 июня). Но всякая хронологическая (или иная) связь призрачна, поскольку эрцгерцог был убит 28 июня по григорианскому календарю (новому стилю), принятому на Западе и на 13 дней опережавшему русский юлианский календарь (старый стиль). То есть по российскому календарю Франц Фердинанд умер 15 июня (по н. ст.), ровно за две недели до нападения Гусевой на Распутина.
Но это не помешало приверженцам теории заговора разглядеть за событиями крупный международный умысел. Современные российские националисты относят оба покушения на счет международного «жидомасонства», которое попыталось таким образом уничтожить двух человек, стоявших на пути войны: таким образом-де планировалось втянуть весь мир в глобальный конфликт, уничтожить христианские империи Европы и разжечь мировую революцию. (Некоторые добавляют к этим двум препятствиям на пути войны еще третьего человека, французского социалиста и антимилитариста Жана Жореса, застреленного в парижском «Кафе дю Круассан» 31 июля по новому стилю.){31} Самые ярые сторонники теории заговора заходят еще дальше и вопреки фактам и логике утверждают, что оба покушения произошли в один день и даже в один и тот же час. В биографии Распутина, написанной в 1964 г., Колин Уилсон, претендуя на роль первого, кто заметил подозрительную синхронность нападений, писал: «Смерть Фердинанда сделала войну возможной, нападение на Распутина сделало войну неизбежной, поскольку во всей России предотвратить ее мог только он»{32}. На самом деле в день убийства Франца Фердинанда Распутин находился еще в Петербурге и репортеру «Биржевых новостей», просившему прокомментировать это событие, отвечал:
«Что тут, братец, может сказать Григорий Ефимович? Убили уж, ау. Назад-то не вернешь, хоть плачь, хоть вой. Что хочешь делай, а конец-то один. Судьба такова… А вот английским гостям, бывшим в Петербурге, нельзя не порадоваться. Доброе предзнаменование [для них]. Думаю своим мужицким умом, что это дело большое – начало дружбы с Россией, с английскими народами. Союз, голубчик, Англии с Россией, да еще находящейся в дружбе с Францией, – это не фунт изюма, а грозная сила, право, хорошо»{33}.
Но и Распутина одолевала тревога. Итальянскому журналисту он сказал: «Да, говорят, война будет, они затевают, но, Бог даст, войны не будет, я об этом позабочусь»{34}. Первого июля газета «День» опубликовала статью Владимира Бонч-Бруевича, специалиста по русским сектантам, члена партии большевиков и будущего секретаря Ленина, под заголовком «Распутин»:
«"Тебе хорошо говорить-то, – как-то разносил он, полный действительного гнева, особу с большим положением, – тебя убьют, там похоронят под музыку, газеты во-о какие похвалы напишут, а вдове твоей сейчас тридцать тысяч пенсии, а детей твоих замуж за князей, за графов выдадут, а ты там посмотри: пошли в кусочки побираться, землю взяли, хата раскрыта, слезы и горе, а жив остался, ноги тебе отхватили – гуляй на руках по Невскому или на клюшках ковыляй да слушай, как тебя великий дворник честит: ах ты, такой, сякой сын, пошел отсюда вон! Марш в проулок!.. Видал: вот японских-то героев как по Невскому пужают? А? Вот она, война! Тебе что? Платочком помахаешь, когда поезд солдатиков повезет, корпию щипать будешь, пять платьев новых сошьешь… – а ты вот посмотри, какой вой в деревне стоял, как на войну-то брали мужей да сыновей… Вспомнишь, так вот сейчас: аж вот здесь тоскует и печет", – и он жал, точно стараясь вывернуть из груди своей сердце.
Нет войны, не будет, не будет?»{35}
При всех своих недостатках Распутин был сторонником мира. Он питал естественное отвращение к кровопролитию и как верующий христианин считал войну грехом.
Время от времени он высказывался как пацифист, например в интервью «Дыму Отечества», также перед началом войны 1914 г.:
«Готовятся к войне христиане, проповедуют ее, мучаются сами и всех мучают. Нехорошее дело война, а христиане вместо покорности прямо к ней идут… Но вообще воевать не стоит, лишать жизни друг друга и отнимать блага жизни, нарушать завет Христа и преждевременно убивать собственную душу. Ну что мне, если я тебя разобью, покорю; ведь я должен после этого стеречь тебя и бояться, а ты все равно будешь против меня. Это если от меча. Христовой же любовью я тебя всегда возьму и ничего не боюсь. Пусть забирают друг друга немцы, турки – это их несчастье и ослепление. Они ничего не найдут и только себя скорее прикончат. А мы любовно и тихо, смотря в самого себя, опять выше всех станем»{36}.
За это он подвергался нападкам на страницах журнала «Отклики на жизнь», издаваемого его заклятым врагом – протоиереем Владимиром Востоковым:
«Гр. Распутин, сколько мы можем судить по его органу "Дым Отечества", есть злейший враг святой Христовой Церкви, православной веры и Русского Государства. Мы не знаем, какое влияние имеет этот изменник Христова учения на внешние дела России, но во время освободительной войны балканских христиан (в 1912 г.) с Турцией он выступил не за Христа, а за лжепророка Магомета. (…) Он проповедует непротивление злу, советует русской дипломатии во всем уступать, вполне уверенный, как революционер, что упавший престиж России, отказ от ее вековых задач приведет наше отечество к разгрому и разложению. (…) Распутин не только сектант, плут и шарлатан, но в полном значении слова революционер, работающий над разрушением России. Он заботится не о славе и могуществе России, а об умалении ее достоинства, чести, о предательстве ее родных по духу братьев туркам и швабам и готов приветствовать всякие несчастия, которые, вследствие измены наших предков завету, ниспосылаются Божественным Промыслом нашему отечеству. И этого врага Христовой истины некоторые его поклонники признают святым»{37}.
Упоминание о том, как Распутин выступал против «освободительной войны» на Балканах, относится к его позиции во время Балканского кризиса 1912 г., особенно когда Черногория и другие ориентировавшиеся на Россию государства этого региона (Сербия, Болгария и Греция) развязали в октябре того года войну против Османской империи. Армии этих «малых государств» двинулись на Константинополь, Россию охватила военная истерия. На улицы Петербурга вышли демонстрации под лозунгами «Крест на Святую Софию». Российская пресса призывала к войне в защиту братьев-славян от неверных, того же требовал и председатель Думы Михаил Родзянко, заявивший в марте 1913 г. царю: «Войну примут с радостью, и она поднимет престиж правительства»{38}.
Многие считали, что от вступления в эту войну Николая удержал только совет Распутина. Анна Вырубова, наиболее преданная (после самой царицы) ученица «старца», писала впоследствии:
«Вспоминаю только один случай, когда действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику России. Это было в 1912 году, когда великий князь Николай Николаевич и его супруга старались склонить Государя принять участие в Балканской войне. Распутин чуть ли не на коленях перед Государем умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну, и что Россию постигнет неминуемое несчастье»{39}.
Граф Сергей Витте, бывший премьер-министр, подтвердил, что Распутин сказал последнее слово в пору Балканской войны, и это следует принимать как «один из жизненных фактов»{40}. Более того, немецкая Vossische Zeitung от 5 мая 1914 г. (18 мая по н. ст.) приводила слова Витте: «Весь мир бранит Распутина, а знаете ли вы, что он спас нас от войны?»{41}
Германская пресса, убежденная во влиятельности Распутина при дворе, старалась выяснить его отношение к Балканской войне. Frankfurter Zeitung опубликовала сюжет «Россия и Балканы», в котором приписывала Распутину слова, будто «болгары отплатили русским за любовь неблагодарностью и ненавистью, так что теперь будем думать о себе и не станем заботиться о недостойных»{42}.
Распутин проехал по Балканам в 1911 г. во время паломничества в Святую землю. Увиденное там ему не понравилось.
«А может быть, славяне не правы, а может быть, им дано испытание?! Вот ты не знаешь их, а они высокомернее турок и нас ненавидят. Я ездил в Иерусалим, бывал на Старом Афоне – великий грех там от греков, и живут они неправильно, не по-монашески. Но болгары еще хуже. Как они издевались над русскими, когда нас везли; они – ожесточенная нация, ощетинилось у них сердце; турки куда религиознее, вежливее и спокойнее. Вот видишь как, а когда смотришь в газету – выходит по-иному. А я тебе говорю сущую правду»{43}.
Таким образом, Распутин не просто демонстрировал оппозицию панславизму, но больше того – в пору обострения ксенофобии осмеливался назвать мусульман более верующими, чем славяне, считавшиеся братьями русских.
Однако, если антивоенная позиция Распутина не вызывает сомнений, не столь очевидно, в какой мере он сумел повлиять на решения царя. Нет никаких доказательств того, что царь хотя бы выслушал в ту пору Распутина. Более того, далеко не только Распутин высказывался против участия в войне на Балканах. Министр иностранных дел Сергей Сазонов, приложивший немало сил к тому, чтобы ободрить балканские народы и побудить их к войне, тоже возражал против участия России, не желал этого и сам царь. В начале 1911 г. он велел своему посланнику в Софии никогда не забывать, что Россия в ближайшие пять лет (как минимум) не будет готова к войне. Даже думать об этом невозможно{44}.
Слова Николая показывают, что он и Распутин подходили к одной и той же проблеме с разных позиций. Император не считал войну заведомо неправедным делом и допускал, что Россия может воевать, но только сначала страну следовало полностью к этому подготовить. Отношение Распутина сложнее: с одной стороны, он считал войну неприемлемым делом для христиан, однако его уничижительные замечания о болгарах (и в более широком смысле о славянах в целом) подразумевали, что война может оказаться необходимым злом, но только война в защиту истинных друзей.
Через год после начала войны с Турцией, во время которой балканские государства-союзники передрались между собой, Распутин, чья правота тем самым подтвердилась, высказал свое мнение публично на страницах «Петербургской газеты» от 13 октября 1913 г.:
«Что нам показали наши "братушки" [болгары], о которых писаки так кричали, коих так защищали, значит… Мы увидели дела братушек и теперь поняли, кто они и чего хотят. Все они… Была война там, на Балканах этих. Ну и встали тут писатели в газетах, значит, кричать: быть войне, быть войне! И нам, значит, воевать надо… И призывали к войне, и разжигали огонь… А вот я спросил бы их… спросил бы писателей: "Господа! Ну для чего вы это делаете? Ну нешто это хорошо? Надо укрощать страсти, будь то раздор какой аль целая война, а не разжигать злобу и вражду".
Тому и тем, кто совершил так, что мы, русские, войны избегли, тому, кто доспел в этом, надо памятник поставить, истинный памятник, говорю… И политику, мирную, против войны, надо счесть высокой и мудрой»{45}.
Незадолго до покушения Гусевой Вырубова телеграфировала Распутину (тот еще был на пути в Покровское), предупреждая его о позиции Николая и Александры по международному кризису{46}. После покушения Распутин пытался с больничной койки в Тюмени вмешаться в ход событий и дать государю свой совет. Репортеры явились в больницу и пытались выяснить мнение «старца» об ухудшающейся ситуации на Балканах{47}. По свидетельству его дочери Матрены, Распутин в те дни с ума сходил при мысли, что Николай объявит войну. Торопя свое выздоровление, он якобы твердил: «Еду, еду, и не пытайтесь меня остановить… Что ж они натворили-то? Погибнет матушка-Рассея!»{48} Распутин писал Николаю, умоляя его «крепиться» и не прислушиваться к тем, кто кличет войну. От волнения рана у него открылась и снова начала кровоточить{49}.
12 июля (25 июля по н. ст.) Распутин дал Вырубовой телеграмму: «Серьезный момент, угроза войны»{50}. На следующий день он телеграфировал снова, требуя передать царю: нужно любой ценой избежать войны{51}. А 14 июля получил из Петергофа телеграмму без подписи, скорее всего через посредство Вырубовой, с просьбой изменить свою позицию и поддержать вступление России в войну: «Вам известно, что всегдашний наш враг Австрия готовится наброситься на маленькую Сербию. Страна эта почти сплошь крестьянская, беззаветно России преданная. Нас покроет позор, если допустим эту бессовестную расправу. При случае поддержите вашим влиянием, если можете, правое дело. Желаю Вам выздоровления»{52}.
Затем последовали еще более страстные телеграммы:
16 июля 1914 г. Из Петергофа в Тюмень, Распутину.
«Плохие известия. Ужасные минуты. Помолитесь о нем. Нет сил бороться другими».
17 июля 1914 г. Из Петергофа в Тюмень, Распутину.
«Тучи все больше угрожают. Должен ради защиты открыто готовиться, сильно страдает».
Из Петербурга секретарше Распутина Лапшинской.
«Если здоровье "старца" позволяет, немедленный приезд необходим для пользы Папы ввиду надвигающихся событий, советуют и горячо просят любящие друзья. Целую. Жду ответа»{53}.
Но Распутин не последовал совету Вырубовой и упорно держался за свою позицию. Он послал императору телеграмму с требованием не вступать в войну. Телеграмма с тех пор была утрачена, однако Вырубова утверждала, что успела ее прочесть и что там было сказано: «Не позволяй Папе планировать войну, война – конец России и вам, и все вы погибнете до последнего человека». Николай, по ее сообщению, был сильно разгневан и возмущался тем, как Распутин вмешивается в дела государства, к которым, по мнению царя, никакого отношения не имел{54}. Когда стало ясно, что эта телеграмма не оказала никакого действия, Распутин предпринял еще одну попытку остановить Николая. Он потребовал ручку и бумагу и, все еще лежа на больничной койке, написал потрясающее пророческое письмо:
«Милый друг, еще раз скажу: грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нет; слез-то море и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нет, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят и верные, не зная, что ради погибели. Тяжко Божье наказание, когда ум отнимет, тут начало конца. Ты – царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать, так все по-другому. Не было от веку горшей страдалицы, вся тонет в крови великой, погибель без конца, печаль. Григорий»{55}.
Это замечательное послание сохранилось. Хотя в легенду, согласно которой Николай во время войны носил это письмо при себе, едва ли можно верить, но царь, несомненно, придавал этому письму большое значение и взял его с собой в ссылку в августе 1917 г., когда его вместе с семьей эвакуировали из Царского Села. Во время пребывания в Тобольске в начале 1918 г. Николай сумел тайно передать письмо мужу Матрены Распутиной, Борису Соловьеву, который в ту пору пытался в Сибири организовать заговор для спасения императорской семьи. Позднее бежавшая из России Матрена добралась до Вены и там, по-видимому, в 1922 г. продала письмо князю Николаю Владимировичу Орлову. Письмо еще дважды переходило из рук в руки, в том числе побывало у Николая Соколова, расследовавшего убийство Романовых в Екатеринбурге, и наконец оказалось у Роберта Брюстера, который в 1951 г. передал его Йельскому университету{56}.
Письмо Распутина как раз и представляет нам одну из значимых развилок истории. Что, если Николай прислушался бы к предостережению, если бы те образы, которые Распутин создал этими немногими мощными словами, раскрыли бы царю глаза на великую опасность, на тот ужас, к которому Россия устремилась летом 1914 г.? Если бы Николай последовал совету Распутина, изменился бы ход не только российской, но и мировой истории. Если бы Россия не вступила в войну, едва ли могла бы произойти революция – и уж во всяком случае не настолько яростная и всеобщая катастрофа. Трудно даже вообразить, скольких страданий удалось бы избежать.
А если бы в России не победила в 1917 г. революция, едва ли возможно было бы и возвышение Гитлера в Германии. Но опять-таки Николай пренебрег словами Распутина, словами, которые могли спасти его страну, словами, которые более чем искупали весь ущерб, который Распутин нанес или нанесет в ближайшем будущем престижу династии.
Позднее, когда оправившийся от раны Распутин вернулся в Петербург, он не раз говаривал, что, будь он тогда в столице подле царя, он бы сумел отговорить его от войны{57}. Граф Витте, приводя суждения Распутина о Балканском кризисе, высказывает то же мнение{58}. Но трудно сказать, насколько это соответствует истине: сюжет интересный, однако не слишком убедительный, поскольку в 1914 г. Николай редко советовался с Распутиным по важным вопросам (разве что относительно веры). Хоть какую-то готовность прислушиваться к советам Распутина (и то редко и неохотно) Николай обнаружил позднее, когда взял на себя верховное командование армией в 1915 г. и перебрался в Ставку. Эти советы ему передавала в письмах супруга. Например, именно по рекомендации Распутина он назначил в сентябре 1916 г. министром внутренних дел Александра Протопопова.
Не следует также забывать, что за мир выступал не только Распутин. Бывший посол в США барон Роман Розен, князь Владимир Мещерский (издатель «Гражданина» и давний друг Николая, а до того – Александра III), Витте – все были против войны. Помимо Распутина столь же внятно о катастрофе, которая постигнет страну в случае войны, говорил царю Петр Дурново, бывший министр внутренних дел. Он еще в феврале 1914 г. составил знаменитый меморандум на этот счет{59}.
Пока Распутин писал свои отчаянные письма Николаю, пресса строила всевозможные догадки о том, как «старец» воспринимает международную ситуацию. «Курьер Санкт-Петербурга», например, отмечал 16 июля «крайнее огорчение» Распутина при получении из столицы телеграммы о том, что Австрия накануне вступила в войну с Сербией{60}.
Как и во время Балканского кризиса, европейская пресса тоже пыталась проникнуть в мысли Распутина. Алекс Шмидт из Hamburger Fremdenblatt 21 июня 1914 г. (по н. ст.) писал, что «бывший апостол мира» теперь якобы заговорил на языке панславистов и призывает к объединению всех славян и всех православных под российской державой. Если это так, комментировал Алекс, возникает серьезная опасность для европейского мира, поскольку лишь вера может повести массы русских крестьян на войну. «В любом случае, – заключал он, – просто нелепо, чтобы мир в Европе зависел от темных побуждений и желаний лукавого мистика или простого авантюриста. Но в стране бескрайних невозможностей возможно все»{61}.
Были и еще более дикие предположения: в Тулузе опубликовали статью о том, как Витте подговорил Распутина убедить царя заключить союз с Германией против «безбожной Франции»{62}. Немецкие газеты (Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt) полагали, что Распутин, умевший в прошлом удержать царя от войны, теперь пустит свое влияние в ход с противоположной целью – ускорить вступление в войну. А другая немецкая газета, Deutsche Warte, в первые дни после покушения, когда пронесся слух о гибели Распутина, задавалась вопросом, не было ли убийство подстроено теми силами в России, которые противились мирным устремлениям Распутина и теперь спешили вовлечь ее в войну{63}.
В Петербурге тем временем Николай пытался не реагировать чересчур остро на события в других столицах Европы. Узнав о гибели эрцгерцога, он выразил австрийскому императору Францу Иосифу свои соболезнования и занялся другими делами. Даже когда Австрия объявила 10 июля (23 июля по н. ст.) унизительный и неприемлемый ультиматум Сербии, Николай всего лишь выразил по этому поводу «озабоченность». Однако некоторые его министры уже проявляли куда большую тревогу. 'C'est la guerre européenne' («Это европейская война». – фр.), – заявил министр иностранных дел Сазонов. На следующий день на встрече совета министров он доказывал царю необходимость отстаивать честь России на Балканах и дать решительный отпор Австрии, которая угрожала Сербии вторжением. Нужны сильные действия, иначе Россия скатится до уровня второсортной европейской державы, предостерегал он. Другие министры поддержали воинственного Сазонова.
Однако Николай устоял перед их давлением. Он обратился к кайзеру Вильгельму и слал ему телеграмму за телеграммой, умоляя остановить Австрию и не допустить развязывания войны, подчеркивая необходимость мирного разрешения этого кризиса. Немцы в ответ подавали неоднозначные сигналы, а царские министры продолжали доказывать преимущества войны. Теперь к Сазонову присоединились военный министр генерал Владимир Сухомлинов, глава генштаба генерал Николай Янушкевич, министр сельского хозяйства Александр Кривошеин и председатель Думы Родзянко. Наконец царь сдался. 17 июля была объявлена, а на следующий день началась всеобщая мобилизация. Война, таким образом, стала неизбежной. Узнав об этом, Александра ворвалась в кабинет мужа, полчаса напролет они проспорили. Это решение застало императрицу врасплох, она была вне себя. Вернувшись в свои покои, Александра бросилась ничком на кушетку и зарыдала. «Все кончено, – сказала она Вырубовой, – будет война». А Николай, как подметила Вырубова, был спокоен: он наконец разобрался с мучительным, неотступно нависавшим над ним вопросом{64}.
Девятнадцатого июля (1 августа по н. ст.) Германия объявила войну России. Распутин телеграфировал Вырубовой для передачи Николаю и Александре: «Милые, дорогие, не отчаивайтесь!»{65} На следующий день он телеграфировал напрямую Николаю:
«О милый, дорогой, мы к ним с любовью относились, а они готовили мечи и злодействовали на нас годами. Я твердо убежден, все испытал на себе, всякое зло и коварство получит злоумышленник сторицей, сильна Благодать Господня, под ее покровом останемся в величии»{66}.
Двадцать четвертого июля войну России объявила Австро-Венгрия. Распутин послал царице обнадеживающую телеграмму: «Господь с вас своей руки никогда не снимет, а утешит и укрепит»{67}. Хотя до сих пор он изо всех сил бился за мир, теперь, когда война уже началась, Распутин стремился к победе и больше ни разу не выразил сомнения в правоте российского дела и не колеблясь утверждал необходимость сражаться вплоть до полной победы над врагами{68}.
Двадцать шестого июля он телеграфировал Вырубовой:
«Все от востока до запада слились единым духом за родину, это радость величайшая»{69}.
В середине августа Распутин вновь писал Николаю о своей уверенности, что Россия одержит победу:
«Бог мудрый через крест показывает славу, сим крестом победиши. То время настанет. С нами Бог, убоятся враги»{70}.
Неделей позже Распутин выписался из больницы и сразу же отправился в столицу. 22 августа его принял Николай{71}. С возвращением Распутина началась обычная салонная болтовня. Французский посол Морис Палеолог сообщал, что Распутин заявил царице: дескать, его чудесное исцеление – очередное доказательство заботы Бога о нем. И всех интересовало, какую позицию Распутин занимает по войне. Палеолог считал, что Распутин уговаривал Николая добиваться союза с Англией, и при этом посол, как многие представители высшего класса, не допускал мысли, чтобы у мужика имелись собственные идеи, и потому в его версии Распутин не сам пришел к такому убеждению, а попросту твердил слова, подсказанные ему князем Мещерским{72}.
«Санкт-Петербургский курьер», со своей стороны, сообщал, что Распутин не только поддержал вступление России в войну, но и сам собирается добровольцем на фронт – этот слух происходил из салона графини Софьи Игнатьевой, – и, когда он дошел до преданных Распутину женщин, они все страшно встревожились и умоляли «старца» не подвергать себя опасности{73}. Один из читателей газеты, некий И. А. Карев, служивший в ту пору в Дагестане, так взволновался, что счел необходимым лично написать Распутину:
«На днях узнал из газет, что Вы собираетесь ехать на театр военных действий – хотя каждый русский человек должен стать грудью на защиту своего Отечества и Ваше намерение есть в высшей мере благое, но подумайте, что эта стихийная война и ужас ее много уже поглотило жизней и Вы не минуете этой участи, а Вы и здесь много принесете пользы человечеству. Если Ваше желание ехать на войну непоколебимо и Вы все-таки хотите ехать туда, то с Богом, за Вас много будут молиться Богу»{74}.
Распутин, само собой, на войну не отправился, да и не собирался.
Но с той минуты он уже не колеблясь поддерживал все военные усилия России. Его записки и телеграммы Николаю и Александре на протяжении следующих двух лет повторяют одну и ту же мысль: если царь пребудет решителен и тверд, Господь благословит Россию победой{75}.
Один из странных парадоксов в судьбе Распутина: несмотря на то что в итоге он однозначно встал на сторону военной партии, многие соотечественники видели в нем агента Германии, тайно устраивающего сепаратный (предательский, как считало большинство) мир. Никаких доказательств этого грозного обвинения не было и с тех пор не нашлось, но современники воспринимали «темные силы» во главе с Распутиным и царицей Александрой как безусловный факт: они продают страну гансам{76}. Пожалуй, многих в России удивило бы известие, что в последние месяцы правления Романовых Распутин изо всех сил пытался спасти династию. Осенью 1916 г. он чрезвычайно озаботился кризисом с поставками продуктов в крупные города России, интуитивно почувствовав, какой опасностью это грозит режиму, и настойчиво уговаривал царя заняться этой проблемой, даже предлагал специальные меры для ее решения{77}. Но к тому времени дни Распутина, да и царской династии, были уже сочтены.
Рано утром 17 декабря (30 декабря по н. ст.) Распутин был убит в петроградском особняке князя Феликса Юсупова. Убийцы утверждали, что действовали исключительно из патриотизма: смерть этого сибирского мужика могла, по их расчету, спасти режим. Александра, как надеялся Юсупов, из-за гибели Распутина сойдет с ума, ее запрут в монастырь или сумасшедший дом, а царь, освободившись из-под влияния «темных сил», поведет Россию к победе на поле боя и остановит наползающий на страну хаос{78}. Поразительная наивность! И хотя поначалу весть о смерти Распутина приняли с эйфорией, вскоре стали раздаваться тревожные голоса.
Павел Заварзин, бывший глава Московского отделения по охранению общественной безопасности (охранки), вспоминал, как вскоре после убийства Распутина он ехал в поезде по центральной части России. Он, как и другие пассажиры, читал в вагоне-ресторане газету с подробностями убийства, и один из попутчиков, сибирский купец средних лет, высказался: «Слава Богу, что покончили с этой сволочью». Все заговорили разом, кто-то радовался: «Собаке – собачья смерть». Но виделось в этой истории и что-то неправильное. Один из участников разговора счел невозможным для дворянина заманивать к себе гостя, чтобы его убить, другой возмущался, как могли люди, столь близкие к трону, вонзить государю «нож в спину». Наконец, бородатый сибиряк в очках подытожил: «Признак развала и неминуемой революции» – и с тем ушел в свое купе{79}.
Народ, конечно, обратил внимание на то, что убили Распутина аристократы. Одна светская дама слышала, как раненые солдаты в петроградском госпитале сетовали: «Конечно, стоило мужику дойти до царя – и аристократы его убили». Это мнение было чрезвычайно распространено в среде простого народа и подпитывало ненависть к высшим классам, которой суждено было вскоре прорваться{80}. В Покровском крестьянин сказал Сергею Маркову, который приехал в родные места Распутина в начале 1918 г., что Распутина убили «буржуи», ведь он отстаивал перед царем интересы бедняков{81}.
Юсупов и другие участники заговора вовсе не спасли монархию, а, напротив, ускорили ее конец. Знаменитые слова Александра Блока были совершенно точны: «Пуля, прикончившая Распутина, попала в самое сердце царствующей династии»{82}.
4. Последний царь Март 1917 г. Дональд Кроуфорд
В начале 1917-го едва ли нашелся бы в России или за ее пределами человек, способный предсказать, что в течение года Российская империя распадется, династия Романовых лишится трона, а наследовавший ей режим – предтеча того, который будет провозглашен новой социалистической республикой, – также рухнет. Ничто в этих событиях не может притязать на историческую неизбежность, и все свидетельствует о том, что, когда наступает хаос, объяснить его пришествие мы можем лишь задним числом.
Да, вынужденное отречение императора Николая II можно счесть неизбежным, поскольку к тому времени он успел испортить отношения почти со всей политической элитой страны, а также со значительной частью разветвленной семьи Романовых. В разгар катастрофической войны с Японией он кое-как справился с революцией 1905 г., согласившись с требованием учредить выборный парламент, Думу, хотя министры оставались подотчетны ему лично. В разгар войны с Германией он упорно отвергал требования изменить принцип формирования правительства так, чтобы кабинет министров назначался Думой и был подотчетен ей. До самого конца российская монархия оставалась абсолютной, так и не превратившись в конституционную.
В значительной степени вину за падение династии можно возложить на императрицу Александру, во все вмешивавшуюся и командовавшую Николаем, причем родом немку. Когда в 1915 г. Николай принял на себя верховное командование армией и перебрался в Ставку в Могилеве, примерно в 700 км от столицы, он препоручил супруге контролировать остававшихся в Петрограде министров. В последующие два года правительство постепенно превращалось в ее кабинет. Министры назначались только с одобрения ненавистного всем «святого человека» Григория Распутина: царица непоколебимо верила, что лишь обладающий «духом Божьим» Распутин спасает от смерти ее больного гемофилией сына. Но, поскольку наследственный недуг царевича Алексея от мира скрывали, привязанность царицы к этому человеку навлекала на нее недовольство и общества, и политических элит.
В итоге в декабре 1916 г. известие о гибели Распутина (вовсе не от рук политических террористов, убийцами стали два члена императорской семьи – князь Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович) было с восторгом принято всей страной. Затем распространились слухи, будто великие князья Кирилл, Борис и Андрей готовят дворцовый переворот, в результате которого Александру заточат в отдаленном монастыре. Никаких подтверждений тому не было, но в столичных салонах укрепилась уверенность в том, что дни «этой женщины» сочтены.
Однако пока и мысли не возникало устранить династию Романовых полностью: общее желание сводилось к тому, чтобы Николай, под нажимом отрекшись от престола, уступил его, согласно закону, своему 12-летнему сыну Алексею, а младший брат Николая Михаил стал бы регентом. Михаил был героем войны, кавалерийским офицером, награжденным двумя главными воинскими наградами империи, к тому же он выражал симпатии конституционной монархии на британский лад; армия глубоко его уважала, и Дума также с радостью признала бы его.
Из нескольких политических заговоров той поры самым серьезным оказался возглавленный влиятельным членом Думы, главой партии октябристов («Союз 17 октября») Александром Гучковым, который считал, что перемены необходимы, и срочно: в противном случае крайне левые экстремисты выйдут на улицы и в России разразится новая революция.
В качестве альтернативы революции Гучков планировал бескровный дворцовый переворот: арестовать царский поезд по пути из столицы в Могилев и наутро объявить об отречении как о свершившемся факте. Гучков был убежден, что в этом случае всенародное давление принудит царя смириться с отречением.
Другой заговор, не связанный с первым, исходил из самой Ставки, и в нем участвовал начальник штаба генерал Михаил Алексеев. Одной из главных фигур заговора стал князь Львов, популярный общественный и политический деятель. Эти заговорщики собирались арестовать Александру во время ее очередного визита в Ставку и вынудить царя отправить ее в Ливадию. Если же он отказался бы сделать это (что было весьма вероятно), то в таком случае царю пришлось бы отречься с теми же последствиями, каких добивались и участники первого заговора: трон занял бы юный император, а его дядя, великий князь Михаил, стал бы регентом. Хотя оба эти плана не были доработаны полностью, и те и другие заговорщики были вполне уверены в успехе. Окружение Гучкова, планировавшее решительные действия на март, было уверено, что устранение слабого царя и его коварной супруги и необходимо, и неизбежно – только так возможно спасти царскую Россию.
Но у истории, как это нередко случается, имелись свои планы. Будущее России в итоге решили не немногие избранные, а громогласная уличная толпа, которая до последнего момента и не догадывалась, какую роль ей предстоит сыграть. Мятеж был спонтанным, без плана, даже без вождя, которого можно было бы назвать хотя бы задним числом. Недовольство перешло в беспорядки, беспорядки вылились в бунт, бунт обернулся революцией. Причем все это происходило главным образом в столице, а большая часть страны поначалу вовсе не реагировала на события – а некоторые регионы и узнали-то о них, когда все было уже кончено.
Ближайшим поводом к беспорядкам послужило опасение, что скоро начнутся перебои с хлебом. Опасение это принадлежит к числу самосбывающихся пророчеств: хотя хлеба пока что было достаточно, многие хозяйки скупали его и запасали, создавая таким образом дефицит. Но перебои с хлебом были одним из многих факторов. Происходили крупномасштабные забастовки, которые привели к массовым увольнениям на огромном Путиловском заводе – по оценкам, около 158 000 человек остались к концу февраля без работы. Сам Петроград превратился в военный гарнизон: 170 000 солдат и матросов размещались в городских казармах и жадно прислушивались к агитаторам, среди которых было немало немецких шпионов, активно пробуждавших в войсках недовольство именно в расчете спровоцировать революцию и вывести Россию из войны.
Внезапно в субботу 25 февраля (10 марта по н. ст.) угроза революции воплотилась в реальность. Дело не только в том, что в этот день погибло шесть человек, но в том, что один из них был полицейским, который ворвался в толпу демонстрантов, желая отобрать у них красное знамя, и был убит казаком. Казаки до тех пор были самыми надежными частями, направляемыми на подавление мятежников и демонстрантов, и если уж на них нельзя было больше положиться, то у царского режима не оставалось никого. В воскресенье число погибших возросло до 200. Самое зловещее: батальон Павловского лейб-гвардейского полка взбунтовался в казарме, солдаты напали на своего полковника и отрубили ему руку. После этого им оставалось либо совершить революцию – либо ждать веревки палача.
Председатель Думы Михаил Родзянко в отчаянии телеграфировал царю: «В столице анархия. Правительство парализовано… Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство» – настаивал он, уверяя, что «всякое промедление смерти подобно». Однако Николай счел все это пустой паникой: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор». Тем не менее царь принял решение направить в столицу верные ему войска и сам тоже собирался приехать в резиденцию Царское Село в 20 км от Петрограда – этого, считал он, будет достаточно для решения проблемы. Мятежные солдаты – попросту чернь с винтовками. Перед настоящими войсками, побывавшими на передовой, они не устоят.
Успокаивать себя такими рассуждениями было легче в Могилеве, чем непосредственно на улицах Петрограда. Взбунтовались действительно не солдаты с боевым опытом, а резервисты, многие из них – новобранцы, остатки, выскобленные военными властями со дна. Тонкий налет военной дисциплины мгновенно исчез, и такие подразделения превратились в обычную толпу, разве что одетую в шинели. Тем не менее у толпы имелись винтовки, бунтовщики были вооружены не хуже тех солдат, которых послали усмирять волнения. К полудню воскресенья, всего через сутки после начала беспорядков, 25 000 солдат перешли на сторону демонстрантов, а большая часть гарнизона попросту оставалась в казармах, пока на улицах бушевали восставшие войска и чернь.
Был захвачен арсенал на Литейном, в руки мятежников попали тысячи винтовок и пистолетов, сотни пулеметов. Разгромили и сожгли штаб-квартиру охранки на другом берегу Невы, напротив Зимнего дворца, а также десяток полицейских участков. Открыли тюрьмы и выпустили заключенных, как политических, так и уголовных. К вечеру второго дня под контролем правительства оставался лишь небольшой участок вокруг Зимнего дворца. Все планы Гучкова по предотвращению восстания пошли прахом. Анархия уже началась, как отметил в тот день в своем дневнике великий князь Михаил, брат царя.
Волновалась и Дума, собравшаяся в зале заседаний петроградского Таврического дворца. Новая сессия началась всего за 13 дней до того, и вдруг депутаты обнаружили, что Думу вновь распускают. Князь Голицын, третий за истекший год премьер-министр, использовал «бессрочный» мандат царя, позволявший ему в любой момент остановить работу Думы: он считал, что, заставив таким образом умолкнуть радикалов, он снизит напряжение.
Голицын просчитался. Депутаты отказались расходиться, перешли в соседний зал и сформировали «временный комитет», который тут же превратился в де-факто правительство. Другое дело, что никто не понимал, как действовать дальше, в растерянности пребывал и председатель Думы Родзянко, безответно восклицавший: «Что мне делать?»
В итоге Родзянко обратился к единственному человеку, в котором видел надежду на спасение. Выскользнув из зала заседания, он позвонил великому князю Михаилу в Гатчину, что в 45 км к югу от столицы, и попросил его немедленно приехать.
Михаил так и сделал. Его личный поезд отбыл в 5 часов вечера, и через час Михаила встретили в Петрограде и доставили в Мариинский дворец на Исаакиевской площади, где премьер-министр Голицын, ключевые члены кабинета и Родзянко с только что сформированным «временным комитетом» Думы проводили срочное заседание.
В правительстве господствовали пораженческие настроения. В тот вечер ненавистный министр внутренних дел Протопопов согласился подать в отставку и, уходя в ночь, бормотал, что ему остается только застрелиться. Но всем было наплевать, как он распорядится собой, никто даже не попрощался с человеком, которому всецело доверяла императрица и которого люто ненавидела страна.
Однако уход Протопопова сам по себе означал, что прежнего правительства больше не существует. Голицын признал, что его кабинет должен прекратить свое существование, но не знал, как подписать ему смертный приговор. Он надеялся, что это за него сделает великий князь Михаил.
На заседании, после того как Голицын поднял белый флаг, было единогласно решено, что вся надежда теперь на Михаила, он должен взять в свои руки управление столицей и призвать на помощь верные войска, включая ту военную помощь, которую царь днем ранее пообещал Родзянко. Михаил был прославленным генералом, армия должна была ему подчиниться. И пусть он же сформирует новое правительство, а для этого необходимо, чтобы царь формально назначил Михаила регентом с полномочиями управлять столицей.
Родзянко в глубине души бы уверен, что сделается при новом лидере премьер-министром, но, к его разочарованию, Михаил предложил на эту роль князя Георгия Львова, которого предпочитали наиболее авторитетные члены Думы, и тем самым показал, что лучше осведомлен о конфигурации ключевых политических игроков, чем застигнутый врасплох Родзянко.
Львов не состоял в Думе, он много лет возглавлял влиятельный союз местных самоуправлений, земств, и был самым известным гражданским деятелем в стране. Он пользовался большей популярностью и доверием среди радикалов, чем авторитарный громогласный Родзянко. Прогрессивный блок, которому в Думе принадлежало большинство, уже высказался в пользу Львова, и теперь на двухчасовом экстренном заседании эта кандидатура была утверждена.
Как выяснилось, все они зря теряли время. Перейдя из Мариинского дворца через площадь в военное министерство, Михаил вступил с братом в переписку на аппарате Хьюза – примитивной версии телеграфа. Он кратко сообщил о решениях, принятых на заседании, и торопил: положение серьезное, каждый час на счету. Ответ пришел 40 минут спустя через главу генштаба генерала Алексеева и был довольно небрежен: проигнорировав предложения Михаила, царь сообщал, что назавтра вернется в Царское Село, а пока что высылает четыре пехотных и четыре кавалерийских полка для наведения порядка. В 22.35 Николай через голову Михаила телеграфировал Голицыну, что облекает его «всеми полномочиями для гражданского управления». Но было уже поздно. Голицын и его министры разошлись на ночь, в стране не осталось ни премьер-министра, ни гражданского управления. Позднее Михаил подытожит эти напрасно потраченные часы короткой записью в дневнике: «Увы!»
В 5 утра вторника 28 февраля, незадолго до рассвета, из Могилева в Царское Село вышел поезд. В его окнах не горел свет, пассажиры спали. Царь распорядился выехать пораньше, потому что решено было двигаться в объезд, оставляя прямой путь до Петрограда свободным для перемещения снаряженных в столицу войск. Это означало, что до Царского Села Николай должен был добраться примерно к 8 утра среды.
На счету каждый час, телеграфировал Михаил брату в ночь понедельника, умоляя его не выезжать из Могилева, чтобы оставаться во время кризиса на связи. В пути Николай был практически недоступен. Правительство ушло в отставку, и на следующие критические 27 часов страна осталась фактически и без императора. Тем не менее Николай полагал, что, добравшись к утру до Царского Села, он получит обнадеживающее известие: генерал Николай Иванов с 6000 солдат готов подавить мятеж. Он мог спать спокойно. Поезд шел по графику, и в 4 часа утра среды до Царского Села оставалось не более 160 км. За сутки он отъехал почти на 900 км от Могилева. Но внезапно поезд остановился в Малой Вишере. Прозвучала тревожная весть: дальше путь отрезан революционерами. Поскольку охрана поезда была малочисленна, нечего было и думать о том, чтобы силой проложить себе путь. Оставался единственный выход: вернуться в Бологое, что на полпути между Петроградом и Москвой, а оттуда направиться на запад, в Псков, штаб-квартиру Северной армии под командованием генерала Николая Рузского. Это была ближайшая безопасная гавань, причем в итоге Николай оказался бы за 300 км от своей резиденции и в худшем положении, чем если бы он остался в Могилеве, откуда он мог распоряжаться всеми фронтами. Поездка в Царское Село пошла только во вред.
– В Псков, – распорядился царь и вернулся в спальный вагон. Но там он дал себе волю и записал в дневнике: «Стыд и бесчестье». Свернув в Псков, император всероссийский вновь, на самые критические 15 часов, до 7 часов вечера среды, растворился в пустынном заснеженном пейзаже. Второй день кризиса был также упущен властями.
Итог: в отсутствие правительства, пока царский поезд кочевал неведомо где, власть в Петрограде во вторник 28 февраля перешла к революционерам и Дума больше не собиралась в Таврическом дворце – там теперь разместилась шумная толпа рабочих, солдат и студентов, сформировавших новую организацию – Совет – по примеру революции 1905 г. Несколько сотен почтенных депутатов, поддерживавших временный комитет Думы, вынуждены были прокладывать себе путь через коридоры и залы, забитые возбужденными уличными ораторами, бунтовщиками, лидерами забастовок. Повсюду хаос – и так продолжалось несколько дней. В этой обстановке в качестве ключевой фигуры выдвинулся сравнительно молодой человек, Александр Керенский, входивший во временный комитет Думы и вместе с тем числившийся заместителем председателя нового Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Поскольку он пользовался влиянием в обоих лагерях, его власть увеличилась безмерно: депутаты Думы видели в нем единственное связующее звено с новым Советом, который набирал силу. Временный комитет Думы мог с бо́льшим правом претендовать на власть, но члены Комитета понимали, что во время революции их единственный шанс удержать руководство – сохранить благосклонность Керенского.
В то же время и Совет понимал, что не сумеет сформировать «народное правительство» – его авторитет признавали только в столице, и среди членов Совета не было людей с опытом работы на посту министра. Требовался компромисс, и для Думы он состоял в том, чтобы добиться отречения царя, но сохранить монархический режим, прибегнув к мерам, которые уже намечали заговорщики: заменить Николая его сыном Алексеем, а великого князя Михаила сделать регентом.
Для начала же нужно было убедить Николая отречься от трона, а царь тем временем колесил по России на поезде и даже не знал, чего от него хотят потребовать.
Примерно в 7 часов вечера в среду поезд наконец прибыл в Псков, проехав в совокупности 1400 км, но на 300 км разминувшись с первоначальной целью – Царским Селом. Восстановился контакт с внешним миром, однако мир за эти 38 часов успел сильно измениться.
Поскольку не было известно, в котором часу прибудет поезд, на станции его никто не ждал, и лишь позднее явился генерал Николай Рузский, да и тот ничем царя не порадовал. Известия пугающие. Что случилось с войсками, которые Николай снарядил для подавления мятежа в Петрограде? Поскольку генерал Иванов не получал приказов, не мог связаться ни с царем, ни с кем-то из правительства, он попросту повернул назад, не выполнив задания. Столица потеряна, и ее не вернуть.
Входя в царский кабинет в поезде, Рузский полагал, что у Николая нет иного выхода, кроме как пойти на требуемые уступки, – на этом генерал упорно настаивал за сумрачным ужином с царем. Николай, как всегда упрямый и как всегда не желающий признать, насколько плохи его дела, не захотел отречься от самовластья, хотя и согласился назначить Родзянко премьер-министром, с тем что кабинет будет по-прежнему подчиняться царю.
Рузскому не удавалось продвинуться ни на шаг, пока из Могилева не поступила телеграмма от генерала Алексеева с теми же требованиями. Загнанный в угол, Николай предложил компромисс. Он хотел, чтобы по крайней мере военный министр, а также министр морского флота и военных дел оставались у него в прямом подчинении. Рузский не соглашался и на это.
Сокрушенный, Николай удалился в спальный вагон. Он упорно отказывался от требований политиков, отмахивался от советов брата и других близких, поскольку был уверен в безусловной преданности высшего военного командования – а теперь, выходит, и генералы против него. В 2 часа ночи он вызвал Рузского к себе в вагон и объявил, что согласен на компромисс. На столе уже лежал подписанный манифест о формировании независимого правительства. Рузскому поручалось уведомить Родзянко, что тот может возглавить правительство, ответственное только перед Думой.
Это лишь показывает, как плохо царь представлял себе изменения, произошедшие в столице за двое суток с тех пор, как Михаил послал ему в 10.30 вечера понедельника свою отчаянную телеграмму. Когда в 3.30 Рузский связался по прямой линии с Петроградом, Родзянко с обескураживающей прямотой ответил: «Очевидно, ни его величество, ни вы не осознаете, что здесь творится… К несчастью, манифест запоздал… былого не вернуть… Прозвучали вполне определенные требования отречения в пользу сына и назначить Михаила Александровича регентом».
Мучительно медленные переговоры по телеграфу Рузский закончил в 7.30 утра четверга, 2 марта. Теперь он знал, что Петроград от требования конституционной монархии перешел к требованию отречения Николая. Соответственно, Рузский переслал телеграмму Родзянко Алексееву в штаб главнокомандующего и в 9 утра получил ответ: «Я глубоко убежден, что выбора нет и теперь должно произойти отречение… нет другого выхода». Ознакомив Рузского со своим решением, Алексеев (вовсе не так скорбевший, как он официально делал вид) разослал телеграммы командующим армиями, а также адмиралам Черноморского и Балтийского флотов. Россия вела войну, и Алексеев делал все, чтобы события в Петрограде не подорвали силы армий на передовой, где готовились к весеннему наступлению.
«Теперь династический вопрос поставлен ребром, – сообщал Алексеев подчиненным, – и войну можно продолжать до победоносного конца лишь при исполнении предъявляемых требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения».
Телеграммы разлетелись в 10.15. Четыре часа спустя, в 14.15, Алексеев передал по телеграфу императору в Псков первые три ответа. Они-то и решили дело.
Первая телеграмма, от «дяди Николаши», бывшего главнокомандующего, которого царь сместил в 1915 г. и отправил командовать Кавказским фронтом, была предельно откровенной: «Я, как верноподданный, считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить Ваше императорское величество спасти Россию и Вашего наследника… передайте ему – Ваше наследие. Другого выхода нет».
Вторая телеграмма, составленная примерно в таких же выражениях, пришла от Брусилова, славившегося самыми выдающимися победами в этой войне: «Единственный исход… отказаться от престола в пользу государя наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича. Другого исхода нет; необходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие размеры народный пожар был скорее потушен, иначе повлечет за собой неисчислимые катастрофические последствия». Этим актом, полагал он, будет спасена и сама династия в лице наследника.
Третья телеграмма – от генерала Алексея Эверта, действовавшего на Западном фронте: это решение – «единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии».
Николай подошел к окну, невидящим взглядом посмотрел на станцию. Он не мог отмахнуться от мнения своих генералов, а они только что вынесли ему вотум недоверия – и как царю, и как верховному главнокомандующему. Он не мог отстранить их, не мог продолжать спор. Наконец он обернулся и спокойно заявил: «Я решился. Я откажусь от престола». Он перекрестился, и Рузский, понимая величие момента, последовал его примеру.
Были составлены две короткие телеграммы от Николая. Первая предназначалась Родзянко:
«Петроград. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего Михаила Александровича. Николай».
На такой ответ и надеялись думцы – Николай уходит, императором становится ребенок, Михаил – регентом. В том же духе была и вторая телеграмма, генералу Алексееву. В 15.45 Николай велел Рузскому отослать обе телеграммы.
В этот момент царствование Николая закончилось. Новым императором стал Алексей, а Михаил – регентом. Во всяком случае, так это было понято, когда взбудораженный Родзянко зачитал телеграмму в Думе. Весть об отречении распространилась мгновенно, кузен Николая английский король Георг V в ту же ночь записал в дневнике: «Слышал от Бьюкенена [британского посла], что Дума принудила Ники подписать отречение и Миша назначен регентом». В причинах этого британский монарх также не сомневался: «Боюсь, всему виной Алики [Императрица], а Ники проявил слабость».
Таков был и вердикт, с облегчением вынесенный Думой в начале переговоров с Советом: предполагалось завершить на том революцию и сформировать ответственное правительство. Казалось, «историческая неизбежность» вмешалась – и спасла Россию. Однако Николай готовился в очередной раз продемонстрировать, что история «случается» лишь задним числом.
Еще до того как в Петроград пришла телеграмма от Николая, два известных представителя Думы отправились на поезде в Псков, полагая, что лишь с глазу на глаз смогут уговорить императора отречься. Одним из них был Гучков, ранее готовивший заговор с целью захватить царя и принудить его к отречению, другим – монархист Василий Шульгин. На семь часов связь с ними прервалась, и в 10 вечера они прибыли в Псков, не ведая, что в Петрограде вопрос уже считался улаженным.
Более того, никто не знал, что за эти часы Николай успел все переиграть: да, он отречется, но и за сына тоже. Пусть правит младший брат Михаил, а не маленький Алексей.
Упрямство и досада? Не захотели меня, не получите и моего сына? Такая мысль могла мелькнуть у раздосадованного Николая, но сильнее была реальная тревога: оставшись без заботы родных, хрупкий, больной гемофилией Алексей подвергался смертельной угрозе, что подтвердил и путешествовавший вместе с царской семьей придворный врач Сергей Федоров. Профессор понятия не имел, как сложится дальнейшая судьба ребенка, но в любом случае Алексей всегда находился в зоне риска – и, высказав эту очевидную мысль, Федоров предоставил Николаю тот самый предлог, которого искал царь.
Гучков, ожидавший яростной схватки, был изумлен таким поворотом дела: Николай не только отрекся, но уже подготовил и второй манифест, отстраняющий Алексея от наследования. Одним ударом этот манифест покончил с главным в аргументации думских посланцев: пусть, мол, невинный ребенок законно унаследует престол, а новый ответственный кабинет министров будет защищен регентом – Михаилом.
Гучков и Шульгин удалились обсудить новую проблему с Рузским и двумя другими генералами. Может ли император отстранить от наследования своего преемника из-за его слабого здоровья? Ответа никто не знал, но, предположительно, самодержавный царь мог распоряжаться, как ему вздумается. Оба думца не желали возвращаться в Петроград с пустыми руками и потому сочли, что у них нет иного выбора, кроме как принять второй вариант отречения. Вернувшись в царский вагон, они сказали Николаю, что принимают его условия.
Тогда Николай унес манифест к себе в кабинет, чтобы внести поправки и подписать его. Теперь, после устранения Алексея, текст выглядел так: «…Признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства Российского». Один скрепленный печатью экземпляр манифеста об отречении был вручен Гучкову, другой – Рузскому для передачи командующим армиям, а также в Петроград и другие центры страны.
На часах было 23.40, однако манифест решили датировать 15 часами того же дня, как было указано на первом варианте, присланном из Ставки, когда Николай планировал предыдущий вариант отречения, еще с Алексеем в качестве преемника. В таком случае получалось, что второе отречение было подписано одновременно с первым и таким образом оказывалось равносильно ему, а не представляло собой запоздалую подмену.
Сразу после полуночи, когда Гучков и Шульгин с этим драгоценным манифестом отправились обратно в столицу, текст второй версии начали широко распространять, а Николай выехал из Пскова в Могилев, в Ставку, откуда, не чуя беды, он отправлялся в Царское Село всего двумя днями ранее. Пока длились переговоры, бывший царь не обнаруживал никаких признаков волнения, но в глубине души он тяжело переживал происходящее. В поезде он доверил свои чувства дневнику: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман».
Как всегда, Николай винил кого угодно, только не себя.
Когда ранним утром пятницы в Таврический дворец пришла весть, что Николай отрекся не только за себя, но и за сына, думские вожди впали в панику. Сделка, которую им кое-как удалось заключить с упорствующим Советом, в значительной степени зависела от обещания поставить царем ребенка, а вовсе не закаленного боевого генерала, глубоко уважаемого армией. Бунтовщиков пугала уже та мысль, что Михаил сделается регентом, а если он становился императором – их головы тем более были в опасности. И даже обещание всеобщей амнистии не могло спасти тех, кто собственноручно убивал офицеров.
Но страх – обоюдоострое оружие: Родзянко (и не только он) боялся революции не меньше, чем революция страшилась укрепления монархии. Павел Милюков, убежденный монархист, только что назначенный министр иностранных дел уже не комитета – Временного правительства, – утверждал, что Родзянко был «ошеломлен». Но в такой же растерянности пребывал и новый премьер князь Львов, который разделял тревожные предчувствия Родзянко. Новоиспеченному императору Михаилу тоже надо было отречься: Николай сделал для Совета то, на что сам Совет не решился бы. Ради собственного спасения новому правительству требовалось уговорить Михаила отказаться от престола. Думцы знали, где находился в тот момент Михаил. Керенский, новый министр юстиции, схватил справочник петроградских телефонов, пролистал страницы, отыскал княгиню Путятину – номер 1-58-48. Через минуту, в 5.55, в доме 12 по Миллионной улице раздался звонок.
Хотя новые министры надеялись встретиться с Михаилом прежде, чем он узнает, что унаследовал престол (и начнет действовать как законный император), сохранить такой секрет не было ни малейшей возможности. На рассвете тысячи солдат на передовой уже ликующе выкликали его имя и приносили присягу императору Михаилу II. В Пскове, пользуясь отсутствием Николая, в кафедральном соборе исполнили в честь нового императора «Тебе Бога хвалим». Даже в далеком от центра событий Крыму приветствовали воцарение Михаила. Княгиня Кантакузен, известная в светском обществе Петрограда, вспоминала, как через час после оглашения прокламации из витрин и со стен магазинов исчезли портреты Николая и к середине дня на их месте появились фотографии Михаила Александровича. Были вывешены флаги, и на всех лицах сияли довольные улыбки.
В Москве, где гарнизон тоже поддержал революцию, но без петроградских эксцессов, известие о воцарении Михаила было принято мятежниками с полным равнодушием и никаких признаков сопротивления, которого столь опасался Родзянко в оранжерее Таврического дворца, не наблюдалось – напротив, в столице отмечалось скорее умиротворение.
Гучков и Шульгин, вернувшись из Пскова, уже на вокзале принялись восклицать «Да здравствует император Михаил!», и это было встречено радостными криками. Шульгин зачитал манифест, и проезжавший через город на передовую батальон, а также сбежавшаяся толпа ответили «страстными, искренними» восклицаниями. Тут Шульгин расслышал, наконец, настойчивый голос, звавший его к телефону в кабинете начальника станции. Он поспешил туда. Из трубки раздался надтреснутый голос Милюкова.
– Не распространяйте манифест! – рявкнул Милюков. – Произошли серьезные изменения.
Несколько секунд спустя телефон зазвонил снова. Обещали прислать гонца от нового министра путей сообщения, которому «всецело можно доверять». Ясно? Да, Шульгину все было совершенно ясно. Несколько минут спустя гонец прибыл, и Шульгин вручил ему конверт с манифестом. Его спрятали в пачке старых журналов и доставили в министерство. В Таврическом дворце новый кабинет министров пришел в такой переполох, что лишь в 9.30 сумели собраться, и то без Гучкова и Шульгина, которые ввязались в спор с поддерживавшими большевиков железнодорожниками.
К тому времени один вопрос решился сам собой: новости распространились, Совет уже тоже был осведомлен о переходе престола к Михаилу, и мятежники запротестовали так громко, что большинство думцев уверилось: единственное спасение – уговорить Михаила немедленно отречься, не то все они погибнут.
Представители Думы поспешили на Миллионную с составленным на скорую руку манифестом и с надеждой получить к обеду подпись Михаила, чтобы ублаготворить Совет. Большинство думцев также договорились сказать Михаилу, что все они откажутся войти в кабинет министров, если он не подпишет отречение, – пусть попробует быть царем без правительства: «Либо он, либо мы».
Гостиную на втором этаже отвели под эту полуформальную встречу, расставили кушетки и кресла так, чтобы Михаил мог сесть лицом к полукругу делегатов. Львов, новоназначенный премьер, и Родзянко, глава Думы, намеревались изложить требования большинства об отречении Михаила, а Милюков от лица меньшинства ратовал за сохранение монархии, понимая, насколько безнадежна эта его попытка.
В 9.35 делегаты решили не ждать долее Гучкова и Шульгина, двери гостиной распахнулись, думцы поднялись, приветствуя человека, которого по всей стране уже чествовали как императора Михаила II. Он сел в кресло с высокой спинкой, оглядел занявших свои места делегатов, и встреча началась.
Первым предупреждением для Михаила стала выбранная делегатами форма обращения к нему: не «Ваше императорское величество», а «Ваше высочество», т. е. не как к императору, но как к великому князю. Это делалось умышленно, чтобы сразу поставить Михаила на место и ускорить решение вопроса.
Михаил видел, как изнурены думцы – небритые, растерянные, по словам князя Львова, они уже и думать толком не могли. Многие были явно напуганы, и страх перед Советом намеренно разжигался Керенским, единственным из присутствовавших, кто уполномочил себя говорить от имени народных масс. Мастер театральных эффектов, Керенский тоже разыгрывал ужас: вот-вот ворвется вооруженная толпа и убьет нового императора, а то и всех собравшихся.
Родзянко также использовал угрозы как основной аргумент в пользу отречения. «Для нас было совершенно ясно, что великий князь процарствовал бы всего несколько часов и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое бы положило начало общегражданской войне. Для нас было ясно, что великий князь был бы немедленно убит…» До возвращения Гучкова Милюков оставался единственным представителем той группы, которая считала, что Родзянко и Львов ведут правительство прямиком в пропасть, – и в итоге она-то и оказалась права. Поднявшись, Милюков заявил, что им же придется в итоге намного труднее, если вот так запросто уничтожить установленный порядок, ибо, по его мнению, «утлый челн» самоизбравшегося Временного правительства без опоры на монарха обречен был вскоре утонуть «в океане общенационального раздора».
Пока шли эти споры, Михаил молча сидел в кресле. Керенскому показалось, что великий князь был смущен происходящим, затем он устал и начал терять терпение. Он услышал достаточно и не видел смысла в продолжении дискуссии.
Михаил встал и заявил, что хочет обсудить этот вопрос приватно всего с двумя из присутствующих. Ко всеобщему изумлению, он выбрал в собеседники Львова и Родзянко, а не главных своих сторонников, Милюкова и только что прибывшего Гучкова. Это явно означало, что Михаил готов сдаться, но ему требовались гарантии того, что новое правительство сумеет восстановить порядок и продолжит войну, а также проследит за тем, чтобы обещанные выборы демократического Учредительного собрания не были сорваны Советом. Ему с уверенностью отвечали утвердительно.
Родзянко и Львов вернулись в гостиную, с трудом скрывая торжество, и кивком сообщили всем, что соглашение достигнуто. Михаил задержался, советуясь со своим юристом Алексеем Матвеевым. Потом он вернулся в гостиную, лицо его был бесстрастно, никто не обратил внимания, что́ именно он сказал, никто потом не мог в точности припомнить его слова – важно было лишь, что он согласился отречься.
Послышались вздохи облечения. Некрасов нащупал в кармане заготовку манифеста: «Мы, Михаил II, Божьей милостью император и самодержец всероссийский…» После такой преамбулы все остальное дописать будет несложно. Понадобятся кое-какие штрихи, чтобы соответствовать важности момента, но главное слово тут – «отречение», и оно уже прозвучало. Уделив минут пять выражениям сочувствия и прощальным любезностям, можно доставить к обеду манифест Михаила в Таврический дворец и утереть нос Совету, а во второй половине дня уже распространить его по городу.
Но все оказалось не так просто. Михаил все не подписывал «отречение». А тут, словно по сигналу, открылась дверь и с улыбкой явилась княгиня Путятина, чтобы пригласить гостей отобедать. Они были так растеряны, что никто даже не возразил. Почти половина присутствовавших покорно отправилась за обеденный стол, в том числе князь Львов, Керенский, Шульгин, Терещенко и Некрасов с упрятанным в карман неподписанным отречением. Княгиня Путятина разместилась во главе стола, по правую руку от нее Михаил. Юрист Матвеев и личный секретарь Михаила Джонсон сидели вместе на другом конце стола. Родзянко с другой группой министров и делегатов, не менее растерянные, вышли из дома княгини и вернулись в Таврический дворец. Победа откладывалась.
Поскольку Совет пока не знал о встрече думцев с Михаилом и думцы пока не могли предъявить манифест об отречении, им оставалось только держаться подальше от членов Совета и уклоняться от вопросов.
За столом тем временем шла светская беседа. Пока княгиня Путятина не удалилась, никто и словом не упомянул о причинах, по которым они здесь собрались. Но стоило ей выйти из-за стола, и все взгляды обратились к Михаилу: от него с нетерпением ожидали решающего слова. Некрасов снова полез за черновиком манифеста в карман. Матвеев, до тех пор молчавший, наконец подал голос и попросил Некрасова показать, что у него там написано. Некрасов передал заветный листок, Матвеев прочел и вернул бумагу с видом человека, нашедшего в тексте немало недостатков. Некрасов, в свою очередь, уставился на черновик. Манифестов об отречении ему составлять не доводилось – он что-то упустил? Михаил явно так считал, потому и предложил, чтобы Матвеев «помог в подобающей форме изложить все произошедшее».
Кивнув Некрасову, Матвеев сообщил собравшимся за столом: чтобы правильно подготовить отречение, которое подпишет Михаил, требуется экземпляр предыдущего манифеста об отречении, подписанного Николаем, а также том Свода законов. Князь Львов припомнил слова Шульгина, что тот передал манифест какому-то человеку из Министерства путей сообщения, но понятия не имел, какова была дальнейшая судьба этой бумаги – а она так и осталась лежать под стопкой старых журналов. Что же касается Свода законов – где бы его найти?
За обеденным столом слышались теперь растерянные голоса, никто уже не надеялся вот-вот выйти отсюда с подписанным манифестом. Очевидно, для составления манифеста требовались юристы, и, поскольку Михаил уже имел собственного консультанта в лице Матвеева, понадобился свой юрист и думцам. Их выбор пал на Владимира Набокова, князь Львов взялся его пригласить. Михаила эта кандидатура тоже устраивала: сестра Набокова дружила с его семьей, ее дочка часто играла с его семилетним сыном Георгием.
Керенский и другие думцы, за исключением Львова и Шульгина, сочли уместным вернуться в Таврический дворец. У княгини Путятиной им больше нечего было делать, а работа над манифестом явно затягивалась. Князь Львов обещал известить их, как только отречение будет подписано, и они ушли уже не в столь радужном настроении, какое было у них, когда шестью часами ранее они собрались: каким-то образом Михаил перехватил у них штурвал.
В этот момент Михаилу была отправлена телеграмма со станции Сиротино (что примерно в 400 км от Пскова). Николай, проснувшись уже за Двинском, вдруг припомнил, что так и не предупредил брата о перемене его участи. Он поспешно набросал телеграмму на имя «Императорского величества, в Петроград» и отправил ее в 14.56:
«Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине.
Ники».
Не в первый раз за эти дни Николай начинал действовать тогда, когда момент был упущен. Но эта телеграмма была, по крайней мере, доставлена, в отличие от последней, отправленной ему и вернувшейся с пометкой «адрес неизвестен».
Набоков явился на Миллионную к трем часам. Князь Львов предупредил его, что Некрасов составил черновик манифеста, однако неполный и не вполне удовлетворительный, и, поскольку «все смертельно устали… просили меня заняться этим».
Манифест Николая так и не отыскался, и Набоков предложил обойтись без него, тем более что содержание его было известно всей стране, однако он согласился с Матвеевым в том, что без Свода законов работать невозможно. Помочь им вызвался эксперт по конституционному праву барон Нольде. Через десять минут с Дворцовой площади подошел и он.
Юристы уединились в детской классной комнате и попытались решить главную проблему, терзавшую Михаила с той самой минуты, как он узнал, что сделался императором: в какой мере отречение Николая соответствует нормам права?
Набоков и Нольде сразу же признали, что манифест Николая содержит «непоправимую ошибку»: Николай не мог отречься за сына, и, по словам Набокова, «Михаил не мог не понимать этого с самого начала». По его мнению, это «существенно ослабило позицию сторонников монархии», а также повлияло на решение, принятое самим Михаилом.
Тем не менее Набоков и Нольде, как и все остальные, ничего уже изменить не могли: Алексей был отстранен от престола, и практической возможности восстановить его в правах не имелось. Это привело бы к гражданской войне и краху любого выборного правительства.
Набоков и Нольде приступили к работе: они набрасывали различные варианты манифеста и передавали их Матвееву, который, в свою очередь, представлял их на одобрение Михаилу. Они сохранили преамбулу Некрасова, «Мы, Михаил II, Божьей милостью император и самодержец всероссийский», т. е. Михаил представал в роли законного императора, который, отрекаясь, повелевал народу подчиниться Временному правительству – ему Михаил препоручал свою власть до той поры, пока Учредительное собрание не определит строй и режим управления Россией.
Эта формула придавала легитимность новому правительству, которое в противном случае существовало бы лишь по милости Совета. Временное правительство никем не было избрано, оно «представляло» само себя и в таком качестве обладало даже меньшим правом на власть, чем Совет, в который хотя бы избирались представители солдат и рабочих. Только Михаил мог придать новому правительству легитимность, если его манифест удалось бы подать как манифест законного императора. Если же он не был императором, то не имел и права передавать кому-либо власть и «повелевать» народу. Политическая необходимость требовала, чтобы Михаил отрекся от престола – но предварительно взойдя на него.
И все-таки задача была очень непростой. Михаил ясно сознавал, в какой ситуации оказался. Он не унаследовал трон – Алексея обошли противозаконно. Михаил был провозглашен императором без его согласия, даже без его ведома. Он стал императором не по доброй воле, а Николай, передавая ему трон, нарушил закон. Но исправить это было уже невозможно, слишком далеко все зашло. Оставалось лишь как-то спасать монархию после устроенной Николаем неразберихи.
Сама идея, что правительство настаивает на его отречении ради умиротворения Совета, не нравилась Михаилу, и он не собирался уступать. К тому же, если он отречется, кто станет преемником? По закону престол не может пустовать, а значит, как только Михаил подпишет отречение, императором сделается кто-то другой. Ближайший наследник – великий князь Кирилл. Утром никто, видимо, об этом не подумал, но Набоков и Нольде прекрасно поняли логику Михаила. Проблема была в том, как вместить все это в манифест. В итоге они разорвали черновик, отправили составленный Некрасовым манифест в мусорную корзину и начали все с начала. Время от времени Михаил заглядывал к ним, проверяя, в какой мере новая версия соответствует его пожеланиям.
Времени было мало, но, к счастью, Нольде и Набоков были прекрасными юристами и вместе с Матвеевым они составили прекрасную команду, понимая, что от них требуется. Они создали манифест, из которого следовало, что Михаил стал императором, но не утверждалось, что он занял престол: в качестве императора он передавал всю власть Временному правительству, после чего оставался ждать за кулисами, пока Учредительное собрание проголосует, как он рассчитывал, за конституционную монархию и выберет монархом именно его. А до тех пор он не будет править – но не станет и отрекаться.
Как ни давили на Михаила и юристов, особенно с приближением вечера, окончательная версия манифеста сообщала ровно то, что он хотел сказать, и не имела ничего общего с вариантом, набросанным Некрасовым с утра и предложенным Михаилу после обеда. В манифесте было сказано:
«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне Императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и обеспеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего прямого равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил».
Этим манифестом Михаил ясно давал понять, что трон был ему передан как «тяжкое бремя», а не унаследован, и что он передает всю власть Временному правительству до той поры, пока демократически избранное Учредительное собрание не определит статус России и форму управления. Слишком авторитарное «повелеваю» первой версии он заменил на «прошу» и устранил все упоминания о себе как об «императоре и самодержце», а также отказался от императорского именования «мы», однако подписался одним только именем – «Михаил», как подобает царю, а не «Михаил Александрович», как следовало бы великому князю.
Никогда ранее манифест не составлялся в подобных выражениях. Свод законов, столь настоятельно необходимый несколько часов назад, пришлось отложить в сторону – он мало чем мог тут помочь. Но, как прокомментировал впоследствии Набоков, важна была не юридическая правомочность формулировок, а их моральное и политическое значение.
Основная заслуга в этом принадлежит Михаилу, который отказался подчиняться требованиям нового правительства. И в самом «манифесте об отречении» среди составляющих его в оригинале 122 слов, тщательно выписанных красивым почерком Набокова, мы – если внимательно вчитаться – так и не найдем одного: собственно, слова «отречение».
Получившийся в итоге текст, по воспоминаниям Нольде, был, по сути дела, единственной конституцией на период существования Временного правительства. Набоков также рассматривал этот манифест как единственный акт, определяющий полномочия Временного правительства. Когда некоторое время спустя британский посланник спросил Милюкова, на чем основывается власть Временного правительства, тот ответил, что Временное правительство унаследовало полномочия от великого князя. Правильнее было бы сказать – от императора, ведь только император имеет право распорядиться таким образом.
Набоков, следя за тем, как Михаил входит в комнату и берет ручку, отметил, что, несмотря на сильное напряжение, тот сохранял полное самообладание. Нольде также отмечал, что Михаил действовал «с безупречным тактом и благородством». Шульгин про себя вздыхал о том, какой прекрасный конституционный монарх вышел бы из Михаила. Драматическое выступление предсказуемо оставили на долю Керенского: «Ваше императорское величество, Вы великодушно доверили нам священный сосуд Вашей власти. Я клянусь Вам, что мы передадим его Учредительному собранию, не пролив из него ни одной капли». На самом деле Керенский и расплескал пресловутый сосуд – весь, до дна, – но в тот момент никто этого предвидеть не мог.
Споры о смысле этого манифеста начались только после возвращения в Таврический дворец. На Миллионной времени, чтобы изучить его как следует, не хватило. Из Министерства путей сообщения подоспел наконец профессор Ломоносов и доставил с запозданием остававшийся там манифест Николая. Предполагалось опубликовать его вместе с манифестом Михаила. Но как подать это? Как манифесты двух императоров? Если из манифеста Михаила устранена формула отречения, то как назвать его манифест?
Споры продолжались за полночь, ведь думцы получили не столько правовой, сколько политический документ. Тем не менее Милюков и Набоков считали вопрос решенным: поскольку большинству угодно считать, что Михаил отрекся от престола, значит, на момент отречения он был императором. В 3.50 утра окончательную версию Набокова увезли в типографию. А поскольку отречение не упоминалось в тексте, Временное правительство придало манифесту желанный смысл, подав его как отречение. Все просто. Газеты писали об отречении Михаила. Весь народ так это и понял – так это понял и брат Михаила, добравшийся к вечеру до Могилева.
Едва он вернулся из Пскова, как явился Алексеев с телеграммой от Родзянко, излагавшей события на Миллионной. Выслушав его, Николай записал в дневнике: «Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» Учитывая, сколько дров наломал сам Николай и в какое положение поставил своего брата, этот отзыв о Михаиле выглядит по меньшей мере нелепым. Когда Николай повторил то же самое своему двоюродному дяде Сандро[1], тот, по его признанию, «онемел».
Николай так никогда и не осознает, что он натворил: ради своих «отеческих чувств» – ими он объяснял отречение за Алексея – последний царь погубил династию. Никто этого не ожидал, никто, даже Совет, ничего подобного не требовал. Историческая неизбежность? Сама история может подтвердить, что Николаю не приходится рассчитывать на подобное самооправдание.
5. На сцену выходит Ленин Апрель – июль 1917 г. Шон Макмикин
[Немцы] доставили Ленина из Швейцарии в Россию в пломбированном вагоне, словно бациллу чумы.
Уинстон Черчилль{83}Февральская революция застала Ленина в Цюрихе, где он вместе с женой, Надеждой Крупской, с февраля 1916 г. жил в однокомнатной квартире на Шпигельгассе, через дорогу от сосисочной фабрики. Сам факт проживания Ленина в Цюрихе во время войны широко известен, упоминается даже в пьесе Тома Стоппарда «Травести» (1974), но далеко не все помнят, как он там оказался. В 1914 г., когда Россия вступила в войну с Союзом Центральных держав, Ленин жил в Вене, и там его 8 августа арестовали (вместе с Григорием Зиновьевым) как подданного вражеского государства. Однако девять дней спустя Ленина отпустили по особому распоряжению военных властей Австро-Венгрии, поскольку он поддерживал идею независимой Украины, а создание таковой провозглашалось одной из ключевых целей войны для Вены и Берлина. Первого сентября 1914 г. австрийский военно-почтовый поезд (предвестие знаменитого «пломбированного вагона» 1917 г. с немецким военным эскортом){84} доставил Ленина и Крупскую на швейцарскую границу. В Швейцарии Ленин зря времени не терял. Как и десятки других политических эмигрантов, возмущенных «предательством 4 августа [1914]», когда социалистические и рабочие партии Бельгии, Великобритании, Франции, Германии и Австро-Венгрии, вопреки довоенным клятвам саботировать любую «империалистическую войну», проголосовали за военные кредиты, Ленин участвовал в конгрессах за мир в Циммервальде (1915) и Киентале (1916). В отличие от большинства делегатов этих конгрессов, Ленин голосовал против резолюций, составленных Троцким (в ту пору еще меньшевиком) и его сторонниками, которые принципиально выступали против войны и призывали рабочий класс к «борьбе за мир», не уточняя, каким образом он может начать эту борьбу. Ленинская фракция «циммервальдских левых» доказывала, что противиться войне следует не с позиций пацифизма, рекомендуя уклоняться от призыва и т. п., а, напротив, социалисты должны наводнить армию своими приверженцами, которые, получив в руки оружие, смогут «превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Ленин также выражал уверенность (в работе «Социализм и война», 1915), что истинные социалисты должны стремиться к поражению своих стран в войне, так как это ослабит правящий режим (доктрина «революционного пораженчества»){85}. Хотя многие марксисты отвергали его взгляды, Ленин, пожалуй, в этом был ближе к духу социалистического гимна Эжена Потье «Интернационал» с его открытым призывом к военному восстанию{86}[2]. Именно с целью продвинуть свою новую стратегию «сделать армии красными», т. е. побудить молодых социалистов из разных стран Европы добровольно отправляться на фронт в качестве своего рода троянского коня, Ленин перебрался в 1916 г. из Берна в Цюрих и вступил в сотрудничество с Вилли Мюнценбергом, секретарем Социалистического союза молодежи. Он до такой степени не ожидал революции той же зимой, что на встрече в цюрихском Народном доме 22 января 1917 г. (4 февраля по н. ст.) сказал: «Мы, ветераны, едва ли увидим решающие битвы грядущей революции»{87}.
Февральская революция оказалась для Ленина такой же неожиданностью, как и для всей Европы. Он прочел о ней в швейцарских газетах только 2 марта 1917 г., когда Исполнительный совет (Исполком) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов уже опубликовал Приказ № 1. Но нельзя сказать, чтобы Ленин не был готов воспользоваться ситуацией. Втайне он получал субсидию от немецкого правительства по меньшей мере с 1916 г. (это безусловно подтверждается документально), а возможно, и с 1915 г., когда социалистический агент Александр Парвус (Израиль Гельфанд) посоветовал Берлину оказывать финансовую поддержку Ленину и большевикам{88}. Апологеты Ленина позднее расписывали, через какие мучения он якобы прошел, прежде чем «позволил» немцам снарядить его обратно в Россию. По воспоминаниям Мюнценберга (весьма сомнительным), Ленин-де решился вернуться на родину, даже если придется «пройти через ад» (т. е. проехать через Германию). Но это все болтовня для отвода глаз. На самом деле предложение поступило от немецкого МИДа, а санкционировал его лично канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвег. После недолгих и не слишком ожесточенных переговоров относительно условий этого возвращения Берлин выделил 5 млн марок золотом на переезд и начало деятельности Ленина в России, и через пять дней тот сел в поезд, отправлявшийся с главного вокзала Цюриха в Сассниц – принадлежавший Германии порт на Балтийском море. С ним вместе ехали Крупская, Радек, Зиновьев, Фридрих Платтен и постоянная любовница Инесса Арманд. После краткой остановки в Стокгольме они прибыли на Финляндский вокзал Петрограда 3 апреля в начале 12-го ночи. Этот вагон ныне стоит под стеклом как исторический памятник{89}.
Ленину понадобилось немного времени, чтобы совершить свой «исторический выход». Его сразу же отвезли в штаб-квартиру большевиков, где он произнес яростную речь, обличая тех отступников в партии, кто имел глупость поддержать Временное правительство. Вождь предложил столь экстремистскую революционную программу, что большевистская газета «Правда» поначалу отказалась ее печатать. Эта программа, позднее переделанная в так называемые «Апрельские тезисы», больше всего запомнилась лозунгом «Вся власть Советам!» (подразумевающим, что партия отказывает в поддержке и Временному правительству, и любому парламентскому строю, который мог бы прийти на смену временному), однако не менее экстремальной была и предлагавшаяся в ней внешняя политика – полный отказ от войны с Германией и роспуск царской армии (а также полиции и гражданской бюрократии). Неудивительно, что Николай Суханов, меньшевик и член Исполкома, вспоминает впечатление от этой речи: «Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии и дух всесокрушения… носится… над головами зачарованных учеников»[3]{90}. Георгий Плеханов, основатель Социал-демократической партии и к тому времени главный политический деятель из среды меньшевиков, написал более трезвый и саркастический ответ: «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен»{91}.
И все же не стоит преувеличивать воздействие Ленина на российскую политику непосредственно после возвращения в страну. В эмиграции Ленин имел возможность изобретать собственную политическую линию, не оглядываясь на мнения других российских социалистов или какие-либо практические соображения, в отличие от тех большевиков, кто, как Лев Каменев и Иосиф Сталин, действовал в самой России. Каменев заявил, что ЦК партии большевиков готов поддержать текущую платформу партии, а с определенными оговорками – и Временное правительство, и продолжение войны и выступает «против деморализующего влияния "революционного пораженчества" и против критицизма товарища Ленина»{92}. Сталин на страницах «Правды» отрекся от ленинского лозунга «Долой войну!» как от совершенно бесполезного{93}. Восьмого апреля 1917 г. Петроградский комитет 13 голосами против 2 отверг «Апрельские тезисы». Вопреки своей будущей репутации непогрешимого лидера на тот момент Ленин еще не склонил на свою сторону даже собственную партию, и такое положение сохранялось на протяжении нескольких месяцев. Он вновь проиграл голосование в ЦК в октябре 1917 г. (по резолюции о свержении правительства без предлога созыва советов, 10 против 2) и на общенациональной партийной конференции в январе 1918 г. (по вопросу о немедленном сепаратном мире с Германией, 48 против 15){94}.
Тем не менее от декларации Ленина невозможно было просто отмахнуться. В отличие от меньшевиков под руководством Чхеидзе (он возглавлял Исполком) и от стоявших за Керенским эсеров, на сторону которых склонялось русское крестьянство, большевики получили теперь оратора (пока еще не вождя), готового полностью отказаться от участия в войне ради углубления революции. Поскольку западные союзники, включая присоединившиеся к Антанте с 6 апреля 1917 г. (19 апреля по н. ст.) Соединенные Штаты, ожидали, что Россия исполнит свои обязательства, продолжит воевать и до лета нанесет отвлекающий удар на Восточном фронте, антивоенные призывы Ленина имели потенциальные политические и стратегические последствия. Да, подобных взглядов придерживался не он один: Виктор Чернов, лидер партии эсеров, вернувшийся из эмиграции за пять дней до Ленина, занял столь же бескомпромиссную позицию по войне (хотя и не во всем совпадавшую с позицией Ленина). Именно Чернов, а не Ленин первым взялся обличать на пресс-конференции 22 марта 1917 г. (4 апреля по н. ст.) министра иностранных дел кадета Павла Милюкова за отказ публично отвергнуть империалистические цели войны, в особенности намерение России захватить Константинополь и принадлежавшие Османской империи проливы. Разоблачив «сатурналии хищнических аппетитов», Чернов потребовал голову Милюкова{95}. (В частном письме другу Милюков выражал убеждение, что «было бы абсурдно и преступно отказаться от главной награды войны… во имя гуманитарно-космополитических идей интернационального социализма»{96}.) Но Чернов не Ленин, он не объявил непримиримую войну Временному правительству, а, напротив, в мае 1917 г. принял должность министра сельского хозяйства, оставив, таким образом, Ленину роль лидера антивоенной оппозиции, не запятнанного сотрудничеством с Временным правительством.
Кризис, связанный с именем Милюкова, стал первым испытанием решимости Ленина после того, как он вернулся в Россию, и потому заслуживает особого рассмотрения. Вопрос о целях войны был, пожалуй, главным политическим вопросом Февральской революции, пусть даже поначалу его заглушала всеобщая эйфория по поводу свержения царя и тайной полиции. Чего ради, в конце концов, миллионы несчастных мужиков сражались, истекали кровью и умирали на фронте, протянувшемся от Финского залива до Черного моря? Хотя мало кто (если вообще хоть кто-то) в России подозревал о тайных планах раздела Османской империи, выработанных еще в 1915–1916 гг. тогдашним российским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым и его коллегами Марком Сайксом и Жоржем Пико, слухи все время носились в воздухе и недовольство подогревалось. Второго декабря 1916 г. глава кабинета министров Трепов, желая утихомирить оппозицию, как всегда заглушавшую его речь на первом заседании Думы нового созыва, впервые публично объявил, что Британия и Франция обещали России Константинополь вместе с проливами{97}. Говорили, что, осознавая политический потенциал этого вопроса, Керенский после отречения царя порылся в марте в архивах Министерства иностранных дел и приказал Временному комитету Думы спрятать копии этих «тайных договоров». В свою очередь, большевистские заводские комитеты Петрограда, подозревая, что Временное правительство что-то скрывает, приняли ряд резолюций с требованием опубликовать их{98}.
Подозрения большевиков были оправданны: 24 декабря 1916 г. Николай II распорядился создать особое черноморское подразделение, жемчужиной которого должен был стать «Царьградский полк». Целью действительно ставилось завоевание Константинополя («Царьграда», как российские ура-патриоты именовали столицу Османской империи){99}. Еще 21 февраля 1917 г., накануне Февральской революции, последний царский министр иностранных дел Покровский направил в Ставку меморандум с требованием как можно скорее нанести удар на Босфоре, чтобы союзники не перехватили у России этот желанный приз, если война завершится в том же году{100}. А 26 февраля 1917 г., посреди вызванного революцией хаоса, глава российского генштаба Михаил Алексеев собрал политических консультантов, включая бывшего министра иностранных дел Сазонова и председателя кабмина в отставке Бориса Штюрмера, чтобы обсудить требование Покровского в свете тревожных новостей из Петрограда. Штюрмер, хорошо знавший, как мыслит толпа (немецкая фамилия навлекла на него гонения), настаивал на том, что овладеть Константинополем теперь и вовсе «необходимо для успокоения общественного мнения в России»{101}. На следующий день французское правительство торжественно подтвердило намерение «решить в завершение этой войны вопрос о Константинополе и проливах в соответствии с давними требованиями России»{102}.
В тот самый день, когда Милюков подвергся нападкам за отказ денонсировать эту цель войны, т. е. 22 марта 1917 г., в устье Босфора вошла эскадра Российского черноморского флота, состоявшая из «пяти или шести эсминцев», двух линкоров и трех авиатранспортов. Хотя в одержимом политическими прениями Петрограде едва замечали этот разведывательный поход, в небе над Босфором завязалась воздушная битва, немцы и турки ввели в бой семь самолетов, вынудив российских пилотов впопыхах приземлиться на палубах авиатранспортов, так и не проведя фотосъемку городских укреплений{103}. На следующий день, нисколько не устрашенный бушеванием оппозиции, которое вызвала его пресс-конференция, Милюков выслушал доклад дипломатического представителя при российском военном штабе о готовности двух полных эскадр и плане снарядить туда же третью эскадру летом{104}. Большевики, обличавшие агрессивные устремления Милюкова, даже недооценивали его решимость овладеть Константинополем.
Впрочем, ей не уступала решимость Ленина остановить «империалистическую войну». Незадолго до его возвращения в Россию Керенский и Петроградский совет вынудили Милюкова 27 марта 1917 г. обнародовать пересмотренную «декларацию о целях войны» с формулировкой «Свободная Россия не ставит себе целью господство над другими народами, или захват их национального достояния, или насильственную оккупацию иностранных территорий, но лишь установление стабильного мира на основе самоопределения народов», а также подтвердить намерение России «полностью выполнить обязательства перед союзниками» (что явно противоречило предыдущему пункту{105}). В интервью Моргану Филипсу Прайсу из Manchester Guardian Милюков выражался столь же уклончиво, намекая, что Россия, возможно, откажется от суверенной власти над проливами при условии, что она сохранит «право закрывать проливы для иностранных военных кораблей», а это, в свою очередь, «невозможно, если она не будет владеть проливами и не укрепит их»{106}. Пытаясь прояснить возникшую путаницу, 11 апреля Милюков заявил, что, хотя он видит привлекательность лозунга «мир без аннексий», Россия и ее союзники по-прежнему желают осуществить ряд проектов, в том числе «объединение Армении» (т. е. российская Кавказская армия должна еще более углубиться в принадлежащую Турции территорию Малой Азии), «объединение Польши» и «удовлетворение национальных чаяний австрийских славян» (т. е. Галиция должна отойти от Габсбургов России). Разъяренный Ленин опубликовал все эти высказывания в «Правде» 13 апреля 1917 г. и призвал:
«Товарищи рабочие и солдаты! На всех собраниях читайте и разъясняйте приведенное выше заявление Милюкова! Заявите, что вы не желаете умирать во имя тайных конвенций (договоров), заключенных царем Николаем II и остающихся священными для Милюкова!»{107}
Битва за концепцию российской внешней политики достигла кульминации. В тот же самый день, 13 апреля 1917 г., когда Ленин на страницах «Правды» призвал пролетариев выйти на баррикады, чтобы протестовать против планов Милюкова, Керенский попытался заключить мир с большевистской оппозицией, объявив, что правительство готовит ноту союзникам в духе прозвучавшего 9 апреля 1917 г. заявления о целях войны (это заявление теперь обозначалось – расплывчато и неточно – как декларация о «мире без аннексий»). Слова Керенского были неправдой, но тем самым он не оставил Милюкову выхода, и под таким нажимом осаждаемый со всех сторон министр иностранных дел согласился передать послам Антанты декларацию 9 апреля, приложив к ней заявление о том, что Россия намерена продолжать войну против Центральных держав и «полностью выполнить обязательства» перед союзниками. До сих пор нет единого мнения, хотел ли Керенский, подстроив такой компромисс, выручить Милюкова или же погубить его. Вероятно, отчасти против министра иностранных дел сыграл плохо выбранный момент. Оба «заявления союзникам» были переданы по телеграфу в российские посольства 18 апреля 1917 г., т. е. в Первомай, который большинство российских социалистов отмечало по западному григорианскому календарю{108}.
Возмущенные большевики перешли в атаку. Хотя впоследствии и Ленин, и руководство его партии изо всех сил отрицали попытку свергнуть правительство во время «Апрельского восстания» (20–21 апреля 1917 г.), сохранившиеся косвенные улики доказывают, что это намерение, по крайней мере, молча одобрялось. Сохранились две резолюции партии, принятые между 18 и 22 апреля (в дальнейшем было подтверждено авторство Ленина), и обе они безоговорочно направлены против Временного правительства: одна требует передать всю власть Советам, другая призывает к братанию с немцами на фронте{109}. То ли по желанию Ленина, то ли спонтанно большевистские агитаторы вышли на улицы Петрограда и Москвы с лозунгами «Долой Временное правительство!», «Долой Милюкова!» и «Вся власть Советам!». В Петрограде волнения заметно усилились 21 апреля, после того как Н. И. Подвойский, глава Военной организации при Петроградском комитете большевиков, вызвал в город кронштадтских матросов, больших любителей побузить на улицах. Когда большевистские агитаторы подошли к Казанскому собору, послышались выстрелы (кто стрелял, так и не удалось выяснить), и три человека было убито. Однако путч (если это была попытка путча) провалился, и уже 22 апреля Центральный комитет большевистской партии в очередной резолюции отказался от дальнейшей антиправительственной агитации. Сам Ленин во время волнений по большей части оставался дома, поскольку, как он впоследствии писал, было непонятно, «перейдут ли в этот тревожный момент массы на нашу сторону»[4]. Какова бы ни была подлинная роль Ленина в апрельских событиях, проправительственные демонстранты не питали сомнений насчет того, кто несет ответственность за смуту, и многие несли плакаты «Долой Ленина!»{110}.
За какие-то две недели Ленин ухитрился радикализировать политический ландшафт России. Конечно, Чернов и другие эсеры тоже выступали против «империалистической войны», и многие радикальные социалисты и трудовики с подозрением относились к Временному правительству и в особенности к Милюкову, но пока не сцене не появился Ленин, эти чувства почти не находили выхода. Пусть даже активисты и политики не вполне соглашались с Лениным, игнорировать его бескомпромиссную позицию было невозможно. Судя по последствиям апрельских волнений, когда в отставку ушли и Милюков, и военный министр Александр Гучков, ленинская оппозиция если пока и не приобрела полный контроль над внешней политикой России, то уже получила право вето. Ленин, конечно, не в одиночку ниспроверг в мае 1917 г. российских либералов, но роль его в этом была велика. Говоря словами политического маркетинга, он создал себе мощный бренд как лидер антивоенной и антиправительственной оппозиции. Ему оставалось только твердо придерживаться заявленных принципов и ждать, пока прочие лидеры, вынужденные вести стремительно утрачивающую популярность войну, дрогнут перед ним.
Сформировать в условиях войны постимпериалистическую внешнюю политику – задача почти невыполнимая, тем более когда любая малейшая ошибка тут же становится поводом для новой атаки Ленина. В очередной декларации о целях войны от 5 мая 1917 г. обновленный постлиберальный кабинет обязался «демократизировать армию» и отвергал империалистические цели войны, одновременно утверждая, уже не столь убедительно, что «поражение России и ее союзников не только явилось бы источником величайших бедствий, но и отодвинуло бы и сделало бы невозможным заключение всеобщего мира»{111}. Пятнадцатого мая 1917 г. сменивший Милюкова министр иностранных дел попытался примирить условия раздела Османской империи в соответствии с соглашением Сазонова, Сайкса и Пико и выдвинутый Советами принцип «мира без аннексий». Призрак русского империализма не желал упокоиться, новая формулировка военных целей революционной России упоминала «захваченные по праву войны провинции азиатской части Турции», а затем, явно сама себе противореча, настаивала на том, что бывшие турецкие области Ван, Битлис и Эрзерум «навеки» принадлежат Армении. Пытаясь кое-как сочетать старинный имперский патернализм с духом нового идеализма, меморандум предлагал передать эти «армянские» провинции под управление российских чиновников, которые и займутся репатриацией армянских, курдских и турецких беженцев{112}.
На всей территории бывшей империи и особенно на фронтах в мае – июне 1917 г. происходили яростные споры о дальнейшем ходе войны, о том, следует ли ее продолжать и каковы могут быть ее цели, и одним из предметов спора сделался сам Ленин. Александр Керенский, ставший после Гучкова военным министром, объездил европейские фронты перед запланированной на июнь операцией в Галиции. Он пытался воодушевить солдат мыслью, что они теперь – авангард новой России, они сражаются уже не за злосчастного царя и тайные договоры, но за демократию и союзников, за социализм и народ. Большинство сообщений подтверждают, что Керенского принимали хорошо, однако эффект от его речей рассеивался сразу же после отъезда оратора[5]. В Тифлисе, в штаб-квартире Кавказской армии, которая успела в 1916 г. нанести Турции ряд тяжелейших ударов, менее всего ощущалась готовность к бунту. Члены солдатских комитетов, рапортовал новый главнокомандующий Николай Юденич (сменивший великого князя Николая Романова), приняли решение «вести войну до победного конца»{113}. Также и в Черноморском порту, откуда собирались вести десантные операции на Босфоре, после Февральской революции сохранялся боевой дух. «Разумеется, здесь, как и в других местах, появились экстремисты, – докладывал из Севастополя британский морской офицер Ле Пейдж, – однако общее настроение – продолжать войну, пока военная сила Центральных держав не будет сокрушена»{114}. В середине мая Севастопольский совет матросов обсудил вопрос, следует ли пригласить в город Ленина, уже прославившегося требованием немедленно прекратить войну. В результате 342 члена проголосовали «за» и 20 – «против»{115}.
Исследование ситуации на Черноморском флоте дает нам поразительный пример влияния ленинской доктрины революционного пораженчества на развитие российской революции. Здесь, как и повсюду после Приказа № 1, начались бунты, стоившие примерно 20 морским офицерам жизни, однако под конец апреля командовавший флотом Александр Колчак заявил, что дисциплина полностью восстановлена[6]. На берегу доминировал эгалитаризм, и даже отдавать офицерам честь считалось излишним, но на борту большинство моряков подчинялись приказам. И пока в сухопутных армиях распространялся хаос, российские корабли продолжали совершать активные боевые действия в Черном море. Так, 10 и 14 августа 1917 г. российские эскадры высадили десант на северном побережье Турции поблизости от Трапезунда. И до самого большевистского переворота все еще функционировавший офицерский корпус Черноморского флота планировал массированный десант у Синопа{116}. Однако, после того как в октябре большевики захватили власть, остатки российского Черноморского флота, т. е. два (не полностью оснащенных) дредноута «Воля» и «Свободная Россия», пять эсминцев, несколько транспортных судов и торпедоносцев, а также подводные лодки были поставлены на якорь в Севастополе. Через несколько недель эти корабли сделались небоеспособными, поскольку всех офицеров – противников большевиков – линчевали. К началу апреля 1918 г. боевая сила этого флота, по оценкам германской разведки, снизилась на 99 %{117}.
На европейских фронтах разлагающее влияние ленинизма дало о себе знать еще раньше, чем на линии соприкосновения с Османской империей. Но многое о бунтах и явлениях дезертирства после Февральской революции остается невыясненным, в том числе их масштаб. Согласно российским военным архивам, с марта по май 1917 г. Северная армия (сражавшаяся против немцев) и Западная армия (противостоявшая силам Австро-Венгрии в Галиции и Румынии) потеряли в результате дезертирства примерно по 25 000 бойцов каждая, причем три четверти дезертиров приходилось на тыловые части. Множество свидетелей подтверждают, что по европейской части России в большом количестве шатались солдаты «в самоволке», и это наводит на мысль, что в военных рапортах цифры занижались. Тем не менее факт остается фактом: подавляющее большинство подразделений на передовой сохраняли верность правительству, и даже часть отлучившихся «в самоволку» потом возвращалась к своим. Еще и в июне 1917 г., когда Керенский развернул наступление в Галиции, российские армии на западных фронтах оставались вполне боеспособными{118}.
Но постепенно большевистская пропаганда начала сказываться и на них. Адресованные армии «Солдатская правда» и «Окопная правда», раздававшиеся прямо на передовой, в мае – июне достигли совокупного тиража в 100 000, достаточного, чтобы «обеспечивать ежедневно одного большевика на взвод». К тому же в дополнение к «Солдатской правде» выходило еще 350 000 брошюр и листовок{119}. Современники, в отличие от нас, понятия не имели, что средства на антивоенную пропаганду предоставило немецкое министерство иностранных дел, а поступали они в Петроград через принадлежавший Улофу Ашбергу банк «Ниа Банкен» в Стокгольме (российская сторона сохранила свидетельство о по крайней мере одном таком телеграфном переводе, немецкие же источники обильны и полностью подтверждаются показаниями самого Ашберга на допросе и его мемуарами{120}). Но всем было очевидно, что «большевистские издания… попадают на фронт в огромных количествах», как отметил в своем труде «Конец Русской императорской армии» (The End of the Russian Imperial Army) Аллан Уилдмен{121}. Трудно точно оценить воздействие этой пропаганды на солдат, но попадавшие в руки военных цензоров письма с фронта в Галиции показывают, что она в значительной степени свела на нет эффект от пресловутых «гастролей» Керенского перед июньской операцией{122}.
Шестнадцатого июня 1917 г. российские войска в Галиции начали двухдневный артобстрел австрийских позиций. К северу совершались отвлекающие маневры против германских позиций. Артиллерийский обстрел в Галиции оказался вполне успешным. Австрийцы покинули свои позиции, российские войска почти два дня продвигались вперед, не наталкиваясь на сопротивление. Однако это продвижение остановилось задолго до каких-либо попыток противника контратаковать, потому что основная масса солдат, то ли из-за усталости, то ли в результате большевистской пропаганды, предпочитала уклоняться от сражения, тем более если сражаться приходилось не ради обороны. Как только прибыли немецкие подкрепления, русское наступление превратилось в беспорядочное бегство. Сохранилась замечательная фотография русских солдат, разбегающихся при известии о приближении немцев. Первоначально она была опубликована в Daily Mirror с красноречивой подписью: «Солдаты бегут, бросая оружие. Противник еще за 12 миль»{123}.
Вне зависимости от того, велика ли была роль ленинской пропаганды в провалившейся операции Керенского, результатами этого провала большевики не замедлили воспользоваться. Чтобы поднять падающий боевой дух войск, в Галицию 30 июня снарядили Первый пулеметный полк, крупнейшее соединение Петроградского гарнизона. Керенский и армейское командование понятия не имели, до какой степени на этот полк подействовала пораженческая большевистская пропаганда. Солдаты отказывались выполнять приказы, предпочитая проводить митинги протеста.
Большевики зарабатывали политический капитал, обличая неудавшуюся операцию в Галиции и Временное правительство в целом. Причем Ленина в тот момент нигде не видели (позднее выяснилось, что он скрывался в Финляндии), но эту кампанию возглавил Троцкий, только что вернувшийся из Нью-Йорка и разом обратившийся в пламенного приверженца Ленина (хотя формально он даже не присоединился пока к партии большевиков). Еще один лидер большевиков из морского гарнизона Кронштадта с говорящей фамилией Раскольников объединил радикально настроенных моряков (среди которых было немало анархистов) под лозунгом «Бей буржуев!». Кронштадт обеспечивал назревавший переворот ударными силами: примерно 5000 вооруженных мятежников явилось в Петроград 4 июля (17 июля по н. ст.) в 11 утра. Пробольшевистские рабочие и мятежники из Первого пулеметного полка окружили Таврический дворец, где располагался Петроградский совет. Тут явился и Ленин – с очевидной целью возглавить путч. Матросы Раскольникова промаршировали по Невскому и свернули на Литейный. Их встретили огнем, несколько человек упало замертво – первые жертвы в столице после Февральской революции. За кулисами большевики поспешно формировали теневой кабинет, готовясь к захвату власти. Команды по 10–15 человек разъезжали по городу на грузовиках и бронированных автомобилях, захватывая здания, мосты, ключевые точки. Несколько враждебных большевикам газет закрыли силой, в том числе дореволюционное «Новое время». На тот момент с серьезным сопротивлением столкнулись только бузотеры Раскольникова, но и они оправились от неожиданности и уже к 16.00 захватили Таврический дворец, где размещались Временное правительство и Исполком. Теперь, когда почти весь город перешел под контроль тех или иных пробольшевистских фракций, а силы обороны Временного правительства и Исполкома в совокупности составляли полдюжины охранников, все взоры устремились на Ленина. Уже была подготовлена петиция от большевистских фабричных комитетов с требованием передачи власти Петроградскому совету. Демонстранты перед Таврическим дворцом теряли терпение, кто-то уже крикнул Чернову, левому эсеру и министру сельского хозяйства: «Бери власть, сукин сын, пока дают!» Когда же Ленин поднимется на трибуну и провозгласит, как обещано: «Вся власть Советам!»?{124}
Но он этого так и не сделал. Как ни странно, Ленина подвели нервы – именно в тот момент, когда история звала и манила: после нескольких кратких реплик, адресованных кронштадтским матросам, он снова исчез. По сей день неизвестно, почему Ленин не воспользовался этим моментом вполне возможного политического триумфа – был ли причиной страх сцены? Или просто страх? Или же Ленин тщательно проанализировал баланс сил и пришел к выводу, что на стороне большевиков пока еще слишком мало петроградских рабочих и солдат, чтобы закрепить успех? Или – как полагает Ричард Пайпс – Ленин опасался столь откровенного акта государственной измены, потому что правительство готовилось обнародовать документы о его сделке с немцами?{125} Аргументу Пайпса придает правдоподобность тот факт, что Павел Переверзев, министр юстиции в правительстве Керенского, опубликовал первую порцию обличающих Ленина свидетельств уже 4 июля 1917 г., еще до заключительных сцен в Таврическом дворце. Хотя Переверзев, по-видимому придерживая козыри для будущего трибунала, выложил наименее взрывоопасные документы из всех, находившихся в руках правительства, их вполне хватило, чтобы «завести» Петроградский гарнизон. Регулярные войска быстро овладели столицей, разогнав пробольшевистские силы. Таврический дворец взяли верные правительству войска, мятежников из Первого пулеметного полка обезоружили, типографию «Правды» закрыли и арестовали почти 800 оппозиционеров, в том числе Троцкого и Каменева, но не Ленина.
Об аресте Ленина за «измену и организацию вооруженного мятежа» правительство распорядилось на следующий день. «Теперь нас расстреляют», – сказал Ленин Троцкому, сбрил бороду и бежал в Финляндию. Министерство юстиции готовило показательный процесс для окончательного разоблачения большевизма. Казалось, звездный час Ленина уже миновал. Большевики, по мнению немецкой разведки, вот-вот должны были превратиться в политический труп{126}.
Но Ленину повезло с врагами. По каким-то таинственным причинам Керенский так и не довел дело до суда над большевиками, и большинство арестованных вышли на свободу еще до конца лета. Ленин из своего финляндского убежища продолжал наводнять армию пораженческой пропагандой и готовить новую попытку переворота. Керенский даже сделал Ленину своеобразный комплимент: возглавив Временное правительство (и сохраняя при этом должности военного и морского министра), он распорядился после неудавшегося большевистского путча вывезти драгоценности короны из Петрограда и спрятать их в кремлевской Оружейной палате[7]{127}. Кроме того, он распорядился 7 июля отправить Романовых из Царского Села – также по соображениям безопасности.
За три месяца, прошедшие после спонсированного немцами возвращения в Россию, Ленин резко радикализировал партийную линию большевиков, осуществил две попытки переворота и внушил главе Временного правительства такой страх, что Керенский поспешил эвакуировать из столицы и семью Романовых, и их сокровища, лишь бы они не попали в руки большевиков. Впечатляющие достижения – но для Ленина это была только разминка.
Как выглядел бы политический и стратегический ландшафт России в июле 1917 г. без Ленина, т. е. если бы немцы не переправили в апреле на родину его, Крупскую, Радека, Зиновьева и прочих и не снабжали бы их деньгами на пропаганду через стокгольмский банк? Хотя наверняка ничего утверждать нельзя, некоторые ключевые факторы заслуживают рассмотрения. Во-первых, без немецкого финансирования невозможно было бы обрушить на русские армии в Европе такое количество пораженческой пропаганды, которой их бомбардировали в ту роковую весну. Хотя в Петроградском гарнизоне мятежные настроения достигли критического уровня уже к концу февраля, безо всякого немецко-большевистского влияния, на фронте в ту пору настроения были далеко не столь безнадежны и могли бы оставаться таковыми. Если бы не волнения в апреле, либералы вроде Милюкова и Гучкова могли бы возглавлять страну и в июне, и в июле, снять часть политического давления с Керенского, который пытался разрешить самые опасные политические конфликты, спровоцированные Приказом № 1, и каким-то образом примирить интересы Петроградского совета и армии. Начавшееся в июне наступление в Галиции все равно, с большой вероятностью, закончилось бы паникой при известии о немецком подкреплении и, соответственно, спровоцировало бы политический кризис в столице, но героем дня, скорее всего, сделался бы не Ленин, а Чернов, который не был склонен все крушить. При посредничестве Чернова удалось бы выработать компромиссное решение, и Совет согласился бы на восстановление в армии авторитета офицеров в обмен на гарантии со стороны Алексеева, Брусилова или Корнилова – того, кого сочли бы наиболее приемлемым главнокомандующим, – не предпринимать более таких бессмысленных наступлений. В таком случае распад российской армии проходил бы по модели французской армии в результате бунтов после «Мясорубки Нивеля» в мае 1917 г., когда Филипп Петен оказался тем самым полководцем, которому солдаты были готовы доверить свои жизни.
Поскольку Россия не была столь централизованным и единым государством, как Франция, политический прогноз для нее и в случае такого альтернативного сценария выглядит не слишком оптимистично, однако, в отсутствие такой мощной личности, как Ленин, направлявшей антивоенные настроения в наиболее антигосударственное русло, какое только можно себе представить, траектория 1917 г. могла бы оказаться не столь деструктивной. Многое все равно определялось бы немцами. Не имея такого агента, как Ленин, сеющего хаос в тылу, немецкое верховное командование, вероятно, поспешило бы возобновить наступление на Восточном фронте, чтобы нанести России чувствительный удар и подорвать доверие к центристам – Милюкову, Гучкову и Керенскому, решившимся продолжать войну. И все же в какой-то момент немцы прекратили бы наступление, чтобы навязать перемирие на своих условиях и высвободить силы для сражений на западе. Государственные деятели калибра Милюкова добились бы гораздо более благоприятных результатов, чем большевики в Брест-Литовске, и если бы такой договор заключали не большевики, с их репутацией немецких агентов, то и западные страны скорее признали бы это соглашение. Переговоры о перемирии на востоке могли бы даже привести к общей мирной конференции, в которую немцы страстно желали превратить встречу в Брест-Литовске. Без «отравленного кубка» большевистской России, которая соблазнила Германию затянуть мировую войну и на 1918 г. в расчете на приобретенные восточные территории, немцы могли бы согласиться даже на посредничество США (хотя Америка уже присоединилась к Антанте, ее войска все еще не появлялись на поле боя) и в итоге достичь компромисса. Россия все равно потеряла бы значительную часть своей территории в результате мирного соглашения и утратила бы всякую надежду захватить Константинополь. Но это не слишком высокая цена за то, чтобы избежать тех ужасов, которые произошли на самом деле.
6. Дело Корнилова: Трагедия ошибок Август 1917 г. Ричард Пайпс
Эпизод, известный в российской истории как корниловский мятеж – противостояние премьер-министра Александра Керенского и главнокомандующего Лавра Корнилова в августе 1917 г., – фактически обеспечил успех большевистского переворота, произошедшего два месяца спустя. Но этот эпизод имел и более глубокий смысл: он показал, что переломные исторические события могут проистекать не только из решимости и силы, но также из смятения и непонимания. Никто из участников этого эпизода не желал тех последствий, к которым он привел, и все же именно этот инцидент сделал их неизбежными.
В начале июля 1917 г. после недолгих колебаний петроградские большевики решили обратить себе на пользу мятеж пулеметного полка, солдаты которого сопротивлялись отправлению на фронт, и захватить власть от имени Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Эта попытка сорвалась, когда правительство обнародовало информацию о сговоре Ленина с немцами: разоблачение возмутило солдат и положило конец мятежу. Многие большевики были арестованы, а Ленину вновь пришлось бежать и прятаться. Казалось, угрозу слева Временное правительство отразило.
Но теперь возникла угроза справа, которую Керенский счел гораздо более серьезной. Постфактум он напишет: «Только с этой стороны [справа] на тот момент существовала реальная опасность»{128}. Действительно, и в августе, и позднее Керенский пребывал в уверенности, что военные готовят заговор с целью его устранения и установления диктатуры{129}. Этот ни на чем не основанный страх привел его к фатальным просчетам, к ненужному конфликту с генералом Корниловым, в результате которого большевикам был открыт путь к власти.
Корнилову на тот момент исполнилось 47 лет. Он родился в семье сибирских казаков. В 1915 г., командуя дивизией, был ранен и попал в австрийский плен, сумел бежать и добраться до России. Человек легендарной отваги, он с отвращением наблюдал за распадом российской армии и беспомощностью Временного правительства. На исходе лета 1917 г. Корнилов пришел к выводу, что правительство стало заложником социалистов-интернационалистов и вражеских агентов, окопавшихся в Совете. Хотя он до тех пор не вмешивался в политику, этот вывод способствовал тому, что Корнилов стал прислушиваться к голосам, предлагавшим ему диктаторские полномочия. После неудавшегося большевистского путча Керенский поручил Корнилову восстановить дисциплину в войсках. Девятнадцатого июля он предложил Корнилову должность главнокомандующего, но тот настаивал на серьезных реформах: восстановлении воинской дисциплины, включая смертную казнь за мятеж и дезертирство, и подчинении таким же правилам оборонной промышленности. Такими требованиями Корнилов загонял Керенского в угол, поскольку премьер-министр во многом зависел от Совета, а Совет не дал бы согласия на подобные меры. Корнилов проинформировал Керенского, на каких условиях он готов возглавить вооруженные силы России: 1) он будет отвечать только перед своей совестью и перед страной; 2) никто не будет вмешиваться в его назначения командиров или в оперативные приказы; 3) дисциплинарные меры, на которых он настаивал, будут распространены и на тыловые части и 4) правительство примет все его предварительные условия{130}. Керенского требования Корнилова так возмутили, что он подумывал даже отменить назначение его главнокомандующим, но от этой идеи отказался и предпочел списать «наглость» Корнилова на «политическую наивность» генерала. Главным образом эти требования были направлены против действий Совета, в особенности Приказа № 1, позволявшего Совету отменять распоряжения военного командования. Переговоры между двумя сторонами затянулись, и Корнилов приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего только 24 июля, получив заверения, что все его условия будут выполнены.
К несчастью, Керенский никак не мог сдержать свое слово. Во-первых, он полностью зависел от Исполкома Совета, в глазах которого любые попытки восстановить военную дисциплину, особенно в тылу, представляли собой «контрреволюцию». Чтобы выполнить обещания, данные Корнилову, Керенский должен был рассориться с социалистами, а только они его главным образом и поддерживали. К тому же генерал казался ему конкурентом, норовящим занять его место. Итак, вместо того чтобы сотрудничать с Корниловым и постараться выполнить его условия, Керенский отменял свои обещания одно за другим: 7 августа он заявил, что ни под каким видом не согласится на смертную казнь для провинившихся солдат из тыловых частей. А 11 дней спустя Совет почти единогласно проголосовал за резолюцию большевиков, отменявшую смертную казнь и на передовой.
Две России сошлись лицом к лицу: премьер-министр представлял Россию социалистического интернационала, генерал – патриотическую Россию. Им невозможно было примириться. Третьего августа Корнилов явился в Петроград, и кабинет министров собрался на закрытое заседание, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Когда Корнилов описывал соотношение сил, Керенский вдруг подался вперед и шепотом, на ухо, просил его быть осторожнее. Корнилов рассудил, что предостережение касалось министра сельского хозяйства Чернова.
Этот инцидент потряс главнокомандующего: Корнилов понял так, что по меньшей мере одного члена кабинета подозревают в передаче военных секретов врагу. В его глазах все Временное правительство отныне выглядело некомпетентным или изменническим.
Через несколько дней, 6 или 7 августа, Корнилов выдвинул три недоукомплектованные дивизии в точку примерно на полпути между Москвой и Петроградом. На вопрос о причинах такого распоряжения он ответил, что готовится к подавлению вероятного большевистского переворота в любой из столиц и что разрешение правительства ему для этого не требуется. России, утверждал генерал, отчаянно необходима «твердая рука». «Я не контрреволюционер, – оправдывался он, – я ненавижу старый режим, он дурно обращался с моей семьей. К прошлому возврата нет, да и нет нужды возвращаться. Но России нужна авторитетная власть, которая спасет ее, с честью доведет до конца войну и подготовит страну к Учредительному собранию. В нынешнем правительстве, рассуждал он, есть честные люди, но есть и те, кто все портит, кто губит Россию. А главное, сейчас в России отсутствует сильная власть и такую власть следует создать. Вероятно, мне придется надавить на правительство. Если в Петрограде вспыхнет мятеж, подавив его, я, возможно, войду в состав правительства и приму участие в формировании новой, сильной власти»{131}.
Восьмого августа военное министерство представило Керенскому два списка деятелей левого и правого крыла, которых рекомендовалось арестовать. Корнилов согласился на арест консервативных политиков, но медлил с подписанием приказа на арест левых радикалов{132}.
Четырнадцатого августа Корнилов явился в Москву на Всероссийское совещание, организованное Керенским, в надежде добиться общественной поддержки. У входа в Большой театр толпа радостно приветствовала Корнилова, его качали на руках, депутаты правого крыла приняли его с неистовым восторгом. Керенский почувствовал в таком отношении к своему сопернику нешуточную угрозу для себя. Впоследствии он свидетельствовал: «После Московского совещания для меня было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева»{133}[8].
В середине августа Борис Савинков, возглавлявший в тот момент военное министерство, получил от французской разведки предупреждение о запланированной большевиками на начало сентября попытке захватить власть. Керенский не поверил этому предостережению, однако воспользовался им для устранения Корнилова и направил Савинкова в Могилев, где по-прежнему находилась Ставка главнокомандующего, с приказом ликвидировать предполагаемый заговор офицеров и направить в Петроград Третий кавалерийский корпус для введения в столице военного положения и защиты Временного правительства от любых покушений, в частности от большевиков, которые один раз уже организовали мятеж 3–5 июля и, по данным иностранной разведки, готовили новое восстание{134}.
Позднее Керенский обвинит Корнилова в том, что он направил этот кавалерийский корпус во главе с генералом Александром Крымовым в столицу не на помощь, а с целью свергнуть Временное правительство.
Савинков прибыл в Могилев 22 августа и провел там два дня. Он сообщил Корнилову, что правительство располагает сведениями о готовящемся большевистском перевороте и, чтобы совладать с ним, Керенский намерен исключить Петроград и пригороды из Петроградского военного округа и передать их под прямой контроль правительства. Корнилову это решение пришлось не по вкусу, но спорить он не стал. Затем Савинков сказал, что премьер просит направить в столицу Третий кавалерийский корпус и также передать его в распоряжение правительства. При необходимости, обещал он, правительство осуществит «безжалостную» расправу с большевиками и даже с Петроградским советом, если тот примет сторону большевиков. Все это было лишь предлогом, поскольку, как уже сказано, Керенский не верил в решимость большевиков действовать.
Корнилов ответил:
«Я должен вам сказать, что Керенскому и Временному правительству я больше не верю. Во Временном правительстве состояли членами такие люди, как Чернов, и такие министры, как Авксентьев. Стать на путь твердой власти – единственный спасительный для страны – Временное правительство не в силах… Что касается Керенского, то он не только слаб и нерешителен, но и неискренен»{135}.
Тем не менее Корнилов выполнил распоряжения премьер-министра. Прощаясь с Савинковым, он сказал, что поддержит Керенского, поскольку тот нужен России{136}.
После отъезда Савинкова Корнилов отдал генералу Крымову следующий приказ: «Получив от меня или непосредственно на месте информацию о начале большевистского восстания, немедленно выступайте на Петроград, оккупируйте город, разоружите все дивизии Петроградского гарнизона, примкнувшие к восстанию, разоружите население и распустите Совет»{137}.
Этот приказ вполне соответствовал распоряжениям Керенского.
Но в этот момент очередной ход сделал благонамеренный, однако сбитый с толку персонаж, усугубивший и без того запутанную ситуацию. Владимир Николаевич Львов, человек пламенного честолюбия, но без соответствующих его амбициям талантов, член Думы от консервативной партии октябристов («Союз 17 октября»), после Февральской революции некоторое время возглавлял Священный синод, но в июле 1917 г. Керенский отправил его в отставку. В августе Львов примкнул к группе консервативных московских интеллектуалов, искавших способа спасти Россию от краха. Они считали необходимым усилить Временное правительство, включив в его состав крупных предпринимателей и представителей армии.
По воспоминаниям Львова, в середине августа до него дошли слухи о заговоре в Ставке Корнилова, о планах провозгласить главнокомандующего диктатором. Львов счел своим долгом известить об этих слухах Керенского и с этой целью встретился с ним 22 августа. Керенский внимательно выслушал советы Львова насчет кооптации в кабинет министров людей со связями в армии, однако позже решительно отрицал, будто сам поручил ему поехать в Могилев и вступить в переговоры с Корниловым. Львов тем менее воспринял интерес Керенского к его рассуждениям именно как поручение выступить в роли посредника между премьер-министром и главнокомандующим. Он отправился в Могилев и подоспел как раз 24 августа, когда Савинков собирался в обратный путь.
Как сообщал вскоре после событий сам Корнилов, Львов заявил ему: «Я к вам от Керенского с поручением», – и от имени Керенского сказал, что, если Корнилов сочтет дальнейшее присутствие Керенского в правительстве нежелательным, тот готов уйти.
Каждое его слово было бесстыдной ложью{138}.
Тем не менее, даже не проверив полномочия Львова, Корнилов вступил в разговор, имевший чрезвычайно важные последствия. Согласно дальнейшим показаниям Корнилова, он ответил Львову, что единственный выход из сложившейся тяжелой ситуации видит в установлении диктатуры и военного положения в стране. Большевики намерены выступить после 27 августа, они собираются свергнуть правительство, захватить власть, сразу же заключить сепаратный мир и объявить об этом, чтобы деморализовать армию. Балтийский флот передадут немцам{139}.
Корнилов утверждал, что не стремится к личной власти и готов подчиниться диктатору, но, если Временное правительство предложит диктаторские полномочия именно ему, отказываться не станет.
Он просил Львова предупредить Керенского: поскольку петроградские большевики готовят мятеж, жизнь премьера находится в опасности и благоразумнее было бы перебраться в Ставку. Здесь же, в Ставке, можно было бы и обсудить с Керенским вопрос реорганизации правительства{140}.
После этого разговора Львов отправился в Петроград, где 26 августа снова встретился с Керенским и, как на встрече с генералом изображал из себя посланца премьер-министра, так теперь взял на себя роль представителя главнокомандующего. Он сообщил Керенскому, что Корнилов требует диктаторскую власть. По словам Керенского, сначала он от такой наглости расхохотался, но смех быстро сменился тревогой. Он попросил Львова изложить требования Корнилова письменно. И вот что написал Львов:
Генерал Корнилов предлагает:
1. Объявить г. Петроград на военном положении.
2. Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего.
3. Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров вплоть до образования кабинета Верховным главнокомандующим.
Петроград, 26 августа 1917 г. В. Львов{141}.
Ничего подобного Корнилов на самом деле не требовал.
Как только Керенский прочитал эти вымышленные требования, ему, как он вспоминал, все стало ясно: готовится военный переворот. Но чтобы вполне в этом убедиться, он решил связаться с Корниловым напрямую по телеграфу и пригласил Львова в кабинет военного министра к восьми вечера для участия в этом разговоре. Львов задерживался, и, прождав его полчаса, Керенский сам начал разговор, по ходу которого он изображал также и Львова. Вот полная расшифровка переговоров по телеграфу:
Керенский: Здравствуйте, генерал. Владимир Николаевич Львов и Керенский у аппарата. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем.
Корнилов: Здравствуйте, Александр Федорович, здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу, вновь заявляю: события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.
Львов: Я, Владимир Николаевич, Вас спрашиваю – то определенное решение нужно исполнить, о котором Вы просили известить меня Александра Федоровича только совершенно лично, без этого подтверждения лично от Вас Александр Федорович колеблется вполне доверить.
Корнилов: Да, подтверждаю, что я просил Вас передать Александру Федоровичу мою настоятельную просьбу приехать в Могилев.
Керенский: Я, Александр Федорович, понимаю Ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра; нужен ли Савинков?
Корнилов: Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович выехал вместе с Вами. Сказанное мною Владимиру Николаевичу в одинаковой степени относится и к Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать Вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить Вас.
Керенский: Приезжать ли только в случае выступлений, о которых идут слухи, или во всяком случае?
Корнилов: Во всяком случае.
Керенский: До свидания, скоро увидимся.
Корнилов: До свидания{142}.
Взаимное непонимание достигло кульминации. Керенский уверился, что Корнилов заманивает его в штаб, чтобы арестовать и провозгласить себя диктатором. Но свидетели подтверждают, что после этого разговора Корнилов вздохнул с облегчением, в уверенности, что Керенский согласен прибыть в Могилев, а значит, готов к сотрудничеству ради формирования нового, сильного правительства.
Этих скудных улик Керенскому хватило для открытого противостояния с Корниловым. Прежде всего он распорядился арестовать Львова, как только тот, запыхавшись, явился-таки на переговоры. Позднее тем же вечером Керенский созвал на заседание свой кабинет, известил министров обо всем произошедшем и потребовал – и получил – диктаторские полномочия для устранения назревшего кризиса. Кабинет сложил с себя полномочия и больше не собирался: фактически Временное правительство на том и перестало существовать. Керенский дал Корнилову телеграмму, объявив, что смещает его с должности главнокомандующего, и приказывая немедля явиться в Петроград. По мнению Савинкова, отставка генерала была незаконной, поскольку лишь Временное правительство могло издать такой приказ{143}.
Корнилов, понятия не имевший, как их переговоры были восприняты Керенским, готовился оказать правительству помощь в подавлении ожидавшегося большевистского восстания. В 2.40 утра он телеграфировал Савинкову:
«Корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 28 августа. Я прошу объявить Петроград на военном положении 29 августа»{144}.
Но утром 27 августа пришла телеграмма от Керенского с извещением об отставке Корнилова, окончательно запутавшая всех генералов.
Сначала военные были готовы даже счесть эту телеграмму фальшивкой не только потому, что с точки зрения проведенных накануне переговоров она казалась нелепой, но и потому, что приказ не был должным образом сформулирован. Подумав, Корнилов и его помощники решили, что телеграмма пусть и подлинная, однако Керенский отдал этот приказ под давлением, возможно оказавшись заложником большевиков. Соответственно, Корнилов счел за благо пренебречь этим приказом и велел генералу Крымову как можно скорее вести кавалерийский корпус в столицу.
Днем Савинков связался с Корниловым и услышал от него, что телеграмму с приказом о своей отставке главнокомандующий считает результатом давления со стороны Совета и не собирается оставлять свой пост. Корнилов просил Савинкова организовать ему встречу с Керенским для прояснения этого «недоразумения».
Керенский тем временем уже разослал в газеты коммюнике следующего содержания:
«26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной думы Владимира Николаевича Львова с требованием передачи Временным правительством генералу Корнилову всей полноты гражданской и военной власти с тем, чтобы им, по личному усмотрению, будет составлено новое правительство для управления страной… Действительность полномочий члена Государственной думы Львова – сделать такое предложение – была подтверждена затем генералом Корниловым при разговоре со мной по прямому проводу»{145}.
Это обвинение вызвало у Корнилова приступ неистовой ярости.
После прочтения коммюнике премьер-министр виделся ему уже не пленником большевиков, а зачинщиком подлой провокации с целью дискредитировать его и вооруженные силы. Корнилов разослал всем командующим фронтами свое собственное воззвание, в котором разоблачал лживую телеграмму премьера и пояснял, что не направлял депутата Думы Владимира Львова «парламентером» к Временному правительству – тот сам явился к Корнилову гонцом от премьера. Все это, по мнению Корнилова, было провокацией, ставившей под угрозу «судьбу Отечества»:
«Русские люди! Великая Родина наша умирает. Близок час ее кончины.
Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба… Я, генерал Корнилов, – сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ – путем победы над врагом – до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни»{146}.
Так начался открытый мятеж армии. Корнилов позднее заявил, что пошел на разрыв с Временным правительством лишь потому, что правительство заранее обвинило его в измене.
В свою очередь Керенский приказал командующим войсками игнорировать приказы Корнилова. При этом он лгал о причинах, по которым Третий кавалерийский корпус приближался к Петрограду, отрицал, что сам же его вызвал. Он приказал Крымову остановиться, и генерал подчинился, поскольку узнал, что столица вовсе не перешла в руки большевиков. Керенский вызвал его к себе, выслушал объяснения Крымова: корпус шел на выручку Временному правительству, и, как только Крымову стало известно о недоразумении между правительством и Ставкой, он тут же остановил продвижение войск. Но Керенский не желал вступать в разговор, отказался пожать генералу руку и отправил его под трибунал. Крымов, вместо того чтобы явиться в трибунал, укрылся на квартире у друга и пустил себе пулю в сердце.
В следующие дни Корнилов добивался народной поддержки, но не преуспел в этом. Дезинформация, распространяемая Керенским и представляющая генерала изменником и мятежником, сработала: на призывы Корнилова никто не откликнулся. Двадцать девятого августа «Известия» сообщали, что Павел Милюков, лидер либеральной партии кадетов, предложил выступить посредником между Керенским и Корниловым, но премьер-министр отверг это предложение: «Примирение невозможно»{147}.
Корнилов был арестован. При аресте он не оказал сопротивления, но затем сумел бежать и принял участие в создании Добровольческой армии. Через полгода, в апреле 1918 г., он был убит снарядом, угодившим в штаб. Позднее, когда большевики заняли район, где Корнилов погиб и был погребен, они откопали его труп, проволокли по улицам и выбросили на помойку.
Так существовал ли в реальности заговор Корнилова? Все данные указывают на то, что заговора не было. Этот термин подразумевает действия втайне, а все поступки Корнилова были подчеркнуто публичными. Скорее уж можно говорить о «заговоре» Керенского с целью дискредитировать популярного генерала, тем самым избавив премьера от конкуренции. Главным источником проблем стала невротическая уверенность Керенского в том, что угроза его власти и российской демократии исходит справа, а не слева. Восьмого октября 1917 г. он заявит комиссии, расследующей «заговор Корнилова» (за две недели до того, как большевики захватят Петроград и установят свой режим почти до конца столетия!): «Я наверняка знал, что никаких большевистских выступлений не будет!»{148}
Комиссия сняла обвинения с Корнилова, признав, что он не намеревался свергнуть Временное правительство, но стремился защитить его от большевиков. Керенского же комиссия обвинила в намеренном искажении истины из недостатка мужества признать собственные огромные ошибки{149}. Автору этой статьи остается лишь добавить собственную оценку: если бы Керенский согласился уйти и передать главнокомандующему диктаторские полномочия, у Корнилова появился бы прекрасный шанс разгромить большевистские выступления в октябре.
Нет никаких доказательств того, что Корнилов рвался к личной власти: он был готов служить Керенскому или признать любую власть, способную спасти Россию от немцев и их союзников-большевиков. По словам английского журналиста, наблюдавшего эти события воочию, «Корнилов хотел укрепить правительство, а не ослабить. Он желал не подорвать авторитет правительства, но не дать другим сделать это… Он хотел избавить правительство от незаконного и парализующего его деятельность влияния Советов. В итоге именно Советы погубили Россию, а ослушник Корнилов предпринял последнюю попытку остановить процесс разрушения»{150}.
Петр Струве, выдающийся российский интеллектуал, совершивший путь от социализма до либерализма, а далее от либерализма к консерватизму, произнес в Праге речь на пятую годовщину смерти Корнилова:
«С преступным легкомыслием оно [Временное правительство], вместо того чтобы поддержать единственную силу, могшую вступить в бой с большевизмом, толкнуло и оттолкнуло ее, оставшись наедине с большевиками и со своей собственной слабостью. Обвинение в государственной измене, предъявленное Корнилову и его сподвижникам, было не только ни с чем не сравнимой низостью, оно было и величайшей политической глупостью»{151}.
Неопровержимым остается факт: раздор Керенского с собственным главнокомандующим сделал приход большевиков к власти практически неизбежным.
7. «Безобидный пьяница»: Ленин и октябрьское восстание Октябрь 1917 г. Орландо Файджес
Около десяти вечера 24 октября 1917 г. Ленин покинул свое убежище на Выборгской стороне Петрограда. На нем были парик и кепка, как у рабочего, голова обмотана бинтом. Вместе с сопровождавшим его финским большевиком Эйно Рахья он отправился в Смольный институт – штаб-квартиру Петроградского совета, чтобы призвать товарищей по партии начать восстание на следующий день, накануне съезда Советов. Пересекая Выборгскую сторону в пустом трамвае, он замучил кондукторшу расспросами о последних новостях в столице: в городе Красная гвардия и революционные солдаты боролись за контроль над вокзалами и улицами. Узнав, что кондукторша придерживается левых взглядов, Ленин начал разглагольствовать о революции. От Финского вокзала пошли пешком. Когда около Таврического дворца их остановил верный правительству патруль, полицейские приняли Ленина за безобидного пьянчужку и пропустили его{152}.
До Смольного Ленин добрался незадолго до полуночи. Во всех окнах здания горел свет. Туда-сюда носились грузовые автомобили и броневики с солдатами и боеприпасами. У ворот стояли пулеметы, верные Керенскому красногвардейцы были начеку и проверяли у входящих пропуска. Хотя у Ленина пропуска не было, ему удалось пройти мимо красногвардейцев, смешавшись с толпой. Он направился прямиком в класс 36, где большевики проводили предвыборное собрание, и заставил их созвать Центральный комитет партии. Центральный комитет отдал приказ о начале восстания.
Что могло произойти, если бы верный правительству патруль арестовал Ленина по пути в Смольный? Альтернативная («А что, если..?») история имеет смысл только тогда, когда речь идет об одном, случайном, событии, которое явно могло бы изменить ход истории. Здесь, несомненно, именно такой случай. Мы можем с высокой степенью уверенности сказать, что, будь Ленин арестован, большевики не начали бы восстание 25 октября. Советскую власть провозгласил бы съезд. В результате было бы сформировано правительство из всех партий, входивших в Совет. Последовали бы недели и месяцы ожесточенного конфликта между социалистами. Советской власти противостояли бы военные силы правых, однако недолго: Советы победили бы. Невозможен был бы военный конфликт масштаба гражданской войны, которая охватила страну и продлилась четыре года после 1917-го, а ведь именно это война сформировала пронизанную насилием культуру большевистского режима Ленина и Сталина.
Прибытие Ленина в Смольный изменило ход истории. В этом историки сходятся. Без него большевики не начали бы восстание 25 октября: в этом не было нужды. До вмешательства Ленина большинство в Центральном комитете не планировало свержения Временного правительства до открытия съезда Советов. То же можно сказать и о Военно-революционном комитете. Сформированный 20 октября для защиты Петроградского гарнизона от приказа Керенского о переводе его большевизированных войск на Северный фронт, Военно-революционный комитет стал ведущей организующей силой в восстании большевиков. Для установления власти Советов никакого восстания не требовалось. Власть Керенского и так рухнула. «Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского», – записала 24 октября в дневнике самая верная сторонница Керенского – поэтесса и хозяйка салона Зинаида Гиппиус{153}. После неудачи Корнилова буржуазные и правые группы не хотели иметь ничего общего с Временным правительством и были даже рады его концу. Многие считали, что нужно дать власть большевикам: те приведут страну к такой катастрофе, что все социалисты будут дискредитированы и правые смогут установить военную диктатуру. Западные союзники, летом поддерживавшие Керенского, также настроились против него после корниловского выступления. Отчасти это можно объяснить слухами о том, что Керенский собирался вот-вот заключить сепаратный мир с Германией. Так как Петроградский гарнизон находился под контролем Военно-революционного комитета, Керенский, по сути, не мог распоряжаться столичными войсками уже за пять дней до начала вооруженного восстания. С опозданием – вечером 24-го – он попытался вызвать верные ему войска с Северного фронта. Приказ был отправлен с фальшивыми подписями лидеров Совета: Керенский боялся, что солдаты не признают полномочий Временного правительства. К следующему утру войска не появились, так что он решил поехать и найти их. Железные дороги были в руках большевиков, и Керенский мог воспользоваться только автомобилем. Однако Временное правительство было настолько беспомощно, что и автомобиля в его распоряжении не оказалось. Военным пришлось забрать машину «рено» американского посольства, которая стояла на улице, и позже американцы направили по этому поводу ноту протеста. Вторую машину нашли у Военного министерства, но в ней не оказалось бензина. Тогда отправили людей, чтобы «одолжить» бензин в Английском госпитале. Около 11 утра два автомобиля выехали наконец из Зимнего дворца и направились прочь из города. Керенский сидел во втором, с американским флагом, что помогло миновать пикеты Военно-революционного комитета, расставленные у Дворцовой площади. Тем временем делегаты Советов уже прибывали на открытие съезда в Большом зале Смольного. Из их настроя можно было заключить, что голоса с большим перевесом будут отданы за власть Советов. После корниловского мятежа симпатии рабочих и солдат были на стороне левых. Солдатские массы подозревали своих офицеров в поддержке Корнилова. Именно из-за этого с конца августа так резко упала дисциплина в армии. Солдатские митинги принимали резолюции за мир и власть Советов. Резко возросло дезертирство: ежедневно из частей уходили десятки солдат. Дезертиры были в большинстве крестьянами. Они мечтали вернуться в свои деревни, где полным ходом шла уборка урожая. Эти крестьяне-солдаты, вооруженные и организованные, нападали на дома помещиков. Нападения участились в сентябре. В больших промышленных городах шел аналогичный процесс радикализации как следствие корниловского мятежа. От этого больше всего выигрывали большевики, впервые получившие большинство в Петроградском совете 31 августа. К этому добавилась власть над Иваново-Вознесенском («русским Манчестером»), Кронштадтом, Екатеринбургом, Самарой и Царицыном. Советы Риги, Саратова и самой Москвы вскоре тоже стали большевистскими. Все это объяснялось, главным образом, тем, что большевики были единственной крупной политической партией, бескомпромиссно выступавшей за то, чтобы отдать «всю власть Советам». На это следует обратить особое внимание, так как одно из основных заблуждений по поводу Октябрьской революции состоит в том, что большевиков подняла на вершину власти массовая народная поддержка их партии. Это не так. Октябрьское восстание было государственным переворотом, который активно поддерживала небольшая часть населения, однако он произошел на пике социальной революции, сосредоточенной на популярном идеале власти Советов. После корниловского мятежа внезапно появился поток резолюций с фабрик, из деревень, из армейских частей, призывавших сформировать советское правительство. Под этим авторы резолюций понимали свою собственную социальную революцию, во главе которой стоял бы Всероссийский совет с участием всех социалистических партий. Буржуазные партии, в особенности кадеты, которых дискредитировало участие в корниловском движении, исключались, однако почти все резолюции призывали социалистические партии войти в советское правительство.
Вечером 24 октября казалось, что на следующий день на съезде Советов будет сформировано однородное социалистическое правительство. Пока Ленин добирался до Смольного, Каменев метался по зданию, пытаясь заручиться поддержкой других социалистических партий, чтобы была принята резолюция, которая призвала бы съезд сформировать правительство Советов. Эсеры и меньшевики, чьи делегаты заседали до поздней ночи, склонялись в пользу этого плана. До появления на сцене Ленина лидеры большевиков планировали ждать съезда Советов, при этом вооружая на улицах своих сторонников с тем, чтобы защитить проведение съезда, например в случае, если контрреволюционные силы попытались бы закрыть его. Троцкий, в отсутствие Ленина взявший на себя роль лидера партии, неоднократно обращал внимание на важность дисциплины и терпения. Утром 24-го, когда Керенский приказал закрыть две большевистские газеты, Троцкий отказался поддаться на эту «провокацию»: следует подготовить к действию Военно-революционный комитет, захватить стратегические объекты в городе, что станет защитной мерой против дальнейших «контрреволюционных» угроз. Но в тот же день он на встрече делегатов-большевиков настаивал: «Было бы ошибкой командировать хотя бы те же броневики, которые "охраняют" Зимний дворец, для ареста правительства… Это оборона, товарищи, это оборона!» А вечером Троцкий заявил в Петроградском совете – и у него были веские основания так думать, – что «вооруженный конфликт сегодня или завтра не входит в наши планы – у порога Всероссийского съезда Советов»{154}.
Уже с июля восстание не входило в ближайшие планы большевиков на ближайшее будущее. Выступление 3–4 июля имело для партии катастрофические последствия: сотни ее членов арестовали, а Ленин был вынужден прятаться в Финляндии, чтобы не попасть под суд за государственную измену.
Однако он был не согласен с товарищами. С его точки зрения, эти репрессии показывали, что Временное правительство захвачено «военной диктатурой», началась гражданская война, и это значит, что партия должна взять власть путем вооруженного восстания или погибнуть. «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно», – писал он 8–10 июля{155}. Когда после корниловского мятежа меньшевики и эсеры сдвинулись влево, Ленин готов был рассмотреть компромисс с ними. Однако он не отказался от своей основной цели установления большевистский диктатуры. Первого сентября он писал в статье «Компромиссы» о том, что партия большевиков борется за доминирование{156}. «Полевение» Советов и тот факт, что большевики быстро становились в них главной силой, снова открыли возможность перейти к власти Советов с помощью мирной агитации, как предлагал до июльских событий Ленин. Перед открытием 14 сентября Всероссийского демократического совещания, когда нужно было решить вопрос о власти, Ленин поддержал инициативу Каменева попытаться убедить меньшевиков и эсеров разорвать альянс с кадетами и присоединиться к большевикам в социалистическом советском правительстве. Согласись на это меньшевики и эсеры, большевики отказались бы от идеи вооруженного восстания и соревновались бы за власть в самом советском движении. Однако намерения Ленина не оставляли сомнений: если лидеры Советов откажутся, партия должна готовиться захватить власть. На Демократическом совещании разрушить коалицию меньшевиков, эсеров и кадетов не удалось, и 24 сентября Керенский представил новый кабинет, который мало отличался от предыдущего, работавшего в июле и августе: у социалистов было техническое большинство, но несколько ключевых постов заняли кадеты. Надежды Каменева на социалистическую коалицию не оправдались, и Ленин вернулся к кампании за немедленное восстание. Он говорил о нем уже в двух своих письмах, написанных из Финляндии Центральному комитету накануне Демократического совещания. «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки», – доказывал Ленин. Могут – потому что партия уже завоевала большинство в Московском и Петроградском советах, и этого достаточно, чтобы поднять людей на гражданскую войну, если партия, находясь у власти, предложит мир и отдаст землю крестьянам. Должны – потому что, если ждать Учредительного собрания, «Керенский и компания» примут предупредительные меры, либо сорвав его созыв, либо сдав Петроград немцам. Напомнив товарищам афоризм Маркса «восстание есть искусство», Ленин заключал, что было бы наивно ждать «формального большинства» для большевиков: «никакая революция этого не ждет». История не простит их, если они не возьмут власть сейчас{157}.
Эти два письма дошли до Центрального комитета 15 сентября. Для остальных большевистских лидеров они были по меньшей мере очень неудобны, поскольку только что началось Демократическое совещание и они все еще поддерживали примирительную тактику Каменева. Из боязни, что письма попадут в руки рядовых коммунистов и спровоцируют восстание, было решено уничтожить все их копии, кроме одной. Центральный комитет продолжал игнорировать советы Ленина; вместо писем напечатали его более раннюю статью, в которой он поддержал линию Каменева. Ленин был вне себя от гнева. Боясь вернуться в город, где Керенский приказал арестовать его на Демократическом совещании, он, чтобы быть ближе к столице, переехал из Финляндии в находящийся в 120 км от Петрограда курортный город Выборг. Оттуда он засыпа́л Центральный комитет и низовые партийные организации нетерпеливыми письмами, полными воинственных и грубых фраз, которые были жирно подчеркнуты. Он призывал начать вооруженное восстание немедленно. Ленин осуждал «парламентскую тактику» большевистских лидеров и положительно смотрел на перспективу гражданской войны, которой другие большевики старались избежать, ошибочно полагая, что, как парижские коммунары, проиграют. Напротив, настаивал Ленин, антибольшевистских сил будет не больше, чем стояло за Корниловым, так что большевики непременно победят.
Двадцать девятого сентября, находясь на пике отчаяния, Ленин написал сердитую тираду о большевистских лидерах, обличая их как «штрейкбрехеров, предателей революции». Они хотят задержать передачу власти до съезда Советов, в то время как момент уже назрел. Пришло время захватить власть, и любая задержка лишь даст Керенскому время применить против них военную силу. Ленин настаивал на том, что рабочие твердо поддерживают дело большевиков. Крестьяне уже начали собственную войну в усадьбах, что исключает возможность «18 брюмера», или «мелкобуржуазной» контрреволюции, как в 1849 г. Что касается забастовок и мятежей в других странах Европы, то они, несомненно, указывают на перелом в настроении революционных масс. Мир стоит на пороге революции. «Пропускать такой момент и "ждать" съезда Советов есть полный идиотизм или полная измена», и если большевики это сделают, то «вся честь партии большевиков стоит под вопросом». В конце концов Ленин даже пригрозил, что уйдет из Центрального комитета и это развяжет ему руки и даст возможность начать кампанию за вооруженное восстание среди рядовых большевиков на партийном совещании 17 октября. «Ибо мое крайнее убеждение, что, если мы будем "ждать" съезда Советов и упустим момент теперь, мы губим революцию»{158}.
Вернувшись в Петроград, где он скрывался на квартире у большевика-активиста на Сердобольской улице на Выборгской стороне, Ленин 10 октября созвал секретное совещание Центрального комитета. Решение готовиться к вооруженному восстанию было принято на этом заседании, проведенном по иронии судьбы дома у меньшевика Николая Суханова, жена которого Галина Флаксерман была ветераном партии большевиков. Присутствовали лишь 12 членов Центрального комитета из 22. Таким образом, самая важная резолюция в истории партии была принята меньшинством членов ЦК. Проголосовав десятью «за» и двумя (Каменев и Зиновьев) «против», они признали, что «момент назрел» и вооруженное восстание неизбежно. Партийным организациям было приказано приготовиться к нему{159}.
Однако дата назначена не была. «Резолюция Центрального комитета – это одна из лучших резолюций, которые когда-либо ЦК выносил, – заявил Михаил Калинин. – Но когда это восстание будет возможно – может быть, через год, – неизвестно»{160}. Лидеров очень беспокоило неоднозначное настроение на улицах. Неясно было, «пойдут ли» на восстание петроградские рабочие и солдаты. Они помнили потерпевшее неудачу июльское восстание, в результате которого многие рабочие были уволены и подверглись репрессиям. Не хотелось потерпеть еще одно поражение. Военная организация большевиков, выступавшая за восстание, предупреждала, что рабочие и солдаты еще не готовы выйти по зову партии, хотя они, возможно, пойдут на улицы, окажись Совет в опасности из-за контрреволюционеров. Такой же вывод был сделан после анализа данных, представленных на совещании Центрального комитета 16 октября. Представители Военной организации большевиков, Петроградский совет, профсоюзы и фабричные комитеты, присутствовавшие на совещании, предупреждали о риске, который несет в себе восстание, начатое до съезда Советов. Крыленко изложил взгляды Военной организации: у солдат нет прежнего боевого духа, должно произойти что-то серьезное, чтобы они решились на вооруженное выступление. Володарский из Петроградского совета подтвердил общее впечатление, что никто не готов идти на улицы, однако они выйдут по зову Советов. По словам секретаря Петроградского совета профсоюзов Шмидта, рабочих сдерживали массовая безработица и страх увольнения. Шляпников добавил, что даже в профсоюзе рабочих-металлистов, где партия имела большое влияние, идея большевистского восстания не пользовалась популярностью и слухи о нем вызывали панику. Каменев сделал вывод: нет никаких показаний к тому, чтобы начать борьбу до 20-го (когда должен был собраться съезд Советов){161}.
Однако Ленин настаивал на необходимости немедленных приготовлений и не видел в осторожных докладах о настроениях петроградских масс аргументов в пользу задержки: для военного переворота, который он решил использовать для захвата власти, нужна была лишь небольшая военная сила, но хорошо вооруженная и организованная[9]. Позиции Ленина в партии были настолько сильны, что вышло так, как хотел он. Контррезолюция Зиновьева, запрещающая начинать само восстание до консультации с большевистскими делегатами съезда Советов, не была принята: проголосовали 15 против 6. Тем не менее такой разрыв в голосах (по сравнению с 19 против 2 за более туманный призыв Ленина устроить восстание в ближайшем будущем) показывает, что у нескольких большевистских лидеров были серьезные сомнения относительно целесообразности восстания перед съездом Советов. Но на открытое противостояние Ленину не отважился никто, кроме Каменева и Зиновьева. В конце совещания Каменев заявил, что не может принять эту резолюцию, которая, по его мнению, ведет партию к гибели, и объявил Центральному комитету, что уходит в отставку, чтобы начать собственную общественную кампанию. Он также потребовал созыва партийного совещания, однако Ленину удалось задержать его: почти не было сомнений в том, что совещание выступит против призыва к восстанию до проведения съезда. Восемнадцатого октября Каменев изложил свою позицию в газете Горького «Новая жизнь»: «…взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом». Тем самым он, конечно, выпустил кота из мешка: уже несколько недель распространялись слухи о большевистском восстании, и теперь они подтвердились. Троцкому пришлось опровергнуть их в Петроградском совете, но на этот раз он выглядел неубедительно. Ленин был в бешенстве и обличал Зиновьева и Каменева в большевистской прессе. Он не стеснялся в выражениях и в письмах от 18 и 19 октября, изобилующих словами «штрейкбрехеры», «предатели», «шулеры», «клеветники» и «преступление». «Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию», – писал он. «Господа» вместо «товарищи» было, конечно, самым страшным оскорблением{162}.
Когда всем стало известно о большевистском заговоре, лидеры Советов решили отложить съезд до 25 октября в надежде, что лишние пять дней позволят им организовать своих сторонников в далеких провинциях. Однако эта отсрочка лишь дала большевикам время для последних приготовлений к восстанию. Более того, она добавила правдоподобности заявлениям Ленина о том, что лидеры Советов хотели вовсе отказаться от проведения съезда. Он всегда доказывал, что захват власти был упреждающим шагом перед лицом опасности (преувеличенной или выдуманной) того, что Временное правительство не даст провести съезд. Все доклады партийцев на местах ясно показывали, что, хотя петроградские рабочие и солдаты не готовы были пойти по зову одной только партии, многие из них встали бы на защиту Советов, если бы тем что-то угрожало. Отсрочка проведения съезда стала как раз той провокацией, которая нужна была Ленину.
Почему он так настаивал на необходимости вооруженного восстания до съезда Советов? Все указывало на то, что время работает на большевиков: страна лежала в руинах, Советы склонялись влево, предстоящий съезд почти несомненно должен был поддержать призыв большевиков к передаче власти Советам. Для чего нужно было рисковать спровоцировать гражданскую войну, устраивая восстание, которое, как считали партийные активисты в Петрограде, было преждевременным? Другие известные большевики указывали на необходимость передачи власти одновременно с проведением съезда Советов – таковы были взгляды Троцкого и многих других членов Исполнительного комитета Петроградского совета. Их мнение было важно, так как они хорошо знали настроения в столице и в любом случае должны были играть в восстании ведущую роль. Хотя эти лидеры сомневались, что у партии достаточно массовой поддержки для того, чтобы своим именем организовать восстание, они думали, что оно может быть успешно поднято именем Советов. Поскольку большевики вели свою кампанию под лозунгом передачи власти Советам, говорили, что съезд был нужен им для легитимизации такого восстания: оно должно было казаться результатом работы всех Советов, а не одной партии. Выбрав такую линию, которая задержала бы восстание всего-то на несколько дней, Ленин мог бы заручиться поддержкой большинства членов партии против тех, кто, как Каменев и Зиновьев, был твердым противником восстания. Но Ленин был непреклонен: власть нужно захватить до съезда.
Свое нетерпение он оправдывал тем, что любое промедление с захватом власти даст Керенскому возможность организовать репрессивные меры. Петроград сдадут немцам. Правительство переведут в Москву. Съезд Советов запретят. Это, конечно, был вздор. Керенский был совершенно неспособен на такие решительные действия, и в любом случае, как заметил Каменев, правительство было беспомощно и не могло претворить в жизнь какие-либо контрреволюционные намерения. Ленин преувеличивал риск активного противодействия со стороны Керенского для того, чтобы придать силу своим собственным аргументам в пользу превентивного восстания. В прессе появились слухи, что правительство планирует эвакуировать столицу. Это, несомненно, укрепило Ленина в убеждении, что началась гражданская война и что победа достанется той из воюющих сторон, которая нанесет удар первой. «On s'engage et puis on voit»[10].
Однако у желания начать восстание до съезда Советов был и другой мотив, не имеющий никакого отношения к военной тактике. Если бы переход власти совершился согласно голосованию самого съезда, результатом, почти несомненно, стало бы коалиционное правительство, состоящее из всех партий. Большевики могли получить самое большое количество министерских портфелей, если бы их распределяли пропорционально, однако все равно им пришлось бы управлять в партнерстве, по крайней мере с левым крылом партий эсеров и меньшевиков, а возможно, и с этими партиями в целом. Это стало бы громкой политической победой Каменева, который, несомненно, оказался бы центральной фигурой в такой коалиции. Под его руководством основная власть принадлежала бы съезду Советов, а не партии. Возможны были бы новые попытки объединить большевиков и меньшевиков. Что касается самого Ленина, он мог бы остаться не у дел – либо по настоянию меньшевиков и эсеров, либо из-за его собственного нежелания пойти на компромисс с ними. Таким образом, он мог бы рассчитывать лишь на маргинальное левое крыло собственной партии.
С другой стороны, если большевики захватывали власть до съезда Советов, Ленин выходил на сцену как важная политическая фигура. Большинство на съезде, вероятно, одобрило бы выступление большевиков, таким образом дав партии право сформировать собственное правительство. Если бы меньшевики и эсеры смогли принять этот силовой захват власти как свершившийся факт, то в кабинете Ленина для них нашлось бы несколько второстепенных мест. В противном случае они могли лишь уйти в оппозицию, а правительство становилось полностью большевистским. Это сводило на нет усилия Каменева по созданию коалиции; Ленин получал диктатуру пролетариата, и, хотя в результате страна неминуемо скатывалась в гражданскую войну, Ленин принимал это – и возможно, даже приветствовал – как часть революционного процесса. Гражданская война была, с точки зрения Ленина, необходимой и важнейшей фазой в любой социальной революции, как углубление «классовой борьбы» в вооруженной стадии. Уже с июля он доказывал, что гражданскую войну начали силы правых и что захват власти следует видеть как вступление в борьбу пролетариата. Представлялось невозможным разрешить «классовую борьбу» политическими методами. Россия разделилась на враждующие лагеря – «военной диктатуры» и «диктатуры пролетариата», и вопрос заключался только в том, какая сторона одержит верх – «кто кого», как любил говорить Ленин. В этом ленинском сценарии вооруженное восстание являлось провокацией для меньшевиков и эсеров. Оно было в равной степени направлено и против Временного правительства, и против других партий, работавших в Советах, а также против тех в его собственной партии, кто готов был пойти на компромисс с ними в советском правительстве.
Появление Ленина в Смольном сыграло решающую роль. В классе 36 настроение, если верить присутствовавшим там большевикам, совершенно изменилось. С обороны они переключились на наступление, отдали приказ начать восстание и достали карты, чтобы спланировать главные направления атаки. К обеду удалось захватить вокзалы, почту и телеграф, государственный банк, телефонную станцию, полицейские участки и районы вокруг Зимнего дворца и Исаакиевской площади. Однако штурм Зимнего дворца, где в Малахитовом зале засели без надежды на спасение остатки кабинета Керенского, отложили сначала до 15 часов, а потом до 18 часов, после чего Военно-революционный комитет и вовсе перестал беспокоиться о каких-либо сроках. Ленина эти задержки приводили в бешенство: для него было чрезвычайно важно захватить власть до открытия съезда Советов. Около 15 часов он объявил переполненному залу на заседании Петроградского совета о свержении Временного правительства. Это, конечно, было ложью, но тот факт, что захват власти свершился, представлялся настолько важным для его политической стратегии, что Ленин готов был его придумать. Когда день перешел в вечер, он начал орать на командиров в Военно-революционном комитете, приказывая взять Зимний дворец без промедления. Подвойский позже вспоминал: «Он метался по маленькой комнате Смольного, как лев, запертый в клетку. Ему нужен был во что бы то ни стало Зимний»{163}.
Штурм начался по сигналу пушек с крейсера Балтийского флота «Аврора», стоявшего на якоре на Неве около Зимнего дворца. В 22.40, лишь только начали стрелять, в Большом зале Смольного наконец открылся съезд Советов. Большинство делегатов сидели в тужурках и шинелях – рабочие и солдаты. Неопрятные и немытые, они резко контрастировали со старыми членами Исполнительного комитета – меньшевиками и эсерами в чистых костюмах, заседавшими здесь в последний раз. Как заметил Суханов, «зал был уже полон… серой, черноземной толпой»{164}. Большевики не имели абсолютного большинства, хотя при поддержке левых эсеров они могли провести любое предложение. Согласно отчету мандатной комиссии, из 670 делегатов 300 составляли большевики, 193 – эсеры (из них больше половины левые эсеры), 82 – меньшевики (из них 14 интернационалисты). Мандаты делегатов указывали на преобладающее большинство в пользу правительства Советов. Каким быть этому правительству, предстояло решить съезду. Мартов предложил сформировать единое демократическое правительство на базе всех входивших в Совет партий. По его мнению, это был единственный способ предотвратить гражданскую войну. Предложение встретили овацией. Даже Луначарский признал, что большевики ничего не имеют против этого предложения: они не могли отказаться от лозунга «Вся власть Советам!». Предложение немедленно и единогласно одобрили.
Однако едва стало казаться, что вот-вот будет сформирована социалистическая коалиция, как пришли новости о вооруженном штурме Зимнего дворца и аресте министров Керенского. Делегаты от меньшевиков и эсеров стали обличать штурм как преступные действия, которые, по их мнению, должны были погрузить страну в гражданскую войну, и многие из них в знак протеста покинули зал. Когда они выходили, делегаты-большевики топали ногами, свистели и выкрикивали оскорбления. Спланированная Лениным провокация – упреждающий захват власти – удалась. Покинув съезд, меньшевики и эсеры свели на нет все надежды на достижение компромисса с умеренными большевиками и на формирование коалиционного правительства из всех партий, работавших в Совете. Путь для диктатуры большевиков на базе Совета теперь был свободен. Именно к этому, несомненно, и стремился Ленин.
Несложно понять, почему меньшевики и эсеры повели себя в изменившейся политической атмосфере того момента именно таким образом. Однако невозможно и не заметить, что своими действиями они подыграли Ленину. Суханов признал это в 1921 г.: «Этого мало: мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив им целиком всю арену революции. Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех… Уходя со съезда, оставляя большевиков с одними левыми эсеровскими ребятами и слабой группкой новожизненцев, мы своими руками отдали большевикам монополию над Советом, над массами, над революцией. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей линии Ленина…»{165}
В результате этого бойкота оппозиционные силы разделились, оставив Мартова и других левых сторонников советской коалиции в одиночестве противостоять усилиям Ленина установить диктатуру. Мартов еще раз отчаянно призвал сформировать правительство из всех демократов. Однако настроение в зале менялось. В глазах массы делегатов меньшевики и эсеры, бойкотируя съезд, показали себя «контрреволюционерами». Теперь делегаты готовы были последовать примеру большевиков, противящихся любому компромиссу с меньшевиками и эсерами. Троцкий взял инициативу и произнес речь (она стала одной из наиболее часто цитируемых в XX в.), в которой обличил резолюцию Мартова о коалиции: «Наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение. С кем? Я спрашиваю, с кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда или которые делают это предложение? Но ведь мы видели их целиком. Больше за ними нет никого в России. С ними должны заключить соглашение, как равноправные стороны, миллионы рабочих и крестьян… Нет, тут соглашение не годится… вы – жалкие единицы, вы – банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории!»{166}
В порыве гнева Мартов выкрикнул (и, наверное, это мучило его всю оставшуюся жизнь): «Тогда мы уйдем!» С этими словами он вышел из зала – и вошел в политическое небытие. Было два часа ночи, и Троцкому, выполнявшему то, что задумал Ленин, оставалось только принять резолюцию, осуждающую «предательские» попытки меньшевиков и эсеров подорвать советскую власть. Эта резолюция, по существу, поставила на большевистской диктатуре печать: одобрено Советом. Масса делегатов, вероятно, не понимавшая значения того, что они делают (разве они не за власть Советов?), подняла руки в поддержку резолюции Троцкого.
Однако была еще одна возможность заставить Ленина принять правительство с участием всех партий, входивших в Совет. Двадцать девятого октября (11 ноября по н. ст.) силы, верные правительству Керенского, сражались с Красной гвардией и на окраинах Петрограда, и в центре Москвы. Всероссийский исполком Союза железнодорожников (ВИКЖЕЛЬ) опубликовал ультиматум с требованием, чтобы большевики начали переговоры с другими социалистическими партиями с целью сформировать однородное социалистическое правительство. В противном случае они угрожали остановить все движение на железной дороге. У правительства Ленина не было шанса выжить, если бы в столицу перестали доставлять продовольствие и топливо. От железных дорог зависела и военная кампания против сил Керенского в Москве и Петрограде. Даже Ленин понимал, что без победы в Москве большевикам не удержаться у власти. Переговоры между партиями должны были продолжиться. Каменева уполномочили представлять партию на этих переговорах. Правое крыло партий меньшевиков и эсеров, уверенное в том, что большевистский режим долго не продержится, выдвинуло четкие условия своего участия в любом правительстве: министров Керенского следовало выпустить на свободу, Военно-революционный комитет распустить, Петроградский гарнизон передать под контроль Думы, допустить Керенского к участию в формировании правительства, а Ленина, напротив, в правительство не включать. Их позиция смягчилась, когда наступление Керенского на Петроград провалилось. Они предложили свое участие в коалиции с большевиками при условии, что будет расширено руководство Совета. Каменев согласился, легковерно предположив, что большевики не будут настаивать на присутствии Ленина и Троцкого в кабинете. Однако Ленин и Троцкий были настроены иначе. Они с самого начала были против переговоров с ВИКЖЕЛем и согласились на них только под угрозой военного поражения. Теперь же, когда войска Керенского потерпели поражение и бои за Москву приближали большевиков к победе, они занялись подрывом межпартийных переговоров. На заседании Центрального комитета 1 ноября Троцкий осудил компромисс, на который согласился Каменев, и потребовал для партии большевиков по меньшей мере три четверти мест в кабинете. Не было смысла «организовывать восстание, если у нас не будет большинства», доказывал он{167}. Ленин выступал за то, чтобы вовсе отказаться от переговоров, и потребовал арестовать лидеров ВИКЖЕЛя как «контрреволюционеров» – это была провокация, направленная на срыв переговорного процесса. Несмотря на возражения Каменева, Зиновьева и других, Центральный комитет согласился представить требование Троцкого как ультиматум в переговорах и выйти из них, если этот ультиматум будет отвергнут. Ленин и Троцкий прекрасно понимали, что эсеры никогда не пойдут на их условия. Захват власти непоправимо расколол социалистическое движение в России, и никакие переговоры не могли помочь преодолеть возникшую пропасть. Переговоры с ВИКЖЕЛем провалились.
Не исключено, что коалиционное советское правительство в принципе не могло быть создано. Перед самым корниловским мятежом был короткий период, когда такая возможность существовала, если бы только меньшевики и эсеры демонстративно порвали с кадетами. Это был момент, когда Ленин готов был смириться с тактикой Каменева и других социалистов. Однако уже с середины сентября он нацелился на захват власти. Восстание должно было вбить клин между большевиками (защитниками «революции») и теми социалистами, которые им противостояли («контрреволюционерами»), а также кадетами, монархистами и белогвардейцами.
Без восстания большевиков осталась бы в силе резолюция Мартова, и 25 октября было бы учреждено правительство, состоящее из всех представленных в Совете партий. Ожесточенные политические трения между социалистами сделали бы эту коалицию нестабильной и сложной. Без сомнения, много конфликтов возникло бы вокруг отношений между советским правительством, Учредительным собранием и другими демократическими органами, например Думой. Ленин был бы настроен против любой коалиции с правыми эсерами и меньшевиками, которая могла бы расколоть большевиков. По всей вероятности, в любом случае произошла бы гражданская война, но не такого масштаба, как тот военный конфликт, который охватил Россию с 1917 по 1922 г. Хотя Керенский и Белая гвардия непременно организовали бы вооруженное сопротивление советскому правительству, их сил хватило бы ненадолго. Печать исторической неизбежности лежит на событиях с момента Октябрьского восстания и до момента установления диктатуры большевиков, до Красного террора и гражданской войны, со всеми ее последствиями для советского режима. Однако сама победа Ленина 25 октября была результатом случайности. Если бы «безобидного пьяницу» узнал верный правительству патруль, история могла бы сложиться иначе.
8. Недолгая жизнь и ранняя смерть русской демократии: Дума и учредительное собрание Январь 1918 г. Тони Брентон
ПРЕДЫСТОРИЯ
В России отсутствует долговременная демократическая традиция. Пока в Европе зарождались первые совещательные и представительные институты, русские земли находились под деспотичной властью татаро-монголов (1237–1480 гг.). Новгород Великий – наиболее часто упоминаемый пример средневекового русского города, в котором гражданские свободы приближались к западным аналогам, – подчинившись в 1478 г. Москве, моментально этих свобод лишился (а 100 лет спустя, при Иване Грозном, недостаточно покорные жители города подверглись истреблению). В течение всего периода царизма титул глав государства звучал так: «Божией милостию, Великий Государь и Всея Руси Самодержец…», и это были не просто красивые слова. Русские цари правили поистине самодержавно. Они обладали властью над жизнью и смертью людей, и ее не ограничивали никакие независимые судебные или законодательные инстанции. Путешественников из Европы, посетивших Россию в XVI и XVII вв., поражала готовность даже самых могущественных аристократов унижаться перед своим правителем. Те из государей, кто хотел модернизировать Россию, – в особенности Петр I – видели в самодержавии средство для этого. Петр сделал крестьян крепостными, а дворян – слугами государства. Общество стало казармой, православная церковь – государственным институтом. Даже Екатерина Великая, просвещенная германская принцесса, отказалась от идеи конституционного государства, устало заметив по этому поводу: «Я буду самодержицей: это моя должность. А Господь Бог меня простит: это его должность»{168}. При царизме в ходу была метафора, изображавшая царя отцом часто непослушных, но, в общем, любящих детей.
На протяжении большей части XIX в. российская идеология ориентировалась на лозунг «За Веру, Царя и Отечество». Лишь к середине того столетия «царю-освободителю» Александру II удалось упразднить систему, согласно которой подавляющее большинство русских людей находились либо в прямой собственности государства, либо в собственности помещиков. Александру удалось также ввести ограниченный вариант местного самоуправления. Если говорить о необычайно интересных «а что, если…» в истории, то в 1881 г. Александр также двигался в сторону создания органов с ограниченным представительством в центральном управлении. Правда, речь не шла о конституционной монархии, что означало бы серьезное ограничение царской власти. Инициатива, однако, была сведена на нет убийством царя. Его наследники уверились в том, что единственным способом править Россией является самодержавие. Так что, когда в 1894 г. на престол взошел внук Александра Николай II, он унаследовал и титул, и власть «неограниченного автократа». Слова его военного министра много говорят о представлениях Николая на этот счет: «Только перед Богом и Историей самодержцы ответственны за пути, которые они выбирают на благо своего народа»{169}.
Тем временем на протяжении XIX столетия в Европе все активнее требовали представительного правления и расширения прав, и это не могло не влиять на Россию. Однако если в других странах правительства шли на определенные уступки, то в России с ее принципом автократии любые подобные предложения встречали со стороны режима жесткий отпор. Там была самая жестокая цензура (что интересно, через нее проходили все великие произведения русской литературы) и политический контроль. Имелся разветвленный репрессивный аппарат, ссылавший в Сибирь и время от времени казнивший. Результатом стала чрезвычайная радикализация оппозиции, за что страна дорого заплатила в 1917-м. Глубоко недовольная интеллигенция стала враждебно относиться к режиму и всему, что он собой олицетворял, а незначительная ее часть обратилась к террору. Именно террористическое движение «Народная воля», стоявшее за убийством Александра II, начало призывать образовать «всенародное Учредительное собрание» – орган, созданный путем свободных выборов из представителей всех слоев населения, который мог положить начало демократическому устройству в России. Образцом послужило Учредительное собрание 1789–1791 гг., времен Великой французской революции, у которой многое почерпнула революция русская{170}.
Идея Учредительного собрания стала популярна среди оппозиции в последние годы XIX столетия, хотя в ней и присутствовали определенные местные нюансы. Либеральные правые были более заинтересованы в постепенном продвижении в сторону парламентского правления (в сотрудничестве с монархией), а крайние левые (в первую очередь лидер ранних марксистов Георгий Плеханов) не скрывали, что такое собрание оправданно лишь в том случае, если поддерживает дело социалистической революции (таким образом появился текст, который позже использовал Ленин).
В день Кровавого воскресенья Учредительное собрание стало символом для всех, кто добивался перемен. Год, предшествовавший этому, стал для России кризисным. Военное поражение от Японии, голод в сельской местности, ужасные условия труда растущего рабочего класса – все это придало новую силу требованиям реформ, в том числе внедрения представительства в управление страной. В декабре 1904 г. Николай отверг это требование, сказав одному из своих министров: «Я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа»{171}.
Вскоре после этого, в воскресенье 9 января 1905 г., в Петербурге собралась огромная демонстрация из безоружных рабочих и их семей. Многие оделись в лучшую, воскресную одежду. Толпа несла транспаранты, на которых было написано, что люди задыхаются от деспотизма и требуют сформировать Учредительное собрание. Войска, не ожидавшие ни такого количества демонстрантов, ни такой их решимости, открыли по людям огонь. Жертвы исчислялись сотнями.
Образу Николая – «отца народа» – был нанесен невосполнимый ущерб. В глазах многих он стал не просто жестоким тираном. На месте массового убийства один из лидеров демонстрации, священник Гапон, заявил: «Нет больше Бога, нету больше царя»{172}. Сотни тысяч рабочих начали забастовку. Пришлось закрыть университеты. Началось восстание в Польше, бунты среди крестьян и, что было еще опаснее для режима, мятежи в военных частях. Николаю пришлось пойти на серьезные уступки: упразднить цензуру, гарантировать личные и политические права. И как суррогат Учредительного собрания Россия получила свой первый национальный представительный орган – Государственную думу.
ДУМА
Первый российский эксперимент – попытка дать народу роль в правительстве – с самого начала столкнулся с огромными трудностями. Пропасть между реформаторами и режимом была слишком велика. Николай твердо вознамерился не уступать никаких из своих прерогатив. В законе о создании Думы царь величался «Верховным Государем» и осторожно обходилось опасное слово «конституция». Николай считал, что само существование Думы зависело от его автократического каприза. Хотя номинально Дума располагала значительной властью (в первую очередь над финансами правительства), царь сохранил контроль над назначением министров, право вето, право расформировать Думу и принимать чрезвычайные законы, когда она не заседала. Более того, выборы были организованы так, чтобы собрание поддерживало существующий порядок – один дворянский голос был равен 45 голосам рабочих или 15 голосам крестьян (которых, таким образом, считали более лояльными режиму). И все же на Думу возлагались большие надежды. Сергей Витте – самый способный из николаевских министров, который как раз и убедил царя согласиться на Думу, намекнув ему, что иначе начнется революция, – с уверенностью ожидал, что со временем Дума эволюционирует в настоящий российский законодательный орган{173}.
Выборы прошли в апреле 1906 г. Левые бойкотировали их, и это внушило режиму надежду на приемлемые результаты. Тем не менее исход выборов стал ударом для властей. Более половины членов нового органа составили «полуграмотные» крестьяне – простые, грубые, не выказывавшие никакого классового почтения, какого ожидала от них петербургская бюрократия. Наблюдавший все это аристократ с ужасом писал: «Это было собрание дикарей. Казалось, что Русская Земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы»{174}. Вместо того чтобы, как планировалось, сосредоточиться на государственных делах, Дума посвящала время рассмотрению требований радикальных реформ, например полномасштабной экспроприации не принадлежавшей крестьянам земли, контроля над правительством, всеобщего избирательного права для мужчин. Эти требования выдвигались на фоне царившего по всей стране кризиса, беспорядков среди крестьян и терроризма. В конце июня взбунтовалась даже элитная военная часть – Преображенский гвардейский полк. Многие считали, что режим обречен. Восьмого июля Николай отправил войска, чтобы распустить Думу. Она заседала всего 72 дня. Тогда же он назначил премьер-министром «авторитарного модернизатора» – Столыпина.
Наведя порядок в обществе путем широкого использования «столыпинских галстуков» – виселиц, Столыпин начал фундаментальные реформы сельского хозяйства, в которых он видел ключ к модернизации России. Ему, как он считал, была нужна более широкая политическая поддержка, чтобы удержать на своей стороне ненадежного и часто колеблющегося царя. Ему необходимо было также международное финансовое доверие к России, которое поколебал роспуск Первой думы. Поэтому в феврале 1907 г. Столыпин организовал выборы Второй думы и много трудился, чтобы получить нужный ему результат, однако потерпел неудачу. На этот раз радикальные партии не бойкотировали выборы и были избраны с большим преимуществом. Программа их заключалась лишь в том, чтобы сделать Думу нерабочей и таким образом расчистить путь настоящему Учредительному собранию. Вторая дума была распущена в июне 1907 г., просуществовав только три месяца. Это событие вошло в историю под названием «столыпинский переворот». Уже через два дня появился новый избирательный закон, изменивший соотношение сил в Думе в пользу Николая и Столыпина{175}.
Третья дума, избранная в 1907 г. при намного более жестких ограничениях, имела в своем составе подавляющее большинство аристократов и землевладельцев, так что была прозвана Думой господ и слуг. Тем не менее в течение короткого времени она играла более значительную роль в формировании политики, чем ее недолговечные предшественницы. Столыпин, не брезгуя дачей взяток и манипулированием прессой, стал заручаться в Думе поддержкой, чтобы уравновесить деятельность реакционеров режима. Поначалу эта тактика приносила успех, и ему удалось провести ряд реформ. Затем, однако, попытки реформ стали увязать в спорах конкурирующих фракций. Призывы Столыпина создать организацию, которую, как считали многие из окружения царя, создавать вообще не стоило и уж точно не стоило наделять реальной властью, привели к тому, что в последний период своей жизни он утратил влияние на Николая. А в 1911 г. Столыпин был убит{176}.
После его смерти попытки использовать Думу для оказания влияния на политику правительства прекратились. Третья дума, проработавшая полный срок до 1912 г., и последовавшая за ней Четвертая предпочли позицию брюзгливого угодничества. Они покорно одобряли предложенные правительством законы, при этом широко обсуждая недостатки царского режима. Например, в 1912 г. именно дебаты в Думе после расстрела бастующих в Сибири спровоцировали 1 мая волну протестов по всей стране. В этот период вокруг Николая шла активная дискуссия о том, чтобы закрыть Думу или сделать ее исключительно совещательным органом. Эти идеи не были претворены в жизнь из-за боязни народных волнений. И даже в это сложное время Дума сыграла крайне важную – и разрушительную – роль. Ее непрестанная и навязчивая антигерманская риторика помогла создать атмосферу агрессивного национализма, побудившую Николая вступить в войну с Германией в августе 1914-го. После чего Дума еще более утвердилась в своем беспомощном верноподданичестве, чтобы не утруждать царя «ненужной политикой»{177}.
Война в конечном итоге положила конец Думе как реальной силе в управлении Россией. Неадекватная, закостенелая государственная машина не справлялась с вызовами военного времени. Проходили месяцы без обещанной быстрой победы, нападки на Думу усиливались. В 1915 г. она была повторно созвана для одобрения бюджета, но затем снова поспешно распущена, чтобы не вызывать шквал критики. Однако новости с фронта становились все неутешительней, и было ясно, что режиму нужна более широкая политическая поддержка, чтобы справиться с проблемами производства и снабжения, которые были самым слабым местом российской военной кампании. Для решения этих проблем в июле 1915 г. было учреждено несколько советов, в том числе и с участием членов Думы. Казалось, что правительство наконец-то приняло Думу как законную и даже полезную составляющую государственного управления.
Но в этот период, 19 июля 1915 г., Николай решил созвать ее в полном составе. Тут-то и наступил крах{178}. Дума сплотилась в критике неспособности режима эффективно вести войну и в решимости получить больший контроль над ситуацией. Она потребовала – и получила на это одобрение большинства николаевских министров, – чтобы Николай назначил министра национальной безопасности, который был бы подотчетен Думе. В ответ Николай, на которого огромное влияние имела супруга Александра (а та ненавидела Думу и постоянно настаивала, чтобы Николай использовал свою власть самодержца), в сентябре распустил Думу. После этого все пошло наперекосяк. Одним из многочисленных неудачных решений, принятых Николаем, было возвращение в Ставку: он хотел лично командовать армией. Правительство осталось в руках «немецкой» царицы, за которой стояла тень Распутина. Множились слухи об измене на самом верху. Правительство погрузилось в неразбериху. За период «правления царицы» с сентября 1915 г. по февраль 1917 г. сменилось четыре премьер-министра, пять министров внутренних дел и по три министра вооруженных сил и иностранных дел. Говорили, что Распутин берет огромные взятки и устраивает дебоши с петроградскими аристократками. Самые дикие слухи, конечно, были неправдой, однако они заметно подорвали популярность режима{179}.
К ноябрю 1916 г. ситуация ухудшилась настолько, что Николай встал перед необходимостью вновь созвать Думу. Последовали бурные заседания, и во время одного из них лидер думских либералов Павел Милюков, говоря о политике властей, задал ставший впоследствии крылатым вопрос: «Что это – глупость или измена?» В этот раз Дума вела себя непокорно как никогда прежде и отправила-таки премьер-министра в отставку{180}. На самом деле только теперь она могла похвастаться многими чертами настоящего парламента. Ее членов защищал парламентский иммунитет, так что Дума могла стать местом выражения общественного мнения, в особенности критики режима Романовых. Эта критика в результате подорвала авторитет царя среди элиты, общественности и вооруженных сил. Николай пошел на небольшие уступки, например, назначил нескольких министров из числа членов Думы, однако этого было явно недостаточно для борьбы с растущим недовольством. Окончательный крах наступил в Петрограде в середине февраля. Перебои в снабжении хлебом (изначально вызванные очень холодной погодой) привели к уличным демонстрациям, начавшимся 13 февраля. Они случайно совпали с новым созывом Думы 14 февраля. Дума возобновила свои нападки на режим. В течение трех следующих дней ситуация стремительно ухудшалась. Демонстрации стали более массовыми и сопровождались насилием. Впервые со дня Кровавого воскресенья – а прошло уже 12 лет – войскам был отдан приказ стрелять по толпе. Николай, находившийся очень далеко, в могилевской Ставке, объявил о роспуске Думы. Двадцать восьмого февраля значительная часть военного гарнизона Петрограда начала мятеж, присоединившись к восставшим. Огромная толпа собралась у Таврического дворца, где заседала Дума. Бунтующие требовали, чтобы она взяла на себя функции правительства. Это стало моментом истины для Думы как института. Она прошла большой путь от незаметного, слабого органа управления и за последние полгода стала местом всероссийских дискуссий, обрела влияние на действия правительства. Теперь ей предстояло испытание историей: сумеет ли она взять бразды правления страной, которые так очевидно выпустил из рук покинувший столицу Николай, или же оставит их кому-то еще?
Испытание это Дума смогла пройти лишь наполовину. У дверей собралась разъяренная толпа, а умеренные члены Думы не решались ответить на их требования. Формальным оправданием им служило то, что царь распустил Думу и они не могли ничего предпринять без его дозволения. Однако на деле им мешал страх перед лицом пьяной «черни», бунтующей на улицах. В то же время радикально настроенные члены Думы, возглавляемые адвокатом с левыми взглядами Александром Керенским, настаивали на том, что для Думы настал звездный час: она должна бросить вызов царю и возглавить революцию. Развязкой стал некрасивый компромисс: образование без формального согласия Думы Временного комитета (Комитета членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями). Само название этого органа подчеркивает колебания многих людей в руководстве Думы, парализованных страхом перед улицей, относительно принятия Думой на себя функций правительства.
Много позже, в эмиграции, Керенский писал, что Дума сама подписала себе смертный приговор. Она умерла утром 28 февраля, на пике своей силы и популярности{181}. Керенский, ставший последним лидером доленинской России, конечно, имел особое отношение к событиям, произошедшим между февралем и октябрем 1917-го. Однако здесь вступает в игру альтернативная история. Если бы Дума все-таки собралась вечером 27 февраля, как могли бы пойти события?
Не исключено, что при смелом и умном руководстве лидеры Думы смогли бы в конце концов заручиться поддержкой петроградской улицы и утвердиться в качестве органа государственной власти – на основании того, что ни у кого другого таких прав, как у Думы, не было. Она имела одно важное преимущество: именно из-за ее непредставительного состава ей доверяло офицерское сословие и бюрократия. Начальник штаба армии Алексеев 1 марта не повиновался приказу Николая послать в Петроград войска для подавления беспорядков главным образом потому, что председатель Думы Родзянко заверил его: власть перейдет к Думе{182}. И если бы Дума сумела заявить о своих правах на власть, последующая русская история, без сомнения, могла быть другой.
Однако есть серьезные причины сомневаться в том, что Дума смогла бы долго продержаться во власти. Пока там обсуждались несущественные вещи, у нее уже появился серьезный соперник – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, беспорядочное сборище делегатов местных фабрик и полков. У этого мотора было мощное топливо: классовая ненависть, революционная злоба и (среди солдат) отвращение к фронту. В Совете доминировали левые партии; большевики, сначала бывшие в меньшинстве, становились все более влиятельными – они были единственной партией, требовавшей немедленного мира. У Петроградского совета, разумеется, не было настоящей демократической легитимности, однако был один важнейший источник власти: в хаотичный послефевральский период он был представителем наводящей ужас петроградской толпы и при необходимости использовал ее так, как никогда не смогла бы респектабельная буржуазная Дума. Руководство Думы не имело достаточно храбрости, чтобы выйти победителем из сколько-нибудь продолжительного конфликта с этими силами. Симпатизировавший Думе современник позже описал эту борьбу как конфликт, обративший разумные и умеренные, но при этом робкие и неорганизованные элементы общества, привыкшие к повиновению и не способные командовать, против организованной маргинальности с ее узкомыслящими, фанатичными и зачастую бесчестными главарями{183}.
Опасаясь толпы, Временный комитет считал необходимым договариваться с Советом об условиях передачи власти, так что очевидным образом ставил себя в зависимое положение. Результатом стало создание 2 марта Временного правительства. Оно состояло в основном из самых либеральных политиков Думы. «Временным» его называли потому, что видели в нем временный вариант, который должен действовать до тех пор, пока не будет сформировано нечто более легитимное. Несомненно, с самого начала у этого правительства было два очень слабых места. Настоящая власть на улицах Петрограда и других больших городов принадлежала Советам и их аналогам, которые быстро возникли по всей стране. У Временного правительства было мало формальной легитимности. Оно было «незаконнорожденным ребенком» абсолютно непредставительной и уже распущенной Думы (которая, по словам Родзянко, теперь просто ушла в небытие, так как ее члены были не готовы к энергичному сопротивлению{184}). Когда было объявлено, что главой правительства стал князь Львов, солдат из толпы прокричал, что им удалось всего-то сменить царя на князя{185}. Когда же перед толпой появился новый министр иностранных дел, раздались выкрики: «Кто тебя выбрал?»{186}
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Ответ на этот вопрос лежал в программе из шести пунктов, которую Временное правительство в конце концов выработало совместно с Петроградским советом. Обе стороны сошлись на том, что Россия нуждается в как можно скорее надлежащим образом избранной основе для формирования легитимного правительства. Таким образом, пункт 4 программы призывал к немедленным приготовлениям для созыва Учредительного собрания, которое должно быть избрано всеобщим, тайным, прямым и равноправным голосованием. То, о чем Россия мечтала уже 30 лет, – настоящий демократический орган управления – казалось, вот-вот должно было появиться.
Очень скоро стало ясно, что Учредительному собранию отводится главная роль. В те дни, когда в Петрограде боролись политические силы будущего, на железнодорожных станциях запада России разыгрывался довольно грустный спектакль. Царь, отрезанный из-за транспортных проблем от столицы и испытывающий трудности с телеграфной связью, 2 марта получил от Родзянко совет отречься от престола. Его главные генералы поддержали эту позицию, так что у царя почти не осталось выбора. Законным наследником престола был его страдавший гемофилией 12-летний сын Алексей. Однако Николай – заботливый отец семейства и, до последнего, недалекий политик – беспокоился о здоровье Алексея и решил передать корону не ему, а собственному брату Михаилу Александровичу. С трудом удерживающиеся на своих позициях власти в Петрограде еще могли согласиться на то, чтобы трон отошел законному наследнику – мальчику со слабым здоровьем, однако произвольная замена его зрелым, обладающим военным опытом великим князем выглядела совсем иначе. И было совершенно не ясно, как отнесется к сохранению монархии толпа. Михаил сразу решил уйти от ответственности и 4 марта опубликовал манифест, предоставляя Учредительному собранию право принимать все решения о будущем династии Романовых, в том числе о том, кому носить корону.
С самого начала приготовления к созыву Учредительного собрания считались главным и самым срочным делом в работе Временного правительства. Важнейшие его решения либо расценивались так же, как временные, либо откладывались до момента созыва Собрания. О его создании глава Временного правительства говорил как о «важнейшей священной задаче»{187}. На одном из ранних координационных совещаний между Петроградским советом и Временным правительством обе стороны подчеркнули, что Собрание должно быть созвано как можно скорее. В «мартовском», полном эйфории настроении после Февральской революции все политические партии воспринимали Учредительное собрание с огромным энтузиазмом. Они настаивали на том, что работа по подготовке должна завершиться как можно скорее. Надеялись, что Собрание будет созвано через три-четыре месяца, т. е. в июне.
Однако уже ощущались политические и организационные трудности. В большой, все еще воюющей стране разработать выборные законы, составить списки избирателей и организовать выборные пункты было сложнейшей задачей. Все это нужно было делать на базе органов местного управления, которые в тот момент сами претерпевали радикальные изменения. Эта ситуация давала политическим фракциям, у которых имелись причины не желать проведения выборов, поводы задерживать их. Партия эсеров, представлявшая в основном крестьян, не хотела, чтобы выборы провели до осени, так как нужно было убирать урожай. Тем временем правые партии были рады задержке, поскольку надеялись, что «бушующее море революции» успокоится. По иронии, понятной в свете последовавших событий, именно большевики активнее других настаивали на ускорении приготовлений, обвиняя другие партии в том, что они не стремятся к демократии{188}.
Дело увязло в трудностях. Только в мае политические партии договорились о главных принципах организации выборов (тайном голосовании, пропорциональном представительстве и всеобщем избирательном праве). После этого, однако, они учредили необычайно неповоротливый, размером почти с парламент, специальный совет из адвокатов, чтобы превратить эти договоренности в закон о выборах. По разработанному к июню расписанию выборы должны были быть проведены 17 сентября, а Учредительное собрание – начать работать 30-го. Однако, как отмечала в июне одна из газет в статье под заголовком «Последний шанс», в этом случае шла борьба двух принципов – принципа максимального совершенства и принципа наибольшей скорости. Два месяца назад, несомненно, превалировал первый принцип. Теперь же настала очередь второго{189}. По мере того как Февральская революция уходила все дальше в прошлое, слабел и всеобщий энтузиазм по поводу Собрания. Другая газета в то же самое время выражала от лица многих людей беспокойство: доплывет ли государственный корабль до порта Учредительного собрания? Удастся ли Временному правительству и народовластию сохранить единство государства до появления правителя?{190}
Так называемые «июльские дни», в которые Временное правительство чуть не стало жертвой большевистского восстания, одновременно остановили движение вперед и сделали срочный созыв Собрания еще более актуальным. Реакция правительства последовала в середине июля: оно требовало от различных органов удвоить усилия для соблюдения сроков. Социалистические партии требовали, чтобы выборы были ускорены. К этому времени уже было ясно, что поставленные сроки нереалистичны. На местные выборы и опубликование выборных листов отводилось 40 дней. Затем следовали выборы в Учредительное собрание. Это просто невозможно было осуществить до середины сентября{191}. Либералы отнеслись к этому довольно спокойно: обострение революции означало, что им не добиться успеха на выборах, когда бы они ни проводились. Социалистические партии убедить было сложнее, однако 9 августа они наконец тоже дали фатальное для них согласие на то, что выборы будут перенесены на 12 ноября. Учредительное собрание должно было начать заседать 28-го{192}.
Временное правительство, все восемь месяцев своего существования с трудом выживавшее в условиях кризиса, видело, что Совет приобретает все большее влияние. Мучения Временного правительства закончились с большевистским переворотом 27 октября. На смену ему пришел Совет народных комиссаров (Совнарком) под руководством Ленина, чей авторитет поначалу совсем не казался непререкаемым. Для оппозиционных партий переворот только усилил значение предстоящих выборов в Учредительное собрание: настанет момент, когда демократически избранный орган примет власть у никем не избранных большевиков. До переворота и среди самих большевиков шли дискуссии об отношении партии к Учредительному собранию. Ленин активно отстаивал ту точку зрения, что советская власть должна всегда преобладать над «буржуазной демократией»{193}. Однако официальной позицией большевиков была твердая поддержка Учредительного собрания. Большевики настаивали на том, что только им можно доверить сформировать Учредительное собрание: они сделают это так, как не сможет контрреволюционное Временное правительство. Сознавая неустойчивость своего положения, большевики, несмотря на противостояние Ленина, придерживались этой позиции и после переворота. Совнарком даже издал декрет о том, что останется у власти лишь до созыва Собрания. Но, по мере того как шли приготовления к выборам, большевики все усиливали свою хватку. Выборы начались 12 ноября. В огромной стране голосование заняло почти две недели. Имели место небольшие нарушения; оккупированные территории проголосовать не могли, так как война все еще шла. Тем не менее процедура была на удивление чисто и хорошо организована. Это были первые в российской истории свободные выборы – и единственные, по крайней мере еще на 70 лет. Проголосовало более 40 млн человек – около половины от имеющих избирательное право.
После Октябрьского переворота многие оппозиционные партии пытались превратить выборы в референдум о большевистском режиме. До некоторой степени им это удалось: этот референдум большевики проиграли. Им досталось около четверти голосов (хотя с большим перевесом в некоторых ключевых местах – более 70 % голосов солдат как в Москве, так и в Петрограде). Что неудивительно для аграрной страны, победителем стала крестьянская партия – эсеры. Проиграли правые либералы – кадеты, получившие меньше 8 %, а ведь именно в них большевики видели главную угрозу из-за высокого процента голосов за них в крупных городах.
Большевистский режим столкнулся с серьезной проблемой: у Учредительного собрания будет демократическая легитимность, которой нет у них. Они только успели прийти во власть и теперь вот-вот окажутся за дверью? С таким поворотом событий они мириться не собирались. Еще до окончания подсчета голосов Совнарком объявил, что открытие Учредительного собрания, назначенное на 28 ноября, откладывается на неопределенное время. Согласно заявлению Совнаркома, в процессе голосования имели место «злоупотребления», которые могли стать основой для проведения повторных выборов. Совнарком потребовал расследования этих «злоупотреблений». Небольшевики ответили на это организацией Союза защиты Учредительного собрания. Двадцать восьмого ноября, в день, когда Собрание должно было начать свою работу, они провели большую демонстрацию и устроили его символическое открытие в Таврическом дворце, где оно должно было размещаться.
Большевики ответили жестко. Таврический дворец окружили войска, демонстрантов объявили контрреволюционерами. И, как намек на то, чего следовало ждать от большевиков дальше, была запрещена ведущая правая партия – кадеты. Ее лидеров арестовали, печатные станки уничтожили. Тот факт, что примерно в это же время – 7 декабря – была образована ЧК, не является совпадением. Так появилась советская тайная полиция, работавшая вне закона и ставшая прямой предшественницей КГБ.
Но решения о том, что делать с Учредительным собранием, все еще не было. По словам одного консервативно настроенного наблюдателя, Учредительное собрание стало для большевиков костью в горле{194}. Их положение было пока слишком ненадежно, а партия внутри слишком неоднородна для того, чтобы отодвинуть в сторону результат более чем 30-летнего ожидания и 40-миллионного голосования. К 12 декабря Ленин нашел решение. Он заявил, что выборы не имели законной силы, так как со времени их проведения в общественном мнении произошли изменения. Необходимо решительно бороться против контрреволюционных настроений сторонников Учредительного собрания. Собрание может быть созвано, однако его члены должны быть отозваны и назначены повторно местными Советами (мандаты на оппозиционных депутатов следовало постепенно исключить). Был установлен кворум в 400 из 800 членов (это означало, что теперь, когда партия кадетов была запрещена, Собрание оставалось без кворума, если большевики покидали зал заседаний). То есть теперь Собрание могло проводить только политику, продвигаемую Советами, в которых доминировали большевики{195}.
Созыв Собрания назначили на 5 января 1918 г. В течение четырех недель до созыва велась интенсивная пропаганда как сторонниками Собрания, так и его противниками. Союз защиты Учредительного собрания агитировал в казармах и на фабриках, печатал сотни тысяч экземпляров листовок и газет, подчеркивая демократический характер Собрания и доказывая, что оно не является антисоветским. Большевики писали об опасности того, что Собрание будет захвачено контрреволюционерами. Практическим шагом с их стороны стало объявление в Петрограде военного положения и ввод в город к 5 января верных им войск.
В этот день Петроград превратился в военный лагерь. Особенно много войск было в районе Таврического дворца. Сторонники Собрания организовали многолюдную демонстрацию, члены которой начали марш по направлению ко дворцу, однако сразу оказались под огнем: впервые большевики использовали войска против безоружных демонстрантов. Тем временем Ленин, по свидетельству одного из соратников смертельно бледный и взволнованный, с горящими глазами{196}, руководил операцией из дворца. Когда стало ясно, что демонстрация разогнана, он разрешил Учредительному собранию начать заседание. Обстановка была близка к хаосу. Депутаты-большевики все вместе перекрикивали любого, кто начинал говорить. Коридоры и балконы были полны солдат, многие из них были пьяны. Чтобы развлечься, они время от времени наводили оружие на ораторов. Большевики предложили резолюцию, которая, в сущности, подчиняла Собрание Советам. Когда резолюция была отвергнута, они покинули зал заседаний. У Собрания теперь не было кворума. Тем не менее Собранию позволили продолжить заседание. Известные революционеры произносили речи до поздней ночи. В два часа ночи, убедившись, что ситуация находится под контролем, Ленин уехал. В четыре командир караула подошел к председателю Собрания Чернову и велел ему закрыть заседание, потому что «караул устал»{197}. Тем временем прибывали дополнительные вооруженные отряды. Чернов продержался еще 20 минут, а затем закрыл Собрание до следующего дня. Но наутро дворец оказался закрыт и окружен войсками. Единственный полностью демократический орган во всей истории России прожил меньше 13 часов.
Этим, однако, дело не закончилось. Оппозиционные члены Учредительного собрания продолжили заседания в Самаре и Омске, объявив себя законным правительством России. О бесславном конце Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (Комуча) в одной из глав этой книги рассказывает Эван Модсли. В реальности, однако, давняя мечта о демократически избранном законодательном собрании, на основе которого должно было быть создано правительство России, умерла (или была убита) в Петрограде 5 и 6 января 1918 г. По мнению видного историка, именно это, а не Октябрьский переворот, оказалось поворотным моментом революции{198}. Именно в этот момент проявился жестко репрессивный и антидемократичный характер большевистского режима. Россия встала на путь, ведущий к сталинизму.
Как же большевикам это удалось? При ближайшем рассмотрении энтузиазм по поводу Учредительного собрания кажется в значительной степени феноменом элиты. Крестьяне – подавляющее большинство российского населения – получили свою революцию. У них были местные Советы, они были заняты захватом земли. Почему их должно было беспокоить, что происходит в далеком Петрограде? Серьезной народной поддержки Учредительное собрание не имело даже в больших городах. Как мрачно заметил один из ведущих социалистов на символическом открытии Учредительного собрания 28 ноября, люди вовсе не так уж сильно верили в то, что оно всех спасет{199}. Демонстрации в тот день и 5 января были малочисленнее, чем предполагалось, и среди их участников преобладали представители среднего класса. После десяти месяцев постоянной нестабильности и хаоса петроградский пролетариат не был готов пойти на вооруженных людей для защиты очередной политической инновации, какой бы желанной она ни была в теории{200}.
Элита, в особенности социалисты-небольшевики, победившие на выборах, потерпела неудачу. Печально то, что они пострадали из-за собственных добродетелей. Они верили в демократию, прогресс и силу закона. Столкнувшись с гангстерской тактикой большевиков, они не знали, чем ответить. Да, у них была поддержка большинства населения, однако не настолько прочная, чтобы вновь завоевать улицу. За полгода до этого, во время «июльских дней», когда большевики оказались близки к тому, чтобы поставить под вопрос авторитет Советов как таковых, другие социалисты (во что трудно поверить) постарались защитить их от последовавших жестких мер. Эсеры столько лет боролись с автократией рука об руку с товарищами-большевиками, что просто не видели угрозу, которую те на самом деле в себе несли. Но покончить с большевиками можно было, только применив против них их же собственную безжалостную тактику. После оказания давления на Собрание лидеры эсеров отказались от предложений военной поддержки: они считали, что любой ценой нужно избежать гражданской войны. Потому-то, согласно знаменитой фразе Троцкого, они и оказались «на свалке истории». Вероятно, в словах Чехова, писавшего о беспомощности русской интеллигенции, сокрыта глубокая правда. Возможно также, что никакой цивилизованный политический класс ни в одной стране не смог бы справиться с беспрецедентным цинизмом и жестокостью ленинских большевиков.
ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Наконец, мы оказываемся лицом к лицу с громадным «если». После Февральской революции восемь месяцев ушло на то, чтобы избрать Учредительное собрание, и десять – на то, чтобы созвать его. К этому времени большевики уже находились у власти, и Учредительное собрание было обречено. Однако в схожих обстоятельствах в 1848 г. во Франции на созыв Собрания ушло два месяца, в Германии в 1918 г. – четыре. После февральских событий все хорошо понимали, что необходимо срочно созывать Собрание, но дело увязло в мелочных спорах о деталях выборного процесса. Что, если бы Временное правительство смогло не растерять импульс и выборы в Собрание прошли бы, как сначала планировалось, в июне или, как решили позже, в сентябре?
В этом случае история, несомненно, пошла бы по другому пути. Интересно только, насколько он был бы другим. С апреля по июль большевики подняли на улицах Петрограда три восстания. Первое, в апреле, было подавлено по приказу лидеров Совета – по сути, небольшевистскими социалистическими партиями, которые в этот момент присоединились к Временному правительству, оставив большевиков единственной активной оппозицией. Второе, июньское, восстание было предотвращено в основном теми же силами. Третье – «июльские дни» – могло стать успешным, однако потерпело неудачу из-за того, что Ленин в последний момент не сумел взять себя в руки (что для него было совсем не характерно). Таким образом, большевики, несомненно, были способны взять город под свой контроль в момент созыва Учредительного собрания.
Однако политические обстоятельства тогда были бы совершенно иными. Собрание, по крайней мере сначала, обладало бы легитимностью и имело широкую политическую поддержку, чего так и не добилось Временное правительство. Победили бы на выборах в Учредительное собрание, как это и случилось в ноябре, небольшевистские социалистические партии, в первую очередь эсеры. Уже это само по себе лишило бы Совет части политической энергии и поддержки. А ведь большевики использовали его как главное оправдание для разбоя, который чинили с мая по сентябрь (главным лозунгом большевиков уже с апреля было «Вся власть Советам!»). Не находясь у власти, большевики не смогли бы помешать Собранию так, как они сделали это в декабре и январе. И все те любезные господа – лидеры меньшевиков, эсеров и т. д., которые проявляли столь удивительное терпение по отношению к большевикам даже во время их бесчинств в «июльские дни», возможно, повели бы себя более жестко ради поддержки передового государственного института, за создание которого они боролись не одно десятилетие. Несмотря на фанатизм, Ленин всегда очень тщательно просчитывал ситуацию. Он, несомненно, сдерживал бы себя, по крайней мере в первые несколько недель существования Учредительного собрания.
Многое также зависело бы от самого Собрания. Это была большая организация, состоявшая из 800 членов, и руководили ею те самые бесполезные политики, которые в феврале сложили свои полномочия по капризному требованию Совета. В январе они притихли перед вооруженной шайкой большевиков. Это был не тот орган и не те люди, которые способны были вести за собой Россию в условиях разрушительной войны, анархии среди крестьянства, распада империи и полного коллапса государственного аппарата. Даже страны, имевшие куда более богатый парламентский опыт, чем Россия в 1917 г., приходили к варианту «сильной руки» (например, Франция де Голля, Америка во времена гражданской войны, Великобритания во время Второй мировой), в лучшем случае с какой-то формой демократической легитимности. Как мы заметили, исторический опыт России до этого момента был почти исключительно автократическим. Основная часть российского правящего класса тогда, как и теперь, предпочитала повиноваться приказам, а не отдавать их.
Зная безжалостную целеустремленность Ленина, нетрудно себе представить, что к своему звездному часу он мог прийти и иначе. Он мог, по крайней мере вначале, взять под свой контроль улицы, а в самом Учредительном собрании в его распоряжении была четверть голосов. Действительно, учитывая, с какой легкостью он расправился с Собранием, разве не мог бы Ленин сделать то же самое в другой ситуации? Мог бы, но последствия были бы серьезнее. Ленин тогда даже частично не контролировал бы бывшую государственную машину. У Учредительного собрания было бы больше времени на то, чтобы укрепить свою власть. Оно могло бы завоевать авторитет, занявшись (как попыталось сделать на прерванном заседании 5–6 января) ключевыми вопросами «земли и мира», которые не смогло решить Временное правительство. Собрание или назначенное им правительство по крайней мере имело бы время и статус для того, чтобы искать военной поддержки, которой у него совершенно не оказалось в короткий срок, отведенный ему историей. Если бы Собрание получило власть до окончившегося катастрофой корниловского мятежа, оно стало бы ключевым союзником Керенского, который, несмотря на все его ошибки, был одним из самых способных и влиятельных политиков своего времени. Большевизм все равно оставался бы возможным исходом, однако куда менее вероятным.
Какой была альтернатива? История показывает – и все русские революционеры об этом знали, – что сильная рука в России с гораздо большей вероятностью могла прийти из правого (обладающего мощной и эффективной военной силой), чем из левого политического крыла. В последовавшие за событиями месяцы Собрание могло бы безуспешно и многословно пытаться разрешить стоящие перед страной проблемы, в то время как настоящая власть постепенно переходила бы в руки «русского Наполеона». А после того, как Россия осуществила свой первый опыт строительства демократии, правая диктатура, несомненно, разочаровала бы очень многих. Она также повлияла бы на историю остальной Европы (одним из ключевых факторов, приведших Гитлера к власти, было противостояние советскому коммунистическому строю). Однако же трудно сказать, могло ли все обернуться хуже того, что случилось с Россией.
9. Спасти царскую семью Июль 1918 г. Эдвард Радзинский
{201}
Царскую семью могли спасти.
В первый раз это было возможно в Тобольске.
В Тобольск царская семья прибыла на пике своей непопулярности. Слабый царь, находящийся под каблуком жены, и неграмотный мужик Распутин, управляющий царственной четой, – таков был портрет династии в глазах народа накануне революции. И если слабого царя презирали, то императрицу ненавидели.
Вклад Александры Федоровны в революцию трудно переоценить. На фоне поражений русской армии – сотен тысяч убитых и искалеченных – ходили слухи об измене «немки-царицы» и о ее любимце Распутине, будто бы торговавшем военными секретами. Один из вождей оппозиции Милюков говорил в своей знаменитой речи в Государственной думе: «Из края в край расползаются темные слухи о предательстве и измене. Слухи эти забираются высоко и никого не щадят… Имя императрицы все чаще повторяется вместе с именами окружающих ее авантюристов… Что это – глупость или измена?» Деникин в своих воспоминаниях позже напишет: «Слухи об измене сыграли роковую роль в отношении армии к династии». А один из вождей монархистов Пуришкевич под овации Думы отозвался об императрице так: «…злой гений России и царя… оставшаяся немкой на русском престоле и чуждая стране и народу».
Потерявшая всякий авторитет династия пала легко и невероятно быстро. Попытка Николая передать престол великому князю Михаилу могла закончиться только кровью. Михаил поспешил отказаться от опасного престола. Страна сдула трехсотлетнюю монархию, как пушинку с рукава!
После отречения Николая царской семье оставалось только покинуть Россию и сделать это как можно быстрее. Временное правительство вступило по этому поводу в сношения с правительством Великобритании, где на престоле сидел близкий родственник и друг царя Георг V, до смешного похожий на Николая (они даже обменивались порой мундирами и удачно дурачили окружающих). После отречения Николая Георг посылал сочувственные телеграммы своему старому доброму другу. Николай был верным союзником англичан. К тому же русский царь, носивший в России звание полковника лейб-гвардии (традиционное звание Романовых), был британским адмиралом и фельдмаршалом. Отъезд в Англию добровольно отрекшегося царя казался закономерен. Но образованный в Петрограде Совет рабочих и солдатских депутатов, опиравшийся на войска Петроградского гарнизона, потребовал суда над царем. Царь был арестован. Заработала Следственная комиссия Временного правительства. Могла ли Британия, желавшая продолжать войну вместе с новой Россией, принять Семью, которую отвергло само русское общество и которую официально обвиняли в измене?! «Мы искренне надеемся, что у английского правительства нет никакого намерения дать убежище царю и его жене… Это глубоко и справедливо заденет чувства русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали нынешним врагам нашим», – писала Daily Telegraph.
Георг был вынужден отказать в гостеприимстве.
Теперь царская семья жила под арестом в Царском Селе, и «гражданин полковник», как стали называть вчерашнего самодержца, постоянно ощущал открытую враждебность солдат охраны. Ни о каких попытках побега в это время не могло быть и речи. Такое же положение было в дни Французской революции у Людовика XVI и Марии-Антуанетты, запертых во дворце Тюильри. Но тогда иностранцы – любовник Марии-Антуанетты швед граф Ферзен и русская баронесса Корф – рискнули организовать побег королевской семьи. И он закономерно закончился неудачей. Ибо против них была страна… Почетный председатель Русского исторического общества Николай II это помнил.
Однако через три месяца после отречения, 4 июля 1918 г., Зизи Нарышкина, бывшая статс-дама императрицы, записала в своем дневнике: «Только что ушла княгиня Палей (жена великого князя Павла Александровича. – Авт.), она сообщила по секрету, что группа молодых офицеров составила безумный проект увезти их ночью на автомобиле в один из портов, где будет ждать английский корабль. Нахожусь в несказанной тревоге…»
Почему в тревоге? Потому что проект – «безумный»? И Зизи, и Палей знают: при нынешнем отношении к Семье не доехать им до порта – схватят и убьют по дороге. Впрочем, ни английского корабля, ни заговора, конечно же, не было. Было пьяное бахвальство молодых офицеров.
В это время в столице росло влияние радикалов, требовавших расправы над царем и царицей. Александр Блок писал: «Трагедия еще не началась, она или вовсе не начнется, или будет ужасной, когда они (Семья) встанут лицом к лицу с разъяренным народом…» Но Керенский, глава Временного правительства, не желал быть палачом несчастной Семьи, становившейся все более опасной картой в борьбе Совета со слабеющим Временным правительством. И он постарался избавиться от нее.
В обстановке чрезвычайной секретности, на рассвете, под японским флагом, с зашторенными окнами двинулся из Петрограда состав с царской семьей… Так сильно опасался Керенский, что Совет не даст увезти ее. Триста тридцать стрелков под руководством полковника Кобылинского сопровождали и сторожили Семью… Для успокоения общества местом ссылки была выбрана Сибирь, куда цари ссылали революционеров.
Затерянный в сибирских просторах город Тобольск… Губернаторский дом, где разместили арестованную Семью, напоминал Ноев ковчег: здесь жили император и императрица несуществующей империи, генерал-адъютант несуществующей свиты и обер-гофмаршал несуществующего двора, именовавшие друг друга несуществующими титулами.
Но революция по-настоящему еще не пришла в Тобольск. Духовным владыкой там был архиепископ Гермоген. Когда-то ревностный почитатель Распутина, он стал потом заклятым врагом «старца». За это по инициативе императрицы Синод сослал его в дальний монастырь. Теперь же Временное правительство назначило его архиепископом в Тобольск.
Забыв все притеснения, Гермоген готов был послужить помазаннику Божьему. Он видел в этом служении свое предназначение, ведь имя Гермоген стояло у самого истока Романовской династии. В Смутное время, в XVII веке, патриарх по имени Гермоген бросил клич – изгнать поляков из Руси. За это принял мученическую смерть. И вот сейчас, через 300 лет, архиепископ с тем же именем – Гермоген – здесь, в Тобольске, мог помочь освободиться последним Романовым. Именно об этом написала ему мать Николая, вдовствующая императрица: «Владыка… Ты носишь имя святого Гермогена. Это предзнаменование». Она ждала от решительного архиепископа решительных действий.
Чтобы окончательно примирить революционное общество с высылкой царя, Керенский прислал в Тобольск комиссара Панкратова, просидевшего 14 лет в Шлиссельбургской крепости. Революционер-каторжанин, стерегущий свергнутого царя в Сибири, – это был отличный символ! И залог строгого надзора. Но Панкратов простил царю загубленные годы своей жизни. Сейчас царь был для него просто отцом большой семьи, совершенно не понимавшим новой страшной жизни. Никакой угрозы для побега комиссар не представлял. Солдаты охраны презирали добрейшего штатского комиссара. Они подчинялись в это время только своему начальнику полковнику Кобылинскому.
…Полковник Кобылинский был назначен в Царское Село генералом Корниловым. Он зарекомендовал себя преданным сторонником Февральской революции. Но за время общения с царем полковник очень изменился. Очарование Николая, его мягкость, деликатность, и эти прелестные девочки, и беззащитная в своей надменности несчастная императрица… Из тюремщика Кобылинский превратился в друга Семьи. «Я отдал вам самое дорогое, Ваше Величество, мою честь», – с полным правом скажет он впоследствии Николаю.
Итак, в тихом городишке, где единственной военной силой были эти 330 стрелков, охранявших Семью, их командир становится Николаю близким человеком. И большинство охраны – «хорошие стрелки», как их зовет Николай… Они получают от Семьи бесконечные подарки. Да, в это время охрана помогла бы им бежать. И Татьяна Боткина, дочь врача Евгения Боткина, разделявшая с Семьей тобольскую ссылку, вспоминала: «В эти месяцы (то есть с августа до октябрьского переворота. – Авт.) семья могла бежать». Но куда?
До большевистского переворота для царя в политике места не было, ибо против революционной власти Временного правительства боролись лишь якобинцы – большевики, а Белое движение – за возврат прежней государственности – только зарождалось. Бежав, царь должен был бы покинуть страну. Но для этого надо было проехать половину России, а Николай не мог рисковать жизнями близких…
В середине ноября до Тобольска дошли страшные слухи о штурме Зимнего, о разграблении дворца предков царя и о захвате власти большевиками.
«17 ноября… Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий в Смутное время», – записал царь в дневнике.
Не зря Николай читал в Тобольске «Девяносто третий год» Виктора Гюго – книгу о якобинцах! Царь понимает: к власти в России пришли они! И как вспоминал потом Жильяр, «Николай все чаще жалел о своем отречении»…
Начиналась гражданская война. Возникло Белое движение против большевистской власти. Теперь Николай мог думать о побеге к белым. Стрелки и их начальник помогли бы… Но главное – Гермоген. В распоряжении могущественного архиепископа дальние монастыри, похожие на крепости, где можно остановиться на отдых, где у рек ждали бы спрятанные лодки – все это могло бы способствовать успеху побега…
Но Аликс медлит! Все дело в Гермогене: Аликс не может вручить судьбу Семьи заклятому врагу Распутина!
Каково же было счастье Аликс, когда в Тобольске появился некто Борис Соловьев, женатый на дочери… Распутина! Соловьев сообщил, что приехал организовать их побег. И Аликс, конечно же, увидела в этом великий знак.
Имя «старца», как всегда, перенесло ее в знакомый фантастический мир! Ее Григорий из-за гроба ведет к ним на помощь Могучее воинство! Всей душой она поверила Соловьеву. И вот уже бережливая Аликс щедро переправляет ему царские драгоценности и деньги для их освобождения. Все это время в Петербурге действует подруга царицы Вырубова. Она посылает в Тобольск деньги и Сергея Маркова – офицера Крымского конного полка, шефом которого была императрица. И романтичная Аликс верит: это тоже знак! Посланец «старца» и посланец доблестных русских офицеров объединились! И после очередного сообщения Соловьева она начинает бредить «тремястами офицерами, которые уже собрались», как пишет ей Соловьев, «рядом, в Тюмени». Аликс все щедрее посылает Соловьеву царские драгоценности. В ответ тот сообщает ей свои выдумки о «перевальных офицерских группах», которые уже созданы на всем пути от Тобольска до Тюмени, где начиналась железная дорога. «Они будут передавать друг другу царскую семью во время бегства». Он пишет, что контролирует телефоны самого большевистского Совета… Близится освобождение! Аликс заражает своей верой Николая. Даже воспитатель наследника, благоразумный швейцарец Жильяр, решает «держаться наготове на случай всяких возможностей».
Когда в марте 1918 г. на улице Свободы зазвенели колокольцы и на удалых тройках с бубенцами с гиканьем и свистом проехали вооруженные люди, Аликс, глядя в окно, восторженно прошептала: «Какие хорошие русские лица!» Они пришли! Могучее русское воинство, «300 офицеров», о котором столько писал ей посланец «старца» Соловьев.
На самом же деле в тот день в город въехали удалые красногвардейцы из города Омска – устанавливать в Тобольске большевистскую власть. В тот день закончилось идиллическое время их заключения. С бубенцами, гиканьем и свистом ворвался в тихий Тобольск новый мир… Вскоре большевики утопят в реке архиепископа Гермогена. И бежать из Тобольска станет невозможно. Ибо «не было никаких офицерских групп для освобождения царской семьи!» – напишет в своих воспоминаниях Татьяна Боткина. «Посланец Распутина» Соловьев оказался одним из многих авантюристов, которыми богато революционное время.
Так Распутин уже после смерти губил царскую семью.
С каждым месяцем большевистской власти жизнь в стране становилась все невыносимее. Как бывает при режимах, захвативших власть силой, все начало исчезать. Исчезли продукты и дрова. Наступила зима, но в городах не топили. Квартиры превращались в пещеры. Не горели разбитые фонари. По ночам на улицах грабили и убивали. И постепенно люди начали вспоминать «о проклятом царском режиме»…
В это время большевистская Россия была окружена кольцом интервенции и восстаний. Шла гражданская война.
Во главе Белого движения стояли царские генералы. Никто из них не вспоминал о непопулярном царе, но… Но идея возвращения царя уже могла возгореться под пеплом! Тем более что отречение Николая было лукавым, и его можно было в подходящий момент объявить незаконным, так как царь не имел права отрекаться за наследника: сын ему не принадлежал. Наследник Алексей по закону принадлежал России.
Эти мысли приходили в голову и большевикам. И они решили поторопиться – затоптать тлеющие головешки! Троцкий, второй вождь революции, придумал устроить народный суд над царем по образцу суда Французской революции и добился согласия Ленина перевезти Семью в Москву, ставшую столицей большевистской России.
Для исполнения этого в Тобольск был послан комиссар Мячин (партийная кличка Яковлев). Но вывезти в Москву всю Семью оказалось невозможно – заболел наследник. Тогда Москва приказала Яковлеву привезти одного царя! И, несмотря на все протесты, оставив наследника на попечение трех великих княжон, Яковлев повез в Москву Николая. С ним решили ехать царица и дочь Мария.
Однако поезд Яковлева был остановлен в Омске. На Урале появились слухи, что совсем не в Москву везет царскую семью Яковлев, и большевики Екатеринбурга договорились с омскими большевиками арестовать и расстрелять его, а пленников оставить в столице Урала Екатеринбурге – под надежной охраной.
Только телеграмма из Москвы, подтверждающая миссию Яковлева, спасла комиссара. Но, видимо, доводы Екатеринбурга в отношении Яковлева услышали в Москве. И Москва приказала Яковлеву передать Семью екатеринбургским большевикам, а самому возвращаться в столицу.
Опасный был человек этот комиссар и вчерашний удалой большевистский боевик Мячин-Яковлев. В его биографии – нападения на банки, взрывы бомб, убийства чиновников… «Пуля и намыленная веревка на шее следовали за мной по пятам», – с гордостью писал он в воспоминаниях. Когда в конце мая вспыхнуло восстание Чехословацкого корпуса, командовать одной из большевистских армий в районе Уфы и Оренбурга было поручено Яковлеву. Но уже вскоре комиссар Яковлев покидает большевистские войска! Он бежит в занятую белыми войсками Уфу и здесь объявляет, что «изжил идею большевизма»! Переходит на сторону Белой армии и обращается с призывом к своим прежним товарищам также переходить на сторону белых…
Далее будет много новых поворотов в удивительной жизни Яковлева-Мячина. Это был азартный игрок, всю жизнь игравший в сложные игры и шедший навстречу самым невероятным приключениям. Так что, возможно, правдивы были сведения екатеринбуржцев – совсем не в Москву собирался ехать комиссар Яковлев. Оттого-то всю дорогу он был так добр и почтителен со своими пленниками. Интересная запись проскользнула в дневнике царицы:
«16 (29) апреля в поезде… Омский сов[ет] деп[утатов] не разрешает нам проехать через Омск, так как боятся, что нас захотят увезти в Японию».
Может быть, истина – в этом полунамеке? Может, только ей – подлинной главе семейства – сообщил таинственный комиссар о своей истинной цели? Если так, то это была первая попытка, которая могла закончиться освобождением царя и царицы…
Итак царь, царица и Мария содержались теперь в Екатеринбурге в доме, принадлежавшем прежде купцу Ипатьеву. Вскоре к ним присоединились и остальные члены семьи.
Но и в Екатеринбурге их еще могли спасти.
В мае 1918 г. в Екатеринбург была переведена бывшая Николаевская академия Генерального штаба. К июню 1918 г. она насчитывала 300 слушателей при 14 профессорах и 22 штатных преподавателях. В старшем классе академии было 216 слушателей, и только 13 из них впоследствии будут сражаться на стороне большевиков. Подавляющее большинство слушателей считали Брестский мир с немцами, заключенный в это время большевиками, предательством, а их самих – немецкими агентами.
Итак, Академия и ее слушатели – кадровые царские офицеры, ненавидевшие большевиков, – оказались теперь рядом с арестованной царской семьей.
Руководство Уральского совета волновалось. Глава екатеринбургских большевиков Исай Голощекин доносил в Москву, что нахождение в Екатеринбурге «организованного очага контрреволюции под маркой академии совершенно недопустимо».
В конце мая положение Екатеринбурга резко осложнилось. Николай записал в дневнике: «Внешние отношения за последнее время изменились… Тюремщики стараются не говорить с нами, как будто им не по себе, и чувствуется как бы тревога и опасения чего-то у них! Непонятно!»
Но за пределами Ипатьевского дома все было понятно. В середине мая подняли восстание против большевиков бывшие военнопленные царя – Чехословацкий корпус. К чехословакам примкнули казачьи части. Пал Челябинск. Теперь чехословаки и казаки двигались к Екатеринбургу. Пал Кыштым, пал Златоуст – всего в 130 верстах от Екатеринбурга. 14 июня все коммунисты и рабочие с сысертовских, нижнетагильских и алапаевских заводов ушли на фронт.
Теперь Академия внутри Екатеринбурга представляла настоящую угрозу для большевистской власти. Приказом Троцкого ее поспешно перевели в Казань. Но слушатели объявили «нейтралитет», и в Казань поехало менее половины состава… Таким образом, около 200 образцовых кадровых военных остались в Екатеринбурге – в охваченном паникой городе.
28 мая (10 июня по н. ст.) там произошли уличные беспорядки. Накануне прапорщик Ардатов со своим отрядом перешел к белым. Теперь единственной опорой большевиков в городе оставался отряд верх-исетских рабочих во главе с комиссаром Петром Ермаковым. Все остальные рабочие отряды были на фронте. Огромная толпа горожан, выкрикивающая антибольшевистские лозунги, собралась на Успенской площади. Ермаков с отрядом и комиссар Голощекин с чекистами с трудом разогнали мятежную толпу. Фронту так не хватало красногвардейцев! А между тем годные для фронта красногвардейцы охраняли «тирана» и его Семью… И все громче зазвучали голоса – снять их с постов, т. е. покончить с Семьей!
Академия была размещена недалеко от Тихвинского монастыря, находившегося в черте города. Из монастыря царской семье носили молоко, сливки и яйца, так что установить связь с заключенными для кадровых офицеров не составило бы труда, после чего можно было подготовить нападение на Ипатьевский дом, охранявшийся вчерашними рабочими, многие из которых никогда не стреляли. В страхе, панике, неразберихе, охватившей город, нападение обещало быть успешным.
Но ничего этого не произошло.
Между тем большевики решили поторопиться. Они уже понимали, кем может стать освобожденный царь в нынешних обстоятельствах. Именно об этом уже после казни царской семьи напишет Троцкий. В своем дневнике он цитирует разговор со Свердловым – правой рукой Ленина. Троцкий только что приехал с фронта и расспрашивает Свердлова:
– Где царь?
– Конечно, расстрелян! – отвечает Свердлов.
– А семья?
– И семья с ним.
– Вся?
– Вся.
– А кто решал?
– Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в наших трудных условиях.
С конца мая большевики стали готовить уничтожение «живого знамени».
Через три дня после городских волнений Николай записывает:
«31 мая. Днем нас почему-то не выпускали в сад. Пришел Авдеев и долго разговаривал с Е. С. (Боткиным. – Авт.) По его словам, он и областной Совет опасаются выступления анархистов, и поэтому, может быть, нам предстоит скорый отъезд, вероятно, в Москву. Он просил подготовиться к отбытию. Немедленно начали укладываться, но тихо, чтоб не привлекать внимания чинов караула, по особой просьбе Авдеева. Около 11 вечера он вернулся и сказал, что еще останемся на несколько дней. Поэтому и на 1 июня мы остались по-бивачному, ничего не раскладывая. Наконец, после ужина Авдеев, слегка навеселе, объявил Боткину, что анархисты схвачены и что опасность миновала, и наш отъезд отменен. После всех приготовлений даже скучно стало…»
Если бы знал Николай, слушая предложение заботливых уральцев о поездке в Москву, что произошло минувшей ночью! Какая «поездка» уже случилась! Но до гибели своей он так ничего и не узнает.
Накануне ночью в Перми в бывшую гостиницу купца Королева явились трое неизвестных, предъявили ордер ЧК и увезли брата царя, великого князя Михаила и его секретаря Джонсона. В лесу поселка Мотовилиха обоих расстреляли. В акции участвовали председатель Мотовилихинского совета Мясников, начальник милиции Иванченко и трое подручных. Большевики объявили, что Михаил и его камердинер «похищены неизвестными и увезены в неизвестном направлении». Так был уничтожен второй претендент на трон – важная часть «живого знамени».
Видимо, такая же «поездка» готовилась для царской семьи. Почему отложили? Если от Михаила избавились тайно, то Николая, посовещавшись, решили расстрелять громко – с объявлением в прессе. Но для этого в Москве захотели получить «доказательства» необходимости расстрела. И придумали – добыть «доказательства белогвардейского заговора с целью освобождения царя». Будто бы разоблачение этого заговора потребовало скорейшего расстрела Николая II. Остальную Семью решили также уничтожить, но объявить «увезенной в безопасное место».
Лжезаговор был организован в ЧК. Об этом рассказали через полстолетия сами его участники. Притом действовали лжезаговорщики так, как должны были бы действовать заговорщики подлинные – слушатели Николаевской академии.
В одной из монастырских бутылок с молоком царь нашел письмо.
«Час освобождения приближается, и дни узурпаторов сочтены. Во всяком случае, армии словаков приближаются все ближе и ближе к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города… Не забывайте, что большевики в последний момент будут готовы на всяческие преступления. Момент настал, нужно действовать. Офицер».
Николай вступил в переписку с «офицером». Он подробно описал диспозицию: сколько охраны, где стоят два пулемета и т. д. И, наконец, сделал запись в дневнике: «Приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми».
Так в дневнике царя, который охрана читала во время прогулок арестованных, появилась необходимая запись. Теперь большевики обладали доказательствами заговора. Царская семья была приговорена. Причем вся большая царская семья…
Вопрос об уничтожении большой царской семьи был решен якобинцем Лениным еще до революции. В журнале «30 дней» (№ 1, 1934 г.) Бонч-Бруевич вспоминал слова молодого Ленина, который восторгался удачным ответом революционера Нечаева – главного героя «Бесов» Достоевского. Ленин именовал Нечаева «титаном революции», «одним из пламенных революционеров». «На вопрос: "Кого надо уничтожить из царствующего дома?" – Нечаев дал точный ответ: "Всю Большую Ектению" (молитва за царствующий дом – с перечислением всех его членов. – Авт.). «Да, весь дом Романовых! Ведь это же просто, до гениальности!» – восторгался ответом Нечаева Ленин».
И он осуществит нечаевскую мечту – длинен будет мартиролог Романовых, уничтоженных большевиками… Но самой зверской расправой станет расстрел царской семьи в Ипатьевском доме, где четырех девушек, больного подростка, их мать и отца убьют на глазах друг у друга.
Накануне убийства царской семьи вокруг Екатеринбурга медленно сжималось кольцо наступавших чехословацких и казацких частей. Будто они чего-то ждали… Как страшно это писать: будто ждали они, пока расправятся с царской семьей… Возможно, перспектива освобождения вчерашнего Верховного главнокомандующего вместе с авторитарной императрицей сильно беспокоила командующих нынешних.
Что же касается слушателей Академии… Впоследствии будет немало историй о тайных офицерских организациях, будто бы созданных для освобождения царской семьи и разгромленных ЧК. «Некий Н. привлек 37 офицеров-курсантов, но, почувствовав, что большевики напали на след, все они бежали к наступавшим чехословакам». «Некто капитан Булыгин, посланный матерью царя, по дороге к Екатеринбургу был арестован». И так далее.
Это все поздние прекрасные мифы. Господа офицеры не простили царю и царице бездарную войну и крушение строя. Лучше всего отношение к государю большинства офицеров характеризует запись в дневнике генерал-лейтенанта барона Алексея Павловича фон Будберга (военного министра в Российском правительстве адмирала А. В. Колчака). Он описал панихиду, которая состоялась 17 июля 1919 г. – в годовщину убийства царской семьи.
«В соборе состоялась панихида по царской семье; демократический хор отказался петь, и пригласили монахинь соседнего монастыря, что только способствовало благолепию служения. Соборный протоиерей служил очень хорошо, с возглашением титулов.
Против собора – Архиерейский дом, где живут около десятка разных архиереев, побросавших свою паству; из них никто не дерзнул прийти помолиться за упокой души Того, кто был для них не только Царем, но и Помазанником Божиим.
Из старших чинов на панихиде были я, Розанов, Хрещатицкий и уралец – генерал Хоротхин; остальные постарались забыть о панихиде, чтобы не скомпрометировать своей демократичности.
После панихиды какой-то пожилой человек, оглядев собравшихся в соборе (несколько десятков, преимущественно старых офицеров), громко произнес: "Ну и немного же порядочных людей в Омске"».
Между тем большевики были правы: царь мог стать живым знаменем. И главное – объединяющим знаменем.
В Белом движении подчинялись закону, который еще в XVIII веке сформулировал русский вельможа Артемий Волынский: «Нам, русским, хлеба не надо, мы друг друга едим и тем сыты бываем». Вожди-генералы старательно ненавидели друг друга: Врангель – Деникина, Деникин – Врангеля, оба не любили Юденича и все вместе – Колчака.
Только тот, кто имел право встать над ними, – Помазанник Божий, царь – мог скрепить движение, успокоить генеральские самолюбия и стать этим объединяющим знаменем. В темной, полуграмотной России, где крестьяне еще недавно крестились на проходящий царский поезд, могла воскреснуть вера, о которой в 1918 г. писал епископ Гермоген: «По данным Священного Писания… находящиеся вне управления страной бывшие императоры, короли и цари не лишаются своего сана, дарованного им Богом».
«Так храм оставленный – все храм, кумир поверженный – все Бог».
Царь многое передумал в свой неволе и унижении, он выстрадал, что главное в наступившей ярости и крови – это суметь простить… Его дочь в одном из последних писем писала: «Государь просил не мстить за него, он всех простил».
«Молиться кротко за врагов», – это последняя строка стихотворения, найденного после гибели царской семьи в Ипатьевском доме. Оно осталось как завещание Николая.
Владыка мира, Бог вселенной, Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной В невыносимый страшный час. И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы – Молиться кротко за врагов.Николай был нужен обезумевшей России, умытой кровью гражданской войны!
Но он не был нужен Истории.
И потому не спасся.
10. Покушение на Ленина, совершенное Фанни Каплан Август 1918 г. Мартин Сиксмит
Если рассуждать о роли случая в истории, то что может быть более подвержено случайности, чем траектория полета пули? Какой-то сантиметр решает, жить человеку или умереть. А уж если мишенью убийцы становится Владимир Ленин, то от меткости стрелка зависит судьба всего мира.
Мало кому на Западе известно, что 30 августа 1918 г. несколько выпущенных с близкого расстояния пуль едва не стоили Ленину жизни. И уж совсем немногие знают, что за этим покушением, вполне возможно, стояли агенты британской разведки.
В 1918 г. молодая Советская Россия боролась за выживание. Ее существованию угрожали и внутренние, и внешние враги. Белогвардейцы и западные войска стремились поставить ее на колени, и советская власть висела на волоске.
Умри Ленин и останься социалистическое государство без своего лидера и вдохновителя, оно могло бы рухнуть и весь XX век был бы совсем другим. И наоборот: не случись этого покушения, и, возможно, не было бы разгула Большого террора и сотни тысяч людей не стали бы жертвами ГУЛАГа.
Каковы факты? Оспорить можно все что угодно, кроме медицинского заключения.
Вечером 30 августа Ленин приехал из Кремля в Замоскворечье, чтобы обратиться с речью к рабочим завода Михельсона. Это был давний центр революционных настроений, и Ленин выступал там уже по крайне мере четыре раза. Завод был основан в середине XIX в. англичанином по фамилии Гоппер, а в наши дни носит имя Владимира Ильича. На территории есть мемориальные доски в память о посещениях завода Лениным. Тем не менее из них ничего не узнаешь о драматических событиях 1918 г. Но когда на закате Советского государства я посетил этот завод, охранники на проходной охотно поделились со мной рассказами о том дне, когда «чуть не убили Ленина».
Советский лидер, закончив речь, уже покидал здание, когда произошло покушение. Мне показали дверь, через которую Ленин должен был выйти во внутренний двор завода. Там ждала машина с заведенным мотором, однако Ленин остановился, чтобы поговорить с большевиками-активистами о перебоях с хлебом, от которых страдала вся страна. Когда из толпы его окликнула какая-то женщина, он обернулся к ней, не подозревая, что та сжимает в руке браунинг, спрятанный в складках одежды. У Ленина был лишь миг на то, чтобы увидеть лицо женщины, прежде чем она сделала один за другим три выстрела. Первая пуля не попала в цель, пройдя через воротник пальто и ранив стоявшего рядом, вторая застряла у Ленина в плече, а третья задела левое легкое. Телохранители бросились к упавшему Ленину, погрузили его в машину и помчались в Кремль. Женщину схватила разъяренная толпа. Избив, ее передали милиции.
Рассказы охранников были драматичны и полны страсти. И все же они являлись продуктом официальной истории, версией, которую десятилетиями преподносила гражданам советская пропаганда. Эта версия просуществовала почти столетие, но от этого события осени 1918-го не стали более понятными.
Я знал, что рассказы охранников являются официальной версией событий потому, что видел эту версию в кино. Я имею в виду черно-белый биографический фильм «Ленин в 1918 году», снятый режиссером Михаилом Роммом в 1939 г., – один из самых известных советских фильмов. Ромм, пятикратный лауреат Сталинской премии, был обласкан Кремлем. «Ленин в 1918 году» стал продолжением его же фильма «Ленин в Октябре», в котором рассказывалось о роли большевистского лидера в революции 1917 г. Несомненно, именно в такой версии событий и хотел всех убедить Кремль. В фильме Ленин произносит вдохновенную речь, обращаясь к рабочим, потом отходит в сторону. Раздаются выстрелы, и с героическим выражением лица Владимир Ильич хватается за грудь. Камера ловит женщину угрожающего вида, которая крадется в толпе. Если верить фильму Ромма, то будущая убийца – разочарованная революционерка. После ареста ее ждет суд, и она несет заслуженное наказание от бесстрастного советского правосудия, выносящего смертный приговор.
Но так ли все было на самом деле? События после покушения окружены атмосферой тайны. Режиму не потребовалось много времени, чтобы перекроить эту историю с учетом собственной выгоды. Сейчас есть историки, которые вовсе не уверены в том, что именно Каплан нажала на курок, – и в том, что она вообще способна была на него нажать.
Фанни Каплан (Фейга Хаимовна Ройтблат) родилась 10 февраля 1890 г. в еврейском местечке на территории современной Западной Украины. Ее детство пришлось на волну разжигаемого государством антисемитизма, вылившегося в жуткие погромы по всей Российской империи. Последовал массовый исход евреев из страны. Юная Фейга не эмигрировала, вместо этого она решила бороться с социальной несправедливостью, став революционеркой. Еще в юности она вступила в партию социалистов-революционеров – эсеров.
Эсеры, последователи Александра Герцена, были ведущей оппозиционной силой до 1917 г. Они добивались свержения царизма, для чего были готовы использовать силу. Тем не менее их целью был демократический социализм, который предоставит права крестьянству и будет опираться на выборы, а не только на револьверы и бомбы. Эсеров отодвинуло в тень и в конечном итоге погубило мессианское рвение большевиков (которых не интересовали ни крестьяне, ни демократия). Это произошло в 1917 г., когда политический пейзаж изменился и революционное движение разделилось на конкурирующие фракции. Но в 1906 г., когда Фейга Ройтблат взяла себе революционный псевдоним Фаня, или Фанни, Каплан, этот разрыв, позже определивший ее судьбу, еще не произошел.
Первым революционным актом Фанни Каплан было участие в покушении (с помощью бомбы) на губернатора Киева Владимира Сухомлинова, использовавшего армию для подавления забастовок и демонстраций в городе. Каплан в то время было всего 18 лет, и она была влюблена в анархиста Виктора Гарского, главного организатора покушения. Собирая бомбу в номере гостиница «Купеческая», они уронили ее, и она взорвалась. Гарский не пострадал, но Каплан получила серьезные ранения: пострадали руки и лицо. В течение долгого времени было не ясно, сохранит ли она зрение. Воспользовавшись последовавшим за взрывом хаосом, Гарский сбежал, а Каплан, которая ничего не видела и еле-еле могла идти, тут же была арестована. Пятого января 1907 г. суд приговорил ее к смерти, однако из-за юного возраста Фанни помиловали. Казнь заменили пожизненной каторгой, и в том же году Каплан отправили в сибирский город Нерчинск. Там, в Мальцевской тюрьме, ее раздевали догола и пороли. Каплан несколько месяцев провела в тюремной больнице: в ее теле все еще сидели осколки бомбы, она частично оглохла и потеряла зрение. Впоследствии оно вернулось, но не полностью, и до конца жизни она страдала от страшных головных болей и продолжительных приступов слепоты.
К началу 1917 г. Каплан провела в заключении больше десяти лет. Революция привела к власти социалистов и либералов Временного правительства, выступавших за политические реформы и избрание на демократических выборах национального парламента. Лидер Временного правительства Александр Керенский был, как и Каплан, эсером, и одним из его первых шагов на новом посту стало освобождение всех политических заключенных.
В начале марта Фанни Каплан вернулась в Москву. Получив определенные привилегии как ветеран-революционер, она отправилась на лечение в Евпаторию. Там, в Крыму, Каплан познакомилась с Дмитрием Ульяновым, младшим братом Ленина, возглавлявшим большевиков в этом регионе. Шло лето 1917 г., и разрыв между эсерами и большевиками еще не достиг кровавого апофеоза. Молодые люди – Ульянов был всего на шесть лет старше Каплан – как видно, нашли общий язык: Ульянов дал указание направить Фанни в глазную клинику в Харьков. После двух сложных операций зрение частично восстановилось. Каплан так и не могла различать мелкие детали, однако видела силуэты людей, находившихся рядом с ней, и уже не натыкалась на крупные предметы.
Где находилась Каплан и чем она занималась с лета 1917-го до августа следующего года, не установлено. Но точно известно, что весной 1918-го она уже была в Москве и активно участвовала в работе эсеров. Однако тут в силу вступает официальная советская версия событий. Значительная часть информации о жизни Каплан в месяцы перед покушением на Ленина получена из более поздних советских публикаций о ее политических пристрастиях и ссылок на допросы. Что неудивительно в деле с такими именитыми фигурами, публикации неуклонно следуют линии партии.
Согласно официальной истории, Каплан немедленно присоединилась к антибольшевистскому заговору под руководством активиста-эсера Григория Семенова. Эта группа, как пишут советские историки, планировала покушения на таких большевистских лидеров, как Ленин, Троцкий, Зиновьев, Урицкий, Володарский, и других. Если верить официальной истории, заговор был хорошо организован, участники вооружены, финансировали их реакционные группы и иностранные державы с целью свергнуть в Советском государстве законную власть большевиков. Инцидент в августе 1918 г. был не единственным эпизодом, а только звеном в цепи террористических актов, направленных против режима.
Такие обвинения выдвигались с целью запятнать репутацию эсеров, которые стали для большевиков заклятыми врагами. Все доказательства их предательства были сфабрикованы пропагандой режима.
Тем не менее вполне можно понять разочарование Каплан в Ленине и партии большевиков. После Февральской революции Временное правительство начало внедрять в России основы парламентской демократии. У этого правительства, как оказалось, было очень мало времени, однако и после того, как в октябре власть перешла к Ленину, он продолжал обещать «всю власть Советам». Под Советами подразумевались выбранные прямым голосованием местные комитеты рабочих, крестьян и солдат. К удивлению не только своих оппонентов, но и многих сторонников, Ленин не отошел от обещания, данного еще Временным правительством, провести свободные выборы во Всероссийское Учредительное собрание. Этот орган должен был подготовить почву для конституции и парламента, избранного всеобщим голосованием.
Миллионы людей, которые 25 ноября 1917 г. явились голосовать, вероятно, верили в то, что в Россию наконец-то приходит демократия. После выборов, которые прошли в основном мирно и в которых приняли участие две трети населения, 5 января 1918 г., после обеда, Учредительное собрание наконец начало свою работу в Таврическом дворце. Это был первый свободно избранный парламент в истории России и, несомненно, событие исторического масштаба.
Но Собрание было обречено на провал. Для большевиков выборы оказались неудачными, большинство мест получили эсеры. Более чем вдвое превосходя численностью большевиков, они должны были стать главной политической силой в России. Однако Ленин уже сформировал правительство с министрами-большевиками и не собирался допускать их отстранения от власти.
«Учредительное собрание, созываемое по спискам партий, существовавших до пролетарски-крестьянской революции, в обстановке господства буржуазии, неминуемо приходит в столкновение с волей и интересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против буржуазии», – писал Ленин. «Нельзя давать себя обмануть цифрами выборов, не в выборах дело… Большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки».
Учредительному собранию дали прожить всего-то 12 часов. Большевики покинули зал, как только были поданы первые голоса против них. Другие партии продолжили заседать до четырех утра 6 января, а затем были изгнаны пробольшевистски настроенными солдатами, разгоряченными водкой и бряцавшими оружием. Когда на следующий день депутаты вернулись, Таврический дворец был закрыт и окружен солдатами. Большевики Ленина захватили находившиеся в зачаточном состоянии институты свободы и демократии. Теперь они вот-вот должны были установить централизованную диктатуру, которая будет еще более жесткой, чем свергнутый царский режим.
Фанни Каплан и другие лишенные права голоса эсеры, несомненно, должны были расценить произошедшее как предательство. Однако действительно ли она нажала на курок в тот августовский день? Выбрал бы Семенов Фанни Каплан для осуществления этого покушения? Ведь она была почти слепа, никогда в жизни не стреляла из револьвера и почти или вообще не имела опыта террористических атак! До этого момента ее роль, видимо, сводилась к сбору разведданных: она узнавала, где будет Ленин в определенные моменты, и передавала эту информацию товарищам.
Было уже почти десять вечера, когда Ленин вышел с завода Михельсона. В это время года в Москве солнце заходит в девять, и Каплан мало что могла увидеть в темноте. Когда ее арестовали, на ней даже не было очков. Никто из 18 допрошенных свидетелей не видел, как она стреляла. А когда почти четыре года спустя из тела Ленина достали пулю, оказалась, что она не имела отношения к браунингу, который, согласно протоколам, был у Каплан.
В 1922 г. Семенов засвидетельствовал, что официальная версия событий точна, несмотря на то что в ней было много противоречий. Однако к этому моменту он больше не принадлежал к эсерам и, почти несомненно, сотрудничал с большевиками, готовившими показательный процесс над социалистами-революционерами. Этот процесс должен был раз и навсегда дискредитировать партию.
Невозможно отрицать, что Фанни не пыталась доказать свою невиновность. Она была арестована либо на месте, либо рядом, на трамвайной остановке на Большой Серпуховской улице (схвативший ее милиционер позже изменил показания). У Каплан был с собой чемодан. Она не пыталась скрыться. На допросе в ВЧК она, согласно протоколу (подлинность которого проверить невозможно, так как ко времени его опубликования Каплан была мертва), сделала следующее заявление: «Я, Фаня Ефимовна Каплан… В 1906 году была арестована в Киеве по делу о взрыве… Была приговорена к вечной каторге… Октябрьская революция меня застала в Харьковской больнице. Этой революцией я была недовольна, встретила ее отрицательно. Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за это… Стреляла в Ленина я…»
Второго подозреваемого, задержанного одновременно с Каплан, – его звали Александр Протопопов – почти сразу расстреляли, так что Фанни знала, какая участь ее ожидает. Тем не менее она отказалась доказывать свою невиновность и не стала указывать на соучастников. Именно из-за ее молчания появились предположения, что Фанни стала козлом отпущения и заслонила собой товарищей, осуществивших покушение. Советская пропаганда сделала из нее чудовище, психопатку, и ее репутация до сих пор остается таковой.
Виновна она была или нет, Фанни Каплан в любом случае была бы казнена. В нашем повествовании она появится еще раз, прежде чем пойдет на расстрел.
Пока Каплан запихивали в милицейский автомобиль, Ленина домчали до Кремля. Его охрана, опасаясь, что снаружи Ленина могут поджидать убийцы, отказалась вывозить его за пределы квартиры, которая считалась безопасной. Туда привезли врачей, которые заключили, что пули засели в таких местах, что лучше не извлекать их.
Ленин был на грани жизни и смерти, ранения были очень серьезные. Он выжил, однако здоровье его сильно пошатнулось. Покушение, скорее всего, спровоцировало серию инсультов, которые сделали его инвалидом и в конце концов привели к смерти в январе 1924 г. Тем не менее, благодаря тому что после покушения ему удалось выжить, Ленин смог проработать еще пять с половиной лет. За это время он консолидировал советскую систему, которой предстояло просуществовать еще семь десятилетий, осуществив величайший социалистический эксперимент в истории. Тот факт, что Ленин выжил, сделал возможным эпохальные изменения в политическом и социальном мышлении, изменения, которые, в худшую или лучшую сторону, отразились на жизни миллионов людей по всему миру.
Ранения Ленина были серьезными, кровь из раны в шее попала в легкие, затруднив дыхание. Тем не менее большевистские средства массовой информации скрыли серьезность ситуации: большевики опасались, что за новостями о серьезном ранении может последовать паника или же оппозиция попытается организовать переворот. Если верить официальной пропаганде, Ленин не придал большого значения своим ранам и отказался повиноваться врачам. Заголовок статьи в «Правде» гласил, что дважды раненный Ленин отказался от помощи докторов. На следующее утро после ранения он уже читал газеты и слушал доклады. Одним словом, продолжал управлять локомотивом мировой революции.
Ленинский миф набирал силу: в правдинском заголовке уже заметно начало культа его святого стоицизма и великодушия, который будет сопровождать Ленина при жизни и после смерти. Ленин – святой мученик, спасенный чудесными силами и продолживший, несмотря ни на что, свой труд на благо народа – как Христос. Партия, разрушившая религию в глубоко христианской стране, нуждалась в чем-то, что могло заменить христианство, и святой Ленин – преданный делу, самоотверженный и фанатичный – пришелся ко двору.
Но пока Ильич являл общественности свою героическую сущность, Фанни Каплан следовала собственной концепции героизма в совсем иной атмосфере. Милиционер, арестовавший ее, впоследствии цитировал слова Фанни: «Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью». Однако ее мужество подверглось серьезному испытанию.
В недрах Лубянки Каплан интенсивно допрашивали. ЧК, методы которой не славились деликатностью, твердо вознамерилась заставить ее выдать остальных заговорщиков. Краткая запись допроса, сделанная позже большевистскими источниками, отражает решимость режима создать собственную версию произошедшего.
Следователи Курский, Скрыпник и Дьяконов выяснили, что Каплан имела при себе автоматический пистолет системы браунинг с серийным номером 150489. Когда второй человек в ЧК, Яков Петерс, допрашивал ее, она отказалась отвечать на вопросы о пистолете. Затем к допросу присоединился Яков Свердлов – председатель Центрального комитета ВКП (б), фактический руководитель государства. Если верить свидетельствам, он был выведен из себя упорным молчанием Каплан.
ВЧК нужно было очернить Каплан и разоблачить в ней агента ненавистных эсеров. Допрос продолжался три дня и три ночи, и тот факт, что Каплан не заговорила, свидетельствует о многом. Она не назвала ни Семенова, ни его товарища – активистку Лидию Коноплеву. Каплан продолжала утверждать, что действовала одна, без приказа какой-либо политической партии. Она заявила, что считает Ленина предателем революции, действия которого на десятилетия отодвинули наступление социализма.
Первого сентября, через два дня после покушения, Центральный комитет партии эсеров заявил, что не имеет отношения к покушению. Согласно показаниям Семенова, датированным 1922 г. (к этому времени он уже начал сотрудничать с режимом), это было неправдой. Руководство партии обещало взять на себя ответственность за покушение, однако запаниковало и передумало, поняв, насколько серьезны будут последствия.
Каплан, казалось, уже стала не нужна ЧК. Решение о ее расстреле было принято. Однако у этой истории будет еще один поворот.
В августе 1918 г. большевики вели кровопролитную гражданскую войну против войск под командованием царских генералов. Белогвардейцы стремились свергнуть советский режим и восстановить старый порядок. Борьба между белыми и красными достигла критической точки, результат ее был никому не ясен. Боясь, что победа большевиков приведет к мировой революции и распространению коммунистической заразы по всей Европе, западные державы послали войска в помощь Белой армии. Британские, французские и американские части высадились на Дальнем Востоке. Чешские легионы захватили территории и взяли под свой контроль коммуникации в Сибири. Великобритания начала кампанию с 40-тысячной армией, и кремлевское руководство считало Лондон самым опасным из своих врагов.
Таким образом, не было ничего удивительного в том, что большевики заподозрили британцев – или по крайней мере заявили о том, что подозревают, – в подготовке этого покушения. На следующее утро после него Яков Свердлов сделал заявление от имени советского правительства: «Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. По выходе с митинга товарищ Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выясняются. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов».
Британский дипломат Роберт Брюс Локхарт, который был генеральным консулом в Москве до революции 1917 г., стал представителем Лондона и при большевистском режиме. В своих ярких и тенденциозных мемуарах он описывает выпады против Британии после покушения на Ленина:
«По дороге домой мы купили газету. Она была полна бюллетеней о состоянии здоровья Ленина. Он все еще был без сознания. Были в газете и агрессивные статьи против буржуазии и против союзников… В Петербурге произошла ужасная трагедия. Шайка агентов ВЧК ворвалась там в наше посольство. Отважный Кроми [британский военно-морской атташе капитан Фрэнсис Кроми. – Прим. авт.] пытался препятствовать вторжению и убил комиссара. После этого он был застрелен на лестнице. Все британские дипломаты в Петербурге арестованы…»
Брюс Локхарт, однако, не только выполнял дипломатическую работу, но и являлся сотрудником британской разведки: не случайно он назвал свои мемуары «Воспоминания британского агента». Есть основания полагать, что он сыграл какую-то роль в планах Каплан застрелить Ленина или, по крайней мере, был в курсе дела. Что касается большевиков, то они были уверены в его виновности. Вместе с другим шпионом, Сиднеем Рейли, Брюс Локхарт был публично обвинен в организации заговора, за которым стояли западные империалисты.
«Во вторник мы прочли в большевистской прессе подробный отчет о своей противозаконной деятельности. Они превзошли самих себя, описывая так называемый заговор Локхарта. Нас обвинили в заговоре с целью убить Ленина и Троцкого, установить в Москве военную диктатуру и обречь население Москвы и Петербурга на голодную смерть, взорвав все железнодорожные мосты. Заговор был раскрыт благодаря верности латышского гарнизона, который союзники пытались подкупить большими денежными суммами… Рассказ о событиях в Петербурге был не менее фантастическим. Убийство Кроми было представлено как мера самообороны: агенты большевиков были вынуждены ответить огнем на его огонь. Огромные заголовки выставляли представителей союзников "англо-французскими бандитами", и авторы передовиц визжали, призывая к масштабному террору и самым жестким мерам по отношению к заговорщикам».
Брюса Локхарта арестовали, буквально вытащив из постели. Сидней Рейли все же успел бежать через Петроград в Финляндию и 8 ноября добрался до Лондона. Локхарта чекисты допрашивали на Лубянке. Его мемуары – воплощенное британское хладнокровие перед лицом опасности, однако ясно, что его жизнь висела на волоске.
«Мой срок заключения составил ровно месяц. Его можно разделить на два периода. Первый – пять дней – был периодом дискомфорта и страха. Второй же период, 24 дня, можно охарактеризовать как период относительного комфорта и острого стресса. Моим единственным утешением были официальные большевистские газеты, которыми мои тюремщики с удовольствием снабжали меня. Разумеется, в том, что касалось меня, эти газеты содержали мало утешительного: в них постоянно писали о заговоре Локхарта. Многочисленные резолюции рабочих комитетов требовали судить и казнить меня… С первого дня заключения мне было ясно, что, умри Ленин, моя жизнь не будет стоить ломаного гроша».
В «первые пять дней дискомфорта и страха» Брюса Локхарта Фанни Каплан продолжали допрашивать. После отказа назвать подельников ее перевели в подвальную камеру, где, если верить тюремщикам, она всю ночь то ходила взад-вперед, то устало сидела на деревянном табурете. Утром она отказалась от завтрака. Когда поднялось солнце, ее отвели в камеру Брюса Локхарта на очную ставку с человеком, который, по мнению большевиков, стоял за совершенным ею террористическим актом. Но даже если бы Локхарт знал Каплан, он, разумеется, ничем не показал бы этого.
«В шесть утра в камеру ввели женщину. Она была в черном, у нее были черные волосы и черные круги под глазами, взгляд которых застыл в одной точке. В лице не было красок, черты его, отчетливо еврейские, были непривлекательны. Ей могло быть от 20 до 35 лет. Мы догадались, что это Каплан. Несомненно, большевики надеялись, что она чем-то выдаст, что знает нас. Ее спокойствие было неестественным. Она подошла к окну, оперлась подбородком на руку и смотрела в начинающийся день. Так она и стояла – немая, неподвижная, как видно принявшая свою судьбу, пока ее не забрали охранники. Она так и не узнала, была ли успешной ее попытка изменить ход истории».
В четыре утра 3 сентября Каплан отвели в подземный гараж и расстреляли одной пулей в затылок. Не было ни суда, ни приговора. Кремлевский комендант Павел Мальков, проведший казнь, написал впоследствии, что без колебаний разделался с предательницей Каплан:
«Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, – собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда…»
Мальков пишет, что, согласно инструкции, полученной им от Якова Свердлова, у Каплан не должно было быть могилы. От женщины, которая могла стать святой мученицей контрреволюции, не должно было остаться никаких следов. Поэтому Мальков облил тело бензином и сжег его в металлической бочке в Александровском саду у стен Кремля. Свидетелем происходившего стал известный большевистский поэт Демьян Бедный, захотевший посмотреть на казнь ради творческого вдохновения.
Брюсу Локхарту повезло гораздо больше, чем Каплан. Он провел месяц на Лубянке, после чего его обменяли на высокопоставленного советского дипломата. Стоило ему вернуться, как британские средства массовой информации стали изображать его и Сиднея Рейли героическими западными агентами, благородно боровшимися с коммунистической угрозой. В радиопостановке с Эрролом Флинном в главной роли и в фильме компании «Уорнер Бразерс» «Британский агент» дипломаты были показаны ключевыми фигурами в санкционированной смелой операции.
Документы ВЧК по этому делу противоречат заявлениям Локхарта о том, что Великобритания была тут ни при чем. Если верить этим документам, Локхарт признался в участии в заговоре с целью свержения советского режима и в том, что Сидней Рейли также был его участником. Даже сын Брюса Локхарта Робин писал в 1967 г.: «Когда в 1918-м было принято решение об интервенции, он активно поддерживал контрреволюционное движение, с которым деятельно работал Сидней Рейли. Отец ясно дал мне понять, что сотрудничал с Рейли намного теснее, чем это известно общественности».
Подтверждают это и недавно рассекреченные телеграммы, которыми обменивались Локхарт и его руководство в британском Министерстве иностранных дел. В конце лета 1918 г., незадолго до покушения Фанни Каплан на Ленина, Локхарт отчитался о встрече с бывшим лидером боевого комитета эсеров, или «террористической бригады», Борисом Савинковым, принимавшим участие в заговорах против большевиков. Одна из телеграмм гласила: «Предложения Савинкова по контрреволюции. План того, как будут убиты большевистские тузы и установлена военная диктатура».
Министр иностранных дел лорд Керзон оставил под посланием Локхарта рукописный комментарий: «Методы Савинкова чересчур радикальны, тем не менее, если они будут иметь успех, они, возможно, эффективны».
Мы не можем сделать заключение на основе имеющихся данных. Однако если Великобритания действительно стояла за этим покушением, то Локхарту очень повезло, что он оказался на свободе. До того как позволить ему покинуть Лубянку, британскому дипломату показали страшные последствия заговора против Ленина для тех, кого большевистский режим считал своими недругами.
«Пока мы говорили, во двор внизу въехал черный фургон, что-то вроде "черной Мэри", из него вылез отряд людей, вооруженных винтовками, и занял двор. Сейчас же прямо под нами открылась дверь, и трое мужчин со склоненными головами медленно пошли к фургону. Я сразу узнал их. Это были Щегловитов, Хвостов и Белецкий, три бывших министра царского режима, которые находились в тюрьме с начала революции. Последовала пауза, за ней раздался крик. Потом из дверей наполовину вытолкнули – наполовину вынесли к "черной Мэри" толстого священника. Его ужас внушал жалость. По жирному лицу текли слезы. Его колени подогнулись, и он, как большой шар, повалился на землю. Мне стало противно, я отвернулся. "Куда их везут?" – спросил я. "В мир иной", – сухо ответил Петерс… Это было первая партия из нескольких сотен жертв террора, расстрелянных в то время в знак возмездия за покушение на Ленина».
На следующий день после казни Каплан Яков Свердлов объявил о начале кампании возмездия, которая войдет в историю как Красный террор. Эта кампания, бескомпромиссная и жестокая, стала прямым ответом на покушение 30 августа:
Москва, Кремль. 5 сентября 1918 г.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 сентября 1918 года
О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.
Декрет дал зеленый свет кровожадным фанатикам из ЧК. Теперь они могли арестовать и уничтожить любого, кого заподозрили в малейшем неодобрении большевистского режима, да и вообще любого, кто попадет под руку. Закон и судебный надзор на время потеряли свою силу, приказ о казни могла отдать «тройка» – закрытое совещание трех сотрудников тайной полиции. Апелляций не было.
Паранойя стала нормой жизни, и большевики все более и более полагались на своих палачей-убийц. Методы ЧК, цинично описанные «железным» Феликсом Дзержинским, были просты: признания вырывали под пытками, за этим сразу следовала казнь. «Мы – за организованный террор, – писал в июне 1918 г. Дзержинский, – террор абсолютно необходим во время революции. Чека обязана защищать революцию и бороться с врагами, даже если ее меч обрушивается случайно порой и на невинные головы».
Покушение 30 августа повергло большевиков в пучину паники и страха. В хаосе гражданской войны, окруженное врагами, юное государство видело угрозу повсюду. Предположение, выдвинутое сразу после покушения и всеми принятое, состояло в том, что вождь пал жертвой заговора врагов. Пришли известия и о другом покушении, на этот раз со смертельным исходом. Был застрелен председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий. Множество подозреваемых были арестованы, подвергнуты пыткам и расстреляны.
Точное количество жертв установить сложно. Первая партия, которую связывали с Брюсом Локхартом, состояла, по-видимому, из 800 эсеров и других противников режима. Большинство из них арестовали после Октябрьской революции и держали как заложников, которые должны были заплатить своими жизнями за происки врагов революции. Поражают даже те цифры, которые были опубликованы в официальных источниках. В одном только Петрограде казнили 512 политических заключенных, среди которых никто не был как-либо связан с Фанни Каплан. По всей же стране, по оценкам, было расстреляно 14 000 человек.
Непосредственным результатом августовских событий стало сильнейшее ожесточение большевиков. В отместку за покушение на Ленина классовых врагов хватали и расстреливали без какой-либо их вины, за одно лишь социальное происхождение. Проводившиеся большевиками операции позже были взяты за образец гестапо: из бывших царских чиновников, помещиков, священников, адвокатов, банкиров и купцов отбирали заложников, которых можно было использовать для ответных действий. Британский журналист Морган Филипс Прайс писал о своем ужасе перед методами большевиков:
«Мне никогда не забыть одну из статей в "Известиях" – в номере, который вышел в субботу 7 сентября. Она не оставляла сомнений в значении происходящего. В ней предлагалось взять в заложники бывших генералов царской армии, из кадетов и из среднего класса Москвы и Петрограда, и расстреливать по десять за каждого большевика, который падет жертвой белого террора. Вскоре после этого Центральный исполнительный совет издал декрет, приказывавший всем офицерам старой армии на территории республики собраться в определенный день в определенных местах…Большевистские лидеры объясняли Красный террор тем, что заговорщики убедятся в силе республики только тогда, когда она сможет наказать врагов, в то время как врагов может убедить лишь страх смерти. Все ограничения, наложенные цивилизацией, перестали действовать…»
Ленин сам подписывал расстрельные списки. Именно он инициировал террор, и именно он делал его все более и более кровавым. Заявив, что взял себе за образец фанатичного Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?», он тем самым признал, что им двигала безжалостность. Вот его слова: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей… А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно!»
Этот фанатизм, приведший к огромному количеству «безжалостных избиений» в последующие пять лет, несомненно, был усугублен пулями, попавшими в него в августе 1918-го. Казалось, теперь целью Ленина стало физическое уничтожение целого социального класса. Если живешь чуть лучше других, ты должен испытывать вину. За нежные, не привыкшие к физическому труду руки тебя могут расстрелять. Истинную цель террора описал глава украинской ЧК Мартын Лацис:
«Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность Красного террора».
Во имя ленинской утопии за три года (до 1921-го) было убито, по приблизительным оценкам, полмиллиона человек. Выпущенные Каплан в августе 1918-го три пули сделали террор неотъемлемой чертой советского общества. Апогеем его стали репрессии 1930-х гг., проводившиеся при Сталине. В течение 70 лет существования СССР закону всегда отводилась вторичная роль. Даже в 1980-х Михаил Горбачев говорил о том, что советское общество никогда не управлялось законом. Убийства закончились, но осталось беззаконие, и так продолжается и по сей день.
Могло ли быть иначе, если бы Фанни Каплан удалось убить Ленина? Или если бы это покушение не состоялось? Альтернативная история – дело неблагодарное. Она оставляет слишком много пространства для воображения, однако есть свидетельства того, что соприкосновение Ленина со смертью изменило направление советского политического процесса.
Нацеленный на «классовых врагов» террор вызвал небывалый по размаху исход лучших умов из России. Представителей бывшего среднего класса объявили буржуями, «буржуазными паразитами» и «бывшими». Их дома и имущество конфисковывали. Продуктовые нормы для них были назначены минимальные, они оказались на грани гибели от голода и были обречены на тяжелый, зачастую смертельно тяжелый труд.
От 1 до 2 млн интеллектуалов, ученых, деятелей искусства, которых не скосила коса ЧК, покинули страну. Эта утечка мозгов дорого обошлась нации. Философ Василий Розанов незадолго до того, как умереть от голода, написал пророческие строки:
«Божественная комедия. С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историею железный занавес. Представление окончено. Публика встала. Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».
Люди, благодаря которым функционировала страна, – врачи, инженеры, химики, архитекторы, изобретатели, – погибли или бежали. Их отсутствие ускорило экономический коллапс: промышленность оказалась в свободном падении, фабрики закрылись. На те же зарплаты теперь можно было купить в десять раз меньше прежнего, и пролетариат начал отворачиваться от большевиков. На стенах в Петрограде писали: «Долой Ленина с кониной, даешь царя со свининой!» Начались забастовки, и правительство направило свой Красный террор на рабочих: пошли массовые увольнения, аресты и казни.
Чувствуя, как у него из рук ускользает власть, Ленин отказался от обещаний свободы, справедливости и самоопределения. Риторика свободы сменилась тем, что вошло в историю под названием «военный коммунизм»: жестокий, порабощающий и репрессивный. Ленин пришел к власти под лозунгом мира, хлеба, земли и власти рабочих. Однако после 1918 г. большевики откажутся от каждого из этих лозунгов.
С 1918 по 1921 г. население было обречено на принудительный труд, а нарушения дисциплины карались смертью. Трудовые лагеря стали заполняться «контрреволюционными элементами». За каждым декретом правительства стоял «осадный менталитет». Рабочих уже не рассматривали как проводников революции, но как ее сырье, расходный материал, который можно эксплуатировать в ходе великого социалистического эксперимента. Вместо мира Ленин принес стране опустошение. Вместо хлеба – голод. Вместо рабочих делегатов – террор. Уинстон Черчилль едко заметил о Ленине: его предназначение – спасти мир; его метод – взорвать этот мир. Британский консул в Петрограде полковник Кименс рапортовал:
«Единственная работа, которой заняты советские власти, – это разжигание классовой вражды, реквизиция и конфискация имущества и разрушение абсолютно всего. Подавлена всякая свобода слова и действия, страной правит автократия намного худшая, чем аристократия при старом режиме. Правосудия не существует, каждое действие людей, не принадлежащих к "пролетариату", рассматривается как контрреволюционное и карается тюремным заключением или, зачастую, смертной казнью. Целью советских властей является уничтожение прежнего порядка вещей и капитализма – сначала в России, а потом во всех других странах, и для этой цели подойдут любые методы».
Ленину же все было нипочем. В те годы, что последовали за покушением Фанни Каплан, в его работах не найдешь ни слова сочувствия людям или тревоги по поводу происходящего. Лично подписанные им директивы призывали к еще более масштабным репрессиям во имя большевизма. Он писал: «Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут».
Россия скатывалась в анархию. Города были парализованы забастовками, деревни – бунтами. Ленин отвечал на это еще большим размахом террора.
Когда Григорий Зиновьев и Николай Бухарин попытались ограничить власть ЧК, Ленин не дал им этого сделать. Даже в 1921 г. он все еще расширял полномочия ВЧК на короткую расправу.
После хрущевских разоблачений 1956 г., когда советская историография начала копить доказательства вины Сталина за кровавые перегибы, Ленина продолжали считать невиновным: его репутация была неприкосновенна. Однако нет сомнений в том, что именно Ленин инициировал и утвердил царство террора. Он отдавал приказы о репрессиях, казнях и концентрационных лагерях. И это произошло после покушения Фанни Каплан.
Оно оказало сильнейшее влияние на Ленина. Если бы этого покушения в августе 1918 г. не произошло, размах террора, несомненно, был бы меньшим. Меньше людей потеряли бы свою свободу или жизнь. Но не будь Каплан полуслепа, прицелься она лучше, умри Ленин в августе 1918-го – какую огромную роль это сыграло бы в истории! «Эффект бабочки» в теории хаоса – распространение первоначально незначительных колебаний воздуха, как от трепетания крыльев бабочки, которые постепенно достигают силы урагана, – мог все изменить. Большевистский режим, уже осаждаемый сильным противником, запросто мог рухнуть. И даже если бы он пережил потерю своего вдохновителя, дальнейшее его развитие было бы совсем другим.
Лев Троцкий – жестокий и импульсивный нарком обороны, вероятно, стал бы лидером вместо Ленина. Его ненависть к Сталину, скорее всего, не дала бы этому страшному грузину подняться к вершинам власти. Однако не менее вероятно и то, что твердое намерение Троцкого распространить коммунизм на весь остальной земной шар (он был неуклонным сторонником мировой революции) быстро прикончило бы СССР. Именно прагматичный шаг Сталина – отказ от большевистской мечты о мировой революции в пользу укрепления и защиты социализма «в отдельно взятой стране» – спас Советское государство от уничтожения в кризисные 1920-е гг.
Как выяснилось, события 1918 г. – эскалация гражданской войны, ярость оппонентов большевиков, внутренние склоки между революционерами и, не в последнюю очередь, неудачная попытка Фанни Каплан убить их лидера – все это, вместе взятое, превратило партию большевиков в автократическую группу, которую не интересовали дебаты и мнения, отклоняющиеся от главной линии. С этого момента большевики начали считать себя военизированным братством, окруженным не заслуживающим доверия населением, которое нужно обработать, чтобы оно смогло принять новую реальность. Чтобы достичь своей цели, члены партии должны были стать аскетичными, дисциплинированным фанатиками, которым нет дела до человеческих чувств. Это был конец только зародившейся российской демократии и начало семи десятилетий несгибаемой коммунистической автократии.
11. Поворот в гражданской войне Ноябрь 1918 г. Эван Модсли
Два события середины ноября 1918 г., отделенные друг от друга всего лишь одной неделей, изменили ход гражданской войны в России. Первым стало перемирие между Германией и странами Антанты, подписанное в понедельник 11 ноября в железнодорожном вагоне во французском Компьене. Второе произошло спустя неделю – вечером 17 ноября, за 4700 км от Компьена, в сибирском городе Омске. Временное всероссийское правительство – самопровозглашенный орган власти, управляемый Директорией из пяти человек, – было свергнуто в результате переворота. На следующее утро пост «верховного правителя» России принял военный диктатор – вице-адмирал Александр Колчак.
Перемирие и Россия
По условиям Компьенского перемирия немецкие войска должны были быть отведены за старые границы. На западе на их перемещение отводилось 15 дней (пункт II), и бо́льшая часть войск на востоке также должна была отойти «незамедлительно» (пункт XII), но Россию страны Антанты рассматривали как своего рода исключение. Тот же пункт XII соглашения о перемирии гласил, что германские войска должны уйти с тех территорий, которые до войны являлись частью России, однако им следует подождать момента, который будет приемлем с точки зрения стран Антанты применительно к международной обстановке. Важным являлся также пункт XXV, согласно которому Германия должна была предоставить кораблям стран Антанты свободный доступ к Балтийскому морю{202}.
Германское военное присутствие в России длилось уже больше четырех лет. Военные поражения при имперском правительстве и при «революционном» Временном правительстве привели к немецкой оккупации Польши, а также части территории Белоруссии, Литвы и Латвии. В ноябре 1917-го власть захватили большевики, пообещавшие положить конец войне. Однако переговоры, за которыми последовало перемирие, а потом новые боевые действия, завершились 3 марта 1918 г. подписанием Брестского договора, согласно которому новое советское правительство теряло контроль над обширными, оккупированными германскими и австро-венгерскими войсками, территориями на западе и юге, в Прибалтике и на Украине.
Ноябрьское перемирие 1918 г. положило всему этому конец. Войска Центральных держав, размещенные на российских «пограничных землях», теперь были озабочены, главным образом, тем, как убраться восвояси. Возник временный вакуум власти, который стремились заполнить разные силы. Ведомые националистами этнические меньшинства, заселявшие «пограничные земли», надеялись создать собственные государства. Этнические русские, настроенные против как большевиков, так и национальных меньшинств, хотели вернуть себе контроль над этими территориями и использовать их как базу для борьбы с Советами. Большевистское правительство рассчитывало с помощью постоянно наращивающей численность Красной армии вновь захватить пограничные области. Если же говорить о более масштабных задачах, большевики планировали, что эти области станут мостом к Центральной Европе, который позволит им распространить социализм на Германию и земли Австро-Венгрии. А на западе британцы и французы собирались остановить это расширение русского, или советского, влияния, поддерживая антисоветские правительства – националистов или русских борцов с большевизмом. Особенно заинтересованы в организации «санитарной зоны» вокруг большевистской России были французы. У стран Антанты, как и у сторонников Ленина, была программа-максимум: изолировав советскую зону и поддерживая местные силы, добиться полного крушения большевизма.
Двадцать третьего октября, за две недели до заключения перемирия, премьер-министр Жорж Клемансо подписал приказ об активной борьбе против Советской России ввиду быстро меняющейся военной обстановки. Он особо отметил, что силы большевиков растут, и предложил политику экономической блокады. На юге России планировалась высадка войск, которые должны были отрезать страну от зерна и полезных ископаемых Кубани и Украины и в то же время создать кулак, вокруг которого могли бы объединиться антибольшевистские силы. Четырнадцатого ноября, через три дня после заключения перемирия, британский военный кабинет собрался, чтобы утвердить основные направления послевоенной политики в отношении России. Планировались поставки оружия и боеприпасов воевавшим на юге России войскам генерала Деникина, а также правительствам прибалтийских государств, в случае если те будут готовы к получению и использованию военной материальной помощи. Незначительный контингент британских войск, дислоцированных на севере России и в Сибири, должен был там и остаться. В Сибири британским военным было дано указание предложить дипломатическую поддержку – фактически установить дипломатические отношения с местным антибольшевистским правительством{203}.
Через несколько недель после заключения перемирия корабли Антанты вошли в Балтийское и Черное моря. После заключения 30 октября Мудросского перемирия с Турцией британские и французские корабли смогли наконец войти в Дарданеллы. Утром 13 ноября большой флот встал на якорь у Константинополя. Затем основной флот вышел из Босфора, прошел по Черному морю на север и 25 ноября достиг Севастополя. Отдельные корабли 22 ноября дошли до Новороссийска и 27-го – до Одессы. В Балтийском море корабли Антанты 9 декабря подошли к Либаве (Лиепае) в Латвии и 12-го – к Ревелю (Таллину).
Переворот в Омске
Пятого ноября 1918 г. – за шесть дней до заключения Компьенского перемирия – вице-адмирал Александр Васильевич Колчак стал военно-морским министром Временного всероссийского правительства, которое теперь располагалось в Омске. В центральную Сибирь он попал за три недели до этого, 13 октября.
Поезд с лидерами «всероссийского» антибольшевистского правительства прибыл в Сибирь с запада страны только 9 октября. Исполнительный комитет Временного всероссийского правительства был создан по образцу аналогичного органа времен Французской революции: высшая власть находилась в руках Директории, в состав которой входили пять человек. (Французская Directoire executive правила с 1795 по 1799 г. после свержения якобинцев.) Была сделана попытка сбалансировать состав Директории. Ее члены Н. Д. Авксентьев и В. М. Зензинов состояли в партии эсеров, В. А. Виноградов принадлежал к партии кадетов, которая не являлась социалистической, П. В. Вологодский представлял Сибирский регион, а генерал Болдырев командовал местными антибольшевистскими вооруженными силами.
До сих пор идут споры о событиях, сопутствовавших перевороту. Наиболее вероятно, что во второй половине дня в субботу 17 ноября в Омске состоялась встреча политических и военных лидеров среднего уровня, придерживавшихся правых взглядов. На этой встрече было решено выступить против Директории{204}. В ночь на воскресенье отряд казаков окружил многоквартирный дом в Омске, где жил эсер Е. Ф. Роговский. Он был заместителем министра внутренних дел во Временном правительстве, а Авксентьев и Зензинов, так же как ряд других эсеров, находились на совещании в его квартире. Казачьи офицеры арестовали присутствовавших на встрече и посадили под арест в Сельскохозяйственном институте на окраине Омска. Была также окружена – в казармах – и разоружена небольшая военная часть, обеспечивавшая безопасность эсеров. Обошлось без кровопролития.
На следующее утро, еще до рассвета, Совет министров Временного всероссийского правительства, в который теперь входил адмирал Колчак, собрался в бывшем доме генерал-губернатора{205}. Третий член Директории, кадет Виноградов, уже подал в отставку. Четвертый, Вологодский – которому наиболее близки были интересы Сибири, – явно удивился произошедшим переменам, но не считал возможным бороться за восстановление прежнего статус-кво. Пятый, последний член Директории, генерал Болдырев находился на фронте.
На совещании решили избрать новое руководство, и никто не возражал против того, чтобы заменить Директорию одним человеком. Гражданская и военная власть теперь сосредоточивались в руках верховного правителя. После обсуждения все присутствовавшие единогласно проголосовали за адмирала Колчака, который согласился занять этот пост. В качестве верховного правителя он подписал следующее воззвание:
«18 ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу русского флота Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. Призываю всех граждан к единению и борьбе с большевизмом, труду и жертвам»{206}.
Чтобы разобраться в политической ситуации, которая привела к омскому путчу, и в том, каким образом Колчак оказался в роли политического диктатора, лучше остановиться на нескольких ключевых событиях того года. Отступив на западе России зимой 1917–1918 гг., большевики смогли закрепиться во многих крупных городах южной и восточной части страны. Партия Ленина воспользовалась отсутствием в Петрограде сколько-нибудь сильной партии-соперника и действовала через созданную в 1917-м революционную сеть Советов рабочих и солдатских депутатов. По железным дорогам были отправлены отряды рабочих и солдат, которые должны были подавлять сопротивление на местах. Омский совет, в котором доминировали большевики, начал свою работу 30 ноября 1917 г.
Тем не менее власть большевиков была непрочной, особенно в отдаленных регионах. Зимой 1917–1918 гг. она ослабела в результате демобилизации солдат, прошедших войну, и резкого снижения экономической активности в городах. К тому же все еще деятельны были политические оппоненты большевиков, потерпевшие от них поражение, как правые, так и левые. Некоторые из этих оппонентов образовали подпольные политические группы, соперничавшие друг с другом. Среди них были, в частности, аграрные социалисты (в том числе эсеры), считавшие, что большевики вероломно присвоили себе достижения «их» революции. Другие были в прошлом представителями привилегированных слоев общества. Тот энтузиазм, который они могли испытывать по поводу революции в бурные дни 1917-го, сошел на нет перед лицом политической анархии, коллапса экономики и общенационального унижения. Наконец, имелись «патриотически» настроенные офицеры, остатки армии предвоенного и военного времени. Они мечтали восстановить честь России и ее международный статус.
Пошатнуть непрочную власть большевиков было несложно. Главной силой переворота на востоке России стало экзотическое формирование – Чехословацкий легион. Около 50 000 человек – восемь полков в составе двух дивизий – численно не являлись большой силой. Однако они были распределены по поездам, стратегически расставленным по системе железных дорог. Это соединение было сформировано в 1914 г., на волне славянской солидарности, жившими в России гражданскими чехами и словаками, а в 1917 г. его численность значительно увеличилась благодаря вербовке австро-венгерских военнопленных. В начале 1918 г. советское правительство разрешило корпусу поехать воевать во Францию, однако в мае они уже воевали с советской властью на местах. За июнь и июль легиону удалось взять под свой контроль железнодорожную ветку от Волги до Владивостока. Эта транспортная артерия была столь важна, что советское правительство утратило, таким образом, контроль над всей Сибирью, Южным Уралом и частью Средневолжского региона. Седьмого июня, когда это наступление было в разгаре, в Омске снова сменилась власть: победу одержали чехословаки и местная оппозиция большевикам.
Чехословаки взяли и расположенный в 1500 км к западу от Омска волжский город Самару, причем уже 8 июня. Было создано постреволюционное правительство – противовес правительству большевиков в Москве. Оно постановило, что к нему переходят полномочия Всероссийского Учредительного собрания. Это Собрание появилось на свет в результате национальных выборов, организованных Александром Керенским в последние дни существования Временного правительства и проведенных в первые дни советского правления. В голосовании приняли участие около 45 млн человек, и результат был, безусловно, в пользу эсеров. Они были крестьянской партией в крестьянской стране, у них было богатое революционное наследие, и они выступали за суверенность страны и земельную реформу. На выборах эсеры получили 428 мест из 767, большевиков было всего 180, оставшиеся места поделили правые и центристы. Собрание провело заседание в Петрограде в начале января 1918 г., однако было немедленно распущено большевиками. Тем не менее несколько эсеров находились в Самаре, и к ним присоединились другие. Новой организации было дано название «Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания» – сокращенно Комуч.
За несколько месяцев, в результате напряженных переговоров, Комуч эволюционировал во Временное всероссийское правительство и Директорию. Совещание различных возникших под чехословацким протекторатом местных властей было проведено в Уфе в сентябре. Лидеры эсеров из Комуча согласились с необходимостью расширить представительство: как мы видели, в Директорию входили не только эсеры, но и кадет, и бывший министр сибирской региональной власти, и прогрессивный военный.
Правительство в Самаре сформировало небольшую «народную армию», которая сражалась бок о бок с Чехословацким легионом. Однако за первоначальным успехом последовало сентябрьское контрнаступление Красной армии, и Комучу пришлось покинуть Поволжье и отправиться на Южный Урал и в Западную Сибирь. Тем временем Англия и Франция, хотя и сосредоточенные на яростной борьбе с Германией, все же сохраняли свое военное присутствие на границах России. В ответ на успехи Центральных держав до и после заключения Брест-Литовского соглашения Англия и Франция разместили корабли и десант в двух портах, к которым они имели доступ, а немцы – нет: в Мурманске и Владивостоке. «Спасение» ситуации Чехословацким легионом дало повод для продолжения операций на территории России. В начале августа 1918 г. небольшой экспедиционный отряд под руководством британцев захватил порт Архангельска. Япония вместе с британцами и американцами высадила довольно значительные силы во Владивостоке. Небольшая британская армейская часть – резервный батальон Миддлсекского полка – была даже отправлена «вглубь страны», в Омск.
Но, несмотря на проведение в Уфе государственного совещания и присутствие войск союзников, к лету 1918 г. политические взгляды в лагере противников большевиков резко поляризовались, в особенности в Омске. Это был многосторонний конфликт: между левыми и правыми, военными и гражданскими, местными и пришлыми (беженцами из Центральной России). Особенно же всех беспокоило присутствие в Директории двух эсеров. Несмотря на то что эсеры были заклятыми врагами как немцев, так и большевиков, правые не видели разницы между ними и партией Ленина и винили их в унижении России как великой державы в 1917 г.: член Директории Авксентьев был министром внутренних дел во Временном правительстве Керенского. Кроме того, представителей других партий раздражали притязания эсеров на исключительную и бессрочную легитимность – результат их победы с большим перевесом на выборах в Учредительное собрание{207}.
Со своей стороны, эсеры, считавшие себя истинными наследниками революции 1917 г., относились со все меньшим доверием к соратникам не из лагеря социалистов, в особенности к офицерскому корпусу. Они еще хорошо помнили борьбу с самодержавием, в особенности неудачную революцию 1905 г. В августе 1917-го генерал Корнилов попытался захватить власть в Петрограде. Позже, в сентябре 1918-го, консервативно настроенные офицеры свергли правительство, сформированное при поддержке англичан в Архангельске ветераном партии эсеров Чайковским. В Омске было несколько случаев, когда эсеровских активистов расстреливали «эскадроны смерти» правых.
Растущее напряжение подсказало лидеру российских эсеров Виктору Чернову идею написать манифест, объявляющий главным приоритетом «борьбу с контрреволюционными заговорами». Обращение, опубликованное в конце октября 1918 г. заседающим в Екатеринбурге Центральным комитетом партии эсеров, призывало членов партии мобилизоваться, тренироваться и вооружаться для борьбы{208}. Это еще сильнее разозлило правых, и в результате было принято решение об аресте эсеров – членов Директории в Омске 17 и 18 ноября.
Конфликт усугубила политическая и институциональная слабость Директории, привитой на несоциалистическое «сибирское» правительство. Многие люди и организации, входившие в это правительство, оставались у власти в составе сформированного 4 ноября Совета министров. Тем временем престиж Директории страдал от того, что проводившаяся под ее знаменем военная кампания терпела одно поражение за другим. Антибольшевистские силы отошли под давлением Красной армии на Волге, потом на Южном Урале. Это отступление убедило консервативно настроенных солдат – как русских, так и иностранцев – в том, что необходима сильная власть, организованная по принципу бескомпромиссного военного правления{209}.
Александр Васильевич Колчак был фигурой замечательной и трагической{210}. Звание вице-адмирала он получил в августе 1916 г., в возрасте всего 42 лет. Тогда же его назначили командующим Черноморским флотом, который сыграл значительную роль в войне с Турцией. Колчак к тому же был героем: во время Русско-японской войны он командовал флотилией эскадренных миноносцев и ими же – на Балтике во время Первой мировой. Помимо этого он прославился как бесстрашный полярный исследователь и океанограф. А во время службы в Военно-морском генеральном штабе в 1910-е гг. Колчак обзавелся полезными политическими контактами. После революции 1917-го он приобрел репутацию человека, противостоящего революционным переменам в вооруженных силах. В начале июня 1917 г., когда революционно настроенные матросы на военно-морской базе в Севастополе потребовали, чтобы офицеры сдали кортики, Колчак демонстративно выбросил свой за борт и заявил, что уходит в отставку.
Временное правительство отправило адмирала с военно-морской миссией в США, и по пути он посетил Британское адмиралтейство. Завершив миссию, 25 октября по новому стилю Колчак отбыл из Сан-Франциско, планируя вернуться в Россию через Владивосток. Но к тому моменту, когда он достиг Иокогамы, Временное правительство и Керенский были уже отстранены от власти. Не желая, да и не имея возможности вернуться в большевистскую Россию, Колчак провел зиму 1917–1918 гг. на Дальнем Востоке. Будучи человеком действия и стремясь сражаться против Центральных держав, он предложил свои услуги британцам и получил приглашение участвовать в кампании в Месопотамии. По пути в Персидский залив он в марте 1918 г. прибыл из Японии в Сингапур и здесь был отозван русским (еще не советским) послом в Китае: тот попросил Колчака набрать людей для строительства Китайско-Восточной железной дороги, которая находилась в собственности России. Колчак обосновался в Харбине, однако провел на посту всего три месяца весной и летом 1918 г. Не достигнув особого успеха, в конце июля 1918 г. он вернулся в Японию.
Тем летом в Японии Колчак провел переговоры с генералом Альбертом Ноксом – ведущим специалистом по России в британской армии. На Нокса произвела большое впечатление энергичность Колчака и его решительное предпочтение военным методам правления. В конце августа он рапортовал в Военное министерство о том, что Колчак, «несомненно, больше других подходит для наших целей на Дальнем Востоке»{211}. В начале сентября Колчак и Нокс вместе отправились через Японское море во Владивосток и прибыли туда 8 сентября. Через две недели они поездом выехали в Сибирь. Быстро добраться не вышло: в Омске Колчак был только через три недели, 13 октября. Историков всегда интересовало, почему Колчак решил отправиться вглубь Сибири. Когда в январе 1920 г. суд в Иркутске решал, жить ему или нет, адмирал продолжал утверждать, что надеялся добраться на юг России к семье{212}. Более вероятно тем не менее, что он в этой очень неопределенной и быстро меняющейся военной и политической ситуации сентября и октября 1918 г. рассматривал различные варианты дальнейших действий. Одной из открывшихся перед ним на тот момент возможностей была перспектива примкнуть к антибольшевистским силам, которые собирались на Урале и в Западной Сибири. Другой путь – пробиваться еще дальше на запад, если только это будет возможно, и присоединиться к войскам генералов Алексеева и Деникина: было известно, что эти два генерала старой армии ведут успешную борьбу в изоляции, укрепляя позиции Добровольческий армии на Северном Кавказе. Есть лишь косвенные и полученные, что называется, задним числом свидетельства того, что Колчак отправился в дальний путь, рассчитывая стать – возможно, с помощью британцев – региональным (и уж точно не всероссийским) военным диктатором. Он уезжал из Владивостока, когда ни Временного всероссийского правительства, ни Директории еще даже не существовало{213}.
Неудивительно, что, попав в Западную Сибирь, Колчак присоединился к новому антибольшевистскому правительству и его вооруженным силам: человек с его способностями, политической репутацией и обладающий поддержкой Запада вызывал интерес. Позже адмирал говорил, что получил приглашение участвовать в Совете министров Временного всероссийского правительства от генерала Болдырева – командующего вооруженными силами Директории, а уж Болдырев-то точно не собирался Директорию свергать{214}.
Хотя генерал-лейтенант Болдырев носил в сентябре 1918 г. звание Верховного главнокомандующего вооруженными силами, у него не было такой, как у Колчака, репутации у английского и французского правительств и их представителей в России. Еще важнее то, что сам Болдырев симпатизировал политикам – центристам с левым уклоном. Крестьянский сын, Болдырев вырос на армейской службе до заместителя начальника штаба Северной группы войск. Этот пост под началом генерала Рузского он получил зимой 1916–1917 гг. В конце осени 1917-го он недолгое время командовал 5-й армией, а в начале июля 1918-го вступил в Союз возрождения России – влиятельную подпольную организацию, включавшую активистов левого крыла партии кадетов и правых эсеров. Среди ее лидеров были Авксентьев и Зензинов. Представляется крайне маловероятным, чтобы правые сибирские политики предложили роль военного диктатора Болдыреву, да к тому же он вряд ли бы принял ее{215}.
Став 4 ноября военно-морским министром, адмирал Колчак сразу же отправился из Омска в 12-дневную поездку с инспекцией в войска, сражавшиеся примерно в 1000 км к западу, на Северном Урале. Генерал Нокс, со своей стороны, 5-го отправился поездом во Владивосток. Некоторые авторы обвиняют обоих в том, что они намеренно отсутствовали в Омске, чтобы их не сочли явными участниками переворота. Однако можно посмотреть на это иначе: если бы кто-то из этих двоих планировал свержение Директории, он предпочел бы находиться в момент путча на месте. Один из главных организаторов переворота – В. Н. Пепеляев – 5 ноября написал в дневнике, что Колчак заявил о неготовности взять в свои руки власть при данных обстоятельствах. В то же самое время Нокс известил Министерство обороны, что он не рекомендовал Колчаку уступать уговорам правых офицеров и соглашаться принять верховную власть, так как «в настоящее время такой шаг будет фатальным»{216}.
Несомненно, большое значение имеют действия Колчака в дни и часы, предшествовавшие утру 18 ноября. Был ли он активным участником заговора, который сделал его военным диктатором, или события действительно застали его врасплох, так что он согласился «принять бремя власти», лишь когда переворот стал свершившимся фактом? Колчак приехал в Омск накануне переворота, 16 или 17 ноября{217}. Он заявлял, что узнал о ночных арестах членов Директории только 18-го, находясь дома, когда его разбудили в 4 часа утра. Это вполне может быть правдой. Мало кто из историков пытался доказать прямое участие адмирала в перевороте, и одно из лучших описаний произошедших тогда событий – сделанное британским историком Питером Флемингом – исключает его прямое участие{218}.
Мнения о роли в перевороте британских дипломатических и военных представителей также разнятся. Генерал Морис Жанен, прибывший в Омск через несколько недель после переворота в качестве старшего французского военного представителя, позже утверждал, что переворот был произведен при поддержке британских военных советников или даже организован ими{219}. На момент переворота в Омске находились два русскоговорящих британских офицера, которые поддерживали контакты с омскими политиками и военными, – подполковник Нилсон и капитан Стивени. Ни один из них не был сторонником Директории, так что они могли на словах выразить поддержку кому-то из заговорщиков или заверить их в своих симпатиях{220}. Тем не менее кажется маловероятным, что они сумели все организовать сами. Еще одним важным фактором, связанным с Великобританией, было присутствие Мидлсексского батальона, который размещался в Омске и у которого имелся по крайней мере потенциал для противодействия антиперевороту. Тем не менее никто из историков не выдвигает предположения, что этот батальон получил приказ о ведении действий против Директории или что он принял активное участие в событиях 17–18 ноября.
Согласно исчерпывающему описанию событий, сделанному Ричардом Уллманом, британское правительство и МИД определенно к ним не причастны. Невозможно что-либо заключить относительно участия или неучастия представителя Министерства обороны Нокса, однако, по мнению Уллмана, он разве что горячо симпатизировал перевороту. По мнению Уллмана, британские нижние чины, находившиеся в то время в Омске, не поощряли переворот, но и не осуждали его. Генерал Нокс, покинувший Омск почти за две недели до путча, впоследствии отрицал какую-либо роль в нем Великобритании{221}. И что самое главное, на упоминавшихся выше важных совещаниях 13–14 ноября, посвященных послевоенной политике в отношении России, британский Военный кабинет решил «признать Омскую директорию фактическим правительством»{222}. В то же время об этом важном событии британские политики публично не объявляли, и о нем уж точно не были оповещены сотрудники, находившиеся в Сибири.
Более уверенно мы можем судить о действиях известных нам заговорщиков, а не о Колчаке, которому в конечном итоге предстояло пожинать плоды этого заговора{223}. Во главе же его, по-видимому, стояли В. Н. Пепеляев и И. А. Михайлов – люди гражданские, а также заместитель начальника штаба Сибирской армии полковник А. Д. Сыромятников. Представляется более вероятным, что заговорщики действовали по собственной инициативе. У них имелись серьезные мотивы. Долгое время они враждебно относились к эсерам, и это негативное отношение усилилось после манифеста Чернова. Генрих Иоффе в своей работе, написанной в советское время, вполне убедительно делает упор на интригах партии кадетов и подпольной организации «Национальный центр», а Пепеляев играл заметную роль в обеих{224}. Эти «младотурки» были амбициозны: Пепеляеву было 34 года, Сыромятникову – 31 год, а Михайлову – всего 26 лет. Очень возможно, что Колчака они надеялись использовать просто как номинального руководителя.
Обращает на себя внимание и то, что переворот был принят старшими (и более осторожными) представителями омского военного и политического руководства. К аресту Авксентьева и Зензинова они отнеслись как к свершившемуся факту. В написанном в апреле 1919 г. частном письме к Михайлову Сыромятников ставит ему в заслугу то, что тот добился от вышестоящих действий, которых иначе от них было бы не дождаться{225}. Ни в самом Омске, ни со стороны иностранных держав требований восстановить Директорию не прозвучало.
Что касается адмирала Колчака, то он вовсе не был обязан принимать «крест этой власти». Однако, как он заявил в своем обращении, ему не хотелось идти «по гибельному пути партийности». Во время суда над ним в 1920 г. Колчак вспомнил одну из своих бесед с генералом Ноксом в Японии. Колчак тогда говорил о значении вооруженных сил:
«Я сказал, что организация власти в такое время, как теперь, возможна только при одном условии, что эта власть должна опираться на вооруженную силу, которая была бы в ее распоряжении. Этим самым решается вопрос о власти, и надо решать вопрос о создании вооруженной силы, на которую эта власть могла бы опираться, так как без этого она будет фиктивной, и всякий другой, кто располагает этой силой, может взять власть в свои руки».
У Колчака, несомненно, не было времени ни на эсеров, ни на Учредительное собрание, на котором зиждилась их власть. «Общее мнение всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, было таково, что только авторизированное Учредительным собранием правительство может быть настоящим, но то Учредительное собрание, которое мы получили, которое было разогнано большевиками и которое с места запело "Интернационал" под руководством Чернова, вызвало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс»{226}.
В конечном итоге мало что связывает омский переворот с перемирием. В предпоследнем предложении своего заявления, сделанного 18 ноября, Колчак упоминает «великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру», и это можно интерпретировать как ссылку на победу Англии и Франции (парадоксально, но Колчак при этом провозглашал военную диктатуру). Секретное решение Военного кабинета от 14 ноября о признании Директории стало одним из шагов в рамках пересмотра британской политики, последовавшего за перемирием. Британский историк и журналист Майкл Кеттл считал, что информация об этом могла быть тайно передана правым кругам в Омске и мотивировать заговорщиков на упреждающий удар{227}. С учетом расстояний и непрочной связи в цепи событий это кажется маловероятным, хотя и возможным. И столь же маловероятно, что омские заговорщики ожидали или могли предполагать утрату интереса к России со стороны Англии и Франции после заключения перемирия – но именно это и произошло.
Последствия и возможные альтернативы
Какое-то время адмиралу Колчаку сопутствовал военный успех. В декабре 1918 г. белогвардейцы и чехи смогли оттеснить красных к Уралу. В конце месяца они взяли важный промышленный центр – Пермь. В марте 1919-го армия Колчака начала генеральное наступление на Южном Урале и быстро отбила у красных Уфу. Однако к лету антибольшевистские силы в Сибири уже отступали. В тылу начались беспорядки, а правительство не слишком старалось заручиться народной поддержкой. Колчак не показал себя ни успешным военачальником, ни проницательным политическим лидером. В ноябре 1919-го он был вынужден сдать Омск. Не сумев добиться признания своего правительства со стороны англичан и французов, Колчак отказался от титула верховного правителя в пользу генерала Деникина. В январе 1920 г. во время отступления адмирала на восток его поезд был остановлен в Иркутске. Колчака арестовали, судили и расстреляли, тело спустили под лед в Енисей. Он стал единственным из лидеров Белого движения, кого в гражданскую войну пленили и казнили{228}.
Какими могли быть альтернативные сценарии развития событий? Самый интересный вопрос – что было бы, если бы Центральные державы не проиграли войну в 1918-м? Но ответ на него выходит за рамки темы этой главы. Она посвящена событиям, происходившим после лета 1918 г., а к тому времени последнее германское наступление уже провалилось.
Еще один сценарий: Директория могла бы существовать и в 1919 г., если бы «под рукой» не оказалось «авторитетного диктатора» или если бы адмирал Колчак отказался от поста верховного правителя. Последнее могло произойти, если бы осенью на юге России не скончался скоропостижно самый значительный из потенциальных всероссийских военных лидеров – генерал М. В. Алексеев. Большую часть войны он был начальником штаба верховного главнокомандующего, а недолгое время в 1917-м – и верховным главнокомандующим.
Директория также могла бы продолжить свое существование, если бы британское Министерство иностранных дел признало Временное всероссийское правительство и если бы у нее оказалось больше времени. Альтернативным лидером был бы генерал Болдырев. Он мог выбрать более разумный политический курс и вряд ли показал бы себя менее успешным военачальником, чем Колчак. Однако такой удачный для антибольшевистских сил вариант исключался напряженностью отношений между российскими левыми и правыми и неограниченной властью реакционных вооруженных банд. Кто бы ни стоял за омским переворотом, его истинное значение состоит в том, что он показал непреодолимую и роковую пропасть между «путем партийности» и «путем реакции» (по словам самого Колчака) в антибольшевистском движении{229}.
Перемирие окончилось господством Германии и ее союзников над российскими западными и южными приграничными территориями, что привело к кровопролитной гражданской войне в этих областях. Франция и Англия с их мощной военной силой получили беспрепятственный доступ на российскую территорию. И если говорить об альтернативных сценариях, могли ли Великобритания, Франция, США и Япония решиться зимой 1918–1919 гг. на силовое вмешательство в события в России?
Тот факт, что они на это не пошли, никак не связан с правительством Колчака. Свою роль здесь сыграло поражение Германии в ноябре 1918 г.: оно привело к тому, что у союзников не осталось серьезного мотива для подобного вмешательства, тем более крупномасштабного. Их население и армии устали от войны и не горели желанием вести боевые действия на территории России. Французы выделили определенные силы для экспедиции на юг Украины в середине декабря 1918 г., но было очевидно, что их войска не очень-то хотят воевать, равно как и войска балканских союзников Франции. Кампания завершилась унизительным, сопровождавшимся бунтами в войсках отступлением из Одессы в марте и из Севастополя в апреле 1919-го. При этом в Прибалтику союзники не направляли живую силу и не делали почти никаких поставок. Британцы отправляли на юг России оружие и боеприпасы со складов, оставшихся с войны на Ближнем Востоке и в других местах, однако этого было недостаточно, чтобы нанести поражение Красной армии.
Наконец, очень серьезной, хотя и не решающей проблемой для Белой армии в Сибири стала, как это ни странно, вновь появившаяся возможность использовать морской путь через Черное море. Близость к Центральной России сделала Добровольческую армию генерала Деникина более привлекательным для союзников получателем материальной помощи по сравнению с армией Колчака в далекой Сибири. Поэтому события в Омске в конечном итоге не имели решающего значения. Деникин создал на юге России авторитарное правительство и сделал бы это в любом случае. Стадии Директории там не было.
Временное всероссийское правительство, вероятно, не могло соперничать с белыми генералами юга России за военную и дипломатическую поддержку союзников. Кроме того, Временное всероссийское правительство, находясь на таком расстоянии от центра, было не в состоянии контролировать все «всероссийское» антибольшевистское движение, учитывая сложность передвижения и состояние коммуникаций. Будь Временное всероссийское правительство более демократическим, оно не сумело бы организовать первое наступление против большевиков с такой скоростью, с какой это сделал Колчак. Могло ли более демократическое правительство в Сибири завоевать большую народную поддержку или, по крайне мере, отвратить от себя меньше народа? Возможно да, но поддерживаемая крестьянами партия эсеров не имела крепких политических корней в Сибири, где не знали крепостничества и не страдали от нехватки земли. Что касается строительства государства, то сложно представить, чтобы Директория добилась большего успеха, чем Колчак.
По всей видимости, роковой раскол в антибольшевистском движении был неизбежен. Как неизбежно было и то, что Англия и Франция не пошли на серьезное послевоенное вооруженное вмешательство в России. Тем не менее события 18 ноября явно разделили трагедию гражданской войны надвое. Участие других государств всегда имело большое значение, однако поражение Центральных держав и победа союзников действительно сильно сократили масштабы иностранной интервенции. В 1918 г. Центральные державы оккупировали Прибалтику, Белоруссию, всю Украину и большую часть Закавказья. В 1919 и 1920 гг. Англия и Франция не предприняли ничего, сравнимого по масштабам.
Кроме того, после триумфа в ноябре 1918 г. в антибольшевистском лагере военной элиты, представителями которой были Колчак и Деникин, изменился и политический характер конфликта. Несмотря на то, что большинство чехословаков вернулись после 1918 г. домой, а прямого вмешательства иностранных вооруженных сил не произошло, белые войска стали представлять более серьезную угрозу Красной армии: по сравнению с ситуацией до ноября 1918 г. у них теперь было более грамотное командование, большая численность, и их эффективность повысилась. Однако эти армии имели лишь рудиментарные политические программы по сравнению даже с Комучем и Временным всероссийским правительством. Популярный диктатор (пришедший на смену царю) не мог получить в России массовую поддержку, по крайней мере до 1930-х гг.
12. Участь крестьянства в советской России Март 1920 г. Эрик Ландис
Среди всех задач, стоявших перед большевистским правительством во время гражданской войны, не было более важной, чем наладить снабжение продовольствием. Перебои с ним начались еще до Февральской революции 1917 г. и сами по себе сыграли значительную роль в падении самодержавия в России. В период с 1918 по 1921 г. необходимость заготовки продовольствия для Красной армии и населения промышленных городов севера европейской части России подвигла правящую партию на ряд изменений в ее политике и внедрение нововведений. Тем не менее в условиях гражданского противостояния закупка продовольствия у крестьян на практике почти всегда перерождалась в «административные меры» и «реквизицию зерна»{230}. Во время гражданской войны обеспечение продуктами питания, необходимыми государству, выродилось в почти непрерывный конфликт между отрядами продразверстки и отданным им во власть крестьянством.
На протяжении всего этого периода производство сельскохозяйственной продукции неуклонно снижалось. Летом 1920 г., когда исход гражданской войны был почти предрешен (основные войска белых потерпели поражение, и советское правительство искало пути выхода из войны с националистической Польшей), очередной этап реквизиции зерна вооруженными отрядами продразверстки вызвал волну сопротивления. Оно достигло беспрецедентных масштабов: крупные антисоветские восстания произошли во многих значимых регионах республики. Для восстановления контроля над охваченными бунтом губерниями потребовалось направить туда сотни тысяч солдат Красной армии. Однако чаще всего войска призывали на помощь уже тогда, когда поспешно мобилизованные и плохо вооруженные части, состоявшие из местных коммунистов, уже проваливали попытку подавить восстание в своих регионах, которые они якобы контролировали. В сущности, из-за борьбы за зерно, вылившейся в полномасштабное вооруженное противостояние, гражданская война затянулась почти на год.
Эта «вторая гражданская», как назвал ее один историк{231}, закончилась лишь после того, как при подавлении восстаний были убиты десятки тысяч людей. Выражаясь языком властей, мятежи стали результатом происков подрывных элементов, контрреволюционеров-кулаков – богатых крестьян, которых считали заклятыми врагами советской власти, пособниками соперников режима – эсеров и международной буржуазии. Кровавому противостоянию сопутствовал неурожай, случившийся во многих регионах. Голод, в первую очередь в Поволжье и на Урале, унес жизни нескольких миллионов людей. Однако напрашивается вывод о том, что такой эпилог революции и гражданской войны не был неизбежен и трагедия произошла в результате решений, принятых советским руководством в начале 1920 г.
Данный очерк посвящен окончанию гражданской войны в России и упущенным в тот период возможностям. Как правило, источники указывают на 1921-й как на год завершения гражданской войны. Хотя вооруженные столкновения продолжались на территории бывшей Российской империи еще несколько месяцев, точкой отсчета в хронологии стало введение руководством Российской коммунистической партии (большевиков) в марте 1921 г. новой экономической политики (НЭП). Этот шаг был сделан для того, чтобы покончить с практикой насильственной реквизиции зерна, а за ним последовал ряд декретов, которые, помимо прочего, частично реабилитировали рынок. Позволив крестьянам относительно свободно распоряжаться своим урожаем после вычета натурального налога, власти совершили радикальный поворот в советской политике. Эти меры были призваны снизить накал озлобленности и отчаяния, из-за которых вспыхивали восстания в деревне, городах и в армии. Это был первый и самый важный шаг, сделанный в процессе реконструкции Советского государства, которое стремилось как можно скорее положить конец тяготам военного времени, не прекращающимся с 1914 г.
Еще в марте 1920-го, за год до введения Лениным реформ, заложивших основы НЭПа, Лев Троцкий выступил с предложением прекратить реквизицию зерна и искать альтернативу, которая могла бы привлечь крестьян. В ходе поездки на Урал в январе и феврале 1920 г. военный комиссар пришел к выводу, что существующий подход к обеспечению продовольствием неприменим в долгосрочной перспективе: он вредит как экономике сельского хозяйства, так и взаимоотношениям власти с сельским населением. В рамках послевоенного строительства, которое советское руководство открыто обсуждало в начале 1920 г., Троцкий предложил ряд новых путей, в том числе регулируемый рынком товарообмен между производителями сельхозпродукции и промышленными предприятиями, который стимулировал бы крестьян производить больше зерна и другой продукции. По сути предложения Троцкого были очень похожи на те, что позже примет на вооружение партия. Однако это произойдет лишь через несколько месяцев, полных насилия и страданий, в которые вылилась злосчастная продовольственная политика военного времени. А первоначально коллеги в советском правительстве предложения Троцкого отвергли.
Это решение имело последствия даже более серьезные, чем страдания людей на завершающем этапе гражданской войны. Менее чем через десять лет еще один советский лидер совершил спешно организованную поездку на Урал, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. Его целью было разрешить кризис со снабжением зерном и найти пути усиления политического контроля в сельской местности. Этот лидер публично призвал вернуться к изъятию излишков зерна, чтобы разделаться с кулаками раз и навсегда. Речь Иосифа Сталина в Новосибирске в январе 1928 г. поставила СССР на путь полномасштабной коллективизации в сельском хозяйстве. Этот процесс активизировал воинствующую составляющую РКП(б), которая так и не смирилась с «позорным отступлением» в марте 1921 г., когда партия была вынуждена «сдать позиции» под давлением «кулаков» и принять новую экономическую политику. Речь, произнесенная в 1928 г. в Новосибирске, стала ключевым моментом в формировании того, что получило название советского социализма, и в создании сталинской диктатуры. Несомненно, гражданская война и усилия партии по строительству социализма в аграрной стране сыграли здесь свою роль.
В декабре 1919 г. бои с Белой армией еще продолжались, однако было уже ясно, что ее поражение не за горами. Бывшие союзники России по Первой мировой войне вывели свои войска с севера и Дальнего Востока бывшей империи и одновременно с этим значительно сократили объемы финансовой и материальной помощи белым на всей территории будущего Советского Союза – от Мурманска до Владивостока. В Сибири колчаковская армия, наступление которой весной 1919-го на короткое время стало серьезной угрозой для советского правительства в Москве, теперь находилась на завершающей стадии самого масштабного отступления в современной военной истории, и до ареста адмирала Колчака и его казни на берегу озера Байкал оставалось всего несколько недель. Силы генерала Юденича, которые в октябре 1919 г. угрожали Петрограду, к ноябрю были разгромлены. Поход на Москву войск генерала Деникина, достигший максимального успеха к началу осени 1919-го, к концу года обернулся тем, что белые отходили к Дону и Кубани с такой же скоростью, с какой наступали летом. Обращаясь в начале декабря к VIII съезду РКП(б), Ленин с уверенностью говорил о быстрой перемене ситуации в пользу советского режима:
«Перед нами открывается дорога мирного строительства. Нужно, конечно, помнить, что враг нас подкарауливает на каждом шагу и сделает еще массу попыток скинуть нас всеми путями, какие только могут оказаться у него: насилием, обманом, подкупом, заговорами и т. д. Наша задача – весь тот опыт, который мы приобрели в военном деле, направить теперь на разрешение основных вопросов мирного строительства»{232}.
Говоря о ближайшем будущем республики, Ленин предвосхитил горячие дискуссии, начавшиеся во второй половине декабря в связи с «милитаризацией» труда. Все началось со статьи, опубликованной Львом Троцким в газете «Правда», где он призывал руководство использовать принцип принуждения для организации рабочей силы. Троцкий, никогда не стеснявшийся влезать в споры по любому аспекту общественной политики, сейчас направил свое внимание на модель экономического развития, подсказанную успешной организацией Красной армии – в особенности в отношении мобилизации и иерархии, поборником которых он был в 1918 г. Считая демобилизацию Красной армии после победы в гражданской войне полезным явлением, Троцкий выступал за использование армейской машины для мобилизации рабочей силы для Советской республики. Эту силу требовалось эффективно и рационально распределить по важным отраслям промышленности, что дало бы возможность перестроить экономику и ускорить переход к социализму. Обязанность трудиться как неотъемлемый компонент бытности гражданином обсуждалась коммунистами с первых же дней революции. Людей мобилизовывали на рытье окопов, на ремонт дорог и железнодорожных путей в соответствии с потребностями момента в течение всей гражданской войны точно так же, как до революции это делало царское правительство{233}. Однако прежде принцип обязательного труда не применялся правительством в таком масштабе. Ленин отнесся к этим идеям с энтузиазмом, поддерживая Троцкого и его видение при агрессивной критике со стороны оппозиции – представителей профсоюзов в компартии. В конце того же года Ленин участвовал в Комиссии по введению всеобщей трудовой повинности. Ее председателем был назначен военный комиссар Троцкий{234}.
Задачи, связанные с восстановлением экономики, стояли огромные. За годы, последовавшие за свержением самодержавия в феврале 1917-го, промышленность была в значительной степени разрушена, и попытки советского правительства остановить спад производства и изменить ситуацию оказались неэффективными. К началу 1920 г. объем выпуска продукции тяжелой промышленности составлял менее одной пятой по сравнению с тем же показателем на момент начала Первой мировой войны. Объем выпуска продукции легкой промышленности был выше, однако все равно составлял менее 50 % от довоенного показателя{235}. Такие важные отрасли, как горнодобывающая и производство лесоматериалов, имеющие ключевое значение и для транспорта, и для промышленности, отчаянно нуждались в восстановлении. Когда в 1920 г. проект по мобилизации рабочей силы принял более конкретные очертания, внимание обратили в первую очередь на эти отрасли. Впервые «трудовая армия» была размещена в Западной Сибири и опробована там для решения срочных задач. Реввоенсовет 3-й армии, сыгравшей большую роль в остановке наступления Сибирской армии Колчака, направил ее солдат в распоряжение Троцкого и его проекта. Так как их участия в преследовании тающих войск Колчака не требовалось, а перегрузка железных дорог обрекла большую часть этих солдат на бездействие, появилась возможность отправить их на работы по валке леса, расчистке снега, восстановлению инфраструктуры и выполнению других задач в этом регионе. В данном случае на трудовой фронт не мобилизовали гражданских, что первоначально предлагал Троцкий и что вызвало бурную дискуссию с профсоюзами, однако этот шаг связал воедино параллельные процессы демобилизации и восстановления экономики{236}.
Когда 8 февраля 1920 г. Троцкий отправился в Екатеринбург, чтобы наблюдать за процессом отправки солдат 3-й армии на трудовой фронт, он, без сомнения, был сосредоточен на проблемах экономики и думал о мирном времени. За два последних года он изъездил страну вдоль и поперек, но экономикой занимался в основном с точки зрения военных задач. Однако, будучи одной из самых важных фигур в новом правительстве и находясь более других на виду, он регулярно получал письма и петиции от обычных граждан. Пока его личный поезд следовал на Урал, он нашел время для того, чтобы написать ответ на одно из таких писем – от пензенского крестьянина Ивана Сигунова. Сигунов жаловался на нехватку в деревне самого необходимого и на казавшиеся непомерными требования, предъявляемые к крестьянам государством.
В своем ответе, датированном 12 февраля, Троцкий написал о дилеммах, стоявших на тот момент перед Советской республикой. Он твердо придерживался линии партии, особенно в том, что касалось разверстки. Так называлась политика, которую начали применять в 1919 г., прекратив говорить об «излишках». Вместо этого стали оперировать таким понятием, как нужды государства, и забирать продукцию у жителей деревни на основании четко поставленных планов. Ранее Советское государство изымало излишки с обещанием обменять их на эквивалентное количество товаров, но в конце концов оно вынуждено было признать, что такой обмен был фикцией и что реквизированное зерно его производители должны считать «заемом» государству – инвестицией в революцию. «Кредитных бумажек у крестьян немало, – писал Троцкий, признавая, что терпение таких людей, как Сигунов, подвергается испытаниям. – Да дело теперь не в них. Нам нужны товары, промышленные продукты, все то, что служит на потребу человеку и его хозяйству. Надо поднять промышленность текстильную, металлообрабатывающую, деревообделочную, химическую и пр., и пр., чтобы ни в чем не терпел народ недостатка.
При капитализме товар доставлялся тому, кто мог его купить. Капиталисты снимали с товара большой барыш. Это советской властью уничтожено. Заводы, фабрики и железные дороги находятся в руках трудящегося народа. То, что на этих заводах производится, идет не на барыш капиталистам, не на утеху богачам, а на покрытие народных нужд. В этом великое завоевание Октябрьской революции 1917 года. Но все горе в том, что производится мало.
А производится мало потому, что страна разорена, машины сильно износились, заводы расстроены, сырых материалов не хватает, топлива нет, и рабочие, знающие свое дело, разбросаны кто куда».
Первым шагом к решению проблемы, по мнению Троцкого, было обеспечить продовольствием рабочую силу, которая в годы гражданской войны значительно сократилась, так как семьи переезжали в сельскую местность, где проще было добыть пропитание:
«Рабочие Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенского района, Донецкого бассейна и даже Урала терпят жесточайшую продовольственную нужду, а временами тяжко голодают. Голодают московские и питерские пролетарии не день и не два, а в течение уже нескольких лет. Голодают железнодорожные рабочие. От голода слабеет не только тело человека, но и его дух. Руки опускаются, падает воля. Трудно поднять голодных рабочих на напряженную, энергичную, согласованную работу. Первым делом нужно накормить рабочих»{237}.
Без зерна нельзя было и думать о восстановлении промышленности. Тем не менее Троцкий понимал, что без обмена на промышленные товары получить зерно у крестьян будет нелегко, если вообще возможно.
На деле усилия Советского государства по обеспечению продовольствием периодически оборачивались насилием. В 1918 г., после неудачной попытки ввести фиксированные цены на зерно, вызвавшей криминализацию рынка, государство начало внедрять на местном уровне так называемые «комитеты бедноты» – организации, поддерживавшие бедных и безземельных крестьян за счет кулаков той же деревни. В надежде разжечь классовый конфликт и затем использовать его для облегчения изъятия зерна Советское государство объявило, что часть спрятанных кулацких «излишков», которую помогут найти эти комитеты, будет распределяться среди местной бедноты, равно как и часть любой другой собственности, изъятой за неподчинение требованиям. Но комитеты оказались неэффективными и спровоцировали вспышки насилия в ряде регионов: деревенские общины либо сплачивались против «чужих», занявших руководящие позиции в их населенном пункте (и многим из «чужих» эта работа стоила жизни), либо вступали в конфликт с продотрядами, настаивая на том, что в их деревне нет ни кулаков, ни излишков.
Кто кулак, а кто нет, никому не было понятно. Ни до революции, ни после нее на этот счет не существовало общепринятых представлений или официальных норм. Когда в конце 1918 г. Советское государство попыталось ввести в сельской местности «чрезвычайный налог», который лег бы на плечи тех, кого сочтут кулаками, деревенские общины стали либо поровну распределять налоговое бремя между хозяйствами, либо протестовать, заявляя, что среди них кулаков нет. Удавалось собрать лишь малую часть налога, и местные представители властных структур признавали, что повысить его собираемость можно, лишь угрожая применением оружия{238}.
В начале 1919 г. прокатилось несколько волн насилия: жители деревень взяли под свой контроль целые регионы и пытались поднять организованные восстания. Эти вспышки протеста, хоть и яркие, оказались недолговечны. Советская власть объявила их доказательством силы кулацкого влияния. Эти яростные протесты вошли в историю революции и гражданской войны. В Среднем Поволжье, в которое входили Самарская и Симбирская губернии, продлившееся менее двух недель восстание быстро разогнало региональную администрацию, а членов РКП (б) заставило попрятаться: обозленные крестьяне жаждали отомстить за отъем зерна и скота, по их мнению несправедливый. Несправедливым и жестоким они считали и поведение представителей государства при проведении изъятий{239}. По различным оценкам, за оружие взялись от 50 000 до 150 000 крестьян; таким образом, это восстание стало крупнейшим в этом регионе России с 1770-х гг., со времен Емельяна Пугачева. Решив прояснить ситуацию на месте, секретарь РКП(б) в Симбирской губернии И. М. Варейкис поговорил с председателем районного совета в деревне Новодевичье. Фамилия этого человека была Поручиков. Полагая, что Поручиков – верный слуга режима, Варейкис обратился к нему за информацией о «контрреволюционном восстании» и о «количестве кулаков и дезертиров», стоявших за этим выступлением. Неожиданно Поручиков дал понять, что сам твердо стоит на стороне мятежников:
«Вообще же контрреволюции нет, мы идем против неправильной реквизиции хлеба и скота… Мы желали бы, чтобы вы сами к нам приехали, дабы вы сами видели, кто восстал… Ведь, товарищ Варейкис, мы не саботажники, нам бы хотелось с вами поговорить; вы сами увидите, что мы правы, и народ с удовольствием выслушает вас»{240}.
Бурные протесты против реквизиции привели только к тому, что представители государства настроились на еще более решительную борьбу: их подстегивали отчеты о трудностях с продовольствием в городах и о дефиците зерна в регионах (вполне правдивые), а также убежденность в том, что зерно есть, но, чтобы получить его, необходимо одолеть кулаков{241}.
Тем не менее кое-кому из не имевших непосредственного отношения к Народному комиссариату продовольствия, а в особенности тем, кто стал свидетелем изъятия зерна вооруженными продотрядами, становилось ясно, что продразверстка нерациональна. Хотя заявлялось, что будут учитываться основные потребности семей в соответствии с установленными нормами потребления, в приоритете всегда было выполнение норм разверстки. Один из чиновников Наркомпрода в Центральном регионе России отметил на местном съезде Советов, что у «кулацкого крестьянства» лучше получается прятать зерно, чем у государства – находить его. Потому-то, как он считал, разверстку следовало проводить без учета «норм»{242}. Образ кулака оправдывал многие недостатки системы разверстки. Несмотря на внешнюю видимость продуманности, эта система с ее прогнозами урожаев и определением норм потребления на практике была основана на стремлении изъять столько продовольствия, сколько возможно{243}.
Хотя, согласно логике разверстки, крестьянские хозяйства могли оставлять себе продукцию, которая не требовалась государству для выполнения норм, не существовало легальных путей использовать этот излишек, а товаров, на которые его можно было бы обменять, почти не имелось. Таким образом, стимула производить больше базовых потребностей самого крестьянского хозяйства не было{244}. Как официальная статистика, так и устные рассказы сходились в том, что крестьянские хозяйства сокращали посевные площади и, соответственно, снижались урожаи – во многих местах более чем на треть{245}. Такая ситуация сложилась под влиянием нескольких факторов. Количество хозяйств по сравнению с 1917 г. увеличилось, а их средний размер сократился. Это сделало их менее продуктивными – как из-за мобилизации на войну, так и из-за того, что снизилась производительность хозяйств: лошадей забрали для армии, а сельскохозяйственные машины и оборудование приходили в негодность из-за отсутствия запчастей{246}. Во многих основных зерновых регионах сельскохозяйственный цикл был серьезно нарушен из-за перемещения фронтов гражданской войны.
Эти факторы имели большое значение, однако не они, а произвольный фактор – отсутствие заинтересованности в том, чтобы производить больше, чем требовалось для пропитания, – вызвал серьезную полемику в коммунистическом руководстве. Правда, его чаще упоминали со ссылкой на «кулацкий саботаж». У всех на виду процветал черный рынок, и позже исследования показали, что именно он спас советских горожан, чьи потребности в продовольствии не покрывались постоянно снижающимися продуктовыми нормами, установленными государством{247}. Хотя кампания по обеспечению продовольствием в 1919 г. оказалась успешной, те, кто мог наблюдать этот процесс, понимали, что успех – не результат какой-то серьезной трансформации в отношениях между крестьянством и советским режимом (которую оптимисты среди коммунистов стали называть переломом). Это стало результатом масштабных заготовок на территориях, «освобожденных» Красной армией. Однако активная работа вооруженных продотрядов и преследование милицией нелегальной торговли вскоре вызвали обеспокоенность деревенского и городского населения и на этих территориях{248}.
После написания открытого письма Ивану Сигунову военный комиссар Троцкий несколько дней ездил по окрестностям Екатеринбурга. Честно говоря, о его передвижениях в этот период известно не так уж много. В отличие от похожего путешествия Сталина, которое произошло спустя несколько лет, поездка Троцкого не освещена во многочисленных официозных воспоминаниях и не вошла в подробностях в анналы истории. Тем не менее его наблюдения, сделанные в этом регионе – одном из «недавно освобожденных» и еще не почувствовавшем на себе всю тяжесть требований советской власти (однако изрядно пострадавшем при Колчаке), – были сведены в предложение, которое Троцкий подал в Центральный комитет партии, вернувшись в марте в Москву. В докладе он представил свою оценку текущей ситуации с заготовкой продовольствия, отметив важнейшее значение государственной политики в этой области для общих экономических перспектив республики.
Главную проблему Троцкий видел в том, что крестьянину не нужно было возделывать больше земли, чем требовалось для обеспечения семьи, если государство отбирало все, что превышало этот уровень{249}. Из городов, где продовольствия не хватало, все больше рабочих перебирались в деревню, и, если им удавалось получить землю, они также выращивали ровно столько, сколько требовалось для личных нужд. Таким образом, росло количество мелких хозяйств, объем «излишков» сокращался и одновременно сокращалось количество рабочей силы в городах. Троцкий писал, что «продовольственные ресурсы страны грозят иссякнуть, против чего не может помочь никакое усовершенствование реквизиционного аппарата»{250}.
То, что предлагал Троцкий, было отнюдь не идентично НЭПу, который ввели спустя год. В докладе Троцкий перечислил четыре основных принципа сельскохозяйственной политики. Во-первых, он предложил заменить разверстку прогрессивным натуральным налогом «с таким расчетом, чтобы более крупная запашка или лучшая обработка представляли все же выгоду». Во-вторых, он хотел, чтобы снова было дано обещание поставлять в деревню промышленные товары – не только удобрения и плуги, но и соль, и керосин, которые будут покупаться за зерно. Он настаивал на том, что следует стараться избегать ошибки, совершенной в 1918–1919 гг., когда декрет о товарообмене постановил распределять промышленные изделия по районам и деревням, выполнившим нормы поставки зерна, а не по индивидуальным хозяйствам. Нужно покончить с этим явлением из прошлого – нежеланием, чтобы индивидуальные хозяева – потенциальные кулаки – выигрывали от такого обмена.
В двух заключительных пунктах доклада, которые были убраны из более поздней, опубликованной самим Троцким версии, говорилось о намерении создать сеть государственных и коллективных хозяйств. К 1920 г. это обещание стало для лидеров партии не более чем неудобным второстепенным моментом даже несмотря на то, что фундаментальный принцип государственного, коллективного сельского хозяйства был важнейшим в видении социализма будущего. Троцкий также писал о переориентировании стратегии, определяющей политику в сельском хозяйстве: государственные усилия следовало сосредоточить на стадии посевной и в меньшей степени – на уборке урожая; партия и Советы должны были принимать участие в подготовке полей, что обеспечило бы культивацию максимально больших площадей. В силу этого советская власть не зависела бы только от индивидуального стимулирования к увеличению производства сельхозпродукции, а могла бы мобилизовать дополнительную рабочую силу в соответствии с идеей Троцкого о трудовой повинности, что уже стало одним из направлений государственной экономической политики{251}.
В своем докладе Троцкий писал, что видит потенциал в дифференцированном подходе к регионам: в Сибири и части Украины первые два предложенных им пункта, вероятно, должны были иметь успех, в то время как в Центральной России и на Волге, где плотность сельского населения была выше и совместное возделывание земли получило большее распространение, уместнее было бы делать упор на коллективизацию и организованную вспашку земли. Как можно было ожидать, Троцкий мало что мог сказать о рынке и не упоминал о нем в своем предложении. Однако он написал о двух первых пунктах – о натуральном налоге и товарообмене, – что они означают некоторое ослабление давления на кулаков. Их следовало держать в определенных рамках, однако не превращать в крестьян, производящих продукцию только для пропитания собственной семьи. Таким образом, сутью предложения Троцкого было признание того, что необходимо оставить одержимость кулачеством и сведение продовольственного кризиса к классовому конфликту, чтобы страна могла начать восстановление экономики. Именно с этой одержимостью продолжали бороться внутри партии сторонники НЭПа в 1920-е гг., после смерти Ленина.
Троцкий был отнюдь не первым критиком продразверстки. Летом 1919 г. соперники большевиков, социалисты-меньшевики, включили в программу своей экономической платформы предложение заменить разверстку налогом (что нашло свое отражение и в программе эсеров), но большого эффекта это не дало: к концу гражданской войны они едва ли могли влиять на принятие каких-либо решений{252}. Однако вскоре после поездки Троцкого в Екатеринбург, 20 января 1920 г., экономист и хозяйственный деятель Юрий Ларин выдвинул на III Всероссийском съезде Советов народного хозяйства предложение об отмене продразверстки. Вместо нее он призывал ввести натуральный налог, который сопровождался бы обменом промышленных товаров на продукты питания при контроле профсоюзов, и меры для регулирования цен на зерно или даже фиксированные цены на него. Как и Троцкий, Ларин больше всего беспокоился о том, чтобы государство смогло простимулировать производство продовольствия в объеме, превышающем тот, что покрывает нужды самих хозяйств{253}.
Ларин был членом президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), и его предложения были серьезно изучены на заседании, открывшем III съезд. Однако делегаты их не приняли, отдав предпочтение принципу централизации в обеспечении продовольствием. Предложения Ларина и последовавшее за ними обсуждение даже не были включены в опубликованные материалы съезда.
Народный комиссар финансов Николай Крестинский проинформировал Ленина о предложениях Ларина через день после их представления съезду, прибавив собственное мнение: «Я считаю их неосуществимыми и вредными». Ленин заключил: «Запретить Ларину прожектерствовать». А поскольку еще за два месяца до этого он укрепился во мнении, что послаблений свободной торговле давать нельзя, теперь ему было недостаточно просто упрекнуть Ларина. Он настаивал на том, чтобы Ларина убрали из президиума ВСНХ, и даже послал предостерегающее послание председателю этой организации Алексею Рыкову: «Укротите Ларина, а то Вам влетит». Рыков тоже был известен как критик политики продразверстки{254}.
Ларин, хотел он того или нет, нарушил правило, установленное для всех высокопоставленных чиновников: не делать независимых заявлений о продовольственной политике и уж точно не критиковать существующие методы. Вокруг продовольственной политики на всех уровнях – заготовка, транспортировка и распределение – было такое количество критики и дискуссий, что 5 января 1920 г. коллегия Наркомпрода выдвинула несколько спорное требование, чтобы все речи и объявления по вопросам обеспечения продовольствием подвергались тщательному изучению Центральным комитетом РКП(б){255}. Не прошло и двух недель, как Ларин нарушил этот принцип и был наказан за введение в заблуждение широких масс. «Для широкой же массы молодых партийных товарищей и непартийных рабочих это – авторитетное выступление товарища, выдвинутого нашей партией на ответственный пост одного из руководителей хозяйственной жизни страны», – так писал Центральный комитет в письме, извещающем Ларина о его исключении из ВСНХ{256}.
Тем не менее предложения Троцкого обсуждались на заседании Политбюро ЦК партии в конце марта 1920 г. Четверо проголосовали за, 11 – против{257}. Перед заседанием Политбюро Троцкий писал, что предложения – это всего лишь черновой набросок и что, хотя его устраивает суть, язык документа нуждается в редактировании. Несмотря на то, что вокруг продовольственной политики велось много споров и существовало много недовольства как внутри, так и вне партии, очевидно, что никто не был настроен менять политику по этому вопросу, самому насущному и проблематичному на тот момент. На открывшемся вскоре после того, как выдвинул свои предложения Троцкий, IX съезде РКП(б) были вновь утверждены основные принципы разверстки, и сам Троцкий отошел от вопроса продовольственной политики, занявшись вместо этого мобилизацией труда – одной из основных программ, рекомендованных съездом{258}. К своим инициативам по обеспечению продовольствием Троцкий вернется лишь через год, в марте 1921-го, когда решит скромно напомнить товарищам по партии о том, что введение продналога, инициированное Лениным, по сути было тем самым, что он предлагал ранее.
Очевидно, что в начале 1920 г. радикальная переориентация продовольственной политики не имела достаточной политической поддержки. Однако через год ситуация коренным образом поменялась: резко усилилось общественное недовольство в связи с продолжением политики продразверстки. Когда осенью 1921 г. начались приготовления к очередной кампании по сбору продовольствия, уровень протестов в сельской местности вырос до беспрецедентных масштабов.
В то время как Троцкий вносил свои предложения на рассмотрение Центральным комитетом, органы власти на местах также прилагали усилия, чтобы остановить рост недоверия к партии и советскому правительству. В Самарской губернии, где между деревенскими жителями и представителями государства не раз случались конфликты, местные коммунисты были проинструктированы относительно наиболее распространенных антиправительственных лозунгов, в первую очередь «За свободную торговлю!». Коммунистам разъяснялось, что они должны противостоять подобным призывам, донося до народа идеи партии{259}. Цензоры, которые читали письма, получаемые и отправляемые красноармейцами, рапортовали о многочисленных содержавшихся там сообщениях о реквизициях, после которых еды оставалось все меньше и меньше, и о нехватке семян для следующего посева{260}. А лето 1920 г. принесло еще больше тревог: засуха и сильные ветра во многих регионах грозили низким урожаем или даже гибелью посевов{261}. Однако, когда в деревнях появились продотряды, они восприняли протесты крестьян и местных представителей советской власти как «кулацкий саботаж» и «местничество»{262}. Районный продовольственный комиссар в Лебедяни (Тамбовская область) отказался принимать всерьез письма с протестами против норм разверстки зерна от деревенских общин и местных (поселковых и районных) советов, написанные незадолго до начала сбора урожая. Комиссар заявил коллегам в областной администрации, что эти письма – не более чем «жалкое кулацкое хныканье».
«Уже хорошо известно, что крестьяне продолжают гнать самогон, продают зерно на черном рынке, закапывают его в землю. Вам пора понять, что реквизиция осуществляется в соответствии с официальной нормой разверстки, она установлена на базе государственной статистики. Если у крестьян недостаточно зерна, то это их вина, а не наша»{263}.
Между правительством в центре и органами власти на периферии пролегла такая пропасть, что вооруженные отряды продразверстки готовились встречать сопротивление на местах, которое они считали подтверждением саботажа, не задействуя в операциях местные органы власти. В августе 1920 г. ЧК в Пензенской области рапортовала, что «крестьяне протестуют против применения силы и издевательств, которым они подвергаются от отрядов продразверстки. Это в ряде случаев имеет место из-за непонимания или неправильного понимания приказов из центра. Центр предлагает изымать излишки в бесчеловечно больших количествах, и некоторые отряды продразверстки не жалеют кнута, выполняя приказы. Имело место и по-настоящему преступное поведение отрядов, которые ведут себя так, будто у них есть собственные корыстные интересы»{264}.
Этот и другие подобные доклады показывают, что кампания по хлебозаготовке, в ходе которой в деревню направили сотни вооруженных отрядов, повергала в отчаяние местных жителей и в уныние – представителей власти на местах и даже многих коммунистов.
Серьезность ситуации наиболее ярко продемонстрировали события в Тамбовской губернии – сельскохозяйственном регионе Центральной России. Он стал одним из ведущих по заготовке зерна, так как во время гражданской войны почти все время находился под властью красных. Но, как и во многих других областях Центральной России, в Тамбовской губернии деревенские жители были недовольны тем, что государство забирало зерно и призывало в армию мужчин. Когда в августе 1920 г. там началась реквизиция, вооруженные отряды жестоко подавляли не ставшее для них неожиданностью сопротивление. Тем не менее оно было сломлено не сразу. Показательное устрашение – взятие заложников и публичные казни, сожжение отдельных домов или даже целых деревень – результатов не дало. Оказалось, что на стороне деревенских против отрядов продразверстки и представителей власти сражаются вооруженные «банды». В этой ситуации сельские коммунисты, опасаясь за свою жизнь, бежали, советские административные органы исчезли. За несколько недель в богатой и густонаселенной южной части Тамбовской губернии образовались зачатки народной повстанческой армии, быстро положившей конец кампании реквизиции зерна и в целом затруднившей поставки продовольствия, так как через губернию проходила железная дорога, связывавшая север Советской России с зерновыми регионами. К концу года советская власть в Тамбовской губернии сохранялась фактически только в Тамбове, в то время как уездные центры, хотя еще держались, были охвачены паникой. За зиму 1920–1921 гг. в Тамбовской области сформировалась «партизанская армия»: около 30 000 человек, разделенных на полки. Одновременно с этим на мятежной территории было создано свое правительство, а в деревнях – сеть «союзов трудового крестьянства», которых насчитывались сотни{265}.
По своему масштабу и организованности восстание в Тамбове было беспрецедентно. В других регионах имели место нападения на представителей советской власти и ее органы, осуществляемые повстанческими группировками, которые после рейдов скрывались. Но своих органов власти эти группировки не создавали{266}, хотя и доставляли Советскому государству немало беспокойства. К октябрю – ноябрю 1920 г. заготовка зерна в Тамбовской губернии практически прекратилась, однако проблемы возникли и в нескольких других сельскохозяйственных регионах, как смежных с Тамбовской губернией, так и более отдаленных. Таким образом, хотя фронты гражданской войны уже почти исчезли, режим оказался перед лицом нового кризиса. Обзор ситуации, сделанный ВЧК в середине декабря 1920 г., проиллюстрировал, насколько распространенным явлением стали «бандиты»: они действовали на обширных территориях от Западной Украины и Белоруссии до Кавказа, Казахстана и Сибири. Доклад указывал на факторы, обусловившие беспорядки в регионах, делая при этом упор на то, что насилие стало результатом коллапса экономики после стольких лет конфликта, а значит, было неизбежным. Тем не менее, ввиду того что противостоящие властям в регионах группировки угрожали объединиться, в докладе ВЧК говорилось о необходимости скоординированной стратегии, чтобы положить конец бандитизму и гражданской войне{267}.
Испытывая серьезные трудности в Центральной России, на Волге и южнее ее, советская власть решила переключиться на хлебные регионы Урала, которые Троцкий посетил в начале 1920 г.{268} Как и в Тамбовской губернии и Центральной России, заготовка зерна в Западной Сибири была похожа скорее на военную кампанию, хотя на этот раз не из-за недоверия крестьян к местным советским органам власти, а из-за того, что эти территории лишь недавно «освободили»{269}. В расчете на то, что удастся разрешить постоянно углубляющийся продовольственный кризис, на хлебозаготовки в этом регионе мобилизовали более 25 000 человек. Для гарантированного успеха разверстки в продотряды набрали действительно голодающих рабочих с севера европейской части России, приверженность которых выполнению поставленной задачи не вызывала сомнений{270}. Однако за прошедший со времени поездки Троцкого год мало что изменилось, и требования под угрозой оружия сдать зерно встречали такое же сопротивление, как и в других регионах.
Тюменская губерния, на которой сосредоточились усилия по заготовке зерна в Сибири, стала центром восстания, распространившегося на части Екатеринбургской и Челябинской губерний, а также на Северный Казахстан. Как и в Тамбовской губернии, сопротивление Советскому государству здесь приняло организованный характер. Отряды продразверстки и другие представители государства подверглись атакам народной повстанческой армии, в которой важную роль играли бывшие красные партизаны, стоявшие за народным сопротивлением Колчаку и белым в 1919 г. Теперь, в 1919 и 1920 гг., они стали главными защитниками деревенского населения от продотрядов с их непомерными требованиями и угрозами. В отличие от повстанцев более компактной Тамбовской губернии, сибирские мятежники не смогли создать воинскую структуру и учредить административные органы, но они мобилизовали десятки тысяч местных мужчин, заняли крупные региональные центры, издавали, правда недолго, свою газету и на первые три месяца 1921 г. сделали невозможной работу советской администрации и реквизицию зерна. Как и в Тамбовской губернии, народная повстанческая армия Западной Сибири, воевавшая под лозунгом «За Советы без коммунистов!», заявляла о стремлении к смене власти, а не просто протестовала против политики и методов правящей РКП(б).
Несмотря на такие амбиции повстанцев – многим из которых очень хотелось верить в то, что они являются частью более широкого движения, способного свергнуть советскую власть, – их шансы на успех были крайне невысоки. В конце 1920 г. уже шли приготовления к демобилизации Красной армии, достигшей к концу гражданской войны численности в несколько миллионов человек, но ситуация, сложившаяся в зерновых регионах республики, потребовала присутствия там нескольких сотен тысяч солдат для подавления восстаний, в которых участвовали в основном русские крестьяне. К лету 1921 г. часть Тамбовской губернии, где повстанцы были особенно активны, была занята армией из более чем 100 000 красноармейцев, которые оставались там до конца года с тем, чтобы предотвратить возобновление «бандитизма», бушевавшего в области целый год. Регулярные дивизии Красной армии были отправлены для подавления восстания в Западную Сибирь, и к ним присоединились специальные войсковые части ВЧК и РКП(б).
Для содержания плененных бунтовщиков создавались особые лагеря. Их использовали также для изоляции членов семей и соседей подозреваемых в бунте. Этих людей держали в заложниках под угрозой смерти с тем, чтобы заставить участников антисоветских восстаний сдаться. Деревни подвергались артиллерийском обстрелам и бомбардировкам с воздуха. Красная армия даже экспериментировала с отравляющим газом, стараясь «выкурить» бунтовщиков из лесов. Судебные «тройки», состоявшие из государственных, партийных и военных функционеров, переезжали из одной деревни в другую, поспешно проводя следствие и быстро верша суд. Этим демонстрировалась решимость и сила Советского государства. Вал репрессий нарастал, и жители деревень пребывали в постоянном страхе: они боялись как красноармейцев, так и повстанцев, поскольку и те и другие беспощадно карали за сотрудничество с врагом. Невозможно сосчитать количество жертв волны насилия, поднявшейся осенью 1920-го и не стихавшей в некоторых районах страны целый год. Их количество составляет по меньшей мере десятки тысяч. И в основном, как и в любой гражданской войне, это были мирные жители.
Активное сопротивление, поднявшееся в зерновых регионах Советской республики, а также отчаянные попытки государства в течение 1920–1921 гг. реквизировать у крестьян как можно больше зерна, поставили жителей этих регионов в крайне сложное положение. И дело было не только в давлении, о котором говорили Троцкий и другие критики продовольственной политики советской власти, но и в том, что из-за неурожая предыдущего года государство отобрало у них посевное зерно. Следующий урожай оказался столь низким, что в Поволжье, на Южном Урале и на части территории Украины начался голод. В 1921 г. американское правительство инициировало масштабную программу помощи голодающим, однако с 1921 по 1923 г. от голода умерло более 5 млн человек{271}. Жертвами продовольственного кризиса в Советской республике стали жители как городов, так и деревень, как традиционно «нехлебных» регионов на севере европейской России, так и богатых зерном губерний Центральной России, Украины и Западной Сибири. В начале 1921 г. один представитель власти заявил группе протестующих деревенских жителей в Воронежской губернии, что поверит в голод, когда увидит, как матери едят своих детей. Прошло совсем немного времени, и это стало нередким явлением в традиционно хлебных областях России{272}.
Несомненно, принятое в 1920 г. решение продолжить политику продразверстки – насильственного изъятия продовольствия для нужд государства – имело серьезнейшие последствия для Советской республики и ее населения. Оправданность этой политики как чрезвычайной меры военного времени уже ставилась под сомнение в свете улучшающейся военной и политической обстановки, и среди членов партии росло понимание последствий и сомнительной перспективности этого курса. Тем не менее они отказались менять его, и это привело к продлению гражданской войны и голоду, который унес жизни миллионов советских граждан.
На Х съезде РКП (б), прошедшем в марте 1921 г., Ленин внес предложение о прекращении продразверстки и введении вместо нее натурального налога, который должен был зависеть от реального урожая. В Тамбовской губернии разверстку отменили месяцем раньше, но власти хотели скрыть информацию об этом послаблении в мятежном регионе с тем, чтобы не распространять такую политику на всю страну. Когда стало очевидно, что ограничиться одним регионом не удастся, на повестку дня встало прекращение разверстки по всей стране, и в том же месяце Ленин подготовил проект предложения по налогу. Спешности делу добавил мятеж в Кронштадте, начавшийся всего за несколько дней до начала съезда. Взявшиеся за оружие моряки протестовали против неудачной продовольственной политики, и в особенности отношения к крестьянам. Для них мятеж был актом солидарности с рабочими, устраивавшими демонстрации на улицах Москвы и Петрограда в знак протеста против лишений и репрессий со стороны советского режима, и с крестьянами, чьи осажденные деревни были родиной многих мятежных матросов. Пока Красная армия подавляла мятеж в Кронштадте, что стоило ей жизней тысяч солдат, делегаты Х съезда проголосовали за предложение Ленина изменить продовольственную политику.
Теперь, когда над партией нависла угроза, которая, по словам самого Ленина, была, «несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые», прекращение разверстки стало необходимостью. «Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России», – заявил Ленин, выступая перед делегатами Х съезда{273}. Прошло несколько месяцев, и введение натурального налога было подкреплено решением начать декриминализацию рынка, что дало возможность сельскохозяйственным производителям продавать (после уплаты налога) излишки зерна. Как и доказывали Троцкий и другие, это создало стимул к увеличению производства. Конечно, ни Троцкий, ни другие, критиковавшие продовольственную политику до 1921 г., не говорили открыто о рынке, и по своим взглядам они не были на стороне крестьянства. Однако, как справедливо отмечал в своей автобиографии Троцкий, Ленин в марте 1921-го тоже не рассматривал возможность восстановления рынка{274}. Новая экономическая политика обретала четкие очертания в течение нескольких месяцев или даже лет как логическое продолжение сделанных на Х съезде уступок{275}. И нет оснований предполагать, что ситуация не развивалась бы схожим образом, если бы решение о прекращении разверстки было принято годом ранее.
Хотя Троцкий и Ларин ни на Х съезде, ни после него не стеснялись напоминать о том, что давно уже предлагали ввести эти меры, ни один из них не осмелился заявить о том, каких потерь удалось бы избежать – и в первую очередь сколько жизней удалось бы сохранить, – если бы эти меры были приняты раньше{276}. В то же время натуральный налог был «преподнесен» более широким партийным кругам как уступка, как, по словам профсоюзного активиста Давида Рязанова, «крестьянский Брест» (ссылка на Брестский мир – соглашение, сделавшее в 1918 г. возможным выход России из войны, но, по словам самого Ленина, отправившее Россию в «пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения»{277}). В глазах многих НЭП с самого начала был искажением социалистического курса. В последние годы и месяцы жизни Ленин посвятил много времени рационализации того пути, на который поставило Советскую республику принятое им в марте 1921-го решение. Даже сторонники НЭПа, который наконец сделал возможным примирение с крестьянством, защищали его лишь в связи с гражданской войной и событиями 1920 и 1921 гг. В какой-то момент к числу таких защитников принадлежал и Сталин, атаковавший на 13-й конференции РКП(б) в январе 1924 г. (всего за несколько дней до смерти Ленина) товарищей по партии, которые заявили, что она слишком медленно реагирует на события: «Разве мы не опоздали с отменой разверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»{278} Сталин заявил, что партия спасла революцию, изменив курс. О людях, погибших из-за того, что у партийного руководства эта смена курса заняла так много времени, речи не шло.
Мог ли быть иным ход советской истории, если бы удалось избежать катастрофы 1920–1921 гг.? Если отвлечься от уже обсуждавшихся гуманитарных последствий – насилия и голода, которых, скорее всего, нельзя было бы избежать вовсе, однако их масштабы могли бы быть меньше, – имело бы более раннее введение новой экономической политики серьезное влияние на последующее развитие Советского государства? Короткий ответ на этот вопрос: нет. НЭП с его денационализацией и рынком, культурным плюрализмом и малосимпатичными «нэпманами» оказался несостоятельным в контексте советской революции и неэффективным в руках советских руководителей, не имевших ни опыта, ни желания управлять смешанной экономикой. В драматичной истории развития и последующего сворачивания НЭПа многое возвращает нас к тревожному моменту его введения. С точки зрения многих членов компартии, возвращение во времена НЭПа к деньгам, рынку, а также к тому, что считали терпимостью по отношению к кулакам и «буржуазным специалистам», было непростительно. Таким образом, рассмотрение не только макроэкономических, но даже социальных и культурных проблем почти всегда сводилось к «крестьянскому Бресту»{279}.
Когда в 1927 г. сам Сталин изменил свое отношение к НЭПу, потребовав возвращения к «чрезвычайным мерам» в борьбе с кулаками и спекулянтами, он оказался на одной волне с теми коммунистами, которые так никогда и не смирились с капитуляцией в гражданской войне и теми уступками, которые, по их мнению, были сделаны крестьянству{280}. Но при дальнейшей общей направленности развития советского социализма с его приверженностью плановой экономике и созданию крупных коллективных хозяйств вместо частных интересно было бы рассмотреть, каким образом шла бы эта трансформация, если бы недолгий эксперимент НЭПа был начат в иной, более благоприятной обстановке. Во всяком случае изучение этого вопроса проливает свет на связь между этими, казалось бы, совершенно различными стадиями в развитии советского социализма.
13. Большевистская реформация Февраль 1922 г. Катриона Келли
Шестнадцатого марта 1922 г. Сенную площадь в центре Петербурга Достоевского, переименованного в 1914 г. в Петроград, заполнила более чем десятитысячная толпа народа. Настроение собравшихся не предвещало ничего хорошего. Выкрики переросли в потасовки, одного милиционера избили. Люди протестовали против попытки вывезти из церкви Спаса-на-Сенной – одной из крупнейших и любимейших в городе – предметы культа, сделанные из драгоценных металлов и украшенные драгоценными камнями. Эти беспорядки возникли на фоне шквала недовольства, поднявшегося из-за вышедшего за месяц до этого декрета об изъятии церковных ценностей{281}. Он положил начало процессу, который можно назвать «большевистской Реформацией»{282}.
Закон, принятый 16 февраля 1922 г., рассматривал изъятие церковных ценностей как крайнюю меру, необходимую для помощи населению Поволжья, голодающему после засухи и неурожая предыдущего года. Всю осень 1921-го и последующую зиму советская пресса публиковала статьи о бедствии. Так, 27 января 1922 г. заголовок в «Петроградской правде» сообщал, что голодающие тащат с кладбищ трупы и едят их. Описывая деятельность по помощи голодающим со стороны советских и иностранных организаций, пресса давала понять, что этих мер совершенно недостаточно{283}.
Восемнадцатого февраля необычайно популярный среди интеллигенции проповедник, отец Александр Введенский, призвал православных сделать все, что в их силах, для того, чтобы помочь голодающим. «Обезумевшие от голода матери убивают собственных детей и едят их трупики, – писал он. – Мы плачем о них, дальних, забытых. Забытых кем? Христианским миром»{284}. В течение нескольких недель ту же идею доводила до народа масса публикаций в советской прессе. О первых конфискациях стали сообщать в начале марта; к концу месяца давление пропаганды усилилось, газеты отчитывались о голосованиях на массовых собраниях на фабриках, по результатам которых требовали сдать церковные ценности{285}.
К этому моменту большевистские лидеры приготовились использовать конфискации как предлог для полномасштабной атаки на организации, которые официально назывались «религиозными ассоциациями». Важно было «одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу и взяв под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия», – писал Троцкий 20 марта 1922 г.{286}
Большевики сыграли на отсутствии единого мнения по вопросу о том, какое именно «церковное имущество» подлежало конфискации. Декрет от 16 февраля говорил об объектах, изъятие которых не имело решающего значения для данного культа{287}. Вопрос был в том, имеют ли решающее значение сосуды для причастия и другие «святыни» – например, раки для мощей. Патриарх Тихон недвусмысленно заявил 19 и 28 февраля, что изъятие этих предметов непозволительно. Тем не менее через месяц его решению был брошен публичный вызов. Двадцать пятого марта «Петроградская правда» опубликовала письмо 12 священников-реформистов, в том числе Введенского, которые заявили о том, что христианская традиция оправдывает пожертвование даже самых драгоценных сосудов в случае, если государство позволяет церкви участвовать в помощи голодающим. Это дополнение вскоре было забыто: дискуссии пошли вокруг самого сотрудничества с государством. Восемнадцатого мая 1922 г. Введенский и другие сторонники конфискации создали Высшее церковное управление – организацию, которая начала играть роль санкционированной государством альтернативы официальной церкви. Она провела ряд церковных реформ, которые сама объявила прогрессивными. В течение нескольких лет обновленческое движение пользовалось официальной поддержкой. Традиционалистов реабилитировали лишь в 1927 г., когда через два года после смерти Тихона патриарший местоблюститель Сергий сделал заявление о сотрудничестве с советским правительством{288}.
Результаты изъятий с точки зрения заявленной цели – помощи голодающим – оказались незначительными. По всей Украине к 4 мая 1922 г. было собрано лишь 2,6 т серебра{289}. Однако начинание повлекло за собой огромные перемены в обществе. Разграбление церковных ценностей необратимо подорвало авторитет патриарха Тихона как главы церкви в официальной церковной иерархии. Это привело верующих в смятение. Последствия этого, в особенности подозрительное отношение к реформам православия, ощущаются и в XXI в.
Кроме того, конфискация показала, что «религиозные культы», как выражались большевики, отныне будут находиться в СССР в положении отверженных. С этих пор религиозные организации, в особенности православная церковь, рассматривались советскими чиновниками как нечто запрещенное. Из них выжимали деньги (например, в виде местного налога) и закрыли им доступ к государственным средствам на ремонт зданий, хотя по закону они имели на это право. Религиозные организации были окружены атмосферой подозрительности, их приверженцев в лучшем случае высмеивали, выставляя невеждами, в худшем – объявляли врагами общества. Весной и летом 1922 г. прошел ряд показательных процессов, результаты которых были ясны заранее из обличительных речей прокурора. Они закончились казнями представителей духовенства и прихожан, которых обвинили в сопротивлении конфискации. Среди них был митрополит Петроградский Вениамин, обвиненный вместе с другими по статье 62 Уголовного кодекса 1922 г. в контрреволюционной деятельности. Как обсуждения в суде, так и отчеты прессы делали упор на исходящую от связанных с бывшим режимом церковных лидеров политическую угрозу{290}.
Изъятия стали не просто эпизодом в истории отношений церкви и государства. Кампания по изъятию церковной собственности стала первым случаем всеобщей мобилизации, привлечения средств массовой информации и организационных ресурсов для достижения текущих политических целей. Участвуя в кампании, мелкие государственные чиновники и представители населения на практике осваивали чрезвычайное правосудие{291}. «Месть не есть цель правосудия», – заметил профессор Александр Жижиленко в заключительной речи защиты на процессе митрополита Вениамина. Однако насмешки в прессе показывали, что эта точка зрения устарела{292}. Особенно четким индикатором перемен стало приписывание крамольного характера акциям, которые были проведены с санкции властей. Петроградских священников, вслух зачитывавших письмо митрополита Вениамина о необходимости содействовать изъятиям, задним числом обвинили в участии в политическом заговоре{293}.
Проведение конфискаций стало предвестником будущих социальных и политических кампаний. Истерическое, авторитарное требование быстро выполнять произвольно поставленные цели (в данном случае требование раскрыть и передать еще большие количества драгоценных металлов, драгоценных камней и других ценностей); предположение, что собран недостаточный объем из-за уловок оппонентов и их злой воли (в данном случае оппонентами были верующие); злоязычная стигматизация действительных и воображаемых врагов (в данном случае верховного духовенства) – все это способствовало утверждению новой парадигмы. Шла репетиция и оттачивание методов проведения будущих кампаний против «буржуазных специалистов», «вредителей» и «кулаков»{294}.
Последствия 16 февраля 1922 г. были эпохальны и с точки зрения отношения государства к своему культурному наследию. К 22 августа 1922 г. только в Петрограде было закрыто более 160 домовых церквей, из которых 157 были православными{295}. Двадцать пятого октября 1922 г. не очень подкованный в грамматике петроградский чиновник недоумевал по поводу того, что следовало делать с остатками церковной собственности после ее изъятия:
«Мы предложили киоты и иконостасы бесплатно приходским советам церквей, которые еще работают, однако они отказались, так как не имели свободных средств на упаковку и транспорт. На основе этого мы просим издать соответствующий приказ о том, что нам делать с иконами и киотами. Если мы их берем на склад, они точно так же могут пойти на дрова, или нам продать их частным магазинам икон, или уничтожить на месте»{296}.
В 1918 г. сотни петроградских церквей получили «охранные грамоты», гарантировавшие неприкосновенность зданий и их содержимого. Однако в 1922-м на такие документы редко обращали внимание. Люди, спасающие культурное наследие, отчаянно пытались защитить иконы, картины и шедевры прикладного искусства, за что получили клеймо индивидуумов, действующих «не по-советски» – а отсюда уже совсем недалеко до «антисоветски». Если верить докладу от 25 октября, то большая часть церковной собственности не была использована для оказания помощи голодающим, а попросту оказалась на помойке. Предметы, которые все же попали в музеи, зачастую были повреждены и почти всегда прибывали без описи. Планы по организации «церковных музеев» если и воплощались в жизнь, то крайне редко{297}. Ущерб, нанесенный историческому наследию, был огромен. Тем не менее статья, опубликованная в мае 1922 г. главой Петроградского управления музеев Григорием Ятмановым, торжественно и подробно описавшим высококлассную работу нового правительства по защите исторических зданий и объектов, все же говорит о том, что власти испытывали угрызения совести. Сама статья была посвящена исключительно бывшим дворцам царской семьи{298} и не имела ничего общего с реальностью. Конфискация церковной собственности создала прецедент систематического уничтожения ценностей из других государственных коллекций, в особенности из организованных в бывших аристократических особняках в первые годы советской власти «музеев быта»{299}. Хотя очень много частной собственности было захвачено во время революции и сразу после нее (дети тогда даже начали играть в поиски и изъятие сокровищ), в истории хищнического отношения к имуществу, уже находившемуся в собственности государства, теперь была открыта новая глава.
Конфискации стали поворотным моментом одновременно в политическом, социальном и культурном аспектах. Но были ли они «исторически неизбежны»?
Этот вопрос показался бы многим историкам и очевидцам тех событий не просто неудачно сформулированным, но вульгарным и оскорбительным. Конфискация церковного имущества большевиками почти всегда рассматривается как демонстрация их враждебности по отношению к религиозным сообществам и как целенаправленная, систематическая деятельность по устранению альтернативных коммунизму верований. Как писал в 1927 г. канадец шотландского происхождения Фредерик Артур Маккензи, «гонения не являются случайными, эпизодическими и ограниченными. Они идут по всей стране как тщательно спланированная кампания, целью которой является разрушить веру, если нужно, то с помощью силы»{300}. Аналогичные аргументы приводятся в самом раннем документальном описании действий большевиков против религиозных сообществ – вышедшей в 1925 г. «Черной книге». Как написал в предисловии Петр Струве, «следует признать своеобразное историческое достижение советского режима: он под знаменем атеизма воскресил инквизицию». Целью являлось не создание новой религии, а радикально антирелигиозный новый порядок без каких-либо компромиссов{301}.
В самом деле, изъятия не начались вдруг, ни с того ни с сего. За рядом постановлений, имеющих к церкви лишь косвенное отношение (таких, как «Декрет о земле» от 26 октября 1917 г., «Декрет о гражданском браке» от 18 декабря 1917 г., «Декрет о признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной власти» от 3 января 1918 г.), последовал «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» (20 января 1918 г.). Изданная 24 августа 1918 г. инструкция, которая должна была обеспечить выполнение декрета от 20 января, требовала убрать все религиозные изображения (иконы, картины, статуи религиозного характера и т. д.) из общественных зданий. Православное сообщество уже и эту меру расценило как кощунство{302}.
Узаконенные новшества разжигали и поддерживали в тлеющем состоянии конфликт в массах. Уже в ноябре 1917 г. красногвардейцы, дежурившие на похоронах отца Иоанна Кочурова, настоятеля Екатерининского собора в Царском Селе, размышляли, указывая на золотые купола собора: «Если их срезать, бог оттуда выпрыгнет?»{303} Самого Кочурова без долгих церемоний расстреляли 31 октября 1917 г. после его попытки успокоить антибольшевистские волнения в Царском. Имели место многочисленные случаи изъятия или разрушения церковной собственности, сопровождавшиеся нападениями на священнослужителей и даже убийствами. Нередки были пытки{304}. Насколько частыми стали подобные случаи, иллюстрирует тот факт, что 19 января 1918 г. патриарх Тихон предал анафеме принимавших участие в преследовании духовенства и разрушении церковного имущества{305}.
Но такие проявления насилия в губерниях, пострадавших от гражданской войны, можно считать не «целенаправленными». Однако на собственность православной церкви покушалось и центральное правительство. Пример тому, в частности, закрытие монастырей, а также начавшаяся с конца 1918 г. кампания по вскрытию рак со святыми мощами. Такие мероприятия считались особенно полезными с точки зрения просвещения невежественных верующих. Стоит тем увидеть, что содержимое драгоценных гробов – это полусгнившие трупы, высушенные кости или вовсе восковые куклы, как они начнут считать религию «надувательством»{306}. Изъятие церковных богатств, насильственное закрытие церквей с последующим разграблением алтарей, а затем и сравнивание с землей самого здания церкви представляли собой звенья одной цепи.
В то же время о существовании некоего «большого плана» свидетельствуют лишь события, происходившие начиная с 1922 г. Составитель «Черной книги», определяя «основные взгляды и цели» советского правительства в отношении религии, ссылается преимущественно на данные 1922 г. и более позднее{307}. Несомненно, антирелигиозная и антиклерикальная риторика получила распространение с самого начала: любая уважающая себя агитационная картинка или плакат в честь годовщины революции непременно изображали рядом с толстым банкиром или капиталистом жирного священника. Однако лишь в феврале 1922-го большевистское руководство начало целенаправленно проводить антирелигиозную кампанию по всей стране. Вскрытие рак, хоть оно и было санкционировано на самом верху, проводилось организацией, подотчетной одному из наркоматов, – VIII отделом Наркомата юстиции. В 1922 г. журналист писал, что вскрытие мощей коснулось лишь 63 объектов из 40 000 подвергшихся реквизиции{308}. Теперь уже страдали обычные приходские церкви, несмотря на все первоначальные заявления о том, что верующие имеют право на отправление своих религиозных обрядов.
В первый год после прихода к власти большевиков заявления центральной власти содержали намеки на хоть какую-то возможность мирного разрешения противоречий: опубликованная в 1905 г. статья Ленина «Социализм и массы» давала понять, что в прямую конфронтацию с массами вступать нецелесообразно. Как было написано в 1919 г. в передовице журнала «Революция и церковь», «несмотря на наглую контрреволюционную позицию церкви в целом, советское правительство считает необходимым оставаться на оборонительных позициях по крайней мере в том, что касается веры. Полноценные политические репрессии падут на приверженцев церкви только в том случае, если они занимаются контрреволюционной деятельностью»{309}.
Неудивительно, что заявления такого рода часто рассматриваются историками церкви как простое лицемерие. Тем не менее в первые месяцы и даже годы после опубликования декрета от 20 января 1918 г. советские официальные лица все же пытались обеспечить свободу вероисповедания. Так называемые домовые церкви (часовни) в общественных зданиях подлежали автоматическому закрытию после опубликования декрета, так как несомненно представляли собой чуждое место культа в светской организации. Тем не менее зачастую эти часовни продолжали свою работу, будучи переквалифицированы в «приходские церкви». Такой подход приветствовался организациями, ответственными за сохранение наследия, ведь самые важные архитектурные сооружения в больших городах (в сущности, все официальные здания) имели в своей структуре такие домовые церкви. Лишь в конце 1922-го и в 1923 г. началась целенаправленная кампания по закрытию домовых церквей, т. е. она стала следствием декрета от 16 февраля 1922-го, а не создала предпосылки для его разработки. Кроме того, этот декрет стал водоразделом с точки зрения строгого следования букве закона по отношению к «культам». Хотя на бумаге религиозные группы не являлись юридическими субъектами с 20 января 1918 г., на практике к ним зачастую относились как к таковым{310}. Начало новой фазы в отношениях церкви и государства характеризовалось вмешательством последнего даже в самые незначительные аспекты религиозной практики. Законодательство, разработанное для борьбы с контрреволюцией, систематически применялось по отношению к духовенству.
В целом декрет от 16 февраля 1922 г. ознаменовал важные изменения в законодательстве о культах (в то время как репрессии против культов закон не предусматривал){311}. Эти изменения в законах не кажутся частью тщательно разработанного заранее плана. С конца лета и до зимы 1921 г. советские лидеры все решали, принять ли помощь для голодающих от российских религиозных организаций. Декрет от 20 января 1918 г. запрещал таким организациям собирать средства или заниматься политической деятельностью и филантропией – но ведь советское правительство приняло помощь от зарубежных религиозных организаций{312}. Желание получить деньги затмевалось опасениями позволить церкви сыграть в этом деле значимую роль. Восьмого декабря 1921 г. государство и церковь наконец пришли к согласию в вопросе о совместных действиях. Но прошло меньше трех недель, и 27 декабря вышел другой декрет, согласно которому имущество церквей подлежало инвентаризации и делению на три категории: объекты, имеющие музейную ценность, объекты, имеющие ценность в денежном выражении, и бытовые объекты. Наконец, 2 января 1922 г. был принят третий декрет, приказывавший изъять все объекты, имеющие «музейную ценность». Троцкий, координировавший борьбу с голодом, требовал принять меры против церкви и ускорить конфискацию (интересно, что его жена Наталья Седова, отвечавшая за политику правительства в отношении культурного наследия, по-видимому, лоббировала при этом интересы собственного ведомства). Тем не менее очень немногие тогда считали, что церковь частично или в значительной мере финансирует помощь голодающим. Напротив, в январе и феврале 1922 г. пресса вбивала читателям в головы идею о том, что советские граждане обязаны жертвовать свои ценности. Во множестве публиковались истории о членах партии, расставшихся с золотыми украшениями ради помощи общему делу{313}.
Тем не менее в январе, феврале и даже марте того же года кое-кто из официальных лиц и представителей духовенства, по крайней мере в некоторых городах, все еще пытался достичь компромисса{314}. Четырнадцатого февраля 1922 г. газета «Петроградская правда» опубликовала статью «Вклад православного духовенства в помощь голодающим», рассказавшую об инициативах церкви. Тон статьи был нейтральным, а отчасти и одобрительным. И даже после принятия декрета от 16 февраля митрополит Вениамин вел диалог с Петроградским советом. Пятого марта они обсудили ситуацию на встрече. Диалог был, по свидетельствам, прекращен по приказу центрального правительства. На второй встрече, которая прошла через несколько дней, представители Петроградского совета заняли жесткую позицию{315}. Несогласия наблюдались и среди высшего руководства. Глава тайной полиции (ЧК) Феликс Дзержинский в целом выступал за жесткую линию по отношению к иерархам церкви и иронизировал по поводу выдвинутого Анатолием Луначарским в декабре 1921 г. предложения о попытке диалога с либерально настроенным духовенством. Однако колебался даже Дзержинский: в апреле 1923 г. он выражал обеспокоенность по поводу того, что излишнее силовое давление на патриарха Тихона может вызвать международную напряженность. Бывали моменты, когда прагматические соображения оказывались важнее следования идеологической линии{316}.
О сочувствии верующим речи не шло. Скорее, власти боялись довести ситуацию с верующими до бунта (и потерять политический авторитет у рабочих), одновременно опасаясь обвинений в потакании «реакционным силам»{317}. Возможность компромисса была окончательно перечеркнута серьезным бунтом в текстильном городе Шуе, расположенном в 260 км от Москвы. Как результат волнений (четверо погибших), так и близость Шуи к Москве стали потрясением для властей. В своем знаменитом письме, написанном 19 марта, сразу после того, как до центра дошли новости из Шуи, Ленин заявил, что «черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение». Косвенно ссылаясь на слова Макиавелли («Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут»), Ленин призвал к решительным действиям по подавлению религиозного сопротивления. Из этого письма, которое было опубликовано в 1970 г. в эмигрантском русском журнале, явствует, что на тот момент генеральный план уже существовал{318}. Однако, если помнить о более широком контексте и о развернувшейся внутри Политбюро борьбе, становится ясно, что решение о переходе к жесткой линии было принято поспешно: политике Ленина был присущ менее обдуманный и методичный характер, чем политике мыслителя, чьи идеи он попытался проводить в жизнь{319}.
Тем не менее именно это письмо привело к резкому усилению гонений на религиозные группы и подъему волны антирелигиозной риторики в газетах. Она стала особенно ощутима в последнюю декаду марта 1922 г. и не стихала до начала лета. Если письмо Ленина о Шуе непосредственно предшествовало масштабной антицерковной кампании, то свертывание этой кампании последовало за еще одним важным эпизодом биографии Ленина – первым инсультом, произошедшим в ночь с 26 на 27 марта и сделавшим его инвалидом. Случись этот инсульт, после которого Ленину потребовалась интенсивная реабилитация, на два или три месяца раньше, никто из членов Политбюро не имел бы достаточно власти, чтобы продвигать жесткую линию по отношению к церкви{320}.
В течение марта и апреля советская пресса пребывала в состоянии истерии. Доклады о бесчинствах, творимых черносотенцами, за которыми, как считалось, стояли церковные лидеры, сопровождались письмами от общественности, возмущавшейся тем, что изъятие ценностей идет слишком медленно. Вклад духовенства в дело борьбы с голодом теперь неизменно оценивался так: «слишком мало и слишком поздно». А чаще духовенство обвиняли в открытой обструкции, с удовольствием и в подробностях описывая показательные процессы{321}. Как следствие конфискаций, в Советской России появилось организованное, хотя и немногочисленное, объединение атеистов. Их газета «Безбожник» начала выходить в декабре 1922-го. Знаменитые коммунистические ритуалы – красные крестины и похороны, празднование коммунистического рождества и пасхи – также возникли в период после конфискаций, т. е. в 1923 и 1924 гг.{322}
Полномасштабная борьба против религиозных организаций, проводившаяся с февраля по июнь 1922 г., таким образом, не являлась кульминацией хорошо спланированной политики. Конечно, конфронтация с церковью была в известной степени предопределена, так как большевики были радикальными атеистами и отношение обеих сторон к статусу церковных зданий и имущества слишком различалось: для одних это были материальные объекты, которым стоило найти лучшее практическое применение, для других они олицетворяли собой Царство Божие{323}. Тем не менее именно в этот момент противостояние церкви не было необходимостью. Что произошло бы, если бы удалось достичь компромисса с кем-то из высших иерархов церкви, пользовавшимся доверием как традиционалистов, так и реформистов, – например, с митрополитом Вениамином?
Для любого компромисса такого рода имелись серьезнейшие препятствия – в первую очередь со стороны церкви. Патриарх Тихон был настроен против изъятия чаш для причастия (потиров), что оставляло мало пространства для маневров любому высокопоставленному представителю духовенства, если тот хотел остаться в системе патриархата: действовать без «благословения» владыки считались совершенно неприемлемым{324}. Со своей стороны, многие верующие – даже те, кто симпатизировал большевизму, – считали, что трогать церковную собственность нельзя. Пока советская пресса рассказывала о письмах от «христиан» с требованиями как можно скорее сдать богослужебную утварь, стенограммы встреч с общественностью рисовали совершенно иную картину. На совещании Петроградского совета 20 марта один из ораторов горячо протестовал против изъятий. «Прямо перед Севастопольской кампанией Николай Первый вынудил Киевскую Лавру передать такого имущества больше чем на двадцать миллионов», – говорил он. Однако, если вспомнить последствия Крымской войны, «ни к чему хорошему это не привело». Заканчивалось выступление такими словами: «Я – сын бывшего крепостного, я не иду против советской власти, я ей желаю добра, но я прошу: не идите против Бога…»{325}
На многих простых людей сильно подействовали слова о том, что церковная собственность – это их собственность и они могут делать с ней что хотят, потому что сами ее создали. Такая позиция подводила базу под аргументы рабочей паствы, недовольной закрытием церквей и конфискацией их имущества. Прихожане церкви Святого Питирима, что на Киевской улице в Петрограде, сочли себя вправе заявить летом 1922 г.: «Наша церковь маленькая и построена не силами буржуев и не на их деньги, а одними только нашими мозолистыми руками, и мы собирали церковную утварь, где и как могли»{326}. В то же время люди сочувствовали голодающим и не вполне понимали, с чем из церковной собственности можно безболезненно расстаться. Колебания рядового представителя духовенства нашли свое отражение в отчетах о петроградском процессе священнослужителей. Сначала изъятие церковных ценностей казалось ему неприемлемым, потом он стал считать, что с этим можно смириться. Эти колебания выглядят вполне естественными, если вспомнить, как воздействовали на верующих сторонники конфискаций внутри самой церкви{327}. В конце концов в 1918 г. Поместный собор православной церкви заключил, что «священные сосуды могут быть без украшений и ризы из простой материи, поскольку православная церковь дорожит ими не из-за их материальной ценности»{328}. Тот факт, что волнения произошли лишь в 13 из сотен церквей, все еще работавших в Петрограде в марте и апреле 1922 г.{329}, свидетельствует о том, что «генеральной линии» не было. Преобладало желание не дать вовлечь себя в конфликт; как сказал Вениамин после своего избрания митрополитом в 1918 г.: «Я стою за свободу Церкви. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала»{330}.
Реакция аудитории на слова члена Петроградского совета о том, что не надо «идти против Бога» (крики «Довольно!» и общий шум), свидетельствует о том, что компромисс с духовенством был бы чрезвычайно непопулярен среди рядовых коммунистов. Однако и колебания по поводу того, закрывать домовые церкви или нет, показывают, что далеко не все разделяли горячие антирелигиозные чувства (в отличие от антиклерикальных). И многие официальные лица смирились бы с привлечением верующих к конфискациям, если бы сверху был получен соответствующий приказ.
О возможности альтернативного пути можно судить по последствиям закона о разделении церкви и государства, который большевики взяли за основу декрета от 20 января 1918 г., – он был проведен социалистическим большинством во французском правительстве Клемансо в декабре 1905 г. Этот закон во многом походил на советский указ. В 1902 г. чиновник из Департамента по делам религии сказал адвокату Луи Межану – одному из архитекторов закона 1905 г., – что «разделять церковь и государство столь же глупо, как выпускать диких зверей из клеток на площади Согласия, чтобы они кидались на прохожих», так как после этого не останется моральных ограничений в управлении государством и общественных отношениях{331}. Во Франции существовала сильная традиция антиклерикализма, и в то же время ярко выраженное негативное отношение к церкви некоторых слоев общества, например городского рабочего класса, уравновешивалось крепкой привязанностью к религии и материальной стороне церковной жизни{332}. Французские прихожане были далеко не в восторге от захвата государством имущества «их» церквей и ненавидели его за вмешательство в их жизнь. Но интересно, что какие-то предпосылки, сделавшие возможным компромисс во Франции, существовали и в России: например, и там и там многие считали, что отделение от государства даст церкви возможность сосредоточиться на духовных делах и позволит прихожанам принимать большее участие в делах прихода{333}.
Разумеется, имелись и явные отличия. Во Франции было гораздо лучше развит институт права собственности – так что «культы» пользовались историческими зданиями на основании более четко прописанных законов. Кроме того, во Франции была намного более богатая история сохранения культурного наследия. Здесь, в отличие от Советской России, даже речи не шло о том, чтобы переложить на плечи прихожан содержание исторических зданий, и церковные общины не находились в ситуации правовой и экономической неопределенности. Однако главное отличие, по-видимому, заключалось в том, что принимаемые во Франции меры всегда предполагали постепенный переход к новому порядку, допуская вмешательство непредвиденных обстоятельств. С началом Первой мировой войны нацию охватил патриотизм и враждебность по отношению к церкви снизилась, в результате чего действие нового закона сошло на нет.
В советской истории первых послереволюционных лет такого события, способного нейтрализовать антиклерикальное движение, не было. Напротив, после трудной победы, одержанной в гражданской войне 1918–1921 гг., создалось впечатление, что страну осаждали именно те реакционные силы, которые олицетворяла собой церковь. А поскольку при НЭПе были сделаны уступки таким представителям старого порядка, как промышленники и торговцы, для большевиков было чрезвычайно важно показать своим сторонникам, что они не «продались бывшим»{334}. Лишь через два десятилетия, во время Великой Отечественной войны, нависшая над страной угроза привела к возрождению национального патриотизма. Отношение к религии и церкви, в особенности к православию, смягчилось, что стало очевидно, когда в 1943 г. Сталин заключил с церковными иерархами соглашение.
Тем не менее оно предполагало лишь ограниченный набор уступок церкви, в основном касающихся управления собственностью, большей автономии приходов и разрешения на открытие ранее закрытых храмов. Без наличия внешней угрозы любой компромисс в 1922 г. непременно был бы еще более ограниченным. Максимум, чего удалось бы добиться с его помощью, – это затормозить нападки на церковь, но не прекратить их. Даже в самых смелых мечтах невозможно себе представить реабилитацию основной религии, как в Испании при Франко (и, конечно, в постсоветской России), и вообразить, как Сталин с гордостью смотрит на свою дочь Светлану и ее жениха, стоящих у алтаря в храме Христа Спасителя.
Как несоветская организация церковь в любом случае подвергалась бы в середине 1920-х гг. все более удушающему регулированию, а затем и мощному давлению в годы культурной централизации (по аналогии с роспуском независимых литературных объединений и образованием Союза писателей в 1932 г.). Вряд ли удалось бы избежать закрытия церквей в условиях массовой индустриализации и урбанизации – и потому, что любые помещения нужны были для производства и хранения, и потому, что они представляли собой чужеродные вкрапления в ландшафт советских городов, который усиленно пропагандировали планировщики. Разве что мог быть другим процесс рассмотрения предложений по сносу: прихожан можно было бы убеждать в том, что они играют важную социальную роль, помогая обществу и церкви своим переходом из храма А в храм Б. Здесь можно провести аналогию с методами, с помощью которых советское правительство в середине 1930-х гг. достигло согласия с академическими «буржуазными специалистами» и с художниками и литераторами. Результатом стали отношения, характеризовавшиеся легким антагонизмом, однако взаимовыгодные. Профессионалы понимали, что государственное финансирование подразумевает уважение к повестке дня государства: лидеры партии перестали оказывать поддержку таким воинствующим организациям, как Пролеткульт и Институт красной профессуры{335}. Альтернативный путь был вполне возможен: в послевоенные годы оказалось, что верующие были готовы использовать официальные каналы, чтобы добиваться открытия церквей, и быстро научились находить общий язык с нужными им бюрократами{336}.
В каком-то смысле это была упущенная возможность. Как доказывали в 1922 г. некоторые советские лидеры, более «смирная» церковь была бы и более управляемой. Видимо, отчасти эти аргументы оказали воздействие: в том же 1922 г. показательные процессы, на которых ставился знак равенства между религиозностью и контрреволюционной деятельностью, закончились. Впоследствии местные чиновники и милиция хотя и трудились прилежно над претворением в жизнь законов о секуляризации, но делали все возможное, чтобы арестованные представители духовенства обвинялись в обычных «светских» преступлениях (в том числе политических, таких как шпионаж). Просоветская брошюра, опубликованная в Лондоне в начале 1930-х гг., заявляла, что именно в капиталистических странах стоит поискать преследование на религиозной почве. Приверженцы движения имяславия нажили себе неприятности из-за «противоестественного порока, который слишком отвратителен для того, чтобы говорить о нем», а федоровскую общину староверов скомпрометировали «бывшие жандармы, белогвардейцы и так далее». Католических священников арестовывали исключительно за шпионаж в пользу «фашистской Польши»{337}. Эта уловка – прикрыть виктимизацию видимостью законного наказания – отчасти была направлена на внешний мир. В 1920-е гг. советские политики сознавали, что их отношение к верующим было основным камнем преткновения для установления дипломатических и торговых отношений с зарубежными странами, для приобретения технологий. Однако подобные обвинения предъявлялись и в расчете на внутреннюю аудиторию.
Трудно судить, на какую поддержку опирались при этом власти. В то время как воинствующие атеисты регулярно пригвождали религиозных людей к позорному столбу из-за их политической неблагонадежности (а также выставляли реакционерами, невеждами и т. д.), большинство советского населения до войны считали себя верующими даже несмотря на нежелание сообщать об этом при проведении переписи населения 1937 г.{338} Несомненно, наблюдалась и обратная корреляция между религиозностью (и готовностью признаться в ней перед переписчиками) и уровнем грамотности, а также слабая положительная корреляция с возрастом{339}. И это не вполне согласовывалось с общепринятой тенденцией отношения к верующим как к «врагам».
Со своей стороны, и верующие воспринимали созданный пропагандой образ «врага», но трактовали его иначе. Вот что написала в марте 1928 г. группа прихожан церкви Иоанна Крестителя на Моховой: «Мы твердо верим, что это враги закрывают церкви, чтобы вызвать недовольство правительством. Приближаются выборы в Верховный совет, враг делает свое жуткое дело, играет священными чувствами людей»{340}. Этот пример демонстрирует, что Советский Союз, где верующие были бы более интегрированы в общество, не обязательно оказался бы более демократичным и толерантным государством. Скорее, страх перед «чужими» принял бы там другое обличье, основываясь на традиционалистской модели национальной идентичности. Такое общество походило бы, возможно, на эмигрантские круги, описанные в книге «Пнин», для которых «идеальная Россия состояла из Красной армии, помазанника Божия, колхозов, антропософии, Православной Церкви и гидроэлектростанций»{341}. Враждебность конца 1930-х гг. была бы направлена против «чуждых религий», в особенности лютеранства и католицизма, в которых виделись пристанища для шпионов и подрывных элементов{342}.
Борьба с религией была связана не только с политической, но и с культурной сплоченностью. Считалось, что советские ценности исключают веру в Бога, которая неизменно представлялась как признак недостатка образования и «культуры», как выраженная форма социальной «отсталости» и проявление невежества. Этот тип мировоззрения был гораздо более распространен, чем представление обо всех церковниках как о врагах. Например, конфискация церковного имущества встречала осторожное одобрение со стороны чиновников, ответственных за сохранение культурного наследия, видимо, потому, что переводила эти предметы из категории «объектов культа» в категорию «искусство» и позволяла отделить то, что казалось эстетически непривлекательным. Официальное противопоставление «науки» (в это понятие в широком его понимании входило и обучение) и «религии», как и противопоставление «просвещения» и «отсталости», нашло много приверженцев.
Тем не менее популяризация просвещения и науки среди полуграмотного населения была бы намного эффективнее, если бы предметы культа изымали из церквей не столь варварскими методами. Действия членов советского правительства в 1922 г. дали православной церкви и другим «культам» на территории государства целую когорту святых мучеников – так называемых «новомучеников». Травля православной церкви вызвала отторжение даже у многих неверующих, например у знаменитого ученого Ивана Павлова{343}. А моральный авторитет православной церкви, возникший в результате социальной и политической стигматизации, оставался неизменным до конца советского периода и даже укрепился, когда о гонениях советской власти на церковь стало известно более широкой аудитории. Таким образом, одержав в 1922 г. решительную, но недолговечную победу, советское правительство потерпело поражение в долгосрочной перспективе. Будь в тот год достигнуто соглашение между государством и церковью – потиры как плата за более либеральные законы, – оно лишило бы православие блеска и славы оппозиционного движения. К концу 1930-х вера могла быть органично интегрирована в «национал-большевизм», который вернул советской культуре многих художников и культурные формы, ранее считавшиеся «реакционными». Но даже когда узаконенные убийства закончились, репрессии продолжились и навсегда осталось неясным, насколько «советской» в действительности была православная церковь. А это лишь добавило ей притягательности как моральной альтернативе для тех, кто враждебно относился к советскому режиму{344}.
В то же время неспособность противостоять церкви в 1922 г. значительно ослабила бы правительство большевиков с точки зрения реализации его главного политического проекта. Долговременные последствия гонений на церковь по своей значимости были несопоставимы с задачей проведения политики непримиримости и борьбы с силами, непосредственно угрожавшими советской власти. Первые нападки на традиционный российский уклад стали важнейшим уроком на будущее, который был учтен при проведении коллективизации. Противники режима были недовольны, однако проявления этого недовольства были так слабы, что легко подавлялись. Смог бы Сталин уверенно взяться за навязывание своей воли российской деревне, если бы не было опыта масштабной кампании 1922 г.? В конце концов конфискация церковных богатств стала примером не только эффективного проведения подобных кампаний, но и использования их для сплочения общества. Кроме того, она продемонстрировала, что безжалостное подавление потенциальной подрывной деятельности и искоренение социальной «чужеродности» – процесс, необходимый для строительства социалистического будущего, – может быть вполне достижимой целью.
14. Развитие ленинизма: Гибель политического плюрализма в партии большевиков после революции 1917–1922 гг. Ричард Саква
В 1917 г., в то время как Ленин старался консолидировать власть после своей победы 25 октября, в партии появилась группа людей, предупреждавших о возможных последствиях преждевременной попытки построить социализм в довольно отсталой стране. В число этих «коалиционистов» входили крупные партийные фигуры, в частности один из старейших соратников Ленина Лев Каменев. В последующие годы они выражали свою озабоченность разными способами, в первую очередь участвуя в дискуссиях «демократических централистов» в 1919 г. и движения Игнатова и «рабочей оппозиции» в 1920-м. Главным поводом для беспокойства члены названных групп считали угрозу плюрализму внутри революционного движения, хотя при подавлении оппозиции они проявляли себя немногим мягче, чем правоверные ленинцы. Провал этих самых первых попыток установить какую-либо форму плюралистической демократии привел к тому, что страна избрала курс, которым она шла до конца и который особенно ярко проявил себя в 1930-е гг., в период сталинских репрессий. Тем не менее надежды тех, кто поддерживал внутрипартийный плюрализм, время от времени возрождались, особенно при взятии курса на «социализм с человеческим лицом» во время Пражской весны 1968 г. и 20 лет спустя, в начале борьбы Михаила Горбачева за «гуманный и демократический социализм».
Центром несколько более развитого большевистского плюрализма, если можно так охарактеризовать это течение, была Москва. Это движение отражало социальный характер города, проявившийся еще в конце правления Романовых. Москва стала плодородной почвой для плюралистического большевизма, развивавшегося в противовес монизму, который впоследствии привел к укреплению сталинизма. Именно в Москве, где глубинное течение оппозиции существовало еще и в 1920-е гг., противостояние захвату власти большевиками было особенно сильным. Если же вернуться к теме этой статьи, то и внутрипартийные дебаты получили в Москве наибольшее распространение. В ходе этих дебатов их участники указывали на опасность попыток единолично удерживать власть в обществе, «еще не созревшем» для социализма. Главный аргумент коалиционистов и их последователей состоял в том, что, хотя русское общество было отсталым, его наиболее прогрессивные элементы все же могли стать партнерами в строительстве социализма.
Говоря о более широкой картине, напряженность между Москвой и Петроградом, позже Ленинградом, сохранялась в течение всего советского периода. Партийные программы склонялись то к линии Москвы, то к линии Ленинграда. «Московская линия», которую поддерживали Николай Бухарин, Георгий Маленков и Алексей Косыгин, в какой-то степени нативистская и неопопулистская, гарантировала стабильность государственной системы, в то время как «ленинградская» (представленная Григорием Зиновьевым, Андреем Ждановым, Фролом Козловым и Григорием Романовым) выступала за жесткий революционный интернационализм{345}. Именно «московская линия» победила во времена правления Горбачева (с 1985 по 1991 г.). Это была не просто попытка улучшить работу системы, но намного более глубокое стремление достигнуть «реформированного коммунизма». За это выступали некоторые реформаторы партии в годы гражданской войны и чехословацкие реформаторы в 1968 г. И хотя ранние оппозиционеры в присутствии Ленина не посмели бы говорить о «гуманном и демократическом социализме», борьба за плюрализм внутри революции была продолжена на новом витке сторонниками «социализма с человеческим лицом» в 1960-е, еврокоммунистами в 1970-е и Горбачевым в 1980-е. Михаил Горбачев выступал за возвращение к ленинским принципам, но, как справедливо отмечали его критики, именно эти, «ленинградские», принципы облегчили приход к власти Сталина. Будь он лучше подкован теоретически, Горбачев говорил бы о возвращении к латентному плюрализму, присутствовавшему в партии большевиков в первые годы советской власти.
Специфика Москвы
В последние годы был опубликован ряд книг, описывающих многообразие политической жизни в поздний период правления Романовых. Особое внимание авторы уделяют развитию либерализма и гражданского общества, отвергая таким образом традиционную идею о том, что автократия эффективно подавляла развитие плюрализма в публичной сфере. В самом деле, создается впечатление, что общество в конце правления Романовых развивалось по «западному» образцу, и это развитие сопровождалось богатой культурной и интеллектуальной жизнью, задавленной большевиками в первые же месяцы после их прихода к власти{346}. Один из примеров таких публикаций – книга Федяшина «Либералы при автократии». Автор проанализировал статьи в толстом журнале «Вестник Европы» – издании, популярность которого постоянно росла с момента основания в 1866 г. и до 1904 г., когда она достигла пика. Журнал публиковался до 1918 г., прекратив свое существование при большевиках. Он оказался в центре дебатов о перспективах местных органов управления, в особенности земских собраний. Земские собрания были учреждены в 34 губерниях старой России в 1864 г. в результате масштабных либеральных реформ Александра II с целью стимулировать вовлеченность низов в функционирование государства. С точки зрения Александра Солженицына, в России должны были развиться собственные формы демократии. Земское движение было как раз той либеральной практикой, которая пришла не с Запада{347}.
Многочисленные исследования продемонстрировали активное развитие гражданского общества перед 1917 г. Джозеф Бредли описывает появление различных профессиональных объединений и благотворительных организаций{348}. Десять лет после 1905 г. были отмечены неожиданно бурным экономическим ростом. Расширилась сеть железных дорог, удвоились объем и доходность железнодорожных перевозок. Производство товаров широкого потребления превысило аналогичный показатель в Германии, статистические данные свидетельствуют о заметном повышении уровня жизни. Промышленный сектор не был обособлен, что характерно для развивающихся стран, а скорее органично вписывался в экономику благодаря рыночным и финансовым связям. К 1914 г. быстрое социальное и экономическое развитие последних 50 лет сократило разрыв между Россией и более развитыми странами и подняло ее на пятое место среди индустриальных держав. Шел поиск таких стратегий управления страной, которые сократили бы разрыв между государством и обществом, привилегированной верхушкой и низами, и в этом смысле старая столица – Москва – резко контрастировала с Петербургом, где общество было поляризовано{349}. Москва с ее интенсивно развиваемым общественным транспортом, социальным страхованием и жильем для рабочих стала более открытым городом, чем Петербург{350}. Тем не менее, хотя социально-экономический прогресс поощрялся, автократия старалась сохранить свое политическое превосходство, что порождало многочисленные противоречия. Возможно, они разрешились бы естественным путем, если бы Первая мировая война не привела в конце концов к революции.
Между Москвой и Петроградом было много различий. Москва существовала в основном за счет внутреннего капитала, который развивал текстильную промышленность, в то время как металлургическая промышленность северной столицы полагалась на иностранный, в первую очередь французский, капитал. Москва была городом староверов, а Петербург – городом правящего класса и элит. Москва была более «крестьянской», что предполагало более тесные связи с регионом и страной в целом, и оказалась менее восприимчивой к революционному социализму, который в конечном итоге восторжествовал на севере. Замечание Антонио Грамши о том, что гражданское общество в России находилось «в первичном аморфном состоянии», в меньшей степени касалось Москвы. Грамши писал: «На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном аморфном состоянии. На Западе между государством и обществом были упорядоченные отношения, и, если государство начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов»{351}.
В Петрограде довольно легко укоренилось то, что Грамши называл якобинством, однако в Москве гражданское общество решительно сопротивлялось установлению монистической формы революционной власти.
Множественность русской революции
Основатель социал-демократического движения в России – Георгий Плеханов осуждал развитие в партии большевиков движения, позже получившего название «демократический централизм», равно как и захват власти Лениным в октябре 1917 г. Самая известная работа Плеханова, опубликованная в 1895 г., – «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» – защищала материалистическую концепцию в социальном развитии{352}. На деле же Плеханов, хоть и был убежденным марксистом, отстаивал плюралистическую концепцию политики, и именно эта традиция вдохновляла оппозицию большевистскому монизму.
Октябрьская революция состояла, как оказалось, из целого ряда революций, которые слились в одну. Произошла массовая социальная революция, в ходе которой крестьяне требовали земли, солдаты (тоже, фактически, крестьяне) боролись за мир, а рабочие сражались за признание своей значимости в процессе производства. В то же время произошла и демократическая революция под лозунгами политической ответственности и народного представительства, не обязательно в классической либерально-демократической форме. Демократическая революция боролась, прежде всего, за конституцию, которая и установила бы, и ограничила политическую власть. Однако одновременно произошла и либеральная революция, в ходе которой новорожденная буржуазия отвергала абсолютистские притязания монархии на божественный промысел и хотела внедрить, как ей казалось, более просвещенные формы конституционного правления и защиты прав на собственность. Это сопровождалось национальной революцией, подтвердившей независимость Польши и Финляндии и приведшей к быстрому распаду Российской империи. А для марксистов произошедшее было также и революцией интернационалистов, предполагавшей, что прежняя форма национального государства отжила свое. Поскольку капитализм стал глобальной системой, социальные классы должны были постепенно утрачивать свои национальные характеристики и вливаться в единую социальную революцию. Наконец, была и революция в революции. Как наиболее экстремальные представители русского революционного движения большевики узурпировали повестку дня умеренных социалистов и мобилизовали рабочих и революционных идеалистов (таких, как анархисты) на установление собственной политической диктатуры. Большевики оказались самыми жестокими и эффективными сторонниками радикального раскрепощения людей во имя новых общественных идеалов{353}.
Разнородность источников революции отразилась в ходе борьбы большевиков за Москву{354}. В Петрограде им удалось захватить власть относительно легко, однако в Москве они встретили как общественное, так и политическое сопротивление. На то, чтобы сломить его, у большевиков ушло десять дней – бои шли и в Кремле, и вокруг него. Победу удалось одержать лишь после того, как Ленин прислал подкрепление из латышских стрелков и кронштадтских моряков. Другими словами, Москва вошла в коммунистическую эру как побежденный город, и революционный социализм петроградского типа был ей навязан. Режим был оккупационным со всеми вытекающими отсюда последствиями: политическую систему внедрили насильственно, против воли населения{355}. Активное сопротивление рабочих-печатников и некоторых других представителей рабочего класса продолжалось до весны 1918 г., а глубинное оппозиционное течение существовало еще и в 1920-е гг.{356} Особенно сильны в Москве были меньшевики: их плацдармом стали профсоюзы и местные советы, откуда они последовательно критиковали политику большевиков. Окончательно их искоренили лишь в 1920-е гг.{357} Этой долгой борьбой объясняется враждебность традиционной интеллигенции к принудительному радикализму большевистского режима.
Оппозиция внутри партии большевиков
Неудивительно, что борьба за плюрализм отразилась на самой партии большевиков. В феврале 1917-го эта партия насчитывала всего 25 000 человек. За период до октября того же года ее численность выросла примерно до 300 000 членов и продолжала быстро увеличиваться после прихода большевиков к власти. Проблему управления такой массой людей решили путем применения репрессивных мер и проведения кампаний за дисциплину. Первые крупные дебаты внутри руководства были посвящены организации советской власти. Создание 25 октября эксклюзивно большевистского правительства в форме Совнаркома во главе с Лениным разочаровало тех, кто верил, что власть перейдет к Советам. Совнарком отнял власть у ВЦИКа – Всероссийского центрального исполнительного комитета, именем которого была совершена революция. Теперь власть оказалась консолидирована в руках органа, подчиненного только партии большевиков. Другими словами, был сделан судьбоносный шаг по «замене» народной власти, представленной Советами, никому не подотчетными партийными комитетами. Ранее об этом предупреждал Лев Троцкий. Сам он к тому времени присоединился к радикалам, не отступаясь от своей теории перманентной (непрерывной) революции, чему противостояли умеренные члены партии большевиков, фактически придерживавшиеся тех же взглядов, из-за которых новое правительство, созданное после Февральской революции, стало называться «временным».
Они возражали против совершенного Лениным переворота, аргументируя это тем, что его метод захвата власти приведет к правлению через насилие и к гражданской войне. Для этих умеренных большевиков революция отнюдь не была непрерывной и постоянной. Коалиционисты призывали к расширению правительства с тем, чтобы оно включало все представленные в советах партии. Группа, в которую входили Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Алексей Рыков, настаивала на формировании коалиционного правительства с участием умеренных социалистов, настроенных против войны. Они считали, что в новой системе должно быть место и для других организаций, помимо Советов. Этот вопрос был для них настолько принципиален, что они ушли из нового правительства, предупредив, что политика Ленина приведет к гражданской войне{358}. В ноябре Ленин согласился разделить власть с левыми эсерами, которые были тогда отдельной партией. Такой баланс сил сохранялся до марта 1918 г., однако после приписанной им попытки восстания 6 июля левые эсеры подверглись суровым преследованиям. Коалиционисты потерпели поражение после ожесточенной борьбы. Это стало первым крупным конфликтом внутри партии власти. Предостережения коалиционистов оказались пророческими: насильственную власть режима укрепило создание в декабре 1917 г. тайной полиции – ЧК, а также начало – с августа 1918 г. – Красного террора. При этом глава Моссовета Лев Каменев оставался самым последовательным критиком предоставления широких полномочий тайной полиции.
Ленин отказывался признать какую бы то ни было «временность» власти большевиков. Наоборот, он установил традицию, согласно которой группа революционеров-социалистов, придя к власти, должна была находиться во главе государства. Система, таким образом, оставалась неизменной. С точки зрения целесообразности это отвечало Марксову видению истории: если достигнута более совершенная форма организации общества, зачем оставлять возможность возвращения к ретроградной? Разумеется, умеренные большевики тоже не были готовы расстаться с властью, однако они защищали более приемлемую для всех форму этой власти. На практике, когда дело дошло до долгожданного Учредительного собрания, умеренные согласились с Лениным, который считал его пережитком «буржуазной» фазы революции. Они выступали против его роспуска всего только один день: 5 января 1918 г. Николай Бухарин объявил, что большевики будут беспощадно бороться с буржуазной парламентской республикой. Эксперимент с подотчетным конституционным правительством закончился, не успев начаться. Ленин заявил, что советская власть и диктатура пролетариата являются высшей формой демократии, однако расстрел в Петрограде рабочих, выступавших за Учредительное собрание, продемонстрировал, что́ ожидает несогласных.
Консолидация ленинцев
Насильственное внедрение особенно ограниченной и нетерпимой формы революционного социализма вызвало враждебную реакцию у некоторых зарубежных приверженцев движения. Роза Люксембург, интернационалист из числа немецких социал-демократов, первоначально приветствовала большевистскую революцию, поставившую на повестку дня социализм, однако вскоре осудила ленинские методы правления и в первую очередь подавление демократии, хотя и понимала временную необходимость проведения жесткой линии. В своей знаменитой формулировке 1918 г. она подчеркнула, что «свобода только для сторонников правительства, только для членов одной партии, сколько бы их ни было, – это вовсе не свобода. Свобода – это всегда только свобода инакомыслящих»{359}. Карл Каутский – одна из главных фигур в социалистическом движении Германии – настаивал на приверженности социал-демократии парламентским формам революционных преобразований. Он считал, что демократия – это не просто инструмент борьбы, а неотъемлемый элемент социализма. Каутский писал: «Таким образом, для нас социализм немыслим без демократии. Под современным социализмом мы понимаем не только социальную организацию производства, но также и демократическую организацию общества»{360}. Разделяя взгляды Грамши на Россию, Каутский считал большевистскую революцию чем-то чуждым международной революционной борьбе. Для него она явилась результатом специфических условий, сложившихся в России, в первую очередь тягот войны и относительной социальной незрелости общества, – взгляд, который привел Ленина в ярость.
Не меньше беспокоило Ленина появление в начале 1918 г. левой оппозиции. Это движение сосредоточилось на двух критических вопросах: войны и мира (война еще не закончилась) и возникновения бюрократического авторитаризма в партии. В глазах левых оппозиционеров эти два момента были связаны. Они выступали за революционную войну против Германии, которая поможет объединиться с прогрессивными рабочими Запада и позволит социалистической России вырваться из изоляции. Левые коммунисты образовали фракцию в декабре 1917 г.; их активность достигла пика в январе и феврале 1918-го, пока в Брест-Литовске с трудом продвигались переговоры о мире с Германией. Они заручились поддержкой некоторых лидеров партии, в том числе Бухарина, Осинского, Преображенского и Радека. Их поддерживало также большинство организаций на местах. Позиции левых коммунистов сразу же ухудшило новое наступление Германии, последовавшее за провалом мирных переговоров 18 февраля. По Брест-Литовскому мирному договору от 3 марта за мир были отданы территории. При голосовании 7 марта на VII съезде партии расчетливый реализм Ленина победил, и драконовские условия Германии были приняты. Ленин отверг предложение левых коммунистов попытать счастья с западным рабочим классом – те надеялись, что западные товарищи придут на помощь. Последовавшее в том же году поражение Германии показало, что с тактической точки зрения он был прав{361}. Революционные порывы не могли тягаться силой с германской военной машиной.
Критика со стороны левых коммунистов, которые осуждали «мелкобуржуазную» деградацию революции и в особенности предостерегали против опасности, которую таила в себе большая масса крестьянства, не распространялась на фундаментальный вопрос об ответственности новой власти перед рабочим классом – номинальным субъектом революции. Тем не менее критика ленинской модели государственного капитализма точно попала в цель; Осинский призывал к строительству пролетарского социализма на основе классового творческого потенциала самих рабочих, а не приказов, полученных от промышленных магнатов{362}.
В то же время левым коммунистам было не очень интересно самовыражение рабочего класса, что нашло свое отражение в их оппозиции движению за «собрания уполномоченных», возникшему весной 1918 г. Это спонтанное движение рабочих крупнейших заводов Петрограда набрало популярность и в Москве. Его целью было создать «широкую организацию рабочего класса, которая сможет вывести массы из тупика, в который загнала их политика новых властей»{363}. Слова «совет» тщательно избегали как уже скомпрометированного. К концу июня советская власть подавила движение. Вскоре после этого Россия была вовлечена в полномасштабный внутренний конфликт.
Годы гражданской войны сопровождались появлением ряда различных оппозиционных течений внутри партии большевиков, которую в 1918-м переименовали в Российскую коммунистическую партию (большевиков) – РКП(б). В основу нового государственного устройства были положены четыре ключевых момента: роль Советов, развитие бюрократии, проблема внутрипартийной демократии и отношения с рабочими. Советы стали фундаментом нового государственного устройства и в декабре 1922 г. дали имя новому государству – Союзу Советских Социалистических Республик. Тем не менее ленинское руководство относилось к Советам с подозрением, так как в них входили небольшевики и крестьяне. Советская демократия быстро превратилась в управляемую, однако остался вопрос, как руководящая роль партии может быть совмещена со значительной политической ролью Советов. Именно этот вопрос с конца 1918 г. поднимали «демократические централисты». Они базировались преимущественно в Москве, хотя их аргументы нашли поддержку и за ее пределами. Многие из бывших левых коммунистов теперь присоединились к критике, как они выражались, бюрократической дегенерации революции. Они выступали против управления одним человеком и использования буржуазных специалистов (презираемых «спецов» – старой технической интеллигенции), а также требовали положить конец бюрократическим методам в советском строительстве{364}. «Демократические централисты» считали, что отношения нужно основывать на разделении труда: партия обеспечивает идеологическое руководство, однако Советы должны быть интегрированы во власть как институты, представляющие рабочий класс. Первая советская Конституция от 10 июля 1918 г. пространно описывала провозглашаемые принципы, но мало внимания уделяла институциональному порядку самой организации власти. Хотя Совнарком обязан был уведомлять ВЦИК о своих решениях (статья 39), а последний имел право «отозвать или приостановить выполнение» решений (статья 40), Совнаркому были предоставлены разнообразные чрезвычайные полномочия. В конечном итоге он отобрал у ВЦИКа полномочия контроля. То же самое произошло на всех уровнях{365}.
«Демократические централисты» надеялись оздоровить ситуацию путем пересмотра конституции с тем, чтобы оградить права институтов низового уровня от посягательств центра. Они требовали ввести нечто похожее на «разделение власти» внутри самого режима и призывали к большей автономии местных советов и партийных комитетов низового уровня. Другими словами, следуя первоначальным устремлениям русской революции к государственному устройству, принимающему во внимание налагаемые конституцией ограничения, они стремились «конституализировать» советскую власть. Это означало бы действительную независимость власти Советов, причем Советы были бы наделены существенными полномочиями. В марте 1919-го VIII съезд РКП(б) решил, что партия должна «направлять» Советы, а не «заменять» их, хотя эта формулировка не проясняла детали, и проблема подмены сохранялась до конца существования советской власти. Была установлена новая форма двоевластия, которая сдерживала революционный потенциал. Поэтому не было ничего необычного в том, что, начав реформировать систему во время перестройки в конце 1980-х, Михаил Горбачев немедленно вернулся к этой идее, возродив лозунг «Вся власть Советам!»{366}. Партийным лидерам пришлось превратиться в руководителей государства, заняв посты в муниципальных и региональных советах. Что касается Горбачева, то он в конце концов сделал основой своей легитимности не партии, а Советы: 15 марта 1990 г. его избрал президентом только что созданный Совет народных депутатов СССР. Как во время гражданской войны, так и во время перестройки потенциальное «отмирание государства» было отложено на неопределенное будущее.
Только что появившееся Советское государство было застигнуто врасплох появлением неприступной бюрократии. В написанной Лениным в середине 1917 г. работе «Государство и революция» заявлялось, что «любая кухарка» может заниматься государственными делами. Схожую мысль высказали Николай Бухарин и Евгений Преображенский в работе «Азбука коммунизма», написанной в 1919-м: не будет необходимости в специальных государственных министрах, полиции и тюрьмах, законах и декретах; бюрократия, официоз исчезнут, государство отомрет{367}. Как отмечает Полан, это направление ленинской мысли контрастирует с остальными его идеями – как правило, практичными, деловыми и своевременными. Эту тему используют, когда хотят создать образ Ленина – «революционного гуманиста» с «устремлениями, в основе своей освободительными»{368}. На самом деле, как демонстрирует Полан, работа Ленина полна авторитарного подтекста, поскольку отрицает политику как активное обсуждение значимых альтернатив. В конце концов в праве на дискуссию было отказано не только противникам революции, но и ее сторонникам. Конкретно проблема неконтролируемой бюрократии вскоре была идентифицирована и названа, однако в логике советской системы так и не нашлось для нее решения. В теории бюрократия должна была исчезнуть сама собой, как доказывал Маркс в своей работе, посвященной Парижской коммуне 1870–1871 гг., «Гражданская война во Франции». Что касается Ленина, он настаивал на том, что проблема является социальной и отражает отсутствие в России политической культуры. Другие считали, что это явление – пережиток царского режима и со временем оно будет преодолено. В действительности же проблема была системной: попытка управлять всей жизнью страны из центра вылилась в развитие бюрократии и, как следствие, в удушающий бюрократизм. В своей книге «Утопический социализм и научный социализм» Фридрих Энгельс утверждал, что «политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства», однако на практике все оказалось сложнее, чем предполагали революционеры-социалисты.
Когда в 1920 г. завершилась гражданская война, вокруг ленинской структуры власти начались две связанные друг с другом, но отдельные дискуссии. Партийная дискуссия была сосредоточена на внутрипартийной демократии и вращалась вокруг таких вопросов, как свобода слова в партии, права партийных ячеек, функции комитетов и роль руководства. Разделение общества на верхи и низы было представлено и в партии: верхами были высокие партийные чиновники, низами – рядовые ее члены. Как писал один из наблюдателей того периода, Альфред Росмер, «режим, носивший имя „военного коммунизма“, родился с войной и должен был с нею умереть. Он выжил, потому что не было определенности относительно типа организации, которая должна была заменить его»{369}. Дискуссия в профсоюзах была сосредоточена на отношениях между партией и профсоюзами и в целом на роли организованного рабочего класса при социализме.
Московские активисты внесли важнейший вклад в обе дискуссии – и партийную, и профсоюзную. Партийная дискуссия подняла ряд фундаментальных вопросов об участии в партии и внутрипартийной демократии. Эти дискуссии помогли найти баланс между «партийным возрождением» и вопросами, поднятыми «демократическими централистами», в первую очередь вопросом о степени доверия Советам. В течение лета 1920 г. набирала силу критика Московского комитета РКП(б): сторонники возрождения партии обвиняли его в бюрократизме и неспособности играть лидирующую роль, в то время как ораторы в профсоюзах больше беспокоились о поддержании классовой гегемонии партии над всеми политическими институтами. Московских сторонников возрождения партии возглавлял Е. Н. Игнатов – ветеран различных централистско-демократических оппозиционных движений. Он обличал бюрократический контроль партии над районными комитетами и репрессии по отношению к партийным активистам с независимыми взглядами{370}. К концу 1920-х гг. вся партийная организация Москвы была вовлечена в активные дебаты. Казалось, что окончание гражданской войны даст, наконец, возможность вернуться к тому, что партийцы считали истинными принципами революционного социализма. Другими словами, они рассчитывали на то, что на смену жестким ленинским методам, развивавшимся со времени прихода партии к власти, придет некая идеализированная форма большевизма. Дух реформ повлиял на все общественные институты. Моссовет вплотную занялся митингами на фабриках с целью преодоления отрыва от рабочих. Профсоюзы, со своей стороны, тоже пытались избавиться от духа бюрократизма.
Тем не менее нагромождение реформаторских инициатив мало что могло противопоставить убийственным методам ленинского демократического централизма. Слишком часто в социальных мерах искали ответа на политические проблемы: например, назначали на ключевые посты рабочих. Миф о некой врожденной чистоте рабочего класса мало чем мог способствовать развитию истинного внутрипартийного плюрализма. В конечном итоге был достигнут обратный эффект. Партийный аппарат укрепился, независимое движение обновления снизу было уничтожено. Одним из самых больших энтузиастов реформ был глава Моссовета Каменев. До этого он мужественно критиковал перегибы, допущенные ЧК, и методы Красного террора, а теперь начал борьбу за внутреннюю трансформацию методов, взятых на вооружение советской властью. Каменев критиковал классовый подход к бюрократии, отмечая, что, даже если уволить всех «буржуазных специалистов», она не исчезнет. Говоря о поверхностности таких взглядов, он обращал внимание на нищету и отсталость страны, с одной стороны, и с другой – на создание сложной и разветвленной системы государственного руководства в отсутствие основных элементов, которые могли бы поддержать такую структуру{371}.
Однако все благие начинания Каменева спотыкались о ловушки в ленинской системе власти. Об этом написал ветеран партии меньшевиков Борис Двинов, напомнив классический аргумент меньшевиков: попытки насадить «утопический социализм» в отсталой стране с очень небольшим процентом пролетариата неизбежно приведут к развитию чудовищного бюрократического механизма. По Двинову, задачей Каменева и некоторых других большевиков, которые на этой стадии склонились в сторону «пролетарской свободы», стало сохранение Советов как значимых политических институтов при том, что решения принимались не в Советах. Но как в отсутствие оппозиции и при Советах, составляющих всего лишь фракцию в партии, могли иметь место серьезные политические дискуссии? Каменев пытался вдохнуть в Советы жизнь, создавая комитеты, внедряя идею введения непартийных представителей и налаживая более тесные связи с заводами{372}.
Несколько иной подход к проблеме социалистического управления отражен в дискуссии о профсоюзах, которая сосредоточилась на роли рабочих организаций и серьезных планах обуздать власть бюрократии. «Рабочая оппозиция» под руководством Александра Шляпникова и Александры Коллонтай настаивала на том, что у рабочих организаций должно быть право на прямое выражение своего мнения, и предлагала, чтобы непосредственное управление народным хозяйством взял на себя Всероссийский съезд производителей. Коллонтай критиковала бюрократическое регулирование всех аспектов функционирования общества (имели место попытки насадить «партийность» даже в клубах любителей собак). Она призывала поощрять инициативу рабочих и настаивала на том, что широкая публичность, свобода мнения и дискуссии, право на критику внутри партии и среди членов профсоюзов являются решающими шагами, которые могут положить конец засилью бюрократии. Предложенное Коллонтай средство было невероятно простым: чтобы избавиться от бюрократии, нашедшей себе приют в советских институтах, следовало избавиться от бюрократии в самой партии. Этого можно было достичь, исключив из партии все непролетарские элементы. А демократизация партии была бы достигнута снятием со всех административных постов всех непролетарских элементов{373}. Троцкий, взяв на вооружение противоположную тактику, настаивал на том, что методы военного коммунизма следует довести до логического завершения. Он призывал сделать профсоюзы частью экономического аппарата. Ленин в конечном итоге пошел по пути компромисса: профсоюзы должны были оставаться независимыми и действовать как приводные ремни партийной политики, как учителя рабочего класса, но не как организаторы производства.
Дебаты по поводу «партийной демократии» осенью 1920-го стали последней серьезной дискуссией о важности публичного пространства внутри партии. Она могла бы помочь избежать бюрократизации революционного правительства, однако была быстро и, вероятно, намеренно затерта дискуссией о профсоюзах, которую инициировала «рабочая оппозиция». Следует отметить, что и эта дискуссия дала сторонникам демократизации партии повод для беспокойства. В ней также осуждалась бюрократия, однако прибавилось негативное отношение к интеллигенции, в том числе к специалистам. Появилось также требование, чтобы рабочие управляли промышленностью, встреченное Лениным враждебно. В то время как сторонники демократизации партии искали решения на уровне политических институтов, «рабочая оппозиция» поставила вопрос о политических реформах в классовый контекст. Как ранее доказывали «демократические централисты», плохое функционирование советских институтов было результатом их неправильной структуры, а вовсе не работы мелкобуржуазных элементов, пробравшихся ради личного продвижения в систему управления. Изображение политических проблем как классовых играло на руку сторонникам ленинского курса и позволяло новому режиму избегать серьезного анализа своих трансформаций. Несомненно, это мешало развитию большевизма с более высокой степенью плюрализма. Когда вопросы формулировались в классовых терминах, Ленину не было равных, и лишь на вопрос о независимом представительстве и участии в работе партии ответов у него не было.
К началу 1921 г. военный коммунизм пребывал в состоянии кризиса: в деревне бунтовали против продразверстки, в городе – против жестких ограничений рыночной торговли. Протесты достигли пика в марте. В Кронштадте, ранее являвшемся одним из оплотов большевиков, произошел мятеж моряков и рабочих. Восставшие выступили под лозунгом «За Советы без коммунистов!» и обвинили большевиков в узурпации прав Советов. Бунт был жестоко подавлен, военной операцией руководил Троцкий{374}. Теперь Ленин стал доказывать, что гражданская война практически уничтожила «сознательный» рабочий класс. Это укрепило его в представлении, что партия должна взять на себя бремя защиты социализма и изолироваться от деградирующего общества. Однако московский пролетариат оставался активным и имел собственные представления о строительстве социализма{375}. На Х съезде партии экономические уступки были компенсированы интенсификацией политического процесса военного коммунизма. Были разработаны первые меры, подготовившие почву для НЭПа: насильственную реквизицию продовольствия заменили натуральным налогом. Ленин признал, что было ошибкой продолжать применять военные методы при организации экономики. Он настаивал на том, что военный коммунизм был необходимостью в условиях войны и дезорганизации, однако не мог рассматриваться как эффективная долговременная политика. Таким образом, Ленин постарался аргументировать и необходимость введения военного коммунизма, и его прекращение.
Внутрипартийная дискуссия на эту тему так и не была доведена до конца. Косметическая программа реформ под вывеской «рабочей демократии» только консолидировала власть комитетов и партийного руководства. При описании этого процесса впервые в советском контексте был применен термин «перестройка». Усомнившимся в политической кредитоспособности военного коммунизма был предложен не компромисс, а репрессии. Два выпущенных Х съездом декрета осудили «оппозиционные группировки» и наложили «запрет на фракции». Эта «временная» мера жестко ограничила внутрипартийные дискуссии, долгое время бывшие базовым принципом советского правления. НЭП не сопровождался изменением политического курса; напротив, Ленин настаивал на усилении строжайшей дисциплины.
В начале 1920 г. были успешно устранены остатки небольшевистских партий. Суд над группой эсеров, устроенный в середине 1922 г., стал предвестником показательных процессов 1930-х. Чтоб компенсировать реальную и воображаемую угрозу большевистскому режиму, стали еще больше превозносить силу и власть партии. Перестройка в духе новой экономической политики сопровождалась усилением контроля над местными партийными организациями со стороны большевистских комитетов. По мере ослабления военного режима в экономике усиливались централизация и требования следовать внутрипартийным догмам. В апреле 1922 г. генеральным секретарем партии стал Сталин, но в то время это был хотя и видный, однако сугубо бюрократический пост. Сталин на новом посту решительно консолидировал партийную машину и утвердил свою власть над ней. Его умение назначать, переводить на другую работу и увольнять партийных чиновников предвосхитило механизм вездесущей номенклатуры более поздних лет и дало ему в руки мощное оружие во внутрипартийных дебатах. Был установлен «круговой переход власти» – порядок, при котором протеже Сталина были обязаны ему своими постами{376}. Закончилась большевистская традиция открытой конкуренции, усилилась смертельная хватка ленинско-сталинской бюрократии.
Большевистский плюрализм в перспективе
Эта глава была посвящена вопросу о том, имелся ли в большевистском варианте революционного коммунизма потенциал для более плюралистичной модели власти, отличающейся от строгого монизма ленинского типа. Солженицын всегда отвергал не только такую возможность, но даже либеральную революцию Февраля 1917 г. С точки зрения Солженицына, переворот, сбросивший с трона монархию во время Февральской революции, запустил цепь событий, неизбежно завершившуюся приходом к власти самого радикального крыла революционного движения. Этот мощный аргумент сохраняет весомость и по сей день. Тем не менее, как показала эта глава, хотя в целом аргумент Солженицына можно принять, мы не должны упускать из виду неоднородность революционного движения. Опасно воспринимать исторические события как неизбежные, игнорируя огромную роль всевозможных случайностей. Происходившее в Москве показывает, что в другой социальной и политической среде и с другими лидерами революционный социализм мог принять гораздо более плюралистичную форму, по крайней мере для своих сторонников{377}.
Если не бояться радикальных аргументов, то можно предположить, что потенциал для создания более плюралистичной формы большевизма, которая отличалась бы от ленинского монизма, был. Различные оппозиционные группы, которые называли «совестью революции», смогли какое-то время продержаться и успели бросить вызов господствовавшим на тот момент взглядам и догматизму, пока в 1929 г. плюрализм в партии не был сокрушен окончательно{378}. Они наследовали традицию, заложенную Плехановым, который критиковал большевистскую партию с момента ее создания в 1903 г. Динамичный и дискуссионный характер внутрипартийной жизни в течение этого периода демонстрирует, что партия совсем не была гомогенной и монолитной. Именно крайне узкая «ленинская» версия не только организационных форм, но в первую очередь политических методов, полностью убила в партии какую-либо жизнь и, в сущности, насадила эту ограниченную и отличающуюся нетерпимостью форму правления по всей стране. Злость и жестокость, свойственные Ленину, стали еще более очевидны после опубликования в 1991 г. некоторых секретных архивов. Документы открывают изобилующую кровавыми подробностями историю ленинского террора. Например, в мае 1920 г. Ленин предостерегал профсоюзных лидеров, призывавших к децентрализации профсоюзной администрации и к коллегиальному решению вопросов. Он посмеялся над идеей, однако в конце концов уступил: «Мы будем употреблять иногда коллегиальность, иногда единоначалие». Однако следующая фраза показала, каких взглядов он придерживался в действительности: «Коллегиальность оставим для тех, кто слабее, хуже, для отсталых, для неразвитых: пускай покалякают, надоест, и не будут говорить». Ричард Пайпс заметил, что «Ленин редко более открыто выражал свое презрение к демократическим процедурам»{379}.
Однако и после этого дискуссии еще продолжались, пусть и в иной форме. В 1920-е гг. политическая жизнь Советского Союза еще не была сосредоточена на борьбе Сталина с Троцким. Взвешенную и серьезную альтернативу им являл Николай Бухарин. Он защищал НЭП, представляя его эволюционным путем к социализму, который позволит выпустить на волю (в рамках советской власти) творческий потенциал и предприимчивость масс. К 1930-м гг. Бухарин оказался «последним большевиком». Но большевистская традиция дискуссий продолжалась, хоть и не с прежней силой, до самой его гибели в 1938 г.{380} Политическая траектория Бухарина и даже, до некоторой степени, Каменева говорит о том, что на советскую историю не стоит смотреть с позиций детерминизма. В заключительный период советской власти, при Горбачеве некоторые бухаринские тезисы вернулись из небытия: была сделана попытка возродить традицию реформирования коммунизма{381}.
Таким образом, вопрос о возможности и роли большевистского плюрализма остается актуальным по сей день. Суть этого вопроса в том, имеется ли в марксизме потенциал для более разнообразных политических подходов. Иными словами, несет ли Маркс ответственность за советский авторитаризм? Вопрос можно поставить так: был ли советский авторитаризм необходимым или неизбежным последствием попытки Ленина реализовать проект Маркса в том виде, в каком он представлялся Ленину?{382} Неизбежно ли марксистское понимание перехода от капитализма к социализму предполагает определенную степень принуждения? Ленинская «диктатура пролетариата» подчинила закон власти и безжалостно подавила оппозицию, открыв в конечном итоге дорогу сталинской диктатуре. В свою очередь, Антонио Грамши отводил главную роль лидерству, а не принуждению: эту идею успешно развили еврокоммунисты, бросив вызов советскому авторитарному коммунизму. В 1970-е гг. еврокомммунисты пытались достичь социалистической трансформации общества демократическими средствами; их воззрения перекликаются с ранней критикой Ленина Розой Люксембург и Каутским. Остается под вопросом, добились ли еврокоммунисты полного разрыва с «авторитарными традициями ленинизма»{383}. Они считали российскую специфику главным виновником вырождения революционных коммунистических идеалов, в то время как левые коммунисты и «рабочая оппозиция» возлагали ответственность на социальные факторы. На самом деле проблема гораздо глубже. Со своей стороны, критика ленинских методов приверженцами большевизма показывает, что их позиция по отношению к демократии столь же двойственна, сколь и позиция Ленина. Даже Бухарин не остался в стороне: хорошо известно его заявление о том, что при социализме будет две партии – одна в правительстве, другая в тюрьме. Он с рвением защищал жесткие методы диктатуры пролетариата{384}. Оппозицию упрекали в «буржуазности», и это «работало» в отношении любого оппонента. Марксизму недоставало последовательной теории современного государства во всей его сложности, и в результате он превратился в инструмент принуждения. Хотя Маркс наметил независимую сферу политики, для него в конечном счете это был элемент «надстройки», производной от материальной сферы средств производства. Марксистская традиция революционного социализма нуждалась в развитой концепции независимости политической жизни, при которой свобода выбора и принятия решений могут отчетливо влиять на исторические перспективы{385}.
Существование плюралистичных альтернатив догматичному и принудительному ленинизму противоречит культурному детерминизму, который предполагает, что коммунизм не мог пойти каким-либо иным путем из-за особенностей России. Точно так же существование альтернатив противоречит идеологическому детерминизму, превалирующему в тоталитарных подходах: предполагается движение по прямой от марксизма к сталинизму. Тем не менее, хотя, несомненно, русская революция была намного шире, чем ее конкретизация большевиками, и, в свою очередь, большевизм в первые годы советской власти был многограннее, чем одержавший верх нелиберальный ленинизм, все стороны сходились в упрощенном понимании политической конкуренции и не имели развитой теории роли оппозиции и плюрализма в революционном коммунистическом движении. Вместо этого все они разделяли представление о переходе к социализму, прямо противоположное свободе, которой стремились достичь. Миф о «человеческом самосознании» в социалистической идее стер границу между гражданским и политическим обществом. Марксистский идеал единения не только не был достижим, но и открыл путь явлению, которое стали называть тоталитаризмом{386}.
Вызов, который большевики бросили протосталинским чертам советского правления, не представлял собой серьезной политической платформы, которая подвергала бы сомнению теорию ленинской диктатуры. Вместо этого присутствовало лишь намерение модифицировать какие-то из ее методов. Коалиционные, партийные и профсоюзные дебаты показывают, что альтернативные пути были возможны не только для революции, но и для самой партии большевиков. Тем не менее логика ленинизма склонялась к разрушению многообразия социализма и плюрализма, хотя ее аргументацию диктовали обстоятельства. В 1917–1918 гг. Ленин оправдывал свои методы политической борьбой, в 1919–1920 гг. – требованиями гражданской войны, с 1920 г. – социальным детерминизмом, порожденным разрушением рабочего класса и необходимостью реализации стратегии экономического развития. Ленинское заявление о том, что рабочий класс был к концу гражданской войны уничтожен (что оправдывало создание партийной вертикали), – сильное преувеличение. Движение сознательных рабочих, со своими целями и лидерами, никуда не делось{387}. Наконец, пойдя на уступки в виде НЭПа, Ленин усилил дисциплину внутри партии и, запретив фракции, положил конец целой эпохе дебатов.
Таким образом, термин «большевистский плюрализм» изначально содержит противоречие. Пока советская система несла в себе узнаваемые черты ленинизма, ей не хватало концептуальных основ для истинной внутрипартийной демократии. Дебаты и противоречия относительно лидерства и политики продолжились в 1930-е гг., а затем возобновились после смерти Сталина, однако лишь во время горбачевской перестройки проблема плюралистской демократии и гражданского общества вновь вышла в советской системе на первый план. К началу 1920-х гг. идея демократического социализма и социальной эмансипации уступила место реальности, полной бюрократии и насилия. Насилие во взаимодействии партии с внешним миром было неразрывно связано с насилием внутри партии. Логическим развитием этого стала беспощадная сталинская система. Она не была чем-то привнесенным извне, она оказалась неотъемлемой частью политического процесса. Потенциальное существование альтернатив показывает лишь, насколько узкий путь был избран.
Послесловие Ленин и вчерашняя утопия Тони Брентон
Над Россией все еще нависает тень революции 1917 г. В любом русском городе есть памятники Ленину. В Москве на Красной площади царит над всем мавзолей, и в важные для народа дни именно на его трибуне стоит правительство. Сталин, хотя и был грузином, регулярно занимает первое место в опросах о самых великих русских. ФСБ – прямой наследник КГБ и ленинской ВЧК – все еще занимает бывшее здание страхового общества на Лубянке, причем регулярно обсуждается вопрос о восстановлении на площади памятника основателю ВЧК Дзержинскому. Разрушенное сельское хозяйство и отсталая промышленность, с преобладанием тяжелой, являют собой наследие безумного социалистического планирования. В 2014 г. Россия почти инстинктивно вцепилась в горло Украине, чем навлекла на себя недовольство Запада и санкции, и это показывает, насколько еще живы в ней имперские инстинкты и мышление времен холодной войны. А ведь многие надеялись, что все это навсегда ушло в прошлое в 1991 г. И если отвлечься от самой России, интересно отметить, что стремительно идущая в гору вторая по экономике сверхдержава – Китай – до сих пор управляется точно такой же замкнутой репрессивной однопартийной системой, являющейся наследием СССР и в конечном итоге – революции 1917 г.
И все же со времен 1917 г. в России, можно считать, произошла еще одна революция. В 1991 г. развалился Советский Союз и вместе с ним – большая часть коммунистического эксперимента. Если сравнить хвастливые речи в 50-ю годовщину того, что называли «Великой Октябрьской Социалистической революцией», с сегодняшними настроениями в России, заметна неуверенность по поводу того, что же значило все пережитое.
Следует ли восстановить памятник Дзержинскому или же нужно сравнять с землей мавзолей Ленина? Был ли Сталин самым великим русским или таковым следует считать главного диссидента Андрея Сахарова?
И если революция 1917 г. чему-то учит нас, то чему? В этом послесловии я начну с вопроса о том, что в революции было неизбежно, а что не было. Это ведет нас к рассмотрению очень необычной личности – Ленина – и далее к обсуждению того, как повлияла революция на последующие 70 лет истории России (этот период завершился 1991 г.). Хотя два этих политические потрясения очень отличаются друг от друга, есть все же и важные схожие моменты. И наконец, что осталось после 1991 г.?
I. Что было и что не было неизбежно
В главах этой книги очень подробно рассматривается целый ряд эпизодов революции, когда события могли пойти по иному пути. Некоторые из авторов глав определили моменты, когда небольшое изменение обстоятельств могло привести к значительным изменениям траектории движения. Другие авторы пришли к заключению, что в рассмотренные ими моменты значительных изменений быть не могло. Исходя из этих исследований, можем ли мы сколько-то обоснованно судить о том, что было неизбежным в общем ходе революции и что не было?
Позвольте мне сосредоточиться на двух вопросах. Мог ли царский режим выжить в какой-либо форме? И если нет, то насколько неизбежным был приход на смену ему ленинизма?
Если мы обсуждаем первый вопрос, полезно, как заключил Доминик Ливен, провести сравнение между разными странами, так как Россия не была одинока в своей ситуации. Примерно к 1920 г. все три европейские империи – Романовых, Габсбургов и Османская – оказались под давлением, к которому они очевидно не были готовы. Империя Османов, которую один из российских царей назвал «больным человеком Европы», распадалась постепенно: более сильные державы и поднявшиеся местные националисты отрывали от нее часть за частью. Габсбургам, в свою очередь, становилось все труднее сохранять ветхую империю единой перед лицом силящегося движения за независимость среди подвластных ей народов, в первую очередь славян. А Романовы, как мы уже видели, пытались справиться с последствиями военного поражения от Японии, дестабилизирующим влиянием экономической модернизации (от чего страдали и остальные империи) и народным недовольством экономической ситуацией.
Сковородой, на которой смешались все ингредиенты, стал Балканский полуостров. Здесь у всех трех империй были жизненно важные, причем конфликтующие, интересы, что и привело к началу Первой мировой войны. По мнению Доминика Ливена, исследователи уделяют чересчур много внимания стечению обстоятельств, в результате которого разразилась война: что было бы, если бы Гаврило Принцип промахнулся, и т. п. На самом же деле события августа 1914-го стали не чем иным, как кульминацией Балканского кризиса, который углублялся на протяжении целого столетия. В 1909 г. чуть не разразилась война между Россией и Австро-Венгрией; в 1912 и 1913 гг. на Балканах произошли две войны, в которые чудом не были втянуты сверхдержавы. Один из самых дальновидных лидеров в европейской политике – Отто фон Бисмарк – за два десятилетия до этого предсказал, что следующий крупный конфликт в Европе произойдет «из-за какой-нибудь глупости на Балканах». Напрашивается вывод, что в той степени, в какой все в истории неизбежно, неизбежным было и финальное выяснение отношений на Балканах с участием России, Австро-Венгрии и Турции.
Война разрушила все три империи. Это были досовременные государства, не поддерживаемые значительной частью своего населения, и они столкнулись с экономическими вызовами современной войны и задачей массовой мобилизации. Можно представить себе, что война началась бы как-то иначе, однако без особо благоприятных обстоятельств (например, она оказалась бы намного короче – что маловероятно, учитывая техническое преимущество обороны перед наступлением; или политики проявили бы больше здравомыслия – что тоже трудно себе представить из-за вновь возникшего феномена общественного мнения, которое оказалось сильнее тонких дипломатических расчетов) результат едва ли мог быть иным. Рискуя показаться политическим детерминистом (и используя слова Яна Флеминга), скажу, что падение одной империи могло быть случайностью, падение двух – совпадением, однако падение всех трех кажется уже законом природы.
Что касается России, то с позиций сегодняшнего дня мы видим множество признаков обреченности империи. Богатые и образованные русские ясно давали понять посредством тех, кого избирали в Думу, что им все менее симпатичен отсталый, глядящий в прошлое царизм. А считавшиеся более лояльными «низы» голосовали, когда могли, за конфискацию имущества у богатых, мало-помалу брали в свои руки закон, направляя его на притеснение землевладельцев и капиталистов, и все с меньшим желанием и менее дисциплинированно служили в войсках. Большая часть городского пролетариата была настроена откровенно революционно. Само революционное движение по фанатизму и склонности к насилию можно сравнить только с современными радикальными исламистами. Самые верные слуги режима – Витте и Столыпин действовали, движимые опасениями, что этот режим не выживет. Сам царь был слаб, вздорен, ошибочно полагал, что русский народ его любит, и отчаянно держался за свои исключительные монаршие привилегии. Одна только фигура Распутина, странная и очень русская, говорит о многом. Семья Романовых приняла его в самый неподходящий исторический момент. Теоретики сказали бы, что крах империи был предопределен. Первая мировая война лишь дала последний толчок к тому, чтобы прогнившее здание рухнуло.
Но если падение старого режима было действительно предопределено, то предопределен ли был приход ему на смену большевиков? С момента падения монархии в феврале 1917 г. до, по сути, насильственного установления большевистского правления в начале 1918-го (большевикам оставалось еще победить в гражданской войне) Россия, как корабль без руля и ветрил, плыла то в одну, то в другую сторону по воле ветра и течений. Временное правительство, номинально принявшее власть у монархии, обладало значительными полномочиями (в частности, в июне оно инициировало масштабное наступление против Центральных держав). Однако ему не хватало легитимности, оно пыталось противостоять нарастающему хаосу в сельской местности, справиться с революционным рабочим классом в Петрограде и других городах и со все более мятежной армией. К тому же оно работало в не очень дружном тандеме с Петроградским и другими советами рабочих депутатов, а они были настроены по отношению к старому порядку враждебно и контролировали улицы столицы и военные казармы. Согласно традиционным советским описаниям этого периода, власть неотвратимо переходила в руки Советов и в конечном итоге большевиков. На самом деле, в то время как большевики, несомненно, воспользовались хаосом этих месяцев для того, чтобы по возможности максимально усилить свою хватку, был целый ряд моментов, описанных в главах этой книги, когда их наступление можно было остановить. Что, если Дума успешно взяла бы власть в свои руки в феврале, как и предлагал Керенский, и популярность Советов перестала бы расти? Что, если бы Учредительное собрание, которое пользовалось у всех большим авторитетом, смогло бы собраться перед октябрьским большевистским переворотом и, в таком случае, не было бы моментально уничтожено? Что, если бы Керенский избежал конфликта с Корниловым в августе и сохранил бы поддержку армии, – в этом случае мог бы он противостоять большевикам в октябре? Наконец, что, если бы Ленина арестовали по пути в Смольный 24 октября и тогда власть передали бы всем социалистам, а не только большевикам?
II. Роль Ленина
На фигуре Ленина следует остановиться подробнее. В современной исторической науке стало не модно отводить значимую роль отдельным людям. Однако понять, что происходило в Петрограде в эти несколько месяцев (и позже), невозможно, если обойти вниманием эту замечательную личность. Ленин был рожден для такой ситуации. Горячий революционер со школьной скамьи, он считал революцию делом намного более важным, чем отношения с женой, семьей и окружающими. Для него политика была черно-белой: он не видел в ней никого, кроме сторонников и противников, причем последние должны были быть сокрушены любыми способами. С самого начала он посвятил себя победе марксизма в России, а затем и во всем мире. При этом он ясно видел, что марксизм не сможет воцариться с согласия народа: нужно прибегать к силе и террору. «Как же можно совершить революцию без расстрелов?» – вопрошал он в 1917-м. Инструментом прихода к власти, о котором он задумался в 1902 г., была «передовая» политическая партия с жесткой дисциплиной. Прибегнув к внутрипартийной интриге, в 1903 г. Ленин получил именно то, что было ему нужно, – фракцию большевиков.
Неудивительно, что молодость он провел в изгнании и думал, что там и умрет. Шанс ему дала Февральская революция. В своей главе Шон Макмикин рассказывает о том, как немцы отправили Ленина назад в Россию в апреле 1917-го в знаменитом «пломбированном вагоне». На родине ему удалось преодолеть негативное отношение большинства своих товарищей по партии и наэлектризовать политическую обстановку, предложив экстремальную программу, включавшую свержение Временного правительства и немедленное окончание войны. Другие оппозиционные партии постепенно развивали сотрудничество с Временным правительством, так что большевики благодаря своему экстремизму оказались на переднем плане и стали набирать популярность как лидеры оппозиции. Важно было и то, что их требования мира получили поддержку Петроградского военного гарнизона. После двух попыток восстания (так называемых «апрельских» и «июльских» дней), в которых значительную роль сыграли большевики, Ленин был вынужден снова отправиться в изгнание (и решил, что с надеждами на революцию придется расстаться). Однако, возвратившись в октябре (об этом пишет Орландо Файджес), он вновь убедил своих несговорчивых товарищей-большевиков устроить переворот, в результате которого они наконец пришли к власти, а через три месяца сокрушили и долгожданное Учредительное собрание, представлявшее собой единственную непосредственную угрозу этой власти.
То, что во всех этих событиях Ленин сыграл главную роль, показывает, насколько огромное значение имели обстоятельства. Конечно, у него были способные соратники – в первую очередь Троцкий, – без которых невозможно было бы реализовать большевистский проект. Однако поражает, с какой регулярностью он выворачивал наизнанку всю партию благодаря своему упрямому, несокрушимому намерению взять в свои руки и удержать власть. Как отмечает Шон Макмикин, если бы немцы не отправили Ленина в Россию или если бы какое-то происшествие помешало ему после возвращения, у большевиков вполне могло бы не получиться возглавить революцию. Казалось, сам Ленин после «июльских дней» был готов признать, что все потеряно, и продолжить вести агитацию с помощью отпечатанных за границей листовок. Только поражение Корнилова позволило ему вернуться в игру. И даже после октябрьского переворота немногие бывалые политические наблюдатели делали ставку на долгосрочное выживание большевистского режима.
Главное в Ленине то, что, придя к власти, он (в отличие от своих недолго продержавшихся предшественников Родзянко, Львова, Керенского и Чернова) сумел удержать ее. После января 1918 г. также бывали моменты, когда все решал случай, но при ленинской железной хватке за штурвал курс стал более четким. Мартин Сиксмит подчеркивает главенствующую роль Ленина, рассуждая на тему того, как изменилась бы ситуация, убей Фанни Каплан лидера большевиков в августе 1918 г. И я впечатлен рассуждениями других авторов, писавших о более позднем периоде (в частности, Эвана Модсли в статье о гражданской войне и Ричарда Саквы в статье о возможности «большевистской демократии»), относительно того, могли ли события пойти иначе.
III. Наследие Ленина
Ленин дал всему миру политические принципы, политическую систему и государство, которые сыграли ключевую роль в мировой истории XX в.
Его подход к политической деятельности был абсолютно функциональным и несентиментальным. Значение имели только захват и удержание власти. Ленин создал ВЧК и с энтузиазмом призывал к массовому и, по возможности, публичному убийству своих оппонентов. В 1918 г. он вынудил товарищей по партии отдать немцам значительные территории Западной России – все это для того, чтобы не потерять власть. При необходимости он готов был отказаться от патриотизма, сочувствия и правды. В зрелых работах Ленина нет и намека на какие-либо угрызения совести. Его критерии при принятии любого политического решения сводилось к тому, кто выиграет, а кто проиграет. В мировой истории это, конечно же, не было чем-то новым: Макиавелли восхвалял жестокость Борджиа. Но именно Ленин, взявший на вооружение отказ Маркса от «буржуазной морали», впервые в XX в. применил эту доктрину. И, как ясно показывает Ричард Саква, именно Ленин привил партии большевиков презрение к демократическим процедурам. Нечистоплотные уловки на пути к власти, жестокость гражданской войны, Красный террор, лживость и массовая пропаганда, ставшая средством коммуникации власти с собственным народом и с внешним миром, – все это открыло дорогу убийственной коллективизации и репрессиям, которые принес стране его последователь. А за пределами России методы Ленина нашли приверженцев в лице Муссолини, Гитлера, Мао… вплоть до Пол Пота и Чаушеску. Внедренные им политические принципы отпечатались позорным клеймом на всем XX в.
Другая часть наследия Ленина была организационной. Отчасти по воле случая он внедрил одну из великих политических инноваций XX в. – однопартийное государство. Уже в 1902 г. он разработал план захвата власти передовой революционной партией. А осуществив такой захват в 1917 г., его революционная партия стала монополистической правящей партией, прибравшей к рукам все руководящие посты, использующей грязные методы и вытесняющей политических противников. Произошло это по ряду причин: большевиков было просто-напросто недостаточно, чтобы заменить всю российскую бюрократию; Российское государство на этом этапе рассматривалось как препятствие на пути к мировой революции; наконец, благодаря революционному менталитету того момента большевики могли управлять государством так, будто сами они им не являлись, – намного удобнее отрицать то, что не нравится, или обвинять кого-то другого.
Эта система оказалась чрезвычайно привлекательна для авторитарных политиков и идеологов XX в., и использовали ее исключительно эффективно. Неслучайно официальным кредо Советского Союза стал неуклюже двусмысленный «марксизм-ленинизм». И насколько бы неадекватно его ни применяли на практике, он, несомненно, стал мощным революционным брендом, взятым на вооружение многочисленными революционерами XX в. от Мао до Манделы. Ленинизм управлял самим СССР, и не только. За два первых десятилетия своего существования однопартийное государство Ленина стало моделью для Муссолини, Гитлера и Франко, что признавалось открыто, а после Второй мировой войны, распространившись на всю Восточную Европу, эта форма правления расползлась, как чума, по только что деколонизированной Африке, Ближнему Востоку и Азии. Во времена своего расцвета она существовала в более чем 60 странах – от Турции до Танзании и от Сирии до Сингапура.
IV. Государство, созданное Лениным
Третьим значительным вкладом Ленина в историю стал сам Советский Союз. Но задачей этой книги не является подробное описание истории коммунистической сверхдержавы. Почти так же, как Соединенные Штаты конца XVIII в., СССР считал себя беспрецедентно новаторским политическим образованием (Novos Ordo Seclorum, значится на американских государственных документах). Однако, в отличие от Соединенных Штатов, которые, по сути, сохранили большую часть законодательства, а также социальные и экономические порядки колониального прошлого, большевики были намерены начать с чистого листа. Затеяв самый масштабный политико-экономический эксперимент в истории человечества, они подчинили себе все общество и всю экономику, фактически сделав их собственностью маленькой политической клики. Население России стало не более чем зерном на мельнице тех, кто строил социализм, и зернышки перемалывались десятками миллионов.
Сложно не заметить в этом чего-то типично (и трагически) русского. Отказавшись от первоначальных надежд на мировую революцию, советский режим вернулся к глубоко русским архетипам: Ивану Грозному, создавшему элитные кадры – опричнину, подавлявшую и терроризировавшую бояр, и Петру I, превратившему все дворянство в слуг государства и построившему свою столицу – Санкт-Петербург – на костях десятков тысяч рабочих-рабов. Сталин обожал, когда его сравнивали с этими историческими деятелями. При нем российская традиция автократии вернулась, да еще как! Вездесущая система классификации и контроля 1930-х гг. была очень близка к системе, внедренной за 200 лет до этого Петром I. В сравнении с упомянутыми выше монархами Николай II кажется настоящим либералом.
В течение некоторого времени система работала эффективно, хотя и ценой огромных человеческих ресурсов. Экономику индустриализировали, успели вовремя мобилизовать общество, чтобы отразить нападение немцев в 1941 г. Победа в войне и усиление вследствие этого международного влияния сделали Советский Союз сверхдержавой номер два в мире, лидером мирового коммунистического движения, которое в момент своего расцвета управляло третьей частью земного шара. Еще в 1956 г. лидер советской Коммунистический партии Никита Хрущев мог ссылаться на советские экономические и технологические успехи и грозить Западу: «Мы вас похороним», чего и впрямь нельзя было исключить. Однако начался застой. Управляемая государством экономика просто-напросто не могла соперничать по динамике и инновациям с капитализмом конца XX в. А Коммунистическая партия, как бывает с долго не сменяющимися элитами, стала коррумпированной, склеротичной и консервативной. Импульсивные попытки реформ терпели неудачу. Наконец, последний реформатор, Михаил Горбачев, непреднамеренно и внезапно обрушил всю систему.
V. Сравним две революции
Сравнение горбачевской «революции» 1991 г. и революции 1917 г., о которой идет речь в этой книге, может многое сказать о том, что изменилось и что осталось неизменным в России за последние 100 лет. Разумеется, между этими революциями есть огромные отличия. Революция 1917-го пришла снизу, движимая недовольством населения и неприязнью классов друг к другу. Революция 1991-го была инициирована сверху, элитой, которая стремилась заставить систему работать лучше. Революция 1917-го началась с неспособного функционировать самодержавия и преимущественно крестьянской экономики, а закончилась коммунистическим тоталитаризмом. Революция 1991-го была начата репрессивной и закрытой коммунистической системой, а закончилась регулируемой демократией и узнаваемо рыночной экономикой. Каковы же тогда сходные черты? Обращают на себя внимание четыре из них.
А. Непрочность российского правления
Первой общей чертой можно назвать то, что в обоих случаях режим, казавшийся твердым и долговечным, рухнул очень быстро, что стало неожиданностью для большинства современников. Династия Романовых, несмотря на ее очевидную, задним числом, слабость, правила 300 лет. Грандиозное празднование 300-летия дома Романовых в 1913 г. создало твердое впечатление (в том числе у самого Николая), что нация сплочена вокруг своего монарха. Всплеск патриотизма в начале войны в августе 1914-го, казалось, говорил о том же. До тех пор пока не разразился полномасштабный кризис, значительная часть правящего класса и внешних наблюдателей не обращали внимания на вспышки недовольства среди крестьян, на недисциплинированность рабочих и на негативное отношение к власти со стороны интеллигенции, считая все это нетипичным для основной массы российского народа.
Советский режим в начале 1980-х также казался абсолютно устойчивым. Конечно, над ним нависала угроза экономического застоя, геронтократического руководства и утраты страстной веры в революцию. Однако малочисленное диссидентское движение казалось совершенно незначительным на фоне всего советского народа если и не преисполненного энтузиазма, то по крайней мере послушного. Ни один серьезный комментатор не предсказывал краха системы. Казалось, что нужна лишь реформа, и для ее проведения был избран истинный приверженец ленинизма Михаил Горбачев. Однако внедренные им незначительные новшества – немного больше рынка и немного меньше репрессий – вырвались из-под контроля и разрушили всю систему.
Разумеется, нельзя делать слишком широких выводов на основе этих двух примеров неожиданного падения режима. Тем не менее они указывают на то, что в России с ее особенно непрозрачной и репрессивной политической традицией представление о покорности общества может на поверку оказаться очень поверхностным. Этим объясняется тот факт, что нынешний российский режим весьма пристально следит за общественным мнением.
Б. Нестабильность империи
Второй чертой, общей для двух революций, является дестабилизирующая роль, которую играют подчиненные части России, в особенности Украина. Одним из непосредственных последствий падения царизма в 1917 г. стал подъем националистических настроений, первоначально за автономию но, в сущности, за независимость. Это касалось Польши и Финляндии, которые в то время были частью империи, а также Украины и Прибалтики. Эти настроения, получившие поддержку со стороны Германии, делали невозможным быстрое достижение мира и в конечном итоге стали одной из причин краха Временного правительства. Только в 1922 г., когда немцы уже были побеждены, а большевики выиграли гражданскую войну, контроль над Украиной был восстановлен. Однако Польша, Финляндия и (до 1945 г.) прибалтийские государства стали независимыми.
В 1991 г. все было по-другому, однако действовали те же глубинные центробежные силы. Когда реформы Горбачева ослабили власть Москвы, в советских республиках стали усиливаться требования автономии – в особенности в Прибалтике и на Украине. Именно усилия Горбачева, направленные на удовлетворение этих требований, спровоцировали судьбоносный переворот в августе 1991 г., организованный приверженцами жесткой линии, которые стремились воспрепятствовать распаду СССР. Этот переворот, хоть он и не удался, маргинализировал Горбачева и позволил новому президенту России Борису Ельцину договориться с президентом Украины и главами других республик и разделить Советский Союз на независимые государства. В этом случае также было бы ошибочно делать далеко идущие выводы на основе двух примеров. Однако очевидно, что крепкая хватка, которой Россия держит подчиненные ей национальные единицы, слабеет во времена внутренних политических смут. Результатом становятся требования автономии и независимости, что, в свою очередь, усиливает давление на российское государство. Стоит отметить, что после 1991 г. одним из главных вызовов для Москвы было требование независимости Чечней, оказавшее негативное влияние на внутреннюю безопасность и власть.
В. Вызов со стороны запада
Отношения между царской Россией и западными державами бывали вежливыми, однако никогда – полностью доверительными. Многие на Западе считали Россию чуждой и видели в ней угрозу. Что касается самой России, то она, хотя и мечтала о западной культуре и технологическом прогрессе, но помнила регулярные вторжения с Запада (поляков, шведов и французов), происходившие примерно раз в 100 лет и имевшие целью погубить ее. Кроме того, Россия видела себя главным проводником альтернативной и стоящей выше остальных православной славянской традиции. Николай II лично симпатизировал некоторым самым крайним выразителям этих взглядов, что стало одним из факторов, вовлекших Россию в Первую мировую войну.
Революция 1917 г. должна была положить конец старому порядку в международной политике. Россия теперь являлась лишь остановкой на пути к мировому коммунизму, и советские международные отношения первоначально были подчинены этой цели. Однако к 1920-м гг. надежды на мировую революцию сменила серая реальность «социализма в отдельно взятой стране», а мессианство коммунизма, соответственно, мутировало в прямое преследование национальных интересов России. Вот два ярких примера. Советская политика по отношению к китайским коммунистам коренным образом изменилась между двумя войнами под влиянием японской угрозы СССР, а в 1939 г. произошел моментальный и резкий поворот от абсолютной идеологический враждебности по отношению к фашистской Германии к альянсу с ней – опять же продиктованному соображениями безопасности СССР. Конечно, до конца своих дней Советский Союз делал упор на роль лидера мирового коммунизма (как Николай II – на роль России как лидера православия), преследуя при этом очень традиционную российскую повестку дня во внешней политике: защиту от угрозы западной экспансии путем возможно большего расширения сферы своего влияния.
В 1991 г. политика эволюционировала от другой исходной точки, однако пришла к тому же. Экономические и политические модели, которые начали внедрять реформаторы 1991 г. – рыночная экономика и либеральная демократия, – были западными моделями. Очевидным было намерение сделать Россию частью Запада. Горбачев неоднократно упоминал «общий европейский дом».
Однако верх снова взяли российские шаблоны. При хаосе и деморализующей обстановке 1990-х либеральная демократия в России не могла действовать, а переход к рыночной экономике сопровождался социальной катастрофой и обнищанием населения. Этому сопутствовал ряд «унижений», которые Россия претерпела от Запада (в первую очередь расширение НАТО), результатом чего стал быстрый подъем русского национализма. Власть вынуждена была искать на него «русский» ответ. Она возродила православную религию, сделала упор на патриотизм и все более твердо противостояла (в особенности в Грузии и на Украине) тому, что теперь считала хищными посягательствами Запада.
Обе революции – и в 1917, и в 1991 гг. – были совершены под знаменем общечеловеческих ценностей, однако в конце концов обрели некоторые очень традиционные российские черты. В обоих случаях внешняя политика России после первоначального радикального потрясения вернулась на свой привычный путь. Основными движущими силами вновь стали ярко выраженный национализм, боязнь доминирования Запада и решимость защитить российские сферы влияния. После больших надежд 1991 г. Западу непросто к этому привыкнуть, и хотелось бы понять, мог ли результат быть иным.
Г. Авторитарный импульс
Четвертая очевидная параллель между 1917 и 1991 гг. видится в том, что в обоих случаях сильное общественное движение, нацеленное на демократизацию России, привело страну, после периода первоначального хаоса, к авторитаризму. История 1917 г. подробно описана в главах этой книги. Я уже говорил о том, что, хотя большевизм не был неизбежным результатом хаоса 1917 г., его вероятной альтернативной могла быть не демократия, а какой-то другой (вероятно, правый) авторитарный режим. Демократическая традиция в России была слишком слаба, а демократические политики слишком незрелы для того, чтобы преодолеть кризис. Диктатура (необходимость которой обсуждали еще до падения Николая II) почти несомненно показалась бы необычайно привлекательной.
В годы, последовавшие за 1991-м, как во втором акте пьесы Беккета, все та же драма была разыграна в более размытой форме. Распад Советского Союза оставил усеченную Россию в состоянии разброда в обществе, экономического коллапса, гражданской войны (в Чечне), с зачаточными правительственными институтами. Одно ключевое отличие 1991 г. состояло в том, что Ельцин, как напрямую избранный президент, имел демократическую легитимность, которой не хватало Временному правительству 1917 г. Но даже несмотря на это, его заставили участвовать в серии очень сомнительных экспериментов (например, послать танки на парламент в 1993 г. и «купить» выборы в 1996-м) для того, чтобы удержаться у власти. Так была проложена дорога для преемника Ельцина – Владимира Путина (выбранного с расчетом на то, что он станет «российским Пиночетом»). Последовало внедрение все более жестко регулируемой системы управления с подчиненной прессой, жестким ограничением деятельности оппозиции и фальшивыми выборами.
Следует подчеркнуть одну особую общую черту событий 1917 и 1991 гг. В обоих случаях после восстания государственные органы безопасности взяли на себя главную роль в последующем управлении страной. Критики революции 1991 г. впоследствии заявляли, что отсутствие «люстрации» – чистки «старой гвардии» – сделало возвращение авторитарного государства почти неизбежным. Но трудно представить себе более полномасштабную люстрацию, чем ту, что имела место в 1917 г., однако авторитаризма (и это мягко сказано) избежать все равно не удалось.
Конечно, не стоит на основе событий 1917 и 1991 гг. делать вывод, что Россия в известной степени обречена на авторитаризм. Однако очевидно, что размеры страны, ее неуправляемость и отсутствие демократических традиций создают серьезные препятствия на пути функционирования репрезентативного правительства. А учитывая недавнюю российскую историю, можно понять предпочтения русского народа, регулярно выявляющиеся посредством опросов общественного мнения: «порядок» лучше «свободы».
VI. Чему мы научились
Революция 1991 г. стала полным отказом от наследия 1917-го. Одними из самых символичных ее моментов было свержение толпой памятника Дзержинскому у штаб-квартиры КГБ в Москве и неожиданное решение жителей города, который с 1924 г. назывался Ленинградом, переименовать его в Санкт-Петербург. Казалось, что Ленин умер. Следующие несколько лет стали «концом истории» – в мире доминировали США, и даже те немногие страны, которые называли себя коммунистическими, начали либерализацию экономики, что заставило многих ожидать того же и в политике.
Революцию 1917 г. можно рассматривать как событие, ключевое для дальнейшего хода истории, однако оказавшееся тупиковым, как это было с империей инков. В самом деле, один из основных уроков, извлеченных из революции, негативный. Мы усвоили, что революции не работают. Сложно представить себе, что марксизм когда-либо вернется. Революция испытала его как историческую теорию, и эксперимент потерпел неудачу. Диктатура пролетариата не привела к коммунистической утопии, результатом стала еще худшая диктатура. Потерпел неудачу и соответствующий рецепт экономического управления. Сегодня ни один из серьезных экономистов не будет рассматривать тотальное право собственности государства как путь к экономическому процветанию. У рыночной экономики, несомненно, есть свои недостатки, и после экономического кризиса 2008 г. работы Карла Маркса ненадолго вошли в список бестселлеров нехудожественной литературы во Франции, однако один из уроков, извлеченных из коммунистического эксперимента, состоит в том, что в большинстве аспектов рыночная экономика работает лучше государственной. С 1991 г. стремление уйти от социализма стало безоглядным.
Что касается политики, то здесь приговор ленинизму не столь определенный. Несомненно, однопартийные государства уже не в моде. По сравнению с застоем и коллапсом Советского Союза единственной привлекательной моделью управления выглядит демократия западного образца со свободным рынком. Начиная с конца 1970-х гг. (и этот процесс значительно ускорился после 1989 г.) более 40 стран ушли от варианта с единственной правящей партией. Около двух третей стран на земном шаре имеют теперь демократическую форму правления. В современном мире, где с головокружительной быстротой развиваются коммуникации, торговля и возможности передвижения, было бы непросто возродить герметично закрытую экономику и общество, на которых держалась советская система. Даже Северная Корея теперь подключена к интернету.
Тем не менее остается под вопросом, может ли мировая деленинизация пойти еще дальше. Поднимающийся вал демократии по многим признакам уже достиг своего пика. Кое-где (в первую очередь в самой России) она начала отступать: режимы находят пути контроля над внутренним политическим процессом, сохраняя при этом прочные связи с остальным миром. Самый яркий пример тому, конечно, Китай – до сих пор демонстративно ленинистское однопартийное государство, отказавшееся от марксизма в пользу рынка и теперь быстро идущее к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире и главным вызовом глобальному доминированию Запада. Учитывая ключевую роль СССР в создании и развитии коммунистической формы правления в Китае, сложно не увидеть в нем самое значительное наследие революции 1917 г.
Те, кто ищет в истории предсказуемости, заметят, что и сегодняшняя ленинская сверхдержава – Китай, и вчерашняя – СССР являются странами с чрезвычайно долгой историей централизованного и автократичного правления. Однако на какие бы размышления ни наводили эти параллели, несомненно, один из главных уроков революции 1917 г. состоит в том, что следует с осторожностью относиться к масштабным теориям исторической неизбежности, равно как и к их сторонникам. Как видно из глав этой книги, история революции полна иронии. Даже самых мудрых и благонамеренных может сбить с пути случайность или невезение. Дума Витте стала штабом оппозиции, которая свергла как раз тот режим, который ей надлежало спасти. Патриотические чувства Николая II, пожелавшего служить своему народу на фронте, оставили Петербург в руках Александры и Распутина, что привело к катастрофе. Усилия Родзянко, направленные на то, чтобы Николай II отказался от престола в пользу сына, ненамеренно привели к гибели всю династию. Германский генеральный штаб, в 1917 г. отправивший Ленина в Россию, на какое-то время получил преимущество в Первой Мировой войне, однако создал коммунистическую угрозу, которая нависала над Германией еще 70 лет. Небольшевистская оппозиция из-за готовности терпеть выходки большевиков в интересах революционного единства быстро оказалась «на свалке истории». И даже Ленин, со всем его аморальным экстремизмом, был движим марксистским видением лучшего, более совершенного мира. А в результате он и его последователи пришли к полностью противоположному результату, приспосабливая реальность к своим идеям вместо того, чтобы продвигать идеи, применимые к реальности.
Эта тяжелая, кровавая и непредсказуемая драма разыгралась в России, и потому на России должна закончиться и наша книга. Профессиональные историки уделяют недостаточно внимания не только роли личности, но и национальному характеру. Теоретики революции обычно не обращают внимания на непреодолимую «русскость», придававшую свой колорит событиям 1917-го, а иногда и становившуюся их движущей силой. Фанатичная интеллигенция, подвигнутая на революционные крайности абстрактной теорией, безжалостно описана Достоевским, а Чехов рассказал миру о бесполезной буржуазии, не способной осознать необходимость трудных решений. Николай II – «батюшка» народа, веривший в мистическую связь, которая делала ненужным любое представительство народных интересов негодяями-политиками, – не более чем отражение обычного видения мира российскими правителями. А Распутин – представитель известной русской традиции «юродивых», святых людей, говоривших правду в лицо сильным мира сего.
Российское общество всегда было очень неоднородным. С одной стороны – ее немногочисленный, европеизированный правящий класс. С другой – огромная масса «темного народа», до 1861 г. – крепостных, людей, сфокусированных на своем деревенском сообществе и подозрительно и неприязненно относящихся к любому вмешательству извне. Пушкин писал про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», про массовые восстания, которые, возникнув ниоткуда, время от времени жгли и вырезали целые российские губернии. Можно предположить, что и 1917 г. был таким восстанием, охватившим всю страну и тенью легшим на мировую историю на целых 70 лет. Память о его бесчисленных жертвах обязывает нас задуматься о том, возможен ли был иной путь.
Действующие лица революции
Авдеев, Александр Дмитриевич – большевик, комендант Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где находилась под арестом царская семья.
Алексеев, Михаил Васильевич – генерал, глава генштаба Николая II с 1915 г. В феврале 1917 г. посоветовал Николаю отречься от престола. Возглавлял генштаб также при Временном правительстве. По приказу Керенского арестовал Корнилова. После Октября способствовал созданию Белой армии, но умер в сентябре 1918 г.
Богров, Дмитрий Григорьевич – анархист, революционер и агент охранки. В сентябре 1911 г. застрелил в Киеве Петра Столыпина.
Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич – большевик, личный секретарь Ленина с октября 1917 г.
Боткин, Евгений Сергеевич – врач царской семьи, убит вместе со своими пациентами в Екатеринбурге в июле 1918 г.
Бухарин, Николай Иванович – один из вождей большевиков, выступал против Брест-Литовского мира, активно поддерживал НЭП. Погиб в чистках 1938 г.
Вениамин (Василий Павлович Казанский) – митрополит Петроградский. Противился экспроприации церковной собственности в 1922 г. Был осужден и расстрелян как контрреволюционер.
Витте, Сергей Юльевич – граф, политический деятель. Руководил строительством Транссибирской магистрали. Премьер-министр в 1903–1906 гг. Провел переговоры, в результате которых была завершена Русско-японская война. Убедил Николая II согласиться после Кровавого воскресенья на политическую реформу, в том числе на создание Думы. Утратив доверие царя, вышел в отставку. Умер в 1915 г.
Врангель, Петр Николаевич – генерал, командовал Белой армией на юге России. Не сумел прийти к согласию с другим командующим, генералом Деникиным. После поражения Белого движения находился с 1920 г. в эмиграции. Умер (возможно, был отравлен) в 1928 г.
Вырубова, Анна Александровна – фрейлина и ближайшее доверенное лицо императрицы. Приверженка Распутина, посредница между ним и Александрой. После революции была арестована, бежала в Финляндию, умерла в 1964 г.
Гермоген (Георгий Ефремович Долганёв) – православный священник, затем епископ. Первоначально был союзником Распутина, затем выступил против него, однажды его ударил. По воле царя Гермоген был отстранен от управления епархией. Восстановил общение с царской семьей, когда та находилась в Тобольске. В 1918 г. утоплен большевиками.
Голицын, Николай Дмитриевич – последний премьер-министр императорской России, с декабря 1916 г. по февраль 1917 г. Ушел в отставку после Февральской революции, затем периодически подвергался арестам, в 1925 г. казнен.
Гусева, Хиония Кузьминична – симбирская крестьянка, в июне 1914 г. пыталась убить Распутина. Признана сумасшедшей, позднее выпушена из лечебницы по распоряжению Керенского.
Гучков, Александр Иванович – консервативный российский политик, член Думы. С 1916 г. активно готовил свержение царя. В феврале 1917 г. был направлен в Псков с заданием уговорить Николая отречься. Военный министр Временного правительства. В гражданской войне поддерживал белых. Умер в эмиграции.
Деникин, Антон Иванович – генерал. Во время гражданской войны командовал Белой армией на юге России. После поражения находился в эмиграции.
Дзержинский, Феликс Эдмундович – «Железный Феликс». Поляк по происхождению, один из лидеров большевиков. В декабре 1917 г. Ленин поручил ему создание ЧК. С того момента и до своей смерти в 1926 г. возглавлял аппарат большевистского террора.
Дурново, Петр Николаевич – министр внутренних дел в 1905–1906 гг. Решительно подавлял волнения после Кровавого воскресенья. Точно предсказал революцию после войны с Германией.
Жильяр, Пьер – швейцарский наставник пятерых детей Николая II и Александры. Поначалу находился с ними в ссылке, но не был допущен в Екатеринбург.
Зиновьев, Григорий Евсеевич – вождь большевиков, противился плану захвата власти в октябре 1917 г. и пытался организовать коалицию с социалистами-небольшевиками. Тем не менее поначалу занимал ключевые посты в СССР и даже выступал в оппозиции Сталину. Расстрелян в 1936 г.
Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов) – монах и харизматичный проповедник, враждебный по отношению к Столыпину (который пытался заточить его в монастырь). Пользовался покровительством Распутина и царя. Затем обратился против Распутина, распространял слух, будто тот состоит в связи с императрицей. В конце концов расстригся, умер в США.
Каменев, Лев Борисович – один из лидеров большевиков, противился плану захвата власти в октябре 1917 г. и пытался организовать коалицию с социалистами-небольшевиками. Тем не менее поначалу занимал ключевые посты в СССР и даже выступал в оппозиции Сталину. Расстрелян в 1936 г.
Каплан, Фанни Ефимовна – эсерка, стреляла в Ленина в августе 1918 г., ранила его, но не убила. Расстреляна в сентябре того же года.
Керенский, Александр Федорович – видный политик, лидер социалистов, блестящий оратор. Член Четвертой государственной думы, где яростно разоблачал связи Распутина с царской семьей. С февраля 1917 г. – заместитель председателя Петроградского совета и министр Временного правительства. В июле 1917 г. стал премьер-министром Временного правительства, а после отставки Корнилова сделался также и главнокомандующим. Пытался оказать сопротивление после Октябрьской революции, но сразу же потерпел поражение. Умер в эмиграции в 1970 г.
Колчак, Александр Васильевич – адмирал и герой войны. Возглавил антибольшевистское сопротивление в Сибири, в итоге стал военным диктатором крайне правых убеждений, полностью зависимым от поддержки Запада. После первоначальных военных успехов потерпел ряд поражений, был выдан большевикам в Иркутске и расстрелян в феврале 1920 г.
Корнилов, Лавр Георгиевич – генерал. В июле 1917 г. Керенский назначил его главнокомандующим, но затем заподозрил в подготовке переворота. Был арестован в сентябре 1917 г. (что роковым образом подорвало доверие и к Керенскому). После октябрьского переворота бежал и возглавил формировавшуюся Белую армию. Погиб в бою в апреле 1918 г.
Крупская, Надежда Константиновна – жена Ленина и революционный деятель. Сопровождала Ленина в эмиграции и вместе с ним вернулась в «пломбированном вагоне». В правительстве большевиков была заместителем министра. Умерла в 1939 г.
Ленин, Владимир Ильич – профессиональный революционер, создатель и вождь большевистской партии. После Февральской революции вернулся в Россию при помощи немцев, убедил большевистскую партию занять ультрарадикальную позицию, которая все более обретала поддержку в обществе, в октябре руководил захватом власти. Именно от него зависели в дальнейшем все аспекты большевистской политики, включая террор. Скончался в 1924 г. после серии инсультов.
Луначарский, Анатолий Васильевич – известный большевик, сторонник Ленина. После революции отвечал за советское искусство и образование. Умер в 1933 г.
Львов, Владимир Николаевич – консервативный политик, член Думы. Выступил посредником между Керенским и Корниловым, ввел обоих в заблуждение, что привело к аресту Корнилова, а в итоге и к падению Временного правительства.
Львов, Георгий Евгеньевич – князь, умеренный политик, член Думы. Был избран главой Временного правительства в феврале 1917 г., но утратил поддержку и в июле 1917 г. смещен Керенским. Был арестован большевиками, бежал и в 1925 г. умер в эмиграции.
Мартов, Юлий Осипович – лидер меньшевиков, 25 октября 1917 г. увел их со съезда Советов, тем самым оставив власть большевикам. Участвовал в обреченном Учредительном собрании. Умер в эмиграции в 1923 г.
Милюков, Павел Николаевич – либеральный политик, лидер конституционных демократов (кадетов). В ноябре 1916 г. произнес в Думе громкую речь («Глупость или измена»), обличавшую царский режим. Министр иностранных дел Временного правительства до вынужденной отставки в мае 1917 г. После подавления кадетской партии в эмиграции поддерживал белых. Умер в 1945 г.
Плеханов, Георгий Валентинович – один из первых марксистов в России. Его идеи, особенно о подчинении демократии власти пролетариата, сильно повлияли на Ленина. Тем не менее он выступал против большевиков и Октябрьской революции. Умер в эмиграции в 1918 г.
Протопопов, Александр Дмитриевич – политик и член Думы. Был близок к Распутину, по рекомендации императрицы в сентябре 1916 г. занял пост министра внутренних дел. Обвинялся в душевной нестабильности, несколько раз прозвучали требования о его отставке. В феврале 1917 г. не справился со взрывом народного гнева. Расстрелян ЧК.
Распутин, Григорий Ефимович – монах, мистик. Приобрел огромное влияние на царскую семью, в особенности на императрицу, поскольку обладал способностью останавливать приступы гемофилии у цесаревича. Окончательно подорвал престиж царской власти, когда с августа 1915 г., с отъездом царя на фронт, молва окрестила его любовником и соправителем царицы. Убит в декабре 1916 г.
Родзянко, Михаил Владимирович – председатель Думы в 1911–1917 гг. В феврале 1917 г. сыграл ключевую роль, но не сумел вовремя убедить царя пойти на уступки. Убедил военных не вмешиваться. Возглавил думский комитет, из которого при участии Совета возникло Временное правительство. После Октябрьской революции присоединился к белым. Умер в эмиграции в 1924 г.
Романов, Алексей Николаевич – наследник престола Российской империи. Родился в августе 1904 г. Страдал гемофилией, несколько приступов едва не оказались для него смертельными, и только Распутин каким-то образом облегчал его состояние. Убит в Екатеринбурге в июле 1918 г.
Романов, Михаил Александрович – великий князь, младший брат Николая II, наследник престола после Алексея, военачальник. При отречении Николай уступил трон ему, но Михаил отложил решение до Учредительного собрания. Арестован большевиками в марте 1918 г., отправлен в Сибирь и там убит в июне 1918 г.
Романов, Николай Александрович – российский император (1894–1917). Верил в мистическую связь царя и русского народа, по убеждениям консерватор, не желавший ни на шаг отступить от принципа самодержавия. В отношениях с министрами был капризен, непредсказуем и ненадежен, глубоко предан своей семье, даже в ущерб интересам страны. Отрекся в феврале 1917 г. Убит в Екатеринбурге в июле 1918 г.
Романов, Николай Николаевич – великий князь, военачальник, родственник Николая II, имевший на него влияние. Убедил царя поддержать в 1905 г. реформы Витте. В начале Первой мировой войны – российский главнокомандующий, пока царь не пожелал взять эту роль на себя. Был среди тех, кто уговаривал Николая отречься. Умер в эмиграции.
Романова, Александра Федоровна – российская императрица. Урожденная немецкая принцесса, вышла замуж за Николая II в ноябре 1894 г. Оказывала большое влияние на политику, требовала сохранения самодержавной власти. Родила четырех дочерей и сына. Подпала под роковое влияние Распутина. Убита в Екатеринбурге в июле 1918 г.
Рузский, Николай Владимирович – генерал, командующий Северным фронтом в 1916–1917 гг. Единственный представитель высшего командного эшелона, оказавшийся рядом с царем в Пскове 1–2 марта 1917 г. Уговорил царя отречься от престола. Впоследствии присоединился к белым. Попал в плен и убит в сентябре 1918 г.
Рыков, Алексей Иванович – лидер умеренных большевиков, после Октябрьской революции в оппозиции к Ленину. Затем играл одну из ключевых ролей при новом режиме, казнен во время чисток 1938 г.
Савинков, Борис Викторович – революционер и террорист. Заместитель военного министра Корнилова в июле – августе 1917 г. Планировал убийства большевистских лидеров в 1918 г. Убит в Москве в 1925 г.
Сазонов, Сергей Дмитриевич – российский государственный деятель, министр иностранных дел в 1910–1916 гг. Уволен по желанию императрицы. Поддерживал белых. Умер в эмиграции в 1927 г.
Саханов, Николай Николаевич – меньшевик, член Петроградского совета. Вместе с другими меньшевиками покинул в октябре 1917 г. съезд Советов, о чем впоследствии сожалел, поскольку в результате власть захватили большевики.
Свердлов, Яков Михайлович – вождь большевиков. Был близок к Ленину, активно участвовал в роспуске Учредительного собрания, подписании Брест-Литовского мира и казни царской семьи. Умер в 1919 г.
Семенов, Григорий Иванович – эсер, террорист и убийца. Организовал покушение Фанни Каплан на Ленина.
Соловьев, Борис – зять Распутина. В Сибири в 1917 г. получил от царской семьи ценные вещи и обещал им помочь, очевидно злоупотребив их доверием. Умер в эмиграции в 1926 г.
Сталин, Иосиф Виссарионович – лидер большевиков. В апреле 1917 г. противился радикальному призыву Ленина, но вскоре согласился с ним. После смерти Ленина в 1924 г. сумел захватить полную власть в СССР, выдавив главного своего соперника, Троцкого, в эмиграцию. Кровавый диктатор. Умер в 1953 г.
Столыпин, Петр Аркадьевич – российский государственный деятель, эффективный администратор. Премьер-министр с 1906 г. Беспощадно подавлял мятежи. Перетасовал состав Думы, добиваясь поддержки своей программы широких реформ, но утратил доверие царя. Убит в Киеве в 1911 г.
Сухомлинов, Владимир Александрович – генерал, военный министр в 1909–1915 гг., уволен после первых поражений. В марте 1916 г. обвинялся в измене, но был оправдан по настоянию Распутина и императрицы, что опять-таки повредило репутации царской власти.
Тихон (Василий Иванович Беллавин) – патриарх Русской православной церкви с ноября 1917 г. Сначала выступал против режима большевиков, особенно в связи с убийством царской семьи, но впоследствии занял более компромиссную позицию. Протестовал против экспроприации церковной собственности. В 1922–1923 гг. арестован и лишен сана. Умер в 1924 г.
Троцкий, Лев Давидович – вождь большевиков, уступавший лишь Ленину в умении захватить и удержать власть. Сыграл ключевую роль в событиях октября 1917 г. в качестве председателя Петроградского совета. Привел Красную армию к победе в гражданской войне. Инициировал и поддерживал террор. Однако после смерти Ленина в борьбе за власть его обошел Сталин. В 1929 г. Троцкий был изгнан из страны, в 1940 г. убит.
Чернов, Виктор Михайлович – лидер социалистов-революционеров, член Думы, министр Временного правительства, позднее – лидер противостоявшего большевикам Комуча в Самаре. Умер в эмиграции.
Чхеидзе, Николай Семенович – лидер меньшевиков. В 1917 г. возглавлял Исполком Петроградского совета. После Октябрьской революции бежал из России.
Шульгин, Василий Витальевич – консервативный член Думы. В марте 1917 г. помог убедить царя отречься от престола. Поддерживал белых, отправился в эмиграцию, но в конце Второй мировой войны был арестован, отбыл тюремный срок в СССР и умер там же в 1976 г.
Юденич, Николай Николаевич – генерал, возглавлял Белое движение на северо-востоке России. Едва не захватил Петроград, но в октябре 1919 г. потерпел поражение. Был схвачен при попытке бежать с казенными деньгами. Умер в эмиграции.
Юсупов, Феликс Феликсович – князь, богатый эксцентричный молодой человек, женатый на племяннице царя. Организовал в декабре 1916 г. убийство Распутина. Вопреки воле императрицы, требовавшей расстрелять его, был лишь сослан в собственное имение. После революции уехал из страны.
Яковлев, Василий Васильевич (Мячин, Константин Алексеевич) – неистовый революционер, член Петроградского совета. В марте 1918 г. ему было поручено доставить царскую семью из Тобольска в Москву. Возможно, планировал спасти их, но вынужден был передать в Екатеринбурге большевикам. Позднее попал в плен к белым, бежал в Китай, вернулся в 1928 г., казнен в 1938 г.
Об авторах
Тони Брентон – британский дипломат. С 2004 по 2008 г. был послом Великобритании в Российской Федерации. Ранее, с 1994 по 1998 г., служил в Москве экономическим и научным советником. В настоящее время является членом товарищества Кембриджского университета в Вольфсон-колледже, пишет книгу о России эпохи правления Петра I и выступает как комментатор по российским проблемам.
Доминик Ливен – старший научный сотрудник в Тринити-колледже (Кембридж), член Британской академии, автор книги Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia («В огне: Империя, война и конец царской России»). Его книга Russia against Napoleon («Россия против Наполеона») была удостоена премии Вулфсона в области истории.
Саймон Диксон – профессор русской истории в Университетском колледже Лондона, председатель комитета премии «Русский Букер». Его биография Екатерины II (Catherine the Great) была хорошо воспринята критиками и номинировалась на звание книги года журналом Longman-History Today.
Дуглас Смит – американский историк и переводчик, автор книг о России, среди которых Former People. The Last Days of the Russian Aristocracy («Бывшие. Последние дни русской аристократии») и Rasputin: Faith, Power, and the Twilight of the Romanovs («Распутин. Вера, власть и падение Романовых»).
Дональд Кроуфорд в течение 20 лет издавал британский политический журнал Parliamentary Brief. Автор нескольких трудов по истории царской России, в том числе книги «Михаил и Наталья», написанной в соавторстве с женой Розмари Кроуфорд.
Шон Макмикин – профессор истории Бард-колледжа, США. Автор нескольких известных работ, в том числе книги The Russian Origins of the First World War («Российские источники Первой мировой войны»), которая была награждена книжной премией Б. Томилсона-мл.
Ричард Пайпс – один из ведущих мировых специалистов по русской революции, профессор по русской истории Гарвардского университета, с 1996 г. – почетный профессор. Возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности США.
Орландо Файджес – британский историк, специалист по русской истории, профессор истории в Биркбеке (Лондонский университет). Автор восьми книг, удостоенных различных премий, в том числе книге о русской революции A People's Tragedy («Трагедия народа»). Его работы переведены на 32 языка.
Эдвард Радзинский – драматург, сценарист, телеведущий и писатель-историк. На английский язык переведены такие его книги, как «Последний царь Николай II» и «Сталин».
Мартин Сиксмит был корреспондентом Би-би-си в Москве во времена распада СССР. Автор нескольких книг, в том числе бестселлера по версии газеты Sunday Times Russia: A 1,000-Year Chronicle of the Wild East («Россия, 1000-летняя хроника дикого Востока»), а также романа The Lost Child of Philomena Lee («Потерянный ребенок Филомены Ли»), по которому был снят известный фильм «Филомена».
Эван Модсли – профессор истории в Университете Глазго. Автор нескольких книг, в том числе The Russian Civil War («Гражданская война в России»).
Эрик Ландис – старший лектор по современной европейской истории в Оксфордском университете. Автор книги Bandits and Partisans: The Antonov Movement in the Russian Civil War («Бандиты и партизаны: Антоновское движение в гражданской войне в России»).
Катриона Келли – профессор русского языка в Оксфордском университете, автор многочисленных публикаций по русской истории, в том числе книги St Petersburg: Shadows of the Past («Санкт-Петербург: Тени прошлого»). Публиковала также переводы стихов Маяковского, Цветаевой и других поэтов, рецензии в TLS и Guardian.
Ричард Саква – британский политолог, профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета, автор многочисленных научных работ, посвященных России коммунистического и посткоммунистического периода, среди которых Frontline Ukraine («Линия фронта – Украина») и Putin: Russia's choice («Путин: Выбор России»).
Сноски
1
Великий князь Александр Михайлович. – Прим. ред.
(обратно)2
Довольно нас поить дурманом! Прощай, военная муштра! Народам – мир, война – тиранам! Забастовать, солдат, пора. Когда ж прикажут каннибалы Нам всем геройски околеть – Тогда по нашим генералам Своим же пулям полететь! (Пер. В. Граевского и К. Майского.) (обратно)3
Суханов Н.Н. Записки о революции. – М., 1919. Кн. 3.
(обратно)4
Впоследствии Ленин настаивал, что большевики «желали произвести только мирную разведку сил неприятеля, но не давать сражения», хотя столь же непринужденно замечал, что это была первая попытка большевиков прибегнуть к силовым методам. – Прим. авт.
(обратно)5
В фильме Дэвида Лина «Доктор Живаго» офицер в духе Керенского призывает солдат постоять за родные дома, за своих жен, не допустить позорной капитуляции перед немцами. Солдаты приветствуют его одобрительными криками, но вдруг бочка, на которую взобрался оратор, накреняется, оратор падает в пиво – и солдаты с хохотом приканчивают его. – Прим. авт.
(обратно)6
Как ни ужасны эти цифры, весной того же года бунты на Балтийском флоте привели к гибели по меньшей мере 150 человек. – Прим. авт.
(обратно)7
Керенский так удачно схоронил в Кремле сокровища Романовых, что большевики сумели отыскать их лишь в марте 1922 г. – Прим. авт.
(обратно)8
Керенский в частном разговоре сообщил автору этой статьи, что его действия в тот период в значительной степени определялись опытом Французской революции, главной угрозой для которой сделался Бонапарт. – Прим. авт.
(обратно)9
В сентябре он даже думал организовать в Петрограде восстание путем военного вторжения из Прибалтики, где провел лето и был впечатлен революционным пылом латышских стрелков (которые в основном и были личными телохранителями Ленина в первые дни Советской власти). «Кажется, единственное, что мы можем вполне иметь в своих руках, – писал он И.Т. Смилге, – и что играет серьезную военную роль, – это финляндские войска и Балтийский флот». – Прим. авт.
(обратно)10
Фраза, которую в статье 1923 г. «О нашей революции» В.И. Ленин приписал Наполеону: «Помнится, Наполеон писал: „On s'engage et puis… on voit“. В вольном русском переводе это значит: „Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет“». – Прим. ред.
(обратно) (обратно)Комментарии
1
Киреев А. А. Дневник 1905–1910. (М.: 1910), с. 150. Читателей, заинтересованных в более глубоком изучении этой темы и фактов, на которых я основываю свою, на первый взгляд парадоксальную, аргументацию, отсылаю к своей новой книге: Dominic Lieven, Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia (London: Allen Lane, 2015).
(обратно)2
Charles Moore, Margaret Thatcher: The Authorized Biography, vol. 2: Everything She Wants (London: Allen Lane, 2015), p. 617.
(обратно)3
По теме этой главы см. в особенности: Дьякин В. С. Был ли шанс у Столыпина? Сб. статьей. – СПб.: ЛИСС, 2002.
(обратно)4
Кара-Мурза С. Г. Столыпин: отец русской революции. – М.: Алгоритм, 2002. Кара-Мурза С. Г. Ошибка Столыпина. Премьер, перевернувший Россию. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2011.
(обратно)5
Монах Лазарь (Афанасьев). Ставка на сильных: Жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. – М.: Русский паломник, 2013. С. 3.
(обратно)6
Richard S. Wortman, Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy, vol. 2: From Alexander II to the Death of Nicholas II (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), pp. 377–9, 380.
(обратно)7
Abraham Ascher, P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), pp. 13–33.
(обратно)8
Уже под конец 1909 г. их отношения испортились из-за отказа царя повысить юридический статус евреев, а также в связи с конфликтом вокруг бюджета Адмиралтейства. См.: Dominic Lieven, Nicholas II: Emperor of All the Russias (London: John Murray, 1993), pp. 174–176.
(обратно)9
О понятии «общественность» см.: Geoffrey A. Hosking, Russia: People and Empire, 1552–1917 (London: HarperCollins, 1997), pp. 325, 332, 400–402.
(обратно)10
Faith Hillis, Children of Rus': Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013), pp. 249–50.
(обратно)11
Тайна убийства Столыпина / Под общ. ред. Пожигайло П. А. (М.: РОССПЭН, 2003).
(обратно)12
Здесь я следую логике Ричарда Пайпса (Richard Pipes, Revolutionary Russia, 1899–1919, London: Collins, 1990, pp. 188–90) и Ашера (Ascher, P. A. Stolypin, pp. 363–89). Лидер теоретиков заговора – Аврех А. Я. См.: Столыпин и III Дума. (М.: Наука, 1968. С. 393–394).
(обратно)13
Ascher, P. A. Stolypin, pp. 393–4.
(обратно)14
Из обширной (и страстно противоречивой) литературы особо рекомендую Judith Pallot, Land Reform in Russia, 1906–1917: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation (Oxford: Oxford University Press, 1999).
(обратно)15
Geoffrey A. Hosking, The Russian Constitutional Experiment: Government and Duma 1907–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), pp. 41–55.
(обратно)16
Peter Waldron, Between Two Revolutions: Stolypin and the Politics of Renewal (London: UCL Press, 1998), pp. 115–46.
(обратно)17
Розанов В. В. Русская государственность и общество: Статьи 1906–1907 гг. / Ред. Николюкин А. Н. – М.: Республика, 2003. На с. 336 описывается речь Столыпина во Второй думе 6 марта 1907 г. Эта статья появилась в либеральной газете «Русское слово» под хорошо известным псевдонимом Розанова В. Варварин. Более комплиментарно он высказывался, когда писал для консервативного «Нового времени». См., напр.: Розанов В. В. Старая и молодая Россия: статьи и очерки 1909 г. / Ред. Николюкин А. Н. – М.: Республика, 2004. С. 138–140. В этой анонимной статье Розанов хвалит решимость Столыпина сохранять внепартийную позицию.
(обратно)18
Simon Dixon, 'The «Mad Monk» Iliodor in Tsaritsyn', Slavonic and East European Review, 88, 1–2 (2010), pp. 377–415.
(обратно)19
Толстой И. И. Дневник. Ред. Ананич В. В. и др. В 2-х т. – СПб.: Лики России, 2010. Т. 2. С. 207–208, 6 сентября 2011.
(обратно)20
Богданович А. Три последних самодержца. – М.: Новости, 1990. С. 385, 387.
(обратно)21
Киреев А. А. Дневник 1905–1910 / Сост. Соловьев К. А. – М.: РОССПЭН, 2010. С. 145. 22 мая 1906.
(обратно)22
Там же, 5 ноября 1906. Слово «джентльмен» в оригинале на английском. Разнообразные отклики современников на действия Столыпина см.: П. А. Столыпин: Pro et Contra / Ред. Лукьянов И. В., 2-е изд. – СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2014.
(обратно)23
Особые журналы Совета министров Российской империи, 1911 год / Ред. Б. Д. Гальперина. – М.: РОССПЭН, 2002. С. 371–372, 13 сентября 1911. «Скорблю о безвременной кончине моего верного слуги статс-секретаря Столыпина», – без особых затей записал царь 22 сентября.
(обратно)24
Глава о нападении Гусевой и расследовании этого дела опирается главным образом на полицейские досье, сохранившиеся в двух сибирских архивах: Государственном архиве города Тобольска: фонд I – 164, опись 1, папки 436, 437, 439, и Историческом архиве Омской области: фонд 190, опись 1, 1881–1917 гг., папка 332. Эти важные и малоизученные документы приводятся в книге: Фомин С. Страсть как больно, а выживу… М., 2011. С. 378–826. Дополнительную информацию я почерпнул у Олега Платонова. Жизнь за царя. Правда о Григории Распутине. – СПб.: 1996. С. 111. См. также: Смирновы В. Л., М. Ю. Неизвестное о Распутине. – Тюмень, 2010. С. 66; Фомин. Страсть как больно, а выживу… С. 85–87, 101–105, 3204; ГАРФ 102.242.1912.297. Гл. 2, с.1.
(обратно)25
Смирнов, Неизвестное, с. 66; Фомин, Страсть, с. 117–118; ГАРФ, 472.2 (195/2683). С. 7, 8–9.
(обратно)26
Historical Archive, 472.2 (195/2683), pp. 7, 8–9.Joseph T. Fuhrmann, Rasputin: The Untold Story. Hoboken, NJ, 2013. P. 126; Фомин, с. 161–162; Платонов. С. 136–137.
(обратно)27
Фомин. Страсть, c. 136.
(обратно)28
ГАРФ 1467.1.710, с. 24.
(обратно)29
К числу самых авторитетных биографий Распутина принадлежат: Fuhrmann, Rasputin; и Варламов А. Григорий Распутин-Новый. – М., 2012.
(обратно)30
Вырезки собраны в ГАРФ 102.242.1912, гл. 2; New York Times, 14 июля 1914 г., с. 1; 15 июля, с. 4; 16 июля, с. 4; 17 июля, с. 4.
(обратно)31
Предположение о международном заговоре, приведшем к убийству Жореса, нелепо, однако не чуждо современным российским историкам-националистам. Об этом убийстве см.: Harvey Goldberg. The Life of Jean Jaurès (Madison, WI: 1962), pp. 458–74. Как пишет Голдберг, Жорес до конца боролся за мир в Европе, но шансы его были ничтожны.
(обратно)32
Colin Wilson, Rasputin and the Fall of the Romanovs. New York, 1964, p. 156; Варламов А., с. 426–428; Гроян Т. Мученик за Христа и за царя. Человек Божий Григорий Распутин. Молитвенник за святую Русь и ея пресветлаго отрока. – М., 2001. С. 95–96; Рассулин Ю. Верная Богу, царю и отечеству. Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. – СПб.: Царское Дело, 2005.
(обратно)33
Fuhrmann. Ibid, p. 118; Варламов А. Ibid, с. 422–23.
(обратно)34
Fuhrmann Ibid, p. 115; Варламов А. Ibid, с. 423.
(обратно)35
Григорий Распутин в воспоминаниях современников. – М., 1990. С. 71–73.
(обратно)36
Варламов А. С. 377.
(обратно)37
Там же. С. 377–378.
(обратно)38
Edvard Radzinsky, The Rasputin File (New York: 2000), pp. 188–89; W. Bruce Lincoln, In War's Dark Shadow: The Russians Before the Great War (New York: 1983), pp. 408–13; Orlando Figes, A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924 (New York: 1997), p. 248.
(обратно)39
Варламов. Ibid, с. 376.
(обратно)40
Fuhrmann. Ibid, p. 115.
(обратно)41
Фомин. Ibid, с. 318.
(обратно)42
Frankfurter Zeitung, 1 марта 1913. Das Politische Archiv des Auswartigen Amts (Berlin), R.10897.
(обратно)43
Семенников В. Романовы и германские влияния, 1914–1917 гг. Ленинград, 1929. С. 29–30.
(обратно)44
Lincoln, War's Dark Shadow, pp. 409–11.
(обратно)45
Семенников В. С. 28–31; Fuhrmann. Ibid, pp. 114–15.
(обратно)46
ГАРФ, 1467.1.710, с. 151–155.
(обратно)47
ГАРФ, 102.242.1912.297, гл. 1, с. 94.
(обратно)48
Хроника великой дружбы: царственные мученики и человек Божий Григорий Распутин-Новый (далее – ХВД) // Сост. Рассулин Ю., Астахов С., Душенова Е. – СПб.: Царское Дело, 2007. С. 140–141.
(обратно)49
Соколов Н. А. Убийство царской семьи. Берлин, 1922, репринт: М., 1990. С. 94.
(обратно)50
ХВД, с. 136.
(обратно)51
ГАРФ, 640.1.323, с. 2.
(обратно)52
ГАРФ, 1467.1.710, с. 159.
(обратно)53
ГАРФ, 1467.1.710, с. 161–63. Акулина Лаптинская (не Лапшинская) была преданной последовательницей и секретарем Распутина. Она дежурила у его постели, пока тот выздоравливал.
(обратно)54
Fuhrmann. Ibid, p. 129; Andrei Maylunas and Sergei Mironenko, eds, A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra: Their Own Story (New York: 1997), p. 397; Рассулин Ю. Верная Богу. С. 73–74.
(обратно)55
Yale University, Beinecke Library, Romanov Collection, GEN MSS 313, Series 1, Box 1, Folder 100.
(обратно)56
Yale University, Beinecke Library, Romanov Collection, GEN MSS 313, Series 1, Box 1, Folder 100; and GEN MSS 313, Box 8, Folder 111; Варламов А. Указ. соч. с. 424–425; Фомин, с. 279–281; Марков С. В., бывший с Соловьевым в Тобольске в 1918 г., видел тогда это письмо, хотя в своих воспоминаниях утверждает, что императрица еще раньше передала ему на хранение и это, и другие письма Распутина. См.: Марков С. Покинутая царская семья, 1917–1918. – М., 2002. С. 54.
(обратно)57
[А. А. Беллинг]. Из недавнего прошлого: Встречи с Григорием Распутиным. Петроград, 1917. С. 11; Варламов А. Указ. соч. С. 425–426.
(обратно)58
Fuhrmann. Ibid, pp. 128–29.
(обратно)59
Раупах Р. Р. Facies Hippocratica (Лик умирающего). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года / Ред. и коммент. С. А. Манькова. – СПб.: Алетейя, 2007. С. 141. Фомин С. Указ. соч. с. 272–275, 313 прим. 1; Фомин С. Наказание правдой. – М.: Форум, 2007. С. 493. Амальрик А. Распутин: Документальная повесть. – М.: Слово, 1992. С. 163–164, 185; Dominic Lieven, Nicholas II: Emperor of All the Russias (London: 1993), p. 205.
(обратно)60
Петербургский курьер, 16 июля 1914 г., с. 1. Австрия объявила войну 15 (28) июля.
(обратно)61
ГАРФ, 102.242.1912.297, гл. 1, с. 69.
(обратно)62
ГАРФ, 102.242.1912.297, гл. 2, с. 83–84.
(обратно)63
ГАРФ, 102.242.1912.297, гл. 2, с. 82, 204, 206–06 об.
(обратно)64
Lieven, Nicholas II, pp. 198–203; Robert D. Warth, Nicholas II: The Life and Reign of Russia's Last Monarch (Westport, CT: 1997), pp. 191–96; Рассулин. Верная Богу. С. 73–74.
(обратно)65
ХВД, с. 141.
(обратно)66
ГАРФ, 640.1.323, с. 3.
(обратно)67
ГАРФ, 640.1.323, 3 об.
(обратно)68
Варламов А. Указ. соч. С. 429–431.
(обратно)69
ХВД. С. 144.
(обратно)70
ХВД. С. 147.
(обратно)71
Fuhrmann. Op. cit., p. 132.
(обратно)72
Варламов А. Указ. соч. с. 428–429.
(обратно)73
Петербургский курьер, 16 августа 1914 г., с. 4; 18 августа, с. 2.
(обратно)74
ГАРФ, 1467.1.710, с. 208–09.
(обратно)75
См., напр.: ХВД, с. 147, 157, 165, 194, 219, 223, 224, 225, 240, 259, 370, 417, 427.
(обратно)76
См. замечательную книгу William C. Fuller, Jr., The Foe Within: Fantasies of Treason and the End of Imperial Russia (Ithaca, New York: 2006).
(обратно)77
Joseph T. Fuhrmann, ed., The Complete Wartime Correspondence of Tsar Nicholas II and the Empress Alexandra: April 1914 – March 1917 (Westport, CT: 1999), pp. 373, 582–83, 593–94, 631–32, 636, 638–39; Maylunas and Mironenko, eds, Lifelong Passion, p. 473; и письма Распутина министру сельского хозяйства России графу Бобринскому в РГАДА, 1412.3.1593.
(обратно)78
См.: Варламов А. Указ. соч. С. 681; Hoover Institution Archives, Vasilii Maklakov Collection, 15–16, pp. 1–9.
(обратно)79
Перегудова З. И. (ред.). «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. Т. 2. С. 123–124.
(обратно)80
Варламов А. Указ. соч. С. 699; Раупах, Facies, с. 193–194; П. Н. Милюков. С. 447. Дневник П. И. Коженевского в Российской государственной библиотеке, отдел научного исследования рукописей, 436.11.1, 72 об-73.
(обратно)81
Sergey von Markow, Wie ich die Zarin befreien wollte. Zurich: 1929, p. 145.
(обратно)82
Блок А. Последние дни императорской власти. – М.: Захаров, 2005. С. 8.
(обратно)83
Winston Churchill, World Crisis. London: T. Butterworth, 1923–31. Vol. 5, p. 73.
(обратно)84
Richard Pipes, The Russian Revolution. New York: Vintage, 1990, pp. 377–378.
(обратно)85
Ленин В. И. Социализм и война: отношение РСДРП к войне. – Женева: Социал-демократ, 1915.
(обратно)86
Слова Эжена Потье.
(обратно)87
V. I. Lenin, Collected Works, Volume 23 (August 1916 – March 1917. Moscow: Progress Publishers, 1964. P. 253. Доклад о революции 1905 г. был прочитан на немецком языке. О Мюнценберге и Ленине в Цюрихе см.: Sean McMeekin, The Red Millionaire: A Political Biography of Willi Munzenberg, Moscow's Secret Propaganda Tsar in the West. New Haven: Yale University Press, 2003, ch. 2.
(обратно)88
Лучший документальный отчет см.: Werner Hahlweg, ed., Lenins Rückkehr nach Russland 1917: Die deutschen Akten. Leiden: Brill, 1957; а о человеке, выступившем посредником между Лениным и немцами, см.: Z. A. B. Zerman and W. B. Scharlau, The Merchant of Revolution: The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus), 1867–1924.
(обратно)89
Munzenberg, Die dritte Front, p. 236; 'Mit Lenin in der Schweiz', Internationale Presse Korrespondenz, 6 (27 August 1926): 1838.
(обратно)90
Pipes, Russian Revolution, p. 393.
(обратно)91
James Bunyan, H. H. Fisher, eds, The Bolshevik Revolution 1917–1918 (Stanford: Stanford University Press, 1934), p. 7.
(обратно)92
Там же.
(обратно)93
Leonard Shapiro, The Russian Revolutions of 1917: The Origins of Modern Communism. New York: Basic Books, 1984, p. 59.
(обратно)94
Winfried Baumgart, Deutsche Ostpolitik, 21.
(обратно)95
Так пересказывает эту ситуацию Чернов. См.: The Great Russian Revolution, trans. Philip E. Mosely. New York: Russell & Russell, 1966, p. 194.
(обратно)96
Цитирует Ричард Стайтс в предисловии к Miliukov, The Russian Revolution, p. 12.
(обратно)97
Pipes, Russian Revolution, pp. 257–258.
(обратно)98
Chernov, The Great Russian Revolution, pp. 193, 200
(обратно)99
Айрапетов О. На восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции в правление императора Николая II // Последняя война императорской России: Сб. статьей. – М.: Три квадрата, 2002. С. 241–243.
(обратно)100
Базили Н. Н. Покровскому из Ставки 26 февраля (11 марта) 1917 г. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), фонд 138, опись 467, дело 493/515, лист 1 (с оборотом).
(обратно)101
Там же.
(обратно)102
C. Jay Smith, Jr., The Russian Struggle for Power, 1914–1917. New York: Philosophical Library, 1956, p. 465.
(обратно)103
Гвидо фон Узедом кайзеру Вильгельму II, 16 апреля 1917 г. Архив немецкого адмиралтейства во Фрайбурге, BA/MA, RM 40–4. Семь самолетов: Rene Greger, Russische Flotte im ersten Weltkrieg, 1914–1917. Munich: J. F. Lehmann, 1970, p. 61
(обратно)104
Базили Милюкову, 23 марта/5 апреля 1917 г. АВПРИ, фонд 138, опись 467, дело 493/515, лист 4–6 (с оборотами).
(обратно)105
C. Jay Smith, Russian Struggle for Power, p. 472.
(обратно)106
M. Philips Price, 'Russia's Control of the Straits,' in: Manchester Guardian, 26 April 1917. См. также: Price, Dispatches from the Revolution. Russia 1915–1918. Durham, NC: Duke University Press, 1998.
(обратно)107
Ленин В. И. Война и Временное правительство // Правда. 1917. 13 (26) апр.
(обратно)108
Чернов, все еще кипя от ярости, пишет об этом в: The Great Russian Revolution, p. 200.
(обратно)109
'Resolution on the Attitude Towards the Provisional Government,' 18 April/1 May 1917, in Lenin, Collected Works, vol. 24, pp. 154–55; и 'Draft Resolution on the War,' 'written between 15 April and 22 April 1917,' pp. 161–66.
(обратно)110
Pipes, Russian Revolution, pp. 403–04.
(обратно)111
Там же, p. 413.
(обратно)112
«Руководящие указания генеральному комиссару областей Турции, занятых по праву войны», скорректированные в соответствии с декларацией Совета о «мире без аннексий», 15/28 мая 1917 г., АВПРИ, фонд 151, опись 482, дело 3481, лист 81–82.
(обратно)113
Kazemzadeh, Struggle for Transcaucasia, p. 61. См. также: Allan Wildman, The End of the Russian Imperial Army, 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1980/1987), vol. 2, p. 141.
(обратно)114
Ле Пейдж капитану Гринфеллу с борта судна «Алмаз» в Севастополе, 29 апреля 1917 г., Национальный архив Великобритании, ADM 137/940.
(обратно)115
Там же.
(обратно)116
Rene Greger, Russische Flotte im ersten Weltkrieg, p. 63.
(обратно)117
Рапорт капитан-лейтенанта Нусрета из Константинополя после осмотра российских черноморских портов 14 апреля 1918 г. Военный архив Германии во Фрайбурге (BA/MA), RM 40–252.
(обратно)118
Эти цифры приводит A. K. Wildman, The End of the Russian Imperial Army. Princeton: Princeton University Press, 1980. Vol. 1, pp. 364–65.
(обратно)119
Pipes, Russian Revolution, p. 410.
(обратно)120
Sean McMeekin, History's Greatest Heist. The Looting of Russia by the Bolsheviks/New Haven: Yale University Press, 2008, esp. chapter 5 ('Brest-Litovsk and the Diplomatic Bag').
(обратно)121
Wildman, End of the Russian Imperial Army, vol. 1, p. 372.
(обратно)122
William G. Rosenberg, 'Reading Soldiers' Moods: Russian Military Censorship and the Configuration of Feeling in World War I', in The American Historical Review vol. 119 no. 3, 2014, 714–40, esp. fn46.
(обратно)123
'Russian Soldiers Fleeing Germans on the Galician Front, July 1917,' Mirrorpix (фотоархив лондонской Daily Mirror).
(обратно)124
События июля я описываю главным образом по книгам Shapiro, Russian Revolutions of 1917, pp. 80–85, и Pipes, Russian Revolution, pp. 422–31. Heist, chapters 2 and 8.
(обратно)125
Там же, p. 431 и далее.
(обратно)126
Там же, p. 433.
(обратно)127
См. сообщение Люциуса фон Штедтена из Стокгольма 20 июля 1917 г. Политический архив немецкого МИДа (PAAA), R 10080. О сокровищах Романовых и попытках большевиков продать их см.: McMeekin, History's Greatest Heist, ch. 2, 8.
(обратно)128
Alexander Kerensky. The Catastrophe. New York, London: 1927, p. 318.
(обратно)129
Там же.
(обратно)130
Мартынов Е. И. Корнилов. – Л.: 1927. С. 33–34.
(обратно)131
Чугаев Д. А. (ред.) Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 429. Эта книга – превосходный источник документов по «заговору Корнилова».
(обратно)132
Савинков Б. К делу Корнилова. – Париж, 1919. С. 15.
(обратно)133
Керенский А. Ф. Дело Корнилова. – М., 1918. С. 81.
(обратно)134
Авдеев Н. и др. Революция 1917 года: Хроника событий. Т. 4. – М., 1923–1930. С. 85.
(обратно)135
Чугаев. С. 421.
(обратно)136
Милюков П. Н. История второй русской революции. Т. 1, ч. 2. – София, 1921. С. 178.
(обратно)137
Там же. С. 202.
(обратно)138
Россия. XX век. Документы. Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. – М., 2003. С. 195.
(обратно)139
Чугаев. Указ. соч. С. 428.
(обратно)140
Россия, XX век, т. 2. Указ. соч. С. 196–198.
(обратно)141
Чугаев. Указ. соч. С. 442.
(обратно)142
Там же. Указ. соч. С. 443.
(обратно)143
Савинков. К делу Корнилова. С. 25.
(обратно)144
Авдеев. Т. 4, с. 98.
(обратно)145
Чугаев. Указ. соч. С. 445–446; Авдеев, т. 4. С. 101–102.
(обратно)146
Чугаев. Указ. соч. С. 446.
(обратно)147
Там же. С. 464.
(обратно)148
Россия XX век. Дело генерала Л. Г. Корнилова, т. 2 с. 156. Показания Керенского приводятся по-английски в его книге The Prelude to Bolshevism: The Kornilov Rising. New York, 1919.
(обратно)149
Новая жизнь», № 107/322 (4 июня 1918 г.), с. 3; Наш век, № 96/120 (19 июня 1918 г.). С. 3.
(обратно)150
E. H. Wilcox, Russia's Ruin. New York, 1919, p. 276.
(обратно)151
Русская мысль. Кн. III–V. – М., 1923. С. 278–279.
(обратно)152
Melgunov S. The Bolshevik Seizure of Power. – Oxford: 1972. С. 81.
(обратно)153
Гиппиус З. Синяя книга. – Белград, 1929. С. 210.
(обратно)154
Rabinowitch A. The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd. – New York: 1978. C. 253–254.
(обратно)155
Ленин В. И. Полное собрание сочинений (ПСС). Т. 25 – М., 1964. С. 172–173.
(обратно)156
Там же. С. 310
(обратно)157
Там же. С. 26. С. 19–21.
(обратно)158
Там же. С. 74–85.
(обратно)159
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 1, д. 33.
(обратно)160
Rabinowitch. The Bolsheviks Come to Power.
(обратно)161
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 1, д. 34, л. 1–15.
(обратно)162
Новая жизнь, 18 октября 1917 г.; Ленин В. И. ПСС. Т. 26. С. 216–219.
(обратно)163
Rabinowitch. The Bolsheviks Come to Power, p. 290–291.
(обратно)164
N. Sukhanov. The Russian Revolution: A Personal Record, ed. J. Carmichael. – Princeton: 1984, p. 635.
(обратно)165
Там же. С. 294
(обратно)166
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. – М., 1957. С. 43–44.
(обратно)167
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 1. д. 39.
(обратно)168
Oxford Dictionary of Political Quotations (Oxford University Press, Oxford: 2001).
(обратно)169
Dominic Lieven, Nicholas II (St Martin's Grin, New York: 1993), p. 105.
(обратно)170
Nikolai N. Smirnov. «The Constituent Assembly», in William Acton, Vladimir Cherniaev and G. Rosenberg, eds, Critical Companion to the Russian Revolution. – London: Hodder Arnold, 1997, p. 323.
(обратно)171
Orlando Figes. A People's Tragedy – Jonathan Cape, London, 1996, p. 173.
(обратно)172
Abraham Ascher. The Revolution of 1905. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 27.
(обратно)173
Richard Pipes. The Russian Revolution. – New York: Vintage, 1991, p. 34.
(обратно)174
Ibid, p. 162.
(обратно)175
G. A. Hosking. The Russian Constitutional Experiment. – Cambridge: Cambridge University Press, 1973, p. 41.
(обратно)176
Abraham Ascher. P. A. Stolypin: the Search for Stability in Late Imperial Russia. – Stanford: Stanford University Press, 2001.
(обратно)177
Orlando Figes, Revolutionary Russia 1891–1991 (London: Pelican Books, 2014), p. 73.
(обратно)178
Pipes, The Russian Revolution, p. 223.
(обратно)179
Figes, A People's Tragedy, p. 178.
(обратно)180
Pipes. The Russian Revolution, p. 255.
(обратно)181
Kerensky in R. P. Browder and A. F. Kerensky, eds, The Russian Provisional Government 1917, Documents. Stanford: Stanford University Press, 1961, p. 43.
(обратно)182
Figes. A People's Tragedy, p. 341.
(обратно)183
V. D. Medlin and S. L. Parsons, eds. V. D. Nabokov and the Russian Provisional Government. – New Haven: Yale University Press, 1976, p. 137.
(обратно)184
Rodzyanko in Browder and Kerensky, The Russian Provisional Government of 1917, p. 138.
(обратно)185
Figes. A People's Tragedy, p. 336.
(обратно)186
Pipes. The Russian Revolution. P. 297.
(обратно)187
Lvov in Browder and Kerenskу. The Russian Provisional Government 1917, p. 159.
(обратно)188
Smirnov in Acton, Cherniaev and Rosenberg. Critical Companion to the Russian Revolution, p. 324.
(обратно)189
Russkia Vedomosti in Browder and Kerensky. The Russian Provisional Government 1917, p. 447.
(обратно)190
Rech' in Browder and Kerensky, The Russian Provisional Government 1917, p. 448.
(обратно)191
Russkia Vedomosti in Browder and Kerensky, The Russian Provisional Government 1917, p. 450.
(обратно)192
Rech' in Browder and Kerensky, The Russian Provisional Government 1917, p. 451.
(обратно)193
Figes, Revolutionary Russia 1891–1991, p. 135.
(обратно)194
Pipes. The Russian Revolution, p. 537.
(обратно)195
Smirnov, in Cherniaev, Rosenberg. Critical companion to the Russian Revolution, p. 329.
(обратно)196
Pipes. The Russian Revolution, p. 551.
(обратно)197
Ibid, p. 553.
(обратно)198
Ibid, p. 556.
(обратно)199
Smirnov, in Cherniaev, Rosenberg. Critical companion to the Russian Revolution, p. 328.
(обратно)200
Pipes. A People's Tragedy, p. 518.
(обратно)201
Дневники императора Николая II. 1882–1918 гг. ГАРФ, ф. 601, оп. 1, ед. хр. 217–266.
Телеграммы В. Яковлева, перевозившего царя из Тобольска в Москву. ГАРФ. Коллекция.
Аликина Н. Рассказ заведующей Пермским партархивом о встречах с Марковым и приеме Лениным Маркова после убийства Михаила. «Вечерняя Пермь», 3 февраля 1990 г.
Запись беседы с Г. Никулиным о расстреле Романовых. РЦХИДНИ, ф. 558, оп. 3, ед. хр. 13.
Блок А. Записные книжки. – М., 1965.
Будберг А. Дневник белогвардейца. – Л., 1929.
Будберг А. Дневник. Архив русской революции. Т. XIV. – Берлин, 1924. С. 324–325.
Бурцев В. Истинные убийцы Николая II – Ленин и его товарищи. – Париж: Общее дело, 1921.
Быков П. М. Последние дни Романовых. – Свердловск, 1926.
Войнов В. Из истории николаевской академии. – Урал, 1992.
Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии. – Ревель, 1921.
Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Советов 1917–1920. – М., 1988.
Лермонтов М. Я не люблю тебя.
Матвеев П. Воспоминания о Тобольском заключении царской семьи // Уральский рабочий, 16 сентября 1990 г.
Марков А. Воспоминания о расстреле великого князя Михаила // Совершенно секретно, № 9, 1990.
Марков С. Покинутая царская семья. – Вена, 1926.
Мельник-Боткина Т. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции. – Белград, 1921.
Панкратов В. С царем в Тобольске // Былое, № 25–26, 1924.
Плотников И. Екатеринбургский этап деятельности Академии Генерального штаба. Кострома, 1988.
Энциклопедия Екатеринбурга.
(обратно)202
-perp.fr/traites/1918armistice.htm
(обратно)203
Michael Carley. Revolution and Intervention: The French Government and the Russian Civil War, 1917–1919. – Kingston, ON: McGill-Queen's University Press, 1983, p. 108, 111; Richard Ullman. Intervention and the War. – Princeton: Princeton University Press, 1961, p. 258–284. Обсуждение в британском руководстве в ноябре 1918 г., см. TNA (Kew), CAB 23/8 <http:// filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23–8.pdf>.
(обратно)204
О механике переворота: Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. – М.: Мысль, 1983. С. 141–46; Jonathan Smele. Civil War in Siberia: The Anti-Bolshevik Government of Admiral Kolchak 1918–1920. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 104–107; Scott B. Smith. Captives of Revolution: The Socialist Revolutionaries and the Bolshevik Dictatorship, 1918–1923. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011, p. 159.
(обратно)205
Документы по теме недавно были опубликованы, см.: Шишкин В. И. (ред.) Временное всероссийское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г. Сб. документов и материалов. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2010. С. 338–44.
(обратно)206
Хандорин В. Г. Адмирал Колчак: Правда и мифы. – Томск: Изд-во Томского университета, 2007. С. 81.
(обратно)207
Лучший обзор отношения к эсерам и их политике: Smith, Captives.
(обратно)208
Там же. C. 155.
(обратно)209
О факторах, стоявших за переворотом, см. также: Evan Mawdsley. The Russian Civil War. – Edinburgh: Birlinn, 2008 [1987], pp. 143–151.
(обратно)210
Smele. Civil War. P. 62–71, содержит основную биографическую информацию о Колчаке. Адмирал вызвал большой интерес в постсоветской России. В последнее время вышел ряд его биографий, в том числе Хандорина, а также Плотникова, см.: Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: Исследователь, адмирал, верховный правитель. – М.: Центрполиграф, 2002.
(обратно)211
TNA (Kew), WO 33 962/186 (31 августа 1918).
(обратно)212
Попов К. А. Допрос Колчака. – Ленинград: ГИЗ, 1925. С. 143–144.
(обратно)213
Джонатан Смеле писал, что у Колчака на Дальнем Востоке были отношения с другой русской женщиной. Таким образом, возвращение к семье на юг России, возможно, не было приоритетом (Гражданская война. С. 76–77). Менее убедителен аргумент Смеле о том, что в сентябре 1918 г. можно было выбрать более оптимальный маршрут, чтобы добраться до армий Деникина/Алексеева, – не через Сибирь (с. 76).
(обратно)214
Попов К.А. Указ. соч. С. 152–153. Колчак был официально связан с Болдыревым с 30 октября (Шишкин. Временное всероссийское правительство. С. 190).
(обратно)215
После прихода Колчака к власти Болдырев покинул свой пост. В конце гражданской войны он принял решение остаться в Советской России, был арестован и казнен в 1933 г.
(обратно)216
Smele. Civil War. P. 92–93; TNA (Kew), WO 33/962, Knox to War Office, 7 November 1918.
(обратно)217
Сам Колчак показал на допросе, что приехал 16-го, за день до переворота. Он сказал также, что с момента возвращения и до переворота многие офицеры штаба и казаки приходили к нему и жаловались на Директорию, прося его взять власть в свои руки – на что, как утверждал Колчак, он неизменно отвечал отказом (Попов. Указ. соч. С. 167). Авторитетный советский историк утверждал, что адмирал вернулся в Омск только в 5.30 17-го, что, по его едкому замечанию, вряд ли могло быть случайностью (Иоффе. Авантюра. С. 140). Ту же дату и время называл полковник Джон Уорд, сопровождавший Колчака в инспекционной поездке (John Ward. With the 'Die-Hards' in Siberia. – London: Cassell, 1920, p. 125). Согласно Смеле, адмирал вернулся в Омск в 5.30 16-го, однако остался в поезде на Омском вокзале в двух с половиной милях от центра города (Smele. Civil War, pp. 100, 120).
(обратно)218
Попов. Указ. соч. С. 169; Peter Fleming. The Fate of Admiral Kolchak. – Edinburgh: Birlina, 2001 (1963), p. 112. Отчет Смеле, хотя очень подробный в других аспектах, не поднимает вопроса о непосредственном участии Колчака в событиях 17–18 ноября (Civil War, pp. 102–107).
(обратно)219
Maurice Janin. Ma Mission en Sibérie. – Paris: Payot, 1933. P. 30–31. См. обсуждение в Ullman. Intervention, pp. 280–281.
(обратно)220
Ullman. Britain, p 34. О Нилсоне и Стивени см. Michael Kettle. Churchill and the Archangel Fiasco: November 1918 – July 1919. – London: Routledge, 1992, p. 11–15.
(обратно)221
Ullman. Intervention, p. 281; Ullman. Britain, pp. 33–35. См. краткий отчет Нокса в ранней версии мемуаров Джейнина (Slavonic Review, 3:9, 1925, p. 724). Нокс отмечал, что Джейнина в момент переворота в городе не было и для него произошедшее стало полной неожиданностью. По мнению Нокса, Великобритания к перевороту не причастна.
(обратно)222
TNA (Kew), CAB 23/8.
(обратно)223
Smele. Op. cit. pp. 90–104.
(обратно)224
Иоффе. Авантюра. С. 104–21. См.: William G. Rosenberg. Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional Democratic Party, 1917–1921. – Princeton: Princeton University Press, 1974, pp. 392–395.
(обратно)225
Письмо Сыромятникова цитирует Норман Перейра: Norman Pereira. White Siberia: The Politics of Civil War. – Montreal: McGill-Queen's University Press, 1996, p. 106.
(обратно)226
Попов К.А. Указ. соч. С. 104 (27 января 1920), 140 (30 января 1920).
(обратно)227
Кettle. Fiasco. С. 13; Pereira. White Siberia, p. 102.
(обратно)228
Smele. Op. cit. P. 108–677; Pereira. White Siberia. См. также: Mawdsley. Civil War, pp. 181–215, 317–24.
(обратно)229
Matthew Rendle, Defending the Motherland: The Tsarist Elite in the Revolutionary Period (Oxford: Oxford University Press, 2010).
(обратно)230
Moshe Lewin. 'Taking Grain: Soviet Policies of Agricultural Procurements before the War' в The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. – London: Methuen & Co., 1985, pp. 142–177.
(обратно)231
Oliver Radkey. The Unknown Civil War in Soviet Russia: A Study of the Green Movement in the Tambov Region, 1920–1921. – Palo Alto, CA: Hoover Institution Press, 1976.
(обратно)232
Цит. по: Соколов А. К. (ред). Протоколы президиума Высшего Совета народного хозяйства. 1920 год: сб. документов. – М.: РОССПЭН, 2000. С. 3.
(обратно)233
О мобилизации гражданских как рабочей силы до 1917 г. см: Joshua Sanborn. Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian Empire. – Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 139–141.
(обратно)234
Isaac Deutscher. The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921. – Oxford: Oxford University Press, 1954, pp. 490–491. См. также: Leon Trotsky. The Defence of Terrorism (Terrorism and Communism): A Reply to Karl Kautsky. – London: Labour Publishing Co., 1921, pp. 127–163.
(обратно)235
Sylvana Malle. The Economic Organization of War Communism, 1918–1921. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 84–85.
(обратно)236
См.: Троцкий Л. Сочинения. Т. 15. – С. 27–51.
(обратно)237
Всероссийское разорение и трудовые задачи крестьянства (Письмо к Сигунову). См.: Троцкий. Указ. соч. С. 14–26.
(обратно)238
Кондрашин В. Крестьянство России в гражданской войне: К вопросу об истоках сталинизма. – М.: РОССПЭН, 2009. С. 286–287.
(обратно)239
Воробьев В. К. Чапанная война в Симбирской губернии: Мифы и реальность. – Ульяновск: Вектор-С, 2008. См. также: Кондрашин В. Указ. соч. С. 127–143.
(обратно)240
Обмен мнениями можно найти в издании: Данилов В., Шанин Т. (ред.). Крестьянское движение в Поволжье, 1919–1922: документы и материалы. – М.: РОССПЭН. С. 127–128.
(обратно)241
Позже Троцкий писал, что с поездки в этот регион в 1919 г. начались его сомнения относительно методов обеспечения продовольствием, которые использовал режим. См.: Троцкий Л. Новый курс. – М.: Красная новь, 1924. С. 52–53.
(обратно)242
Гольдин И. Я. – комиссар по продовольствию в Тамбовской губернии. Цит. по: Erik Landis. Between Village and Kremlin: Confronting State Food Procurement in Civil War Tambov, 1919–1920. – Russian Review 63 (January 2004), p. 77.
(обратно)243
Как писал секретарь Наркомата сельского хозяйства В. Н. Мещеряков, «все, что важно для Наркомата продовольствия, – это получить больше зерна». (Цит. по: James Heinzen. Inventing a Soviet Countryside: State Power and the Transformation of Rural Russia, 1917–1929. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2004, p. 35.
(обратно)244
О политике разверстки и ее предпосылках см.: Lars Lih. Bread and Authority in Russia, 1914–1921. – Berkeley: University of California Press, 1990.
(обратно)245
Сравнение с 1913 г., после которого началось снижение. Тем не менее после 1917 г. снижение пошло более быстрыми темпами. Malle. Economic Organization, pp. 426–431; см. также: Lih. Bread and Authority, pp. 261–262.
(обратно)246
Поляков Ю. А. Переход к НЭПу и советское крестьянство. – М.: Наука, 1967. С. 88. См. также: Malle. Economic Organization, p. 468.
(обратно)247
По оценке советского экономиста Льва Крицмана, горожане приобретали на черном рынке до 70 % продовольствия. См.: Alec Nove. An Economic History of the USSR. – London: Allen Lane, 1969. С. 61–62; Donald Raleigh. Experiencing Russia's Civil War: Politics, Society and Revolutionary Culture in Saratov, 1917–1922. – Princeton: Princeton University Press, 2002, p. 296.
(обратно)248
Нарский И. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. – М.: РОССПЭН, 2001. С. 280.
(обратно)249
Цит. по: John Channon. 'Trotsky, the Peasants, and Economic Policy' в Economy and Society 14, no. 4, 1984. С. 518–20. Исх.: Троцкий. Сочинения. Т. 17/2. С. 543–544.
(обратно)250
Ленин описал эту проблему еще более лаконично, упомянув добычу угля в Донбассе: «…хлеба нет, потому что нет угля, угля нет, потому что нет хлеба». Однако Ленин выступил со своими комментариями только в конце февраля 1921 г. См.: Ленин В. И. ПСС. – М.: Политиздат, 1955–1965. Т. 42. С. 364.
(обратно)251
См.: William Chase. 'Voluntarism, Mobilization and Coercion: Subbotniki, 1919–1921' в Soviet Studies 41, no. 1 (1989), pp. 111–128; Lars Lih. 'The Bolshevik Sowing Committees of 1920: Apotheosis of War Communism?' в Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, no. 803 (1990).
(обратно)252
Vladimir Brovkin. Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918–1922. – Princeton: Princeton University Press, 1994, pp. 163–164.
(обратно)253
Павличенков С. С чего начинался НЭП? (в: Таранов, Журавлев (ред.). Трудные вопросы истории: поиски, размышления, новый взгляд на события и факты). – М.: Политиздат, 1991. С. 48–49; Протоколы Президиума Высшего Совета народного хозяйства. С. 4.
(обратно)254
Ленин. ПСС. Т. 51. С. 123, 405; Павличенков. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского НЭПа. – М.: Русское книгоиздательское товарищество, 1996. С. 143. Более раннее высказывание Ленина о свободной торговле, см. речь на VII съезде Советов (5.12.191) в ПСС, Т. 39. С. 407–408. См. также: Берелович А., Данилов В. (ред.) Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД, 1918–1939. – М.: РОССПЭН, 1998. Т.1. С. 298.
(обратно)255
Павличенков С. Крестьянский Брест. С. 128–129.
(обратно)256
Там же. С. 143–144.
(обратно)257
Троцкий обращает на это внимание в своей автобиографии. См.: My Life: The Rise and Fall of a Dictator. – London: Thornton Butterworth, 1930. С. 396.
(обратно)258
Девятый съезд РКП (б). Март – апрель 1920. – М.: Партийное издательство, 1934.
(обратно)259
Данилов и Шанин. Крестьянское движение в Поволжье. С. 417–418.
(обратно)260
См., напр.: Данилов и Шанин. Указ. соч. С. 468–472.
(обратно)261
Берелович А., Данилов В. Советская деревня. Т. 1. С. 298.
(обратно)262
См.: Декреты советской власти, 13 тт. – М.: Политиздат, 1957–1989. Т. 9. С. 241; Т. 10. С. 239–240.
(обратно)263
Цит. по: Landis. Between Village and Kremlin. С. 83.
(обратно)264
Берелович А., Данилов В. Указ. соч. Т. 1. С. 283.
(обратно)265
См.: Radkey. The Unknown Civil War. См. также: Erik Landis. Bandits and Partisans: The Antonov Movement in the Russian Civil War. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008.
(обратно)266
Данилов и Шанин. Крестьянское движение в Поволжье. С. 760.
(обратно)267
Берелович А., Данилов В. Указ. соч. Т. 1. С. 363–379.
(обратно)268
Шишкин В. И., (ред.) Сибирская Вандея. В 2-х т. – М.: Демократия, 2000. Т. 2. С. 9–11.
(обратно)269
Официальная инструкция Совнаркома по подготовке к кампании разверстки в Сибири поставила задачи на 1920–1921 гг., а так как эти регионы ранее не находились под властью Советов, инструкция требовала также, чтобы все излишки от предыдущих урожаев были доставлены на пункты сбора зерна. См.: Шишкин В.И. Сибирская Вандея. Т. 2. С. 6–7.
(обратно)270
Это были слова председателя Сибирского военно-революционного комитета И. Н. Смирнова, который подражал языку официального декрета Совнаркома, объявившего разверстку в Сибири в конце июля 1920 г. См.: Сибирская Вандея. Т. 2. С. 6–7, 198, 241.
(обратно)271
См.: C. E. Bechhofer. Through Starving Russia: Being a Record of a Journey to Moscow and the Volga Provinces in August and September 1921. – London: Metheun & Co., 1921; См. также: Bertrand Patenaude, Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to Soviet Russian in the Famine of 1921. – Palo Alto: Stanford University Press, 2002; Marcus Wehner, 'Golod 1921–1922 gg. v Samarskoi gubernii i reaktsiia sovetskogo pravitel'stva', Cahiers du Monde russe 38, nos. 1–2 (1997), pp. 223–242; Нарский. Жизнь в катастрофе. С. 258–274.
(обратно)272
Борисов Д. Колесниковщина. Антикоммунистическое восстание воронежского крестьянства в 1920–1921 гг. – М.: Посев, 2012. С. 81; Нарский. Указ. соч. С. 254–255.
(обратно)273
Ленин. ПСС. Т. 43. С. 18, 59.
(обратно)274
Троцкий. Моя жизнь. С. 395.
(обратно)275
См.: E. H. Carr. The Bolshevik Revolution, 1917–1923, 3 vols. – London: W. W. Norton & Co., 1952. Vol. 2, pp. 331–344.
(обратно)276
В написанной в 1930 г. автобиографии Троцкий упомянул, что Ленин согласился с идеей натурального налога лишь после восстаний в Кронштадте и в Тамбовской губернии. См.: Троцкий. Указ. соч. С. 397. Ларин был не столь деликатен, когда на партийной конференции в мае 1921 г. объяснял, что более ранние его предложения могли бы раньше положить конец гражданской войне. См.: Павлюченков. Крестьянский Брест. С. 142; Протоколы Десятой Всероссийской конференции РКП(б). Май 1921. – М., 1933. С. 63.
(обратно)277
Цит. по: W. Bruce Lincoln. Red Victory: A History of the Russian Civil War. – New York: Simon & Schuster, 1989, p. 90.
(обратно)278
Сталин И. Сочинения в 13 тт. – М.: Политиздат, 1946–1953. Т. 6. С. 86–87.
(обратно)279
Лучшие работы по периоду НЭПа созданы в сфере социальной и особенно культурной истории. См.: Eric Naiman. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. – Princeton: Princeton University Press, 1997; Anne Gorsuch. Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents. – Bloomington: Indiana University Press, 2000.
(обратно)280
Поездка Сталина на Урал и отказ от НЭПа обсуждались в недавней работе Стивена Коткина. См.: Stephen Kotkin. Stalin. Volume 1: The Paradoxes of Power, 1878–1928. – New York: Penguin, 2014, pp. 662–676. О коллективизации и раскулачивании см.: Lynne Viola et al., eds. The War Against the Peasantry. – New Haven: Yale University Press, 2005.
(обратно)281
Декрет был опубликован в центральной советской прессе лишь 23 февраля. Именно эта дата, а не дата подписания декрета часто приводится в источниках.
(обратно)282
Явные параллели между борьбой с религиозными предрассудками в СССР и реформацией христианской церкви в XVI–XVII вв. порой поражают (см., напр.: Eamon Duffy, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, pp. 1400–1580. New Haven: Yale University Press, 1992). Тем не менее в случае СССР присутствовал намного более экстремальный протест против архитектурных и художественных канонов прошлого, так как реформаторы надеялись полностью свести на нет религиозные верования, в то время как реформаторы римской христианской традиции пытались изменить лишь отдельные доктрины, социальные структуры и практики.
(обратно)283
См., напр., освещение событий в «Петроградской правде» (далее – ПП) 26 января 1922 г. Недавние исторические исследования не только подтвердили, что усилия по помощи голодающим не соответствовали масштабам бедствия, но и поставили под сомнение причинную связь, на которую ссылались в советское время: в своем большом труде «Голод в Поволжье, 1919–1925» (Волгоград: Волгоградское книжное издательство, 2007) В. А. Поляков подчеркивает, что голод начался в первые месяцы 1921 г., т. е. задолго до самой засухи, и что за его страшные результаты ответственны большевики со своей политикой в сельском хозяйстве и распределении продовольствия, а не природное явление. Действительно, Американская администрация помощи начала переговоры о помощи голодающим уже в 1919 г. (Harold H. Fisher, The Famine in Soviet Russia, 1919–1923: The Operations of the American Relief Administration. New York: The Macmillan Company, 1927). В то же время недавние заявления о том, что голод был всего лишь инструментом репрессий, искажают реальность. Журналист шотландско-канадского происхождения Ф. Маккензи, отличавшийся решительно антисоветскими взглядами, посетил Бузулук в 1921 г. и записал: «Тысячи людей приходили из деревень, люди умирали на улицах», а смотритель кладбища «отвел меня в дальний его конец и показал огромные ямы, заполненные доверху обнаженными телами недавно умерших» (The Russian Crucifixion: The Full Story of the Persecution of Religion Under Bolshevism. London: Jarrolds, 1927. P. 23; Fisher, pp. 71–72).
(обратно)284
ПП, 18 февраля 1922, с. 2. Введенский был фигурой одновременно и колоритной, и темной. Даже в 1923 г. он, по воспоминаниям внимательного финского наблюдателя советской реальности, разъезжал по Петрограду в коляске, запряженной «двумя чудными серыми лошадьми» в сопровождении светских дам, а сам был элегантно одет в белый шелк (Boris Cederholm, In the Clutches of the Tcheka, trans. F. H. Lyon. London: George Allen and Unwin Ltd, 1929). Информатор Седерхолма о Введенском так: «циничный, беспринципный сластолюбец, не веривший ни в бога, ни в дьявола» (там же).
(обратно)285
См., напр.: ПП, 30 марта 1922, с. 2.
(обратно)286
Троцкий Л. Д. Письмо в Политбюро, 17 марта 1922. См.: Архивы Кремля (далее АК), т. 1. Политбюро и церковь, 1922–1925 гг. – М., Новосибирск: РОССПЭН // Сибирский полиграф, 1997. (), документ № 23: 14. О планировании конфискаций на высшем уровне см.: Jonathan Daly, Storming the Last Citadel: The Bolshevik Assault on the Church, 1922, в Vladimir N. Brovkin, ed., The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and Civil Wars. New Haven: Yale University Press, 1997, pp. 236–259.
(обратно)287
См., напр., текст, напечатанный в «Красной газете» (далее – КГ) 23 февраля 1922 г., с. 3.
(обратно)288
История так называемого «обновленческого» движения уходит корнями в 1900-е гг., особенно в том, что касается дебатов, предшествовавших церковному Поместному собору (он широко обсуждался в 1905–1906 гг., но был проведен лишь в 1917–1918 гг.). «Обновленчество» получило новый толчок при большевистском режиме, поскольку политический контекст поощрял надежды самого духовенства на реформы. Кроме того, некоторые политические фигуры поддерживали идею использовать реформистов как своего рода троянского коня, который ослабил бы официальную церковь. Вся эта сложная история нашла свое отражение в нескольких трудах, напр.: Edward Roslof, Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905–1946. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2002.
(обратно)289
Это 160 пудов, согласно традиционной русской системе мер и весов (Архивы Кремля, док. № 23–42). Тем не менее советское правительство испытывало давление со стороны США, требовавших, чтобы советская сторона, прежде чем получить помощь из-за границы, доказала свою готовность тратить золотой запас государства. Второго сентября 1921 г. президент Гувер писал в Американскую администрацию помощи полковнику Хаскеллу: «Как Вам известно, согласно сообщениям, у советского правительства все еще есть запасы золота и драгоценных металлов. Таким образом, кажется очень важным, чтобы они немедленно использовали их для покупки зерна и муки за границей. Хотя этого не будет достаточно, чтобы покрыть их нужды, они вряд ли могут ожидать жертв от всего остального мира до тех пор, пока полностью не используют собственные ресурсы» (Fisher, С. 155). Американская администрация уж точно не имела в виду конфискацию церковного имущества, хотя лихорадочные поиски запасов драгоценных металлов осенью и зимой 1921–1922 г. были связаны с решением сначала использовать внутренние ресурсы. Появившаяся позже легенда о том, что у советского правительства потребовали «заплатить» за помощь, видимо, основывалась на этом факте давления (на самом деле по Рижскому соглашению от 20 августа 1921 г. от советского правительства требовалось лишь оплатить транспортировку, хранение продуктов и административные расходы). См.: Bertrand M. Patenaude, The Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921. Stanford University Press, 2002. С. 741 – о слухах, с. 746 и далее – о соглашении.
(обратно)290
Например, пресса делала упор на то, что один из обвиняемых в Петроградском процессе, отец Анатолий Толстопятов, священник Петроградской консерватории, ранее был лейтенантом на флоте и, таким образом, принадлежал к офицерам (КГ, 20 июня 1922, с. 6).
(обратно)291
В отношении термина «правосудие военного времени» см.: Peter Solomon, Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
(обратно)292
Слова Жижиленко цитируются в опубликованном протоколе процесса над Вениамином и его предполагаемыми сообщниками. См.: «Дело» митрополита Вениамина. – М.: ТРИТЕ – Российский архив, 1991. . info/acts/20/1920/1922_veniamin.htm. Относительно издевательств над ним см.: Высокушкин. «Не творите мучеников!» // КГ, 4 июля 1922. С. 5.
(обратно)293
Это можно проследить по публикациям КГ в течение первой половины 1922 г. См. также рассказ Джонатана Уотерлоу о том, как шутки, казавшиеся невинными в момент своего появления на свет в начале 1930-х гг., потом припоминались шутникам в 1937 и 1938 гг., на этот раз расцененные как бунтарское поведение. См.: Jonathan Waterlow's: 'Popular Humour in Stalin's 1930s: A Study of Popular Opinion and Adaptation', D. Phil Thesis, University of Oxford, 2012.
(обратно)294
Показательный процесс над эсерами, также устроенный весной 1922 г., получил больше внимания прессы (о нем писали на первых полосах газет), однако данный случай представляет собой окончание первой фазы консолидации власти большевистским руководством, т. е. атаку на альтернативные политические партии, а не начало второй фазы, ознаменовавшейся нападками на «враждебные» или «чужеродные» группы, хоть те и не считали себя оппозицией с политической точки зрения.
(обратно)295
Эти цифры (157 православных церквей, «две или три католические и еврейские») были представлены в письме – ответе Управления Петроградского губернского совета на обращения еврейских комитетов с жалобами на закрытие «домовых храмов». ЦГА – СПб., ф. 1001, оп. 7, д. 1, л. 310.
(обратно)296
ЦГА – СПб, ф. 1001, оп. 7, д. 19, л. 24.
(обратно)297
См. мою работу Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation of Heritage in Petrograd-Leningrad, 1918–1988. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2016, ch. 2, 3.
(обратно)298
Ятманов Г. С. «Охрана художественного достояния», ПП, 25 мая 1922. С. 3.
(обратно)299
О советской монетизации художественных ресурсов см.: N. Iu. Semenova, Nicolas V. Iline, Selling Russia's Treasures: The Soviet Trade in Nationalized Art, 1917, 1938. Paris: The M. T. Abraham Center for the Arts Foundation, 2013, включая интересный анализ религиозного искусства, сделанный Юрием Пятницким.
(обратно)300
Mackenzie, Russian Crucifixion, p. 27.
(обратно)301
Валентинов А. А., (ред.) «Черная книга»: Штурм небес. Сборник документальных данных, характеризующих борьбу коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей. – Париж: Изд-во Русского национального студенческого объединения, 1925. С. 6–16.
(обратно)302
О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (Инструкция), 24 августа 1918. Сборник узаконений и распоряжений РК РСФСР № 62 (1918). Статья 685, параграф 29, с. 764. О возражениях против изъятия предметов см.: «Черная книга». С. 26–29.
(обратно)303
Введенский А. И. «Смерть религии» // Соборный разум, № 3–4 (1918). С. 5.
(обратно)304
«Черная книга» (с. 35–44) приводит многочисленные примеры. Например, Андронику, архимандриту Пермскому и Соликамскому, выкололи глаза и разрезали щеки перед тем, как убить его. Кроме того, есть примеры осквернения церквей в местностях, пострадавших от войны (с. 29–30).
(обратно)305
Это письмо впоследствии прозвали «Анафемой советской власти», однако его первоначальный заголовок «О беспрецедентном угнетении Русской церкви» намного шире.
(обратно)306
Невероятно много написано о вскрытии мощей. Два прекрасных отчета на английском: Steve Smith, 'Bones of Contention: Bolsheviks and the Exposure of Saints' Relics, 1918–30', Past and Present vol. 204 (August 2009), p. 155–94; Robert Greene, Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia (DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2010).
(обратно)307
«Черная книга», гл. 1.
(обратно)308
Горев М. Церковное золото – голодающим // КГ, 25 февраля 1922, с. 2. О VIII отделе см.: Smith, 'Bones'.
(обратно)309
Советская политика в религиозном вопросе // Революция и церковь», № 1 (1919). С. 2.
(обратно)310
Журнал обновленческого духовенства «Соборный разум». № 3–4 (1918). С. 1.
(обратно)311
James Ryan 'Cleansing NEP Russia: State Violence against the Russian Orthodox Church in 1922', Europe-Asia Studies, vol. 65, no. 9 (2013), pp. 1811–1812.
(обратно)312
Например, от Американского еврейского объединенного распределительного комитета, Южной баптистской конвенции, Национального католического благотворительного совета, Американского комитета друзей на службе обществу (Fisher, С. 163). Принималась также прямая помощь от Ватикана.
(обратно)313
См., напр.: ПП, 16 февраля 1922, с. 2, 17 февраля 1922, с. 2.
(обратно)314
Другими важными факторами, которые, к сожалению, невозможно здесь подробно обсудить, были региональные различия и разный подход со стороны организаций. См., напр.: Daly, 'Storming the Last Citadel'; Gregory L. Freeze, 'Subversive Atheism: Soviet Antireligious Campaigns and the Religious Revival in Ukraine in the 1920s', in Catherine Wanner, ed., State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. New York: Oxford UP, 2012, pp. 27–62.
(обратно)315
См. описание в «Черной книге» (глава 11, раздел 3). Встреча 5 марта (но не ее продолжение) была также описана в официальных газетных материалах о процессе над Вениамином. Предположение о наличии директивы из центра подтверждается тем, что 8 марта Политбюро провело совещание, на котором решили ускорить программу конфискаций: АК, № 23–2.
(обратно)316
См. предисловие редактора к АК, #_Toc491501082
(обратно)317
Для сравнения можно рассмотреть колебания и неуверенность по поводу возможного сотрудничества с исламскими лидерами и группами на Кавказе в тот же период. См.: Jeromin Petroviç, 'Bolshevik Co-Optation Policy and the Case of Chechen Sheikh Ali Mitaev', Kritika vol. 15, no. 4, pp. 729–765.; или, с другой стороны, откровенную жестокость, с которой расправлялись с эсерами и философами-идеалистами, в том числе и в 1922 г.: Очистим Россию надолго: репрессии против инакомыслящих. – М.: Международный фонд «Демократия» / Издательство «Материк», 2008, напр., документы № 3, 11, 14, 75, 82.
(обратно)318
Письмо первоначально было опубликовано в «Вестнике русского студенческого христианского движения» (1970). С. 54–57.
(обратно)319
Ленин ссылается на Макиавелли, так как этот итальянский политолог и философ был поразительно значимым авторитетом для самопровозглашенного марксиста. См. текст письма в АК, № 23.16. Подход, более схожий с моим, см.: Ryan, 'Cleansing NEP Russia'; Natalya Krivova, 'The Events in Shuia: A Turning Point in the Assault on the Church', Russian Studies in History vol. 46, no. 2, pp. 8–38. Подробный, основанный на архивных документах анализ см.: Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks in Power: the First Year of Soviet Rule in Petrograd. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
(обратно)320
В этот момент было уже ясно, что урожай в 1922 г. будет обильным (Гаскилл писал из Саратова 12 мая 1922 г.: «Прогноз урожая необыкновенно благоприятный». См.: Fisher, p. 297).
(обратно)321
См., напр.: КГ, 23, 24, 28 марта, 4, 9, 14 апреля, 11 мая. О показательном московском процессе над духовенством, которое, как считалось, сопротивлялось конфискациям, см. там же, 10 мая. О показательном процессе в Петрограде там же, 10 июня – 6 июля.
(обратно)322
О начале воинствующего атеизма см.: William Husband, Godless Communists: Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000. По сути, движение воинствующих атеистов приносило мало пользы центральным и местным органам власти, поскольку его кампании способствовали социальному разделению и иногда проводили политику и идеологические установки высшего руководства в искаженном виде. Подробнее см.: Daniel Peris, Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless. Ithaca New York: Cornell University Press, 1998.
(обратно)323
«Черная книга» (с. 28–30) писала об осквернении домовых церквей при секуляризации, в частности о дефекации в алтарях и т. д.
(обратно)324
Тем не менее Поместный церковный собор 1918 г. наделил высокопоставленное региональное духовенство соответствующими полномочиями, поскольку коммуникация с центром была невозможна из-за гражданской войны.
(обратно)325
ЦГА – СПб, ф. 1000, оп. 6, д. 266, л. 60.
(обратно)326
ЦГА – СПб, ф. 1001, оп. 7, д. 1, л. 333–5. Об обычных прихожанах, вставших на защиту церковных ценностей, см. также: Freeze, Subversive Atheism, pp. 31–33.
(обратно)327
Об этом писала КГ 20 июня 1922 г., с. 6. Человек, о котором идет речь, упомянут здесь как «дьякон Флеров», хотя Флеров на самом деле был священником. Таким образом, газета ошиблась либо в фамилии, либо в духовном звании.
(обратно)328
Священный собор Русской Православной Церкви: собрание определений и постановлений. Часть 4. – М.: Священный собор, 1918. С. 30.
(обратно)329
Эта цифра была упомянута одним из адвокатов, Яковом Гуровичем, чьи слова цитировала КГ 4 июля 1922 г. С. 5.
(обратно)330
Цит. по: Шкаровский М. В… Петербугская епархия в годы гонений и утрат, 1917–1945. – СПб.: Лики России, 1995.
(обратно)331
История цитируется здесь по: John McManners, Church and State in France, 1870–1914. New York: Harper and Row, 1972, с. 141. Имеется большая библиография по истории и последствиям закона 1905 г. См., напр.: Maurice Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France. London: Macmillan, 1974, pp. 133–226.
(обратно)332
Larkin, Church and State, p. 152.
(обратно)333
Такие настроения постоянно присутствовали в дискуссиях на Поместном церковном соборе 1917–1918 гг.
(обратно)334
Ryan, 'Cleansing NEP Russia'.
(обратно)335
Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca New York: Cornell University Press, 1992.
(обратно)336
На данный момент имеется значительный материал, доказывающий, что интеграция Русской православной церкви после 1943 г. была замечательно успешной: См. последние книги и статьи Гленнис Янг (Glennys Young), Татьяны Чумаченко, Натальи Шлихты, Эндрю Стоуна (Andrew Stone) и др.
(обратно)337
Maxim Sherwood, The Soviet War on Religion. London: Modern Books n.d. [c. 1930], pp. 11, 14. Имяславцы были таинственной и харизматичной общиной, в которую входил, например, известный эмигрант из России, теолог, отец Сергей Булгаков.
(обратно)338
В СССР верующими себя считали 56,7 % населения – несомненно, заниженная оценка, так как перепись проводилась путем личного общения.
(обратно)339
Жиромская, «Религиозность», там же.
(обратно)340
ЦГА – СПб., ф. 7834, оп. 33, д. 50, л. 98.
(обратно)341
Набоков В. Пнин (1957) (London: Penguin, 1997). С. 59.
(обратно)342
Они в любом случае подверглись настоящим гонениям в 1935–1938 гг., когда ухудшились международные отношения, и представители этнических меньшинств все чаще объявлялись «иностранными шпионами».
(обратно)343
Согласно авторитетной биографии: Daniel P. Todes, Ivan Pavlov: A Russian Life in Science. New York: Oxford University Press, 2014.
(обратно)344
См.: Josephine von Zitzewitz, 'The 'Religious Renaissance' of the 1970s and its Repercussions on the Soviet Literary Process', D. Phil Thesis, University of Oxford, 2009.
(обратно)345
Anthony D'Agostino, Soviet Succession Struggles, Kremlinology and the Russian Question from Lenin to Gorbachev. London: Allen and Unwin, 1988, pp. 4–5.
(обратно)346
Joseph Bradley, 'Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia', The American Historical Review, vol. 107, no. 4, October 2002, pp. 1094–1123.
(обратно)347
Anton A. Fedyashin, Liberals under Autocracy: Modernization and Civil Society in Russia, 1866–1904. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2012.
(обратно)348
Joseph Bradley, Voluntary Associations in Tsarist Russia: Science, Patriotism and Civil Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
(обратно)349
Анализ этих стратегий см.: Thomas C. Owen, Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
(обратно)350
Robert W. Thurston, Liberal City, Conservative State: Moscow and Russia's Urban Crisis, 1906–1914. Oxford University Press, 1987.
(обратно)351
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart, 1971, p. 238.
(обратно)352
Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. – М.: Прогресс, 1974.
(обратно)353
Richard Sakwa, Communism in Russia: An Interpretive Essay. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 43–44.
(обратно)354
Diane P. Koenker, Moscow Workers and the 1917 Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2014.
(обратно)355
Замечательный сравнительный анализ см.: S. A. Smith, Revolution and the People in Russia and China: A Comparative History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
(обратно)356
Diane P. Koenker, Republic of Labor: Russian Printers and Soviet Socialism, 1880–1930. Cornell, New York: Cornell University Press, 2005.
(обратно)357
Vera Broido, Lenin and the Mensheviks: The Persecution of Socialists under Bolshevism. Aldershot: Gower, 1987.
(обратно)358
The Bolsheviks and the October Revolution: Central Committee Minutes of the Russian Social Democratic Labour Party (Bolsheviks), August 1917 – February 1918. London: Pluto Press, 1974, pp. 140–142.
(обратно)359
Rosa Luxemburg, The Russian Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961, p. 69.
(обратно)360
Karl Kautsky, The Dictatorship of the Proletariat. Michigan: Ann Arbor Paperback, 1964, p. 6.
(обратно)361
Оценку развития советской внешней политики см., напр.: Richard K. Debo, Revolution and Survival: The Foreign Policy of Soviet Russia 1917–1918. Liverpool: Liverpool University Press, 1979.
(обратно)362
Осинский Н. Строительство коммунизма // Коммунист, № 2, 1918, с. 68–72, цит. по: Ronald Kowalski, The Russian Revolution, 1917–1921. London: Routledge, 1999, с. 200.
(обратно)363
«Собрание уполномоченных фабрик и заводов Петрограда к апрелю 1918-го» // День, № 7, Петроград, 1918. Цит. по: Независимое рабочее движение в 1918 г.: документы и материалы. – Париж: YMCA-Press, 1981. С. 94.
(обратно)364
Сапронов Т. Девятая конференция РКП(б), сентябрь 1920 года: протоколы. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1972. С. 156–161.
(обратно)365
Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 10.07.1918, / government/constitution/1918/article3.htm.
(обратно)366
Michael E. Urban, More Power to the Soviets: The Democratic Revolution in the USSR. Aldershot: Edward Elgar, 1990.
(обратно)367
Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. – Harmondsworth: Penguin Books, 1969, с. 118.
(обратно)368
А. J. Polan, Lenin and the End of Politics. London: Methuen, 1984, p. 11.
(обратно)369
Alfred Rosmer, Lenin's Moscow. London: Pluto Press, 1971, p. 116.
(обратно)370
Richard Sakwa, Soviet Communists in Power: A Study of Moscow During the Civil War, 1918–1921. London: Macmillan, 1988, pp. 231–232.
(обратно)371
Коммунистический труд, 19.02.1921.
(обратно)372
Двинов Б. Л. Московской совет рабочих депутатов, 1917–1922: Воспоминания. – Нью-Йорк: 1961. С. 108.
(обратно)373
Alexandra Kollontai, The Workers' Opposition in Russia. London: Dreadnought Publishers, 1923), pp. 20–21.
(обратно)374
Paul Avrich, Kronstadt 1921. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970.
(обратно)375
Simon Pirani, The Russian Revolution in Retreat, 1920–24: Soviet Workers and the New Communist Elite. London and New York: Routledge, 2008.
(обратно)376
R. V. Daniels, 'Stalin's Rise to Dictatorship', в Alexander Dallin and Alan Westin, eds, Politics in the Soviet Union. New York: Harcourt, Brace and World, 1966.
(обратно)377
Обсуждение альтернатив можно найти в: Samuel Farber, Before Stalinism: The Rise and Fall of Soviet Democracy. London: Verso, 1990.
(обратно)378
R. V. Daniels, The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia. New York: Simon & Schuster, 1969.
(обратно)379
Richard Pipes, ed., The Unknown Lenin: From the Secret Archive. New Haven and London: Yale University Press, 1998, послесловие к изданию в мягкой обложке, с. 179.
(обратно)380
Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. New York: Vintage, 1975.
(обратно)381
Stephen F. Cohen, Soviet Fates and Lost Alternatives: From Stalinism to the New Cold War. New York: Columbia University Press, 2009.
(обратно)382
David W. Lovell, From Marx to Lenin: An Evaluation of Marx's Responsibility for Soviet Authoritarianism. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 9.
(обратно)383
Лавелл скептически относится к такой возможности. См.: From Marx to Lenin, p. 2.
(обратно)384
Lovell, From Marx to Lenin, pp. 183–185.
(обратно)385
Анализ по данной теме см.: Jean L. Cohen, Civil Society and Political Theory. Boston, MA: MIT Press, 1994.
(обратно)386
Leszek Kolakowski, 'The Myth of Human Self-Identity: Unity of Civil and Political Society in Socialist Thought', в Leszek Kolakowski and Stuart Hampshire, eds, The Socialist Idea. London: Weidenfeld & Nicolson, 1974, p. 18.
(обратно)387
Pirani, The Russian Revolution in Retreat, 1920–1924.
(обратно) (обратно)


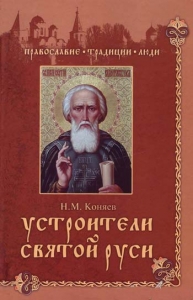
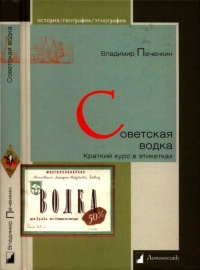
Комментарии к книге «Историческая неизбежность?», Тони Брентон
Всего 0 комментариев