Физики уже привыкли к тому, что появление в некоторой области противоречий обычно предвещает обнаружение какой-то новой закономерности. Ту же мысль можно привлечь при обсуждении трагических перипетий нашей новейшей истории: выделив некоторые факты, казалось бы не согласующиеся друг с другом, попытаться понять причину их видимого противоречия. Одна такая антиномия бросается в глаза, к ней я и хочу применить этот прием. Речь идет о двух положениях:
а) сталинский террористический режим прямо противоположен по духу либеральной западной идеологии прогресса;
б) очень многие виднейшие представители этой идеологии не только не протестовали против преступлений сталинского режима, но защищали его от критики других, превозносили, восхваляли.
Загадка усугубляется тем, что сталинская пропагандистская машина была весьма сурова к западным либералам: неизменно провозглашала их демократию «фальшивой», гуманность — «классовой», а их самих «социал-предателями» и «социал-фашистами».
Постараемся несколько уточнить понятия, которыми будем дальше пользоваться. Во-первых, говоря о сталинском режиме, мы будем подразумевать не только эпоху единовластия Сталина, но включать и время, когда оно подготовлялось (особенно идеологически), — 20-е годы. Во-вторых, под либералами мы будем понимать всех западных деятелей, исходивших из концепции демократии, прав человека, свободы, идеологии прогресса. Нас будет в основном интересовать эпоха 20-50-х годов, когда все либеральное (в этом широком смысле) течение подчинялось жесткому давлению своего более радикального, левого крыла.
Напомню некоторые факты. Каждый, кто жил сознательной жизнью в конце 40 — начале 50-х годов, помнит, вероятно, непрерывную череду знатных западных посетителей: философов, писателей, ученых, политиков, священников. Нельзя сказать, что они приезжали ничего не подозревавшими невинными младенцами. Очевидно, до их ушей что-то уже доходило. Типичный их отзыв звучал примерно так: «Я приехал в Москву настороженным, под влиянием разных мрачных слухов. Но я увидел своими глазами заполненные народом улицы, смеющуюся молодежь — и понял, как далеки были от действительности эти грязные инсинуации». За ослепительными их улыбками, детски невинными глазами и серебряными сединами чувствовалась стальная решимость умереть «при исполнении долга», но не увидеть и не услышать того, что по каким-то загадочным причинам видеть и слышать им не надлежало. И они уезжали, так и не заметив, что из нашей жизни исчезали знаменитые артисты, писатели, ученые, театры, научные школы, целые республики и народы.
К тому времени это была уже отшлифованная традиция, и выработалась она давно. Так, Исаак Дон-Левин, очевидец Октябрьской революции и активный пропагандист на Западе новой власти, вновь посетив Россию в 1923 году, получил некоторые сведения о расстрелах и истязаниях в Соловецком концлагере. Он вывез на Запад письма 323 зеков и напечатал их. Рукопись этой книги он послал известным духовным вождям западного мира, попросив отозваться на нее. Большинство из них отказались! Вот типичные ответы;
Ромен Роллан. Это позор! Кто-то ломает себе руки, в отчаянии, от омерзения! <…> Я не буду писать предисловия, о котором Вы просите. Оно стало бы оружием в руках одной партии против другой… Я обвиняю не систему, а Человека.
Г.Уэллс. Сожалею, что не могу судить о подлинности Вашего собрания писем; равно я не понимаю, почему Вам так хочется получить от меня комментарий к книге.
Э.Синклер. Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против него… Я надеюсь, что правительство рабочей России утвердит уровень гуманности более высокий, чем то капиталистическое государство, в котором я живу.
К.Чапек. Я не позволю себе быть несправедливым ни к жертвам, ни к гонителям. Я отдаю себе отчет в том, что в той или иной степени весь мир участвовал в создании положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес.
Б. Шоу — отделывается шуткой и обвинением автора в антисоветизме.
Были, конечно, и исключения: например, А. Эйнштейн отнесся к рукописи с сочувствием. Он писал:
«Всем серьезным людям следует поблагодарить издателя этих документов. Их публикация должна способствовать изменению ужасного положения дела».
Но тенденция набирала силу и все больше подчиняла себе умы. В 1934 году Дон-Левин вместе с А. Л. Толстой (дочерью писателя) обратились к Эйнштейну с просьбой подписать протест группы общественных деятелей против расстрелов в Ленинграде после убийства Кирова. Теперь Эйнштейн отказался. Вот его ответ:
«Дорогой г. Левин,
Вы можете себе представить, как я огорчен тем, что русские политики увлеклись и нанесли такой удар элементарным требованиям справедливости, прибегнув к политическому убийству. Несмотря на это, я не могу присоединиться к Вашему предприятию. Оно не даст нужного эффекта в России, но произведет впечатление в тех странах, которые прямо или косвенно одобряют бесстыдную агрессивную политику Японии против России. При таких обстоятельствах я сожалею о Вашем начинании: мне хотелось бы, чтобы Вы совершенно его оставили. Только представьте себе, что в Германии много тысяч евреев-рабочих неуклонно доводят до смерти, лишая права на работу, и это не вызывает в нееврейском мире ни малейшего движения в их защиту. Далее, согласитесь, русские доказали, что их единственная цель — реальное улучшение жизни русского народа; тут они уж могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем, следовательно, акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Разве не вводит в заблуждение подобный выбор!
С искренним уважением А. Эйнштейн».В своих бумагах я обнаружил кусок старой газеты неизвестного названия и даты.
«…Прекрасна эта поездка по каналу. Истинное наслаждение плыть сотни километров по местности, преображенной человеческими руками…» —
писал Мартин Андерсен-Нексе, совершивший в 1933 году путешествие по Карелии. Тогда только что закончилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Датскому писателю хотелось все увидеть своими… Далее газета оборвана.
В 1937 году СССР посетил другой писатель — Л. Фейхтвангер, всего за несколько лет до того эмигрировавший из Германии после гитлеровского переворота. Казалось бы, он должен был особенно болезненно реагировать на всякое насилие, на культ вождя. Он пишет книгу «Москва 1937». В ней есть раздел «Сто тысяч портретов человека с усами». Всей ситуации умелый автор придает полукомический характер, отмечая такую характерную черту русской жизни — даже в женских банях висит портрет бородатого Маркса. И «человеку с усами», оказывается, претит изобилие его портретов. Он сам жалуется автору: ему так надоели эти подхалимствующие дураки! После такой подготовки автор переходит к самому деликатному вопросу — показательным процессам. Он описывает здоровый вид подсудимых, убедительность улик… И решительно отклоняет какие-либо посторонние мотивы признаний: пытки, угрозы, наркотики. А завершает цитатой из Сократа:
«То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».
В такой оценке этих процессов Л. Фейхтвангер был тогда далеко не одинок. Например, индийский юрист Дадли Коллард заверял через газету «Дейли геральд», что процесс Пятакова-Радека «юридически безупречен». Член английского парламента лейборист Нейл Маклин писал:
«Все присутствующие на процессе иностранные корреспонденты, за исключением, конечно, японских и германских, отмечают большое впечатление, произведенное весомостью доказательств и искренностью признаний».
Как замечает английский историк Конквест, этим на не согласных с точкой зрения автора бросалась тень — «это фашисты» (повторяя в миниатюре логику процесса).
В 1944 году вице-президент США Генри Уоллес посетил Магадан — центр Дальстроя, одного из самых больших и суровых скоплений лагерей. Он отметил, как выгодно отличается обстановка там от американских приисков времен золотой лихорадки, где царили «грех, водка и драки». Сравнил условия работы на Дальстрое с условиями американской компании Гудзонова залива. Рабочих нашел «крепкими и упитанными». (А по рассказам зеков, их всех вывезли из того района и заменили охранниками, переодетыми в аккуратные ватники.)
Однако, старательно закрывая глаза на то, что они здесь видели, западные либералы приводили и оправдания (чему-то). Так, вожди английского фабианского социализма Сидней и Беатриса Уэбб писали:
«Пока продолжается работа, всякое публичное выражение сомнения или хотя бы опасение возможной неудачи плана является изменой, даже предательством, ввиду его воздействия на энергию и усилия других».
Не сказать, чтобы на Западе было мало сведений о происходившем у нас, но он был к ним глух — а что ему надо слышать, решали его либеральные и прогрессивные духовные вожди. По словам А. И. Солженицына, оказавшись на Западе, он обнаружил, что задолго до его «Архипелага ГУЛАГа» там уже существовала целая литература на эту тему, десятки книг, в том числе и очень яркие, — но они полностью игнорировались, почти никому не были известны.
Мы сталкиваемся с еще одной загадкой. Оказывается, оценка западным либеральным общественным мнением положения в нашей стране не была все время одной и той же, она стала резко меняться где-то в 50-е годы. Но вот что загадочно: раньше они не хотели замечать творившейся у нас трагедии, а потом вдруг стали все строже судить нашу жизнь как раз тогда, когда миллионы заключенных были отпущены и жизнь стала постепенно смягчаться. Например, в 30-е годы Пьер Дэкс (из французских левых) разъяснял:
«Лагеря… в Советском Союзе — это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком»,
а, в 60-е написал хвалебное предисловие к переводу «Одного дня Ирана Денисовича»!
Первый признак этого изменения появился в связи с «делом врачей» в самом конце жизни Сталина. Исаак Дойчер в своей биографии Сталина пишет, что этой акцией он уничтожил «основание законности и свидетельство о рождении» своего режима. Поразительно, что Дойчер не применяет столь ярких образов, описывая, например, коллективизацию (даже когда приводит драматический рассказ старого чекиста, вспоминавшего, едва сдерживая рыдания, как он расстреливал из пулеметов крестьянскую толпу). Но, впрочем, может быть, Дойчер только post factum придает такое значение «делу врачей» — тогда, в начале 50-х годов, мировой резонанс был очень скромным. Реально либеральное общественное мнение Запада стало меняться только после смерти Сталина и хрущевских разоблачений. Этот процесс захватил 60-е и 70-е годы. Если в 60-х годах в Европе учреждались общественные «трибуналы» для суда над действиями американцев во Вьетнаме, то в 70-е годы на таких же «трибуналах» и «чтениях» осуждалось уже нарушение «прав человека» в СССР.
Последнее понятие играет столь большую роль во всех дискуссиях о положении в нашей стране, что на нем необходимо остановиться подробнее. Смысл всякого понятия, применяемого к явлениям жизни, уясняется не из его формального определения (вроде понятия ромба в геометрии), но из конкретного анализа его употребления. И здесь мы сталкиваемся с очень странной ситуацией. Я не помню, чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или «культурной революцией» в Китае. Последнее время в Китае проводится суровая политика государственного ограничения рождаемости — запрет второго ребенка. Наказываются родители, нарушившие запрет, проводятся унизительные профилактические осмотры женщин, на фабриках действует «полиция бабушек», следящая за молодыми работницами. Это привело к волне детоубийств: по древней китайской традиции родители стремятся иметь сына, а для этого убивают новорожденных девочек (чему идет навстречу и закон, считающий уголовным преступлением лишь убийство ребенка, прожившего уже три дня). В результате в этом году власти согласились на смягчение: разрешено иметь второго ребенка, если первый — девочка. Такого, кажется, история еще не знала! И я никогда не слышал, чтобы это беспрецедентное вмешательство в самую интимную сторону человеческой жизни трактовалось как нарушение прав человека. То же относится к слухам о китайской политике стерилизации в Тибете, которые без особых комментариев передавало западное радио, и о пропаганде подобных мер в Индии.
Какое право человека бесспорнее, чем право жить, — и даже жить не самим, ибо мы все обречены на смерть, а чтобы жили наши потомки? Но вот данные, которые часто приводятся в западной экологической литературе: население США составляет 5,6 процента от населения мира, они используют 40 процентов всех природных ресурсов и выбрасывают 70 процентов всех отходов, отравляющих среду. Говоря попросту, США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией «прав человека». Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушения столь фундаментальных «прав человека», — что оказываются препятствием в переговорах по ограничению вооружений, в торговле или по расширению научных связей.
Создается впечатление, что понятие «прав человека» не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже.
Безусловно, наша жизнь и в послесталинские годы была далеко не идеальна, здесь достаточно материала для критики (о чем и я, в числе многих, не раз публично заявлял). Но поразительно, что град обвинений обрушился на нашу страну как раз в тот период, когда положение изменялось к лучшему — самая лютость сталинского режима отошла в прошлое. Типична эволюция некогда популярного эстрадного певца, члена (теперь бывшего) Французской коммунистической партии Ива Монтана. В начале 50-х годов он был яростным защитником всех сторон сталинской системы, включая и показательные политические процессы в восточноевропейских странах. Этим он облегчил вынесение смертных приговоров, в некоторой степени на его совести судьба его партийных товарищей. В последние годы он, как уверяет, прозрел. Что же он, кается? Нет, он обличает не себя или левых интеллектуалов — а нашу страну, в которой (несмотря на все тяжелые стороны нашей жизни) все же по политическим обвинениям уже не расстреливают. Еще поразительнее, что многие западные левые, с разочарованием отвернувшись от СССР, нашли свой идеал в Китае, где именно тогда Мао осуществлял «культурную революцию» (наиболее известный пример — Ж. П. Сартр).
В 20-40-е годы у нас в стране сложился специфический жизненный уклад, который многие сейчас называют Командной системой. Этот термин, как и всякий другой, приемлем, если ясно отдавать себе отчет в том, что он характеризует. Примем его в этой работе и мы. Создание и укрепление командной системы не вызывало протестов в западном либерально-прогрессивном лагере, скорее сочувствие, стремление защитить ее от критики. Но положение в нашей стране стало вызывать раздражение, активную неприязнь, да больше того — восприниматься этим течением как нетерпимое, когда появились первые попытки вскрыть самые бесчеловечные аспекты системы, избавиться от них. Следовательно, можно предположить наличие какой-то духовной близости, каких-то существенных общих черт командной системы и западного либерального течения прогресса. Эти общие черты и интересны.
О командной системе
Мне представляется, что кульминацией командной системы явилась трагедия коллективизации — раскулачивания, обрушившегося на деревню в конце 20 — начале 30-х годов. Именно тогда были разрушены социальные и психологические структуры, которые труднее всего поддаются восстановлению, — индустриальная культура при благоприятных условиях усваивается в несколько десятилетий (как мы это видим в Южной Корее или Сингапуре), а крестьянская создается тысячелетиями. Последствия именно этого «великого перелома» наиболее болезненны и в наши дни, ведь и сейчас потоки горожан сезонно текут на помощь деревне, а не крестьян — на помощь городу. Грандиозный социальный катаклизм, насильственно изменивший жизнь 3/4 или 4/5 населения, создал тот дух «осадного положения», при котором любая форма диктатуры казалась оправданной. Именно этим действием Сталин закрепил свою власть, спаяв свое окружение по рецепту Петруши Верховенского — связать «пролитою кровью, как одним узлом». Да и сам он придавал тому периоду совершенно особенное значение. В своих воспоминаниях Черчилль рассказывает, что, когда во время Сталинградского сражения он подивился самообладанию Сталина, тот ответил: это ничто в сравнении с тем, что ему пришлось пережить «в период коллективизации, когда было репрессировано 10 миллионов кулаков, в подавляющем большинстве убитых своими батраками». Естественно предположить, что «великий перелом», который был для Сталина страшнее войны с Гитлером, и являлся центральным действием в создании командной системы. Все предшествующее можно рассматривать как подготовку к нему, последующее — как его следствие, разбегающиеся от него волны (впрочем, бушующие и по сей день). Из анализа этой катастрофы мы и попытаемся извлечь понимание командной системы.
В своем анализе я опираюсь на глубокую работу
К. Мяло «Оборванная нить» (Новый мир. 1988. № 8).
В ней, насколько мне известно, впервые высказана следующая важная мысль, которую хочу напомнить, дополняя ее некоторыми своими аргументами. Деревня являлась не просто экономической категорией, определенным методом производства съестных продуктов. Это была самостоятельная цивилизация, органично складывавшаяся многие тысячелетия, со своим экономическим укладом (и даже несколькими разными типами земледелия), своей моралью, эстетикой и искусством. Даже со своей религией — православием, впитавшим гораздо более древние земледельческие культы. Типична в этом смысле череда земледельческих праздников, опоясывавших весь год и соотнесенных с православным циклом церковной службы. Или ритуал исповеди и покаяния земле перед церковной исповедью:
Что рвала я твою грудушку Сохой острою, разрывчатой, Что не катом я укатывала, Не урядливым гребешком чесывала, Рвала грудушку боронышкою тяжелою, Со железными зубьями ржавыми. Прости, матушка, Прости грешную, кормилушка, Ради Спас Христа Честной Матери Всесвятыи Богородицы.Или ритуал взятия земли в крестные матери. Наконец, ритуальное восприятие избы, отражавшей космос, и ритуальные действия при закладке дома, соотносившие ее с идеей сотворения мира.
Катаклизм, сотрясший деревню на грани 20-30-х годов, был не только экономической или политической акцией, но столкновением двух цивилизаций, не совместимых по своему духу, отношению к миру. Этим он аналогичен, например, уничтожению цивилизации североамериканских индейцев английскими переселенцами — пуританами. К. Мяло пишет:
«…любой анализ судеб русского крестьянства в эту пору останется неполным, если забыть о том заряде ненависти, который уже в начале 20-х годов был обрушен на традиционно деревенский уклад жизни, — хозяйствование, чувствования и мышление, быт. Кажется, что даже сам вид этих бород, лаптей, поясков и крестов — видимых знаков „темноты“ и „бескультурья“ — вызывал вспышки отвращения, острые и неконтролируемые, как это бывает при резко выраженной „психологической несовместимости“. „Думается, не будет преувеличением сказать, что налицо приметы открытой дегуманизации предполагаемого врага“, то есть уничтожения тех сдерживающих психических механизмов, которые ограничивают проявление агрессивности по отношению к человеку».
Действительно, отношение идеологов «перелома» к мужику было не только враждебным, оно как бы отлучало его от жизни, отрицало его право на существование, причем, как всегда, идейная подготовка предвосхищала практические действия, готовила им путь. Например, еще в 1918 году Д. Рязанов, видный партийный деятель, говорил как о чем-то самоочевидном:
«Толстой предлагал устроить Россию по-мужицки, по-дурацки».
Горький, обращаясь за помощью голодающим (письмо в «Юманите», 1920 год), видел опасность голода в том, что он «может уничтожить лучшую энергию страны в лице рабочего класса и интеллигенции», — хотя умирали от голода как раз в деревне. О крестьянах он говорил:
«…полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — почти страшные люди…»
Деревня и мужик объединялись в образе «Расеюшки» или «Руси»:
Бешено, Неуемно бешено, Колоколом сердце кричит: Старая Русь повешена, И мы — ее палачи. (В. Александровский)Именно духовный аспект крестьянской цивилизации, наиболее явно выраженный тогда в произведениях крестьянских поэтов (прежде всего Есенина), вызывал шквал злобных нападок. Мы все учили в школе о них: «мужиковствующих свора». Но Маяковский был тут неоригинален — он лишь цитировал; это Троцкий назвал деревенских поэтов мужиковствующими, а их поэзию — примитивной и отдающей тараканами. Бухарин же усмотрел, что поэзия Есенина — это
«смесь из „кобелей“, „икон“, „сисястых баб“, „жарких свечей“, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии, обильных пьяных слез и „трагической“ пьяной икоты…». Тут не было разделения на левых и правых фантастический «правотроцкистский блок»
в этой области реализовался во плоти.
Когда же от слов перешли к делам, то опять борьба мировоззрений составляла важнейший компонент. Коллективизация, как правило, начиналась с закрытия церкви — по большей части насильственной (типичный случай описан в «Мужиках и бабах» Б. Можаева). По словам К. Мяло, крестьяне, обладавшие высоким духовным авторитетом, становились первой жертвой раскулачивания:
«…общину удавалось обезглавить разом и как хозяйственное и как культурное целое, убрав в одну ночь грамотных наставников».
Какая же идеология противостояла крестьянской цивилизации, двигала тот водопад ненависти, который тогда обрушился на деревню? Это прежде всего концепция «темноты», «дремучести» деревни и мужика. Вот примеры:
Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? Что же! Вечная память тебе. Не жила ты, а только охала В полутемной и тесной избе. Костылями скрипела и шаркала, Губы мазала в копоть икон, Над просторами вороном каркала, Берегла вековой, тяжкий сон. (В. Александровский)Л. Фейхтвангер твердо знал все, что ему нужно знать о русских неколлективизированных крестьянах:
«Они не умели ни читать, ни писать, весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа».
Само собой очевидно, что этот жалкий строй жизни не имел права на существование: он должен был быть взорван, а жизнь построена наново. Но нам важно выяснить, какими путями и чем его предполагалось заменить. Прежде всего бросается в глаза, что речь шла о водворении на место крестьянской цивилизации мира техники, замене мужика машиной:
У вымощенного тракта, На гранитном току, Раздавит раскатистый трактор Насмерть раскоряку-соху. (М. Герасимов)Есенин видел крестьянскую Россию в образе бегущего по полю жеребенка и спрашивал:
«Неужель он не знает, что живых коней победила стальная конница?»
М. Горький высказывал А. Воронскому более радикальную мысль:
«Если б крестьянин исчез с его хлебом, — горожанин научился бы добывать хлеб в лаборатории».
Для мужика на случай, если он не «исчезнет», в этой системе находилось новое применение. В последнее время много раз цитировался доклад Троцкого на IX партсъезде, в котором предлагался план милитаризации населения страны: мобилизации его в трудовые армии с военной дисциплиной. План вызвал на съезде дискуссию, но лишь по поводу того, применять ли милитаризацию только к крестьянам (как предлагал оппонент Троцкого В. Смирнов) или ко всему населению, как считал Троцкий, выступивший от ЦК. По поводу же применения этих мер к крестьянам тогда, по-видимому, разногласий не было.
Этот идеал и был осуществлен Сталиным на Беломорканале и других «великих стройках». Работавшие там зеки и являлись той «милитаризованной рабочей силой», о которой говорил Троцкий. Остальную часть крестьянства подвергли милитаризации пока лишь частично.
Тот же принцип «социального переустройства» применялся не только в деревне. Массовое разрушение церквей, да и вообще старых зданий имело целью создать tabula rasa, пустое место, на котором можно было бы все строить заново. Для этого требовалось и
«классиков сбросить с парохода современности»,
и русскую историю вытеснить из сознания, превратив ее в
«проклятое прошлое».
Параллельным процессом, движимым тем же духом, было
«преобразование природы» —
строительство грандиозных каналов, в идеале механизация всего земледелия, превращение его в фабрику. К. Мяло называет это противопоставлением техноцентризма — космоцентризму крестьянской цивилизации. Даже более обще: всего нерукотворного, природы — рукотворному, технике. Работа К. Мяло дает почувствовать характер этого противостояния.
Что давала человеку «крестьянская цивилизация», почему крестьяне так держались и боролись за нее? Представление об этом можно получить из произведений «деревенской» литературы, например из
«Прощания с Матерой» В. Распутина,
«Канунов» или «Лада» В. Белова.
Но что двигало другую сторону конфликта, что давало силы и даже бешеную энергию активистам «перелома»? Как мне кажется, это было чувство соучастия в реализации некоей грандиозной техницистской утопии, неслыханной дотоле попытке превратить природу и общество в единую космическую машину, управляемую из одного центра. Создание такой машины, управление ею представлялось делом избранной элиты, «новых людей», покорителей вселенной — такими и ощущали себя эти активисты.
Вьющиеся речки с неконтролируемыми половодьями должны быть заменены каналами, «закованными в берега из бетона и стали». Бескрайние, безобразные болота — осушены. Их должны пересекать прямые, как стрелы, трассы, по которым будут сновать автокары. Поля с пасущимися на них коровами заменены земледельческой фабрикой или лабораторией. Крестьянам же в этой сверхмашине предусматривалась роль сырья, планомерно в нее загружаемого и движущегося по ее трубам. Слова персонажа повести В. Распутина:
«Матера на электричество отойдет» —
передают дух этого плана умерщвления матери-земли и использования ее как сырья для грандиозной машины.
Литература 20-х годов передает пафос поклонения машине, желание молиться ей или превратиться в нее:
«Шеренги и толпы станков, подземные клокоты огненной печи, подъемы и спуски нагруженных кранов, дыханье прикованных крепких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь молчаливая пресса — вот наши песни, религия, музыка»
(А. Гастев).Режиссер и художник Ю. Анненков утверждал:
«Искусство достигнет высшей точки расцвета лишь после того, как несовершенная рука художника будет заменена точной машиной».
«Разве современного человека, слышавшего хоть раз полифонию Ньюкастльского порта, может удовлетворить кустарное искусство маленького Шаляпина, вытягивание на цыпочки теноров…»
А. Гастев рисовал такую космическую утопию:
«Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом. Небо — создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей».
Ринемтесь вниз!
«Вместе с огнем, и металлом, и газом, и паром… мы зароемся в глуби, прорежем их Тысячью стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним их ревом металла. На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцания звезд, сольемся с землей: она в нас, и мы в ней.
Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном людей! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда… Мы погибнем, мы схороним себя в ненасытном беге и трудовом ударе.
Землею рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним; но земля преобразится; запертая со всех сторон — без входов и выходов! — она будет полна несмолкаемой бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в исступлении трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек».
Но и человек воспринимается всего лишь как совершенная машина:
«Нужно сделать, чтобы вдруг человечество открыло, что сам человек есть одна из самых совершенных машин, какие только знает наша техника… Мы должны заняться энергетикой человеческого механизма… будем „метрировать“ человеческую энергию… Здесь не должно быть ничего священного».
Стране предстоит превратиться в колонию таких людей-машин.
«Мы должны быть колонизаторами своей собственной страны. Мы конечно, нас небольшая кучка в аграрном пустыре — автоколонизаторы».
(Тогда же и в политике предлагался план — например, Преображенским — использования деревни как источника «первоначального накопления» для индустриализации, подобно колониям Запада.)
Поразительную картину с этой точки зрения представляет собой творчество А. Платонова (на это мое внимание обратил В. А. Верин). В первых своих статьях (Воронежская коммуна. 1920–1923) он выступает яростным идеологом именно этой утопии. Он призывает к уничтожению всей природы. Или предлагает «разморозить Сибирь» путем взрыва окружающих ее гор, направив в нее теплый воздух, — это будет стоить, по его подсчетам, 2 миллиарда золотых рублей. Но потом в его художественных произведениях подобные идеи становятся элементами антиутопии и высказывают их антигерои, которых автор называет насильниками природы или даже «сатаной мысли».
Сама форма левого авангардного искусства начала века соответствовала духу такой техницистской утопии. Из живописи вытеснялись живая природа, человеческий облик, их место занимали кубы и треугольники готовые детали механизма. В литературе опасным, «правым» объявлялся психологизм, принцип «живого человека». Ставилась задача — описывать дело, производственный процесс. Приобщение к старому искусству приравнивалось к контрреволюционной деятельности. В. Мейерхольд, которого называли «главковерхом театра», выдвинул лозунг
«Октябрем по театру».
Об одной его постановке кто-то из его последователей сказал:
«эстетический расстрел прошлого».
Прокламировалось вообще отмирание искусства как независимой деятельности, слияние искусства и производства. Человек рассматривался только как материал для обработки при помощи искусства — производства. Задача искусства ставилась так:
«…подготовить такой человеческий материал, который был бы, во-первых, способен к дальнейшему развитию в желаемом направлении… и, во-вторых, был бы максимально социализирован»
(Б. Арватов).В последние годы жизни Сталина явно вырисовывались новые конструктивные идеи по совершенствованию этой «мегамашины». В своем как бы духовном завещании — работе
«Экономические проблемы социализма в СССР»
Сталин некоторые из них высказал. Он считал, например, что «кооперативная собственность» (то есть колхозы) создает
«препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием».
(Ведь колхозы все же владели, например, семенами!) И предлагал неуклонно сокращать «систему товарного обращения», заменяя ее «системой продуктообмена». Он явно сожалел, что милитаризация в свое время не была завершена!
Образу общества-машины соответствует человек-винтик. Еще в 1923 году идеолог Пролеткульта В. Плетнев понял
«индивидуальность как винтик в системе грандиозной машины СССР».
Позже Сталин с одобрением назвал жителей управляемой им страны «винтиками» великого государственного механизма, даже предложив тост за их здоровье. По-видимому, это устойчивый образ, связанный с духом командной системы, так как несколько позже, во время «культурной революции», китайские газеты сочувственно писали о некоем Лэй Фэне, назвавшем себя
«нержавеющим винтиком председателя Мао».
Сейчас мы сравнили бы такую «мегамашину», охватывающую и природу и общество, с грандиозным компьютером, управляемым при помощи введенной в него системы команд. При таком понимании термин «командная система» представляется подходящим для описания этой попытки воплотить технологически-нигилистическую утопию. Попытка не удалась. Несмотря на понесенные страной потери, устойчивость, укорененность жизни оказалась сильнее напора утопического мышления. Напор не спал и до сих пор: слияния и разлияния колхозов, попытка повернуть реки вспять, затопить территории, равные по площади большим государствам, или превратить земледелие в отрасль химической промышленности — все это его проявления. Но все же основной смысл последних десятилетий заключается в растущем противостоянии утопическому мышлению, ослаблении его напора. Можно надеяться (при достаточном оптимизме), что из тисков командной системы мы вырвемся. Но главная, судьбоносная проблема — как жить дальше — еще ждет нас. Удастся ли вновь основать жизнь на космоцентрическом, а не техноцентрическом восприятии мира?
О «прогрессе»
Выявить реальное содержание столь употребительного термина, как «прогресс», очень трудно. Оно сначала кажется очевидным, но ускользает при попытке понять, что же конкретно «прогрессирует». Я, конечно, не претендую на то, чтобы ответить на этот вопрос. Хочу лишь указать на одну, как мне кажется, очень важную тенденцию, проявляющуюся в том отрезке истории, который все соглашаются рассматривать как самое полное воплощение «прогресса». Имеется в виду период возникновения в Западной Европе и распространения по всему миру современной «индустриальной», или «технологической», цивилизации. Конечно, подбор фактов и цитат, касающихся нескольких веков истории, субъективен. Чтобы сделать его немного более объективным, я постараюсь использовать наиболее известные, признанные классическими источники.
Многие из писавших о Ренессансе отмечали черты «конструктивности», «абстрактности», разрыва с традицией и органичностью, характерные для этой эпохи. Якоб Буркхардт, Альфред фон Мартин и другие указывают, что в то время место «божественного порядка» занимает взгляд на мир как на поле конструктивной деятельности индивидуума, который может перестраивать общество и космос, «конструировать» их. Одна из глав книги Буркхардта о Ренессансе называется
«Государство как искусственное сооружение».
Государства кондотьеров он называет
«искусственными существами».
Основной взгляд Макиавелли — что политика — это расчет, похожий на инженерный, столь же мало ограниченный нормами морали или религии.
В этом «конструируемом» мире важнейшими становятся такие свойства, как «мастерство», «техника» или «искусство»: «искусство дипломатии», «искусство войны». Возрастает роль специалистов: инженеров, дипломатов, кондотьеров. Денежное хозяйство делает возможным «свести все к числам» (бухгалтерии). Этот дух проникает и в область морали. (В одной бухгалтерской книге того времени записано слева:
«Дож Фаскари — мой должник за смерть отца и дяди»,
а когда дож был убит, справа записано: «Уплатил».) Тому же духу соответствует новая наука об измеримых, вычислимых и предсказуемых в числах явлениях. Галилей сформулировал ее цель:
«…измерить все, что измеримо, и сделать измеримым все, что неизмеримо».
Возникло представление, что весь мир можно постичь через вычисления. Все субъективное: краски, запахи, тепло и холод — было объявлено находящимся за рамками науки, результатом несовершенства «человеческого прибора», познанием более низкого сорта. Этому соответствовала надежда вычислить и будущее — отсюда увлечение астрологией.
В XVI и XVII веках появляется новый вид литературы — утопии Мора, Кампанеллы, Бэкона и других. Это загадочное течение мысли. Казалось бы, в период, когда формируется новый, капиталистический дух, можно было бы ожидать фантастически гипертрофированных описаний присущего ему индивидуализма, свободной конкуренции или же тоски по уходящему средневековому жизненному укладу. Вместо этого нечто совсем неожиданное: предельно стандартизованное общество, одинаковые дома, города, строжайшая регламентация производства, личной жизни. Общество построено на научных принципах и управляется учеными.
С появлением более развитого капиталистического хозяйства перед обществом возникает новая проблема. Макс Вебер иллюстрирует ее следующим примером. Помещик платил жнецам по 1 марке за уборку 1 моргена, и они убирали по 2,5 моргена в день. Желая увеличить продуктивность хозяйства, он увеличил плату в полтора раза, но вместо ожидаемых им 3,75 моргена жнецы стали убирать меньше 2 моргенов на человека, получая примерно те же 2,5 марки. Отгадка в том, что у жнецов существовало устойчивое представление о естественных потребностях и они работали лишь для того, чтобы их удовлетворить. Такой строй мышления типичен для традиционного хозяйства, и, пока он не будет сломан какими-то внешними силами, развитие капиталистического производства невозможно. Необходимо прежде изменить сознание, чтобы производство стало самоцелью, а не средством достижения других человеческих целей.
Эта новая концепция не смогла подчинить себе жизнь еще и в XVII веке. Например, в Англии тогда существовала обширная литература для предпринимателей о том, как вести хозяйство. Обычно совет был — выйти из хозяйственной деятельности, когда капитал достиг 50 тысяч фунтов, так как после этого можно купить поместье и жить как сквайр, а продолжать дело уже бессмысленный риск. То есть принципы хозяйственной жизни еще были скроены по человеческой мерке, человек оставался мерой всех вещей.
Вернер Зомбарт в книге «Буржуа» показывает, как это мировоззрение постепенно заменяется духом позднего капитализма. Например, долг, воспринимавшийся раньше исключительно как элемент человеческих отношений, заменяется векселем, который анонимен — может быть продан и перепродан. Появляются ценные бумаги, и биржа, хозяйство принимает коммерциализированный, абстрагированный (от конкретной трудовой деятельности) характер. Сердцем его становится биржа, центральной деятельностью — продажа акций, а грандиозная работа промышленности оказывается лишь последствием, отражением обращения бумаг. Благодаря появлению ценных бумаг собственность удаляется от человека, с которым она раньше была связана почти как орган его тела. Она легко переходит из рук в руки, становится анонимной, механизированной. Такая механизированная собственность, говорит Вальтер Ратенау, и называется капиталом. Возникают новые «индивидуальности» — тресты, предприятия и т. д. Их единственная цель (то есть мера успеха и конкурентоспособности) — увеличение дохода, а это не имеет естественного предела. Жизнь приобретает характер неограниченного, устремленного в бесконечность процесса, и в этой бесконечности ограниченная человеческая жизнь оказывается бесконечно малой, ничтожной величиной.
Другой стороной служит беспредельное увеличение темпов изменения жизни. Каждое изменение — это разрыв с традицией, но обычно единство, связность развития успевает опять восстановиться. Однако, если скорость изменения жизни превосходит какой-то предел, такое заживление разрыва уже не успевает произойти. В результате нарушается органичность развития, жизнь не опирается на традицию, развитие идет за счет абстрактной, чисто рациональной деятельности. С этой стороной духа капитализма связана большая роль в его развитии переселенцев, эмигрантов — людей, лишенных корней. Примером служат бежавшие из Франции в Германию гугеноты и пуританские переселенцы в Америку. Особенно в последнем случае отсутствие исторической преемственности создало идеальную почву для развития капиталистического хозяйства — и люди и окружающая природа стали в чистом виде объектом хозяйственной деятельности. Все эти черты Зомбарт резюмирует так:
«Капиталистическое предприятие является совершенно искусственным организмом, ему чуждо все органичное, естественно выросшее».
В XIX веке громадную роль начинает играть идеология сциентизма стремление построить жизнь на научных основаниях. При этом имелись в виду главным образом естественные науки, успех которых связывался с абстрагированием от индивидуальных различий. Мир виделся состоящим из одинаковых тел, одинаковых молекул и т. д. Сен-Симон, например, утверждал, что построил Историю как «социальную физику», на едином принципе, аналогичном всемирному тяготению. Его ученик Огюст Конт писал:
«Существуют законы, управляющие развитием челозеческого рода, столь же точные, как те, которые определяют падение камня».
Он считал, что несколько компетентных инженеров могли бы создать гораздо лучший организм для выполнения определенной функции, чем это сделала природа, и что то же верно в отношении общества.
Сен-Симон отводил науке в своей системе столь большую роль, что предлагал, чтобы человечество управлялось великим ньютоновским советом, состоящим из лучших ученых мира с математиком во главе. Во всех провинциях должны быть созданы малые ньютоновские советы и в храмах Ньютона совершаться поклонения ему.
Предполагалось всю жизнь подчинить научным принципам, например создать новую религию «так, как в Политехнической школе учат строить мосты или дороги». Сен-симонизм был ярким примером того, что утопическое мышление и успешная капиталистическая деятельность не только не противоречат друг другу, но прекрасно сочетаются. Среди его последователей были крупнейшие французские капиталисты и промышленники: Анфантен, Родригес, братья Перейра, Тальбо, оказавшие громадное влияние на развитие французской экономики, — создатели новых банков, строители сети железных дорог.
К XX веку развитие технологической цивилизации радикально изменило жизнь людей. Все большая часть человечества используется для производства механизмов или механизмов, производящих механизмы (эта цепь может все удлиняться). Труд все более удаляется от своей цели, то есть смысла, В своей работе люди большей частью не соприкасаются ни с чем живым. Ритм их труда, стиль жизни подчиняются технике. Человек зависит не от себя, а от какой-то внешней силы. Воду он приносит не из колодца, она кем-то подается в водопроводный кран. Он согревается, не топя печку, — кто-то греет его дом кипятком или паром. Он родится не дома, а в больнице и умирает в больнице, где его не провожают священник и близкие. Личные отношения учитель-ученик или врач-пациент растворяются в многолюдных школах и громадных больницах. Жизнь людей стандартизируется как массовое производство. Исчезает национальный стиль архитектуры (Новый Арбат неотличим от набережной Гаваны или улицы Сан-Паулу).
Люди, живущие на противоположных точках земного шара, оказываются неотличимо одинаково одетыми. Газеты прививают человеку стандартный средний язык, а радио убивает местные говоры. Людей всему учит общество. Подростки учатся в кино, как надо целоваться, а на порнофильмах — и более интимному поведению. Человеку трудно ответить — что же такое он сам? Эстрадные звезды, например, меняют свою наружность: цвет кожи (инъекциями гормонов), лицо (пластической операцией), им придумывают хобби и политические взгляды. Их выступления требуют сотен тонн аппаратуры. Сама звезда исчезает как человек, остается лишь точка приложения анонимных сил.
Человек все больше исключается из природных условий, помещается в искусственные. Яркое освещение улиц вырывает его из цикла день-ночь, комфортабельные дома и транспорт — из цикла зима-лето. Даже пространство все больше исчезает из жизни: чтобы добраться из Москвы в Ленинград или Нью-Йорк, надо затратить примерно одинаковое время.
Исчезает дом как место, с которым связаны традиции и семейные чувства. Ле Корбюзье говорил, что дом — это «машина для жилья». Он предлагал разрушить исторический центр Парижа (и Москвы тоже), ибо он построен хаотически, без плана (в Москве это в значительной мере удалось).
Беспочвенность этой цивилизации облегчает ее пересадку на новую территорию, ее экспансию. По словам Ганса Фрейера, для того чтобы утвердиться на новой почве, такая цивилизация совсем не обязательно должна там вырасти.
«Одно-два поколения нужны, чтобы электрифицировать, перевести на международные индустриальные рельсы страну, жившую тысячелетней традицией».
Это и есть то «экономическое чудо», которое совершается то в Сингапуре, то на Тайване.
Вторая научно-техническая революция в середине XX века усиливает и обостряет описанные выше черты западной цивилизации. Вот характеристика этого нового общества словами нескольких видных современных мыслителей.
Льюис Мамфорд замечает:
«Технологическая цивилизация абсорбирует человека целиком — не только в работе, но и потреблении, развлечении, отдыхе, — все организуется ею».
Вся жизнь включается как элемент в массовое производство. Но зато человек может пожить реальной жизнью, подключившись к телевизору, и получить из этого ящика причитающуюся ему порцию человеческих переживаний. Механический мир телевизора все более вытесняет реальный мир. Например, американский подросток до восемнадцати лет проводит в полтора раза больше времени у телевизора, чем в школе и за чтением книг. Это воздействие аналогично гипнозу — здесь нет диалога, невозможен вопрос и нельзя даже, как в книге, перечесть еще раз предшествующую страницу.
Механизмом, обеспечивающим полное включение человека в деятельность технологической цивилизации, служит реклама в широком смысле слова: промышленная, политическая, реклама идей и идеологий. Она основывается на достижениях науки: психологии, социологии, нейрофизиологии. Массовые социологические эксперименты дополняют те принципы, которые были найдены при экспериментах на собаках и крысах. Крыса запускается в лабиринт, где сзади ей грозит удар тока, а в конце — ожидает пища. Она тем самым полностью вырывается из своего обычного окружения, и из бесчисленных экспериментов подобного рода делается вывод о психике крыс, которая оказывается очень похожей на принципы функционирования робота. Эта аналогия вполне оправдывается, если только абстрагироваться от всего, что специфично для крысы и отличает ее от робота! Дальше эти принципы применяются к психике и поведению людей. Громадные затраты промышленных фирм и политических партий на этот «психологический бизнес» и конструируемую им рекламу показывают, что такой метод приносит практические результаты.
Как говорит фон Берталанфи:
«Этот дух господствует в нашем обществе и, более того, по-видимому, необходим для его функционирования: редукция человека к низшему уровню его животной сущности, манипулирование им как автоматом для потребления или марионеткой политических сил».
«Это (может быть, исключая атомную бомбу) — величайшее открытие нашего века: возможность редукции человека к автомату, „покупающему“ все, от зубной пасты и „Битлсов“ до президентов, атомной войны и самоуничтожения».
Изложенный мною взгляд на развитие технологической цивилизации ни в коей мере не является бунтом против техники, науки или городской жизни, желанием (как сказал Вольтер о Руссо)
«встать на четвереньки и убежать в лес».
Рост человечества с нескольких миллионов в конце палеолита до 5 миллиардов ныне — это объективный факт. Ни охотничья, ни чисто земледельческая цивилизация не смогли бы прокормить такое население, потребовались бы какие-то драконовские меры, вроде массового убийства детей. Вероятно, неизбежно было развитие в сторону увеличения удельного веса городов, роли науки и техники. Но тот вариант развития, который все яснее проявляется в последние полтора-два века, явно носит болезненный характер. Несмотря на свои колоссальные достижения в некоторых конкретных областях (например, почти полное уничтожение детской смертности, увеличение продолжительности жизни), этот вариант в целом утопичен. Как и сталинская командная система, западная технологическая цивилизация избрала техноцентрическую идеологию в противоположность космоцентрической. Это всего лишь другой путь осуществления уже знакомой нам утопии об «организации» природы и общества по принципу «мегамашины» с максимальным исключением человеческого и вообще живого начала.
Подобная утопия в самой себе несет залог своей гибели. Основным и наиболее загадочным свойством всего живого (и даже всего органически выросшего) является знание им своей формы, способность к самоограничению. Еще Аристотель заметил, что всякая органичная сущность (например, корабль) имеет свой естественный предел. Отказ от органичности оборачивается для технологической цивилизации потерей этого свойства. Современная техника (как созидания, так и уничтожения) может развиваться лишь неограниченно, увеличиваясь и убыстряясь. Этим она приходит в противоречие с ограниченностью (то есть органичностью) окружающей природы, включающей и человека. Природные ресурсы, способность природы выдерживать разрушительное воздействие техники, способность человеческой психики приспособляться к вечно увеличивающемуся темпу перемен и к механическому характеру жизни все это имеет предел, по-видимому, уже очень близкий. Особенно опасным представляется последний фактор — западные психиатры обращают внимание на быстрый рост психических заболеваний, связанных с потерей чувства осмысленности жизни. Обычно бреды носят технологический характер: больной ощущает себя машиной, он манипулируем, его существование лишено автономного смысла. Вероятно, те же причины лежат в основе агрессивных студенческих волнений и роста терроризма — люди (особенно молодые) ощущают, что жизнь для них становится чем-то непереносимой, хотя им еще неясно — чем именно. Очень сложно себе представить, что эти трудности могут быть преодолены на том же пути, на котором они возникли, — посредством еще более радикального технического воздействия на природу. Скорее выход связан с отказом от техницистской утопии, от техноцентрического мышления.
Но здесь возникает другое противоречие, заложенное в самих принципах технологической цивилизации. Оно связано с ее беспочвенностью, универсальностью, способностью быстро подчинять себе другие культуры уничтожаются возможные запасные варианты, которыми человечество могло бы воспользоваться в случае кризиса этой цивилизации. В период кризиса античной средиземноморской цивилизации человечество обладало целым спектром возможных путей развития. Еще сравнительно недавно можно было надеяться, что Россия, Китай, Япония, Индия, страны Латинской Америки сохранили достаточное разнообразие общественных и экономических укладов, чтобы в случае кризиса технологической цивилизации человечество могло среди них найти альтернативный вариант развития. Сейчас для таких надежд гораздо меньше оснований.
Технологическая цивилизация пришла на смену цивилизации в основном крестьянской, когда подавляющая часть населения жила среди природы, в постоянном общении с животными. Труд был непосредственно связан с его результатом, смысл его — понятен. План работы составлялся, каждое важное решение принималось самим крестьянином — это был творческий труд. Но на другой чаше весов лежали тяжелая, изнуряющая физическая работа, неуверенность в завтрашнем дне, частый голод, громадная смертность особенно детская. Почти каждому взрослому приходилось пережить смерть своего ребенка. Все эти несчастья смогла в значительной степени устранить технологическая цивилизация, но, как оказалось, на собственных условиях. Человек должен был отказаться от своих, человеческих, требований к жизни и подчиниться логике техники. На таких условиях эта цивилизация оказалась исключительно продуктивной — и не только в производстве атомного оружия, но и в выработке энергии или в способности накормить громадное население. Однако человеческие запросы к жизни при этом столь радикально игнорировались, что создалась угроза существованию самого человека. Вся ситуация напоминает сказку, в которой человек заключает договор с волшебником. Договор исполняется волшебником пунктуально, но благодаря тому, что в нем не были записаны какие-то казавшиеся самоочевидными условия, результат оказывается обратным тому, к которому стремился человек. Сейчас человечество близко к моменту, когда по договору надо расплачиваться.
По-видимому, человечество переживает сейчас какой-то переломный момент истории, оно должно найти новую форму своего существования. Этот перелом по масштабу можно сравнить с переходом от охотничьего уклада к земледельчески-скотоводческому в начале неолита. Тогда тоже возникла кризисная ситуация: истребление в результате усовершенствования техники охоты многих видов животных — дикой лошади, мамонта — создало положение, аналогичное теперешнему экологическому кризису. И выход из кризиса (переход к земледелию) был глубоко нетривиален и далеко не прямолинеен. Так, известная неолитическая культура расписной керамики (у нас представленная трипольской культурой) считается археологами попыткой перехода к мотыжному земледелию, по каким-то причинам не удавшейся (так она, но всяком случае, трактуется в учебнике археологии А. В. Арциховского). Этот пример показывает, что в истории бывают линии развития, кончающиеся неудачей. Похоже, что такова и линия развития технологической цивилизации, основанная на идеологии научно-технической утопии. С той, однако, лишь ей присущей особенностью, что ее неудача грозит гибелью не только этой локальной культуре, а всему человечеству и всему живому на Земле.
Сопоставление
Если читатель согласится, что приведенный выше анализ выделяет некоторые существенные черты как командной системы, так и западного либерального течения «прогресса», то мы будем иметь основу для того, чтобы сформулировать ответ на вопрос, поставленный в начале работы: почему у западных либералов существовала симпатия к сталинской командной системе? Оба этих исторических феномена представляют собой попытку реализации сциентистски-техницистской утопии. Точнее, это два варианта, два пути такой реализации. Западный путь «прогресса» более мягкий, в большей мере основан на манипулировании, чем на прямом насилии (хотя и оно играет свою роль в некоторый период его развития: террор Великой французской революции или колонизация незападного мира). Путь командной системы связан с насилием громадного масштаба. Это различие в методах создает видимость того, что оба течения являются непримиримыми антагонистами, однако на самом деле ими движет один дух и идеальные цели их в принципе совпадают. В западном варианте, например, раскрестьянивание экономически осуществляется даже эффективнее, чем при командной системе, — население, занимающееся земледелием, редуцировано в гораздо меньшей части (3,6 процента населения в США). Все более интенсивное применение все более тонких достижений химии и генетики сделало сельское хозяйство похожим скорее на завод или лабораторию — мечта Горького осуществилась!
Хотя, по-видимому, идеология современного западного индустриального общества чисто рационалистична, она так далеко ушла от непосредственных человеческих ценностей, что явно приобрела утопический характер. Западные социологи отмечали, что рациональность капиталистического предпринимателя относится лишь к средствам, но он иррационален в своих целях и мировоззрении.
По словам Симона Рамо:
«Мы должны планировать совместное господство над землей с машинами… Мы становимся партнерами. Машины требуют для оптимального функционирования определенных черт общества. У нас тоже есть свои пожелания. Но мы хотим получить то, что могут нам дать машины, и, следовательно, должны идти на компромисс. Мы должны изменить правила общества так, чтобы они стали для машин приемлемы».
У нас подобное подчинение человека процессу производства было прокламировано еще в начале 20-х годов. А. Гастев писал:
«Современная машина, особенно же машинные комплексы имеют свои законы настроений, отправлений и отдыхов, не находящихся в соответствии с ритмикой человеческого организма… история настоятельно требует ставить не эти маленькие проблемы социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого решающего фактора, как машинизм».
С другой точки зрения описание этого аспекта цивилизации дается в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» словами старой крестьянки:
«Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянетесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека… себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо… Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матёру! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя».
Противопоставление техноцентрического космоцентрическому мировоззрению, описанное на материале нашей деревни 30-х годов К. Мяло, параллельно тому, что пишет Льюис Мамфорд на основании западного опыта:
«Существует глубокий антагонизм между механистической экономикой, центр тяжести которой — сила, и более старой органической экономикой, ориентированной на жизнь. Жизненная экономика стремится к непрерывности, многообразию и сохраняющему структуру целенаправленному росту. Такая экономика скроена по человеческой мерке: чтобы любой организм, любое сообщество, любое человеческое существо имело многообразие благ и переживаний, необходимое для свершения его индивидуального жизненного пути от рождения до смерти. Характерной чертой жизненной экономики является сохранение обусловленных жизнью пределов: она стремится не к максимально возможному количеству, а к нужному количеству и нужному качеству в нужном месте. Ибо слишком много чего-либо так же гибельно для живого организма, как у слишком мало.
Наоборот, экономика, основывающаяся на силе, предназначена для непрерывного и насильственного расширения производства ограниченного типа благ — тех, которые особенно приспособлены для массового производства… Хотя эти современные „силовые установки“ производят максимальное количество высокоспециализированных материальных благ — автомобилей, стиральных машин, холодильников, ракет, атомных бомб, — но они не способны реагировать на гораздо более сложные потребности человеческой жизни, так как эти потребности не могут быть механизированы и автоматизированы, тем более контролируемы и по произволу подавляемы без того, чтобы не убить нечто существенное в жизни организма или в самоуважении человеческой личности».
Для обоих течений существенна опора на мощную технику и подавление органических, традиционных сторон жизни. (Один западный социолог сформулировал даже смысл современной техники так: уничтожить природу и создать вместо нее другую, искусственную.) Наконец, оба течения основываются на разработанной технике управления массовым сознанием. Их родство подтверждается и тем, с какой легкостью новые моды (в одежде, шоу-бизнесе или искусстве) перебрасываются от одного к другому. Такая их близость порождает ощущение духовного родства и может объяснить, почему представители одного течения болезненно воспринимают критику другого, чувствуют, что она ударяет и их.
С этой точки зрения совершенно понятно, почему западные последователи идеологии «прогресса» охладели к нашей стране как раз тогда, когда жизнь в ней стала смягчаться; это смягчение было связано с ослаблением роли утопической идеологии командной системы, которая их привлекала. К тому же нечеловеческая жестокость командной системы предстала слишком неприкрыто, надо было как-то от нее отмежеваться, тут и пригодилась возможность выступить суровыми судьями, списав все жестокости за счет особенностей русского характера и русской истории.
Мы сталкиваемся здесь с тем, что два разных, внешне резко различающихся пути ведут в принципе к одной цели. Однако в истории это случалось уже не раз, и нам будет полезно рассмотреть несколько примеров, вариантов этого явления. Простейший из них — двухпартийные политические системы. Для устойчивого их функционирования необходимо, чтобы конкурирующие партии выступали как антагонисты, внушали, что приход к власти конкурента будет национальной катастрофой. Но столь же необходимо, чтобы политические принципы этих партий в основе своей совпадали. Например, сейчас такая система в Великобритании переживает, кажется, кризис, так как программы лейбористской и консервативной партий стали действительно принципиально различаться.
Другим примером служит соперничество Сталина и Гитлера. Для них лично это, несомненно, была борьба не на жизнь, а на смерть. Но с другой стороны, действия каждого из них парадоксальным образом способствовали успеху другого — и это продолжалось довольно длительное время. Приходу к власти Гитлера очень помогла коллективизация и процессы «вредителей» в СССР — Гитлер уверял немцев, что нечто подобное грозит Германии и лишь он может от этого защитить. Но приход Гитлера к власти укрепил международные позиции Сталина — как противовеса Гитлеру. Они и играли на этих клавишах: один — как единственная реальная защита Европы от «коричневой чумы», другой — от «красной». В этой игре особенно важно было гипнотическое внушение того, что выбор возможен лишь между ними, третьего не дано. Вопрос:
«С кем вы, мастера культуры?» —
имел именно этот смысл, что можно выбирать только между Сталиным и Гитлером.
Многочисленные примеры дают две фракции — умеренная и крайняя в большинстве оппозиционных и революционных движений: пуритане и индепенденты в английской революции. жирондисты и якобинцы во французской, либералы и террористы в России 60-70-х годов XIX века и т. д. Последний вариант отражен в образах Степана Трофимовича и Петра Степановича Верховенских («Бесы»). Его описание с точки зрения очевидца дано Львом Тихомировым (брошюра «Начала и концы»). Он утверждал, что именно либералы снабдили террористов мировоззрением. Для либералов терроризм был лишь крайностью тем, что они хотели бы, но боялись делать. Террористы же считали либералов предателями и, не скрывая, указывали, какой их ожидает конец в случае победы. Похожее настроение господствовало и в «освободительном движении» XX века. Тогда был распространен принцип —
«у нас не может быть врагов слева».
Это создавало очень своеобразную ситуацию: группы, находившиеся «левее», могли вести себя по отношению к соседям «справа» как к врагам, а те не могли им ответить тем же!
Поучительный пример подобной ситуации — известная дискуссия, когда Каутский выступил с критикой политики «военного коммунизма». Троцкий ответил ему целой книгой
(«Анти-Каутский»),
Каутский — еще одной книгой
(«От демократии к государственному рабству. Ответ Троцкому»).
В последней книге есть интересный параграф:
«Грозящая катастрофа».
В нем Каутский с несокрушимой логикой доказывает, что скорый крах большевизма неизбежен. По поводу ситуации «после краха» он пишет:
«То, чего мы опасаемся, это не диктатура, а нечто иное, пожалуй, гораздо худшее. Вероятнее всего, что новое правительство будет чрезвычайно слабо, так что оно не сможет, даже если захочет, справиться с погромами против евреев и большевиков»,
«потому можно понять тех социалистов, которые говорят, что хотя большевизм и плох, но еще хуже то, что наступит после его гибели, и что потому мы вынуждены защищать его, как меньшее зло».
Так что основным аргументом оказывается не сочувствие загубленным жертвам «расказачивания» или расстрелянным священникам. Пугает то, что проводимая политика «вредна для дела». Но тогда в несколько другой ситуации, чтобы «не повредить делу», можно нащупать и другой выход — поддержать, затушевать слишком неприглядные черты, создать лучший образ в глазах общественного мнения. Это уже делает более понятным отношение западных либералов к Сталину. К тому же он для них несомненно находился «слева», а «слева не может быть врагов».
Остается трудный вопрос о том, как совместить гуманность и уважение к человеческой личности, присущие западному либерализму, с полной антигуманностью сталинского режима. Западный либерализм несомненно много способствовал распространению гуманности, представители именно этого течения боролись против процессов над ведьмами, за отмену пыток, укрепление всевозможных гарантий свободы личности. Однако все это относится лишь к жизни внутри общества, принявшего принципы прогрессивно-либеральной идеологии, гуманность никак не распространяется на остальную часть человечества. Это связано с важной чертой идеологии прогресса гипнотической убежденностью в том, что она открывает единственный путь развития человечества. В следовании ей и заключается «прогресс» и цивилизация. «Прогрессивным» было в истории все то, что вело к созданию современного западного общества, только такие общества и составляют предмет истории. Других культур не существует — это лишь тупики на пути «прогресса» или даже препятствия «прогрессу».
На эту парадоксальную концепцию указывали, например, русский мыслитель Данилевский и английский историк Тойнби. По мнению последнего, она будет рассматриваться нашими потомками как исторический курьез. Подобный, например, письму китайского императора Чуэн Лунга, посланному в 1793 году английскому королю Георгу III. Император выражает удовлетворение прибытием британского посла, так как Китай всегда стремился к распространению просвещения, но выражает сожаление, что посол оказался совершенно неспособным к обучению церемониям и культуре. Таков был и взгляд египетских жрецов, даже в то время, когда над их страной уже сменилось ассирийское, персидское, македонское и римское господство. Тойнби считает его признаком окостенения и началом упадка цивилизации.
Западная концепция единственности исторического пути порождает понятия «передовых» и «отсталых», «развитых» и «развивающихся» стран. Только она оправдывает высказывания о том, кто от кого отстал и даже на сколько лет (например, Сталин утверждал:
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет»).
Хотя, кажется, это никогда явно не формулировалось, но такая точка зрения предполагает исторический процесс одномерным. Но даже грубый материальный мир, по представлениям современной физики, не может быть описан при помощи трех измерений: требуется внести четыре, десять или двадцать шесть измерений. А гораздо менее тривиальный мир истории предлагается мыслить одномерным! Интуитивно история представляется так, как если бы какие-то букашки ползли по веточке: одна букашка уползла вперед, другая от нее отстала. В одном месте от веточки ответвляется отросток, букашка свернула на него — это тупиковая линия развития.
Концепций исключительности западной цивилизации делает западную прогрессивно-либеральную идеологию совершенно глухой к любым трагедиям, разыгрывающимся и других цивилизациях, — эти цивилизации, с ее позиций, существуют как бы «незаконно», являются помехами на пути человечества к прогрессу. Поэтому Запад и способен соединять высокую гуманность внутри с крайней жестокостью ко всему, находящемуся вовне. Один из множества примеров — истребление переселенцами-пуританами североамериканских индейцев. Их натравливали друг на друга, скупая скальпы, им подбрасывали отравленную муку, травили собаками, устраивали на них облавы, расстреливали. (Один фермер — участник массового убийства в долине Моргана — вспоминает, например, что они не решались стрелять в детей из винтовок большого калибра, так как их разнесло бы в клочья, их убивали из револьверов Смит-Вессон.) И самое радикальное средство — распахивали прерии, служившие для кочевья (спустя несколько десятилетий деликатная, не приспособленная для пахотного земледелия почва прерий превращалась в пыль и в виде пылевого облака уносилась ветром в океан). А в заключение уничтоженная цивилизация убивалась еще раз — духовно, вычеркиваясь из истории или входя в нее как тупиковая, обреченная на гибель линия развития. Если обратить внимание на эту сторону «прогресса», то окажется, что гораздо гуманнее были, например, центральноафриканские государства, где ежегодно в жертву богам плодородия приносилось всего несколько сот человек! И не вызывает никакого удивления, что западные либералы полностью игнорировали все зверства сталинского режима, бывшего для них лишь
«блистательным историческим экспериментом».
Уже было отмечено, что технологическая цивилизация не несет в себе представления о своих границах — она неограниченно и агрессивно распространяется по земле. Так она стала проникать и в Россию, сначала в своем стандартном западном варианте: через обезземеливание крестьян, имущественное расслоение деревни, рост числа промышленных рабочих, строительство железных дорог, увеличение экспорта и включение в мировой рынок. Однако этот процесс наткнулся на глубокую укорененность, устойчивость крестьянской цивилизации. Для крестьян речь шла не просто о выборе более выгодной профессии — уход из деревни означал для них разрыв со всем, что придавало красоту и смысл их жизни. Он требовал от них отказа от всей системы нравственных ценностей, жизни в мире, лишенном внутреннего смысла и морального оправдания. Глеб Успенский описывает впечатления крестьянина, ушедшего в город:
«Он испугался этой голой работы из-за денег: ему трудно было жить без „своих“, трудно работать без их поддержки».
Потерпев неудачу, он возвращается:
«Как ни изнурят, ни измучают его, но свои места, а главное — возвращение „к крестьянству“, то есть земледельческому труду, вновь восстанавливает все его нравственные силы, уничтожает на его лице следы болезней, горя, негодования, — и вновь это лицо глядит спокойно, благородно и приветливо…»
Толстой много раз описывал судьбу крестьян, ушедших в город: алкоголизм, нищенство — для мужчин; публичный дом, смерть от сифилиса в больнице — для женщин. Что означает для крестьян разрыв с родной землей — описано и в
«Прощании с Матёрой» В. Распутина.
Но это уже эпоха, когда последний маленький островок деревенской жизни захлестывают волны технологической цивилизации, — можно представить себе, насколько сильнее звучал голос земли, когда крестьянская цивилизация еще не была подорвана.
В результате подчинение России стандартам технологической цивилизации тормозилось, а в ответ эта цивилизация создала образ России
«препятствия на пути к прогрессу человечества».
Русские террористы вызывали сочувствие либерального общественного мнения Запада, а русские финансовые займы неизменно наталкивались на сопротивление. Дошло до того, что в первую мировую войну, когда русские солдаты массами гибли, спасая дело союзников, правительства западных стран Антанты вынуждены были оправдываться перед своими парламентами, что связали себя с таким реакционным режимом. А их послы в России систематически раскачивали этот режим, способствуя выходу из строя одного из главных своих союзников.
Давление технологической цивилизации: разорение значительного числа крестьян и разрушение общины, образование фермерских хозяйств, уход большой части населения в город — все это было тяжелым потрясением для крестьянской цивилизации. Возникло ощущение угрозы основным жизненным ценностям со стороны плохо понятого, невидимого врага, повысился уровень агрессивности. Это создало предпосылки для успеха второго, командного, варианта технологической утопии, по видимости диаметрально противоположного первому, опирающегося на возникшие в народной психике стрессы. Так и в этом случае успех одного из двух соперничающих вариантов проложил путь другому, по пословице:
от волка бежал, да в болото попал.
Рассмотренный нами вопрос, относящийся, казалось бы, к прошлому, становится вновь актуальным сейчас, когда наша страна стоит перед выбором, от которого, возможно, зависит все ее будущее. Мы видим, сколько сил уходит на преодоление инерции командной системы. А если мы ошибемся в выборе и страна разгонится по новому пути — откуда взять силы, чтобы опять остановиться? В таком положении надо извлечь все что можно из опыта прошлого. Дает ли нам что-либо предшествующий анализ? Он заведомо не дает и не претендует дать одного: четкого указания на оптимальный путь развития, плана на будущее. У автора не только нет подобных предложений, но имеются серьезные опасения по поводу них в принципе. Мы очень привыкли в науке и технике к такому ходу решения задачи: идея — детальный план — модель или эксперимент — и, наконец, воплощение в жизнь. На этом чисто рационалистическом пути действительно создаются и заводы и атомные бомбы, но так никто не создал ни нового растения, ни животного. Жизнь творится какими-то другими путями, а история — это форма жизни. Чисто рационалистическое творчество история тоже знает, но так создаются утопии, а, по словам Бердяева, утопии обладают тем недостатком, что в наш век слишком легко реализуются. Органичные же изменения общества происходят, по-видимому, другим путем, более похожим на рост организма или биологическую эволюцию. Они не придумываются, а вырастают из жизни, и роль человеческой рациональной деятельности здесь главным образом в том, чтобы их узнать, угадать их значение и способствовать их укоренению.
Но другой, гораздо более скромный вывод из предложенного выше анализа, пожалуй, все же можно сделать. Это — призыв к отказу от взгляда на историю как на одномерный процесс. В сегодняшней ситуации такой взгляд выражается в виде утверждения, что для нас возможен лишь выбор из двух путей: назад — возврат к командной системе и вперед — максимальное приближение к западному образцу, повторение западного пути. Это вообще не выбор — Запад болен всего лишь другой формой болезни, от которой мы хотим излечиться. Оба, пути ведут к одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу. Конечно, такой конец не предопределен, в обоих вариантах есть надежда найти какой-то выход, без нее невозможно было бы и жить. Но то, что является выходом для Запада, может не быть выходом для нас. В западной цивилизации, кроме бросающегося сейчас в глаза утопически-техницистского течения, заложены и громадные жизненные силы. Об этом свидетельствует и прекрасное искусство, созданное начиная с эпохи Возрождения, и глубокая и красивая наука. Там веками вырабатывались многообразные методы контроля и воздействия одних слоев общества на другие (хотя и отточена техника отвода глаз, психологической обработки). Наша история создала другие, во многом отличные силы, и наш путь должен опираться именно на них.
Призыв «догнать» представляется вообще весьма рискованным, если он относится к социальной области, а не к реальным бегунам. Попытка повторить чужое творчество (а история — творческий процесс) обычно приводит не к точной копии, а к продукции второго сорта. Лишь найдя какой-то свой путь, удается обычно достичь того же или более высокого уровня.
Чтобы получить полноценную копию западного образа жизни (даже со всеми его недостатками и опасностями), надо иметь в качестве исходной точки их средневековье и прожить их последующий путь. Эти триста лет никаким способом нельзя сжать в тридцать. Если же копировать лишь некоторые результаты этого развития, то мы получим скорее всего нечто более похожее на Латинскую Америку, чем на США и Западную Европу. То есть колоссальный долг передовым странам (а он уже и сейчас не мал), разорение природы, вопиющее имущественное неравенство, терроризм и тоталитаризм. Параллельность утопических тенденций командной системы и западного общества дает возможность легко взаимодействовать созданным в них экономическим структурам, и грандиозные западные капиталовложения без тех защитных мер, которые Запад мучительно и долго вырабатывал, смогут окончательно разорить страну за несколько десятилетий.
Западный опыт, конечно, должен быть использован, но с большой осторожностью, не как образец, которого необходимо достичь. Надо мобилизовать опыт всех более органичных форм жизни: раннего капитализма, «третьего мира» и даже примитивных обществ. На Западе сейчас растет интерес к этим вариантам исторического развития — именно в поисках структур, которые возможно использовать для преодоления современного кризиса. В обширной литературе исследуется система ценностей в обществах «третьего мира» и в примитивных обществах — например, относительная ценность свободного времени и материальных благ, принципы отношения к природе, к традиции, воспитанию, культурная и религиозная жизнь этих обществ. Для нас же самой близкой и понятной является та крестьянская цивилизация, среди которой еще так недавно протекала жизнь наших предков. Вернуться назад к ней никак нельзя — в истории вообще возврат невозможен. Но она может стать для нас наиболее ценной моделью органически выросшего жизненного уклада, у которого можно многому научиться, и главное, космоцентризму — жизни в состоянии устойчивого социального, экономического и экологического равновесия.
Это раньше всех ощутила литература, как всегда, более чуткая. Таково, как мне кажется, происхождение феномена «деревенской» литературы и объяснение ее успеха. Причем успеха не только у нас, но и на Западе.
На «деревенскую» литературу возможны три точки зрения. Можно считать, что она представляет этнографический интерес как живописующая хоть и отошедшую в прошлое, но любопытную и своеобразную микрокультуру. Другая точка зрения была недавно очень ярко высказана в предисловии, написанном В. Солоухиным к вышедшей во Франции антологии «деревенской» прозы. Он пишет:
«Эти люди, родившиеся в русской деревне, выросшие в ней и хоть немного помнящие, какой она была, прощаются, в сущности говоря, с родной матерью, оставаясь одинокими и беззащитными на холодном и беспощадном ветру истории».
То есть речь идет о реквиеме, или, вернее, русском плаче, по прекрасной погибшей цивилизации и, следовательно, о литературе, обращенной в прошлое. Но возможна и третья точка зрения, примыкающая к изложенным выше соображениям. Искусство делает, казалось бы, невозможное: воскрешает крестьянскую цивилизацию — хоть и не в жизни, а в наших переживаниях. Мы соприкасаемся с нею и понимаем ее гораздо глубже, вернее, чем если бы пользовались любыми средствами социологии и этнографии. Нам открывается пример органичного, устойчивого общественного уклада, основанного на глубоком единстве человека и космоса: модель того уклада, поиск которого главная проблема современного человечества. Отсюда понятна притягательность и успех «деревенской» литературы — она указывает путь в будущее.
В заключение еще один беглый взгляд из более отдаленной перспективы на современный кризис. Он бесконечно обострился, приобрел взрывной характер в последние десятилетия, но корни его очень древние — это итог развития, длящегося десятки тысячелетий. Усовершенствование методов охоты, переход от охоты к земледелию или от сохи к плугу, создание мощной искусственной ирригации, развитие промышленности — все это одна линия усиливающегося воздействия человека на природу. Этот процесс сопровождался постоянным ростом населения Земли. Очевидно, что оба процесса имеют естественный предел, к которому мы, по-видимому, приблизились. Столкновение с таким пределом и порождает экологический и демографический кризисы. Единственный возможный выход — перейти от развития, основанного на постоянном росте, к стабильному стилю существования. В частности, бэконовский принцип
«покорения природы»
должен быть заменен противоположным —
«покорения техники».
Но ведь это означает изменение всего характера жизни, смену основного вектора, характеризовавшего движение человека по крайней мере с момента возникновения homo sapiens. Такого коренного, глобального перелома всего хода истории человечество еще не знало. В области экологии не видно даже и признаков конца переломного периода, выхода из того кризиса, который сейчас переживает человечество. Оно находится в самом его начале, мы только начали осознавать это. Социальным аспектом начальной фазы этого периода является и наша командная система, и утопическая линия развития позднего капитализма. Очевидно, что такой кризис захватит несколько веков, — таковы прогнозы и в области демографического кризиса (если, конечно, эти века будут нам даны, если человечество в принципе способно вписаться в равновесие природы). Вряд ли у нас сейчас есть хоть какие-то основания предугадать, как человечество выйдет из кризиса. Но, возможно, по крайней мере освободится от мертвых схем, которые не дадут этот выход увидеть. Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор.
Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1989, № 7.


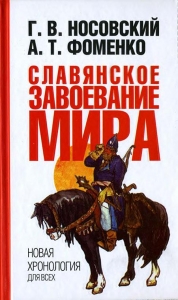


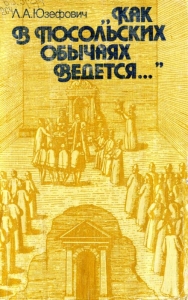

Комментарии к книге «Две дороги - к одному обрыву», Игорь Ростиславович Шафаревич
Всего 0 комментариев