Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года: экзистенциальное измерение
Редакционная коллегия:
Е.В. Абдуллаев, О. А. Довгополова, А. А. Каменских (отв. ред.)
Рецензенты:
доктор философских наук Д. Б. Бирюков
доктор философских наук В.М. Лурье
доктор философских наук В. И. Повилайтис
историк русской философии и общественной мысли XX века В.М. Кейдан
Попытка предисловия: страницы путеводителя растерянных
Когда мы задумываемся о событиях, изменивших судьбы целых государств, нам легко оперировать «большими величинами». Неудивительно – ведь кажется, что нигде воля огромных масс людей не становится столь очевидной, чем в описании революций, завоевательных войн, социальных потрясений. Четкие очертания приобретают как волевые усилия побеждающего сообщества, так и катастрофическое разрушение мира тех, кто не смог вписаться в новые контуры вселенной. Чем дальше от нас событие, тем больше искушение видеть именно «большие величины» – ведь иначе невозможно понять, что происходило с каждой отдельной точкой меняющегося пространства. Вопрос о собственном поведении в ситуации цивилизационного слома для честного перед собой человека, как правило, не возникает – невозможно рассчитать собственный выбор в ситуации, которую мы принципиально не способны пережить. Не возникает до тех пор, пока не появляется ощущение приближения чего-то, возможно, совершенно иного по природе, но сопоставимого по масштабам. Это ощущение меняет оптику восприятия далекой эпохи – вопросы, которые определяют ситуацию нашей современности, влекут за собой и то, о чем мы вопрошаем прошлое. Когда теряешься в попытке осознать, что происходящее вокруг значит именно для меня, становится предельно ясно, что другие люди уже вглядывались в мир вокруг себя в поисках ответа. И эти люди много лет назад свой выбор осуществили. Нам сегодня видно, к чему этот выбор привел – иногда это история успеха, иногда – катастрофической ошибки. Эпоха перелома не дает воспользоваться «рецептом», тут человек действует на свой страх и риск, руководствуясь некими предельно значимыми для себя ориентирами. Понять, что именно заставило его сделать тот или иной выбор – тот еще интеллектуальный квест. Особенно если пытаешься найти ответ на собственный вопрос, заданный из собственного времени.
Авторы этой книги в разное время задали себе именно эти вопросы. Сконцентрировав взгляд на переломе 1917 года, несколько гуманитариев из разных стран попытались увидеть разные варианты «экзистенциального жеста» представителей академического гуманитарного знания и художественного пространства. В августе 2015 в пермском филиале национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» эти теоретики смогли поделиться результатами своих поисков. Международный научно-образовательный семинар «Гуманитарная наука в России и перелом 1917 г.: экзистенциальное измерение» открыл некое общее поле мысли, позволившее создать общий текст, представленный в этой книге. Исследовательская группа имела уже опыт анализа феномена «человека исторического» (в августе 2014 года мы собирались в Перми на научно-образовательном семинаре «Человеческое измерение времени», а ранее – на трех семинарах «Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории» в Одессе: все названные мероприятия организовывались авторами этих строк). Постановка вопросов в том виде, в котором они представлены в данном издании, не была бы возможна вне опыта работы в рамках «Краковских встреч», ежегодных конференций по русской философии, организуемых под руководством профессора Университета Иоанна Павла II (Краков, Польша), сестры Терезы Оболевич.
Какова была цель нашего совместного поиска? Мы попытались разработать ту методологическую оптику, которая позволяет анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории.
Экзистенциальный жест человека в этой ситуации в значительной мере определяется историчностью его мышления и необходимостью преобразовывать сложившиеся представления о собственной роли в истории под влиянием не зависящих от него обстоятельств. С предельной ясностью варианты подобной реализации экзистенциального жеста раскрываются в контексте жизненного выбора представителей академической среды. Принадлежность к гуманитарному академическому пространству предполагает осознание значимости традиции и одновременно тренированность критического мышления (таким образом, человек не может «автоматически» принимать предложенные обстоятельства и неизбежно рефлексирует по поводу их исторической значимости). Ситуация первой четверти XX века оказывается предельно продуктивной для изучения интересующего нас экзистенциального жеста[1], ибо первые значимые сломы академической традиции произошли именно в это время – первый в 1914 (начало первой мировой войны) и 1917 (дата, значимая в первую очередь для российской университетской жизни). При этом те социальные трансформации, которые стали причиной указанных сломов, воспринимались современниками не как «катастрофа» или случайное сочетание событий, а как действительное творение истории, ориентированное на создание принципиально нового общества (вне зависимости от оценки происходящего).
В этой ситуации с предельной резкостью перед человеком встает задача «перезапуска» собственного проекта жизни в контексте цивилизационного слома. Для гуманитария вопрос самоопределения в исторической ситуации оказывается вопросом выживания – методологическая позиция исследователя могла оказаться пропуском как к карьерным высотам, так и к социальной изоляции (в лучшем случае). Реакция представителей академического пространства как носителей исторического сознания зачастую оказывается «несимметричной». Это чаще всего не политическая деятельность, но методологический выбор, оказывающийся экзистенциальным жестом человека в истории.
Несимметричные реакции интеллектуалов в ситуации обрушения привычного академического уклада кажутся провальными в контексте бурно развивавшихся политических событий. При этом внимательный взгляд на судьбы российских профессоров (и шире – «людей университета»), частично оказавшихся за рубежом, частично действовавших на родине, позволяет убедиться в существовании особой интеллектуальной позиции, являющейся адекватным выбором в ситуации политического взрыва. Убежденность в значимости критического мышления и исторической компетентности в построении политической идентичности создают ту особую экзистенциальную платформу, на которой избравшие её люди оказываются иногда более успешны с точки зрения влияния на «судьбы мира», чем проекты жизни «пламенных революционеров» или отважных воинов (примеры – участие Л.П. Карсавина в разработке основ современной литовской историографии и в целом – в создании литовского академического языка; сходную роль по отношению к болгарской гуманитарной науке сыграли работы П.М. Бицилли; можно вспомнить значимость работ Александра Койре, Георгия Вернадского, Александра Кожева для разработки проблем современной истории и социологии науки, значение П.А. Сорокина для американской социологии и философии истории).
Необходимость выстраивания индивидуальной жизненной позиции позволяет рассмотреть жизненные проекты российских интеллектуалов за рубежом и на родине как уникальные эксперименты, цели которых выходят далеко за пределы потребностей отдельного человека. Значимо рассмотреть как успешные, так и условно «провальные» проекты, чтобы обозначить данный жест максимально выпукло. Для организаторов семинара значимо соучастие в исследовании представителей тех академических традиций, частью которых стали российские гуманитарии-эмигранты.
Для современного представителя академического мира предлагаемая проблематика оказывается предельно актуальной. Мощные тектонические сдвиги геополитического характера, детектируемые в последние десятилетия, не позволяют нам выстраивать собственную жизненную позицию в контексте представлений об эволюционном развитии мира. Цивилизационная динамика ставит перед гуманитарием вопрос о его собственной ответственности за направленность развития мира, в котором он живет В противном случае гуманигаристика оказывается бесполезной. Тщательный анализ экзистенциальных жестов людей, переживавших типологически сходную ситуацию, является, таким образом, значимым не только в теоретической, но и практической перспективе.
Авторы данной работы скорее ставят перед собой вопросы, нежели отвечают на них. Представляется, что взгляд в эту сторону приобретает с каждым годом всё большую актуальность, иногда – пугающую. Для организаторов проекта принципиально важным стал живой разговор единомышленников, в котором обозначились многие значимые моменты нашего общего поиска. Мы благодарим пермский филиал Высшей школы экономики за предоставление площадки и неоценимую поддержку в проведении семинара 2015 года. Без этой поддержки (зачастую не только административной, но и просто человечески-теплой) наше совместное усилие вряд ли дало бы те плоды, которыми мы с некоторым трепетом делимся в этой книге.
Несколько слов о структуре книги. Центральная тема нашего общего поиска – экзистенциальный жест гуманитария в рушащемся мире. Мы попытались разглядеть несколько штрихов на полотне, видном в разломе времен и цивилизаций. Представить себе, как в это полотно вплелись несколько очень ярких нитей, взятых из общего «клубка», а после разбросанных по разным частям нового мира. Каждый из описанных нами «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже способа интерпретации происходящего. Здесь не может быть связного сюжета. Поэтому в основу структуры книги положен сугубо «внешний» критерий: один из разделов посвящен пути, который проходит человек внутри революции; второй – жесту тех, кто принял решение остаться на родине после революции; третий – поиску своего места вне страны, где родился; в отдельный раздел мы выделили размышления вокруг фигуры Георгия Флоровского. Одни и те же имена могут оказаться в разных разделах – в зависимости от оптики рассмотрения. Колебания между решением выстроить книгу «по персоналиям» или «по проблемам» закончились компромиссным вариантом, в котором нам увиделась внутренняя логика. Эта книга – наш «оммаж», наша благодарность её героям. Тем людям, чьей помощи мы ищем в собственном мире, утрачивающем контуры.
Оксана Довгополова
Алексей Каменских
В сердце циклона: путь сквозь революцию
Образы бунта в творчестве М. Пришвина и В. Розанова: елецкий текст Александр Скиперских
Город Елец Орловской губернии. Елецкая мужская гимназия. 1889 год…
Данный пространственно-временной континуум стал общим для двух русских философов – Михаила Пришвина и Василия Розанова. Отношение к Ельцу как к городу для них могло совпадать – и для одного, и для другого, Елец не представлялся родным. Елец – скорее, точка, где должны быть реализованы некие жизненные стратегии. М. Пришвин приезжает в Елец учиться, а В. Розанов, наоборот, преподавать историю и географию.
Показательно, что в собственных текстах философам открывается разный Елец. И если для В. Розанова «домик в четыре окошечка, подле Введения» сразу вписывается в религиозный этнопейзаж, то М. Пришвину из окон съёмной квартиры на углу Бабьего базара открывается дорога на Чернослободскую гору, как будто предваряя странствия и скитания. Вид в окне, тщательно реконструируемый философами в автобиографической прозе и дневниках, кажется, предопределят их эстетические и этические выборы. Данные выборы различны, а в каких-то случаях и прямо противоположны. В этом тексте мы попытаемся несколько подробнее остановиться на этих различиях в восприятии двух выдающихся современников, волею случая встретившихся в Ельце.
Вообще, необходимо отметить, что этнопейзаж является некоей объективной данностью, подчиняя себе грезящего, мечтательного интеллектуала, и выступая для него некоей сдерживающей рамкой. Существование данных барьеров, в принципе, является неким проявлением власти, исподволь оказывающей влияние на общество, и приучая его к воспроизводству определённой модели поведения. В этом можно увидеть некую системность, потому как «господство над пространством и пребывающими на нём людьми посредством барьеров и всевозможных ограничений было признаком власти и гарантией безопасности» [4,474].
В полной мере это может распространяться и на фигуры В. Розанова и М. Пришвина, проявляющиеся для внимательного исследователя в обрамлении елецкого этнопейзажа. Елецкий этнопейзаж притягивал и взгляд И. Бунина, которому город откроется практически в одно и то же время с периодом знакомства Розанова и Пришвина. Вспомним, как в «Жизни Арсеньева» религиозный этнопейзаж обусловливал языковой мир героя И. Бунина: «Там при въезде в него древний мужской монастырь… Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола» [5, 107–109].
Религиозный этнопейзаж пронизывает городской топографический паспорт вне зависимости от времени суток, или от времени года, вторгаясь в грёзу субъекта о местах родных и близких. Вот почему И. Бунин однажды напишет об особенностях елецкой погоды(не забывая, впрочем, разглядеть в снежных, метельных полчищах своих моральных соглядатаев): «Иногда по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни» [5, 116].
Так уж вышло, что на елецкий текст В. Розанова и М. Пришвина накладывает свой отпечаток конфликт, произошедший между ними на одном из уроков географии. Конфликт был настолько серьёзен, что М. Пришвину пришлось пережить исключение из гимназии в марте 1889 года.
Вместе с тем, представляется довольно интересным, что география – розановский предмет, наверное, был едва ли ни самым интересным для Пришвина по сравнению с другими предметами. Об этом есть свидетельство писателя в автобиографической «Кащеевой цепи», когда он вспоминает, что в его кондуите «единицы стояли как ружья». «Знаешь, из тебя что-то выйдет», – слова, однажды сказанные Розановым – Пришвину на уроке географии [11, 66].
С этого момента, постепенно, М. Пришвин заставляет обращать внимание на себя, хотя стремление к защите собственного «я» отмечалось им и ранее: «С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за собственное имя» [11, 8]. В этом откровении скрывается довольно серьёзная претензия на способность отстаивания своего права формулировать смыслы. Здесь важен и публичный контекст – право на дискурс не может утверждаться вне этого контекста. Видимо, случай с В. Розановым как раз и представляет собой попытку попрания собственной исключительности, самости, индивидуальности.
В этом смысле Розанов и Пришвин представляются своеобразными максималистами. С той лишь разницей, что В. Розанов – консерватор противопоставляется М. Пришвину – марксисту. Мечтательный и богобоязненный Розанов – человеку действия – Пришвину, симпатизировавшему нарождавшимся в России левым течениям, ставившим под сомнение существовавший политический порядок. То, что для В. Розанова являлось своеобразной мечтой, вынашиваемой в течение всей жизни (созерцание ускользающего «Востока»), для М. Пришвина оказалось делом каких-то недель (прогремевшее на весь Елец бегство в Азию-Америку).
Безусловно, учитель не мог не оценить подобной дерзости своего ученика. Потаённый бунт В. Розанова во всех смыслах проигрывает волевому акту молодого гимназиста. Сложно представить, что в дальнейшем со стороны В. Розанова не последовало каких-либо экивоков по этому поводу, тяжело переносившихся молодым Пришвиным. Можно согласиться с А. Варламовым, отмечавшим, что В. Розанов, как «автор журналов с противоположными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами, едва не отлученный от церкви горячий христианин и печальный христоборец был по натуре великим подстрекателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно пал его жертвой» [6].
Переводя это на язык современной культуры, можно сказать, что Пришвину пришлось испытать на себе тонкие передёргивания и «маньеризм» Розанова – его своеобразный «троллинг». Кстати, в своих воспоминаниях на эту черту Розанова указывает и А. Белый: «При встрече меня он расхваливал – до неприличия, с приторностями, тотчас в спину ж из “Нового времени” крепко порою отплёвывал» [3, 480].
Здесь, вероятно, мы сталкиваемся с ситуацией противопоставления амбивалентности В. Розанова некоторой цельности М. Пришвина, выражающей его юношеский максимализм, не допускающий никакого обсуждения за спиной.
Стремление к бунту (демонстрации собственного «я») словно нарастает в Пришвине. После громкого бегства – ещё более скандальное отчисление из-за недвусмысленных угроз гимназическому географу. Юный М. Пришвин как будто подтверждает серьёзность своих намерений, а также последовательность в достижении целей. Уже после отчисления М. Пришвина из гимназии, страхи В. Розанова за свою жизнь кажутся небезосновательными. С молодыми марксистами шутки плохи – В. Розанов интуитивно понимает серьёзность своего крамольного ученика.
Страхи Розанова очевидны, иначе он не делился бы ими с близкими и знакомыми, иначе ему не приходится покупать «трость для защиты от юного барича» [15, 200–201].
Так, в цикле «Смертное» (1913) Розанов упоминает о разговоре со своей невестой Варварой Дмитриевной Бутягиной весной 1889 года: «В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер» [13, 54].
Достаточно подробно о произошедшей ситуации В. Розанов сообщает в письме к Н. Страхову от 21 марта 1889 года: «3-го дня и со мной случился казус: поставил я ученику 4-го класса, не умевшему показать на карте о. Цейлон, двойку. Он пошел на место, сел, а потом встал и говорит: “Если меня из-за географии оставят на 2-й год, я все равно не останусь в гимназии, и тогда с Вами расквитаюсь”, и еще что-то, я от волнения не расслышал: “Тогда меня в гимназии не будет – и Вас не будет”; поговорил и сел. Через несколько минут встает: “Я это сказал в раздражении, когда я раздражаюсь – никогда не могу себя сдерживать, и прошу у Вас извинения”» [15, 200–201]. Изложенные В. Розановым события в данном письме практически в точности воспроизводятся и в докладной записке на имя директора гимназии, представленной ему днём ранее.
Чувствуется, что тема гимназиста Пришвина могла проявляться в диалогах В. Розанова с другими представителями философского и литературного сообщества. Так, в своём очерке «О понимании» А. Ремизов также пересказывает случившийся конфликт В. Розанова с его учеником [1,228–229].
Спор двух интеллектуалов уже был, так или иначе, раскрыт в научной, краеведческой и художественной литературе [7; 8 и др.]. Прогремевший на весь провинциальный Елец, конфликт В. Розанова и М. Пришвина остался в памяти ряда свидетелей и участников. В частности, в тексте «Главный доктор республики» советского драматурга С. Ласкина, посвящённого Н. Семашко, причиной конфликта выступает не совсем достойное для учителя поведение в отношении именно Н. Семашко – будущего Наркома здравоохранения СССР. В том же тексте М. Пришвин как бы вступается за своего гимназического друга, чем вызывает возмущение В. Розанова.
В этом очерке мы не претендуем на детальное описание конфликта, его точную хронологию и уточнение особенностей поведения сторон – это предполагало бы тщательные краеведческие штудии. Наша задача – попытаться рассмотреть данный конфликт как некую логическую точку пересечения этических и эстетических мировоззренческих траекторий. Именно в данной точке могло быть актуализировано различие творческих и гражданских биографий интересующих нас фигур. Данный конфликт, казалось бы, претендующий на оценку в педагогическом контексте, на самом деле, имеет под собой несколько иные основания. Его, на наш взгляд, правильнее рассматривать в политическом контексте. Различие политических взглядов поспоривших интеллектуалов, постепенно доносящееся до нас в их текстах, отчасти, может служить неким доказательством выдвинутой нами гипотезы.
Как в современной России тема присоединения Крыма поляризует общественный дискурс, так и отмеченные нами темы не могли не вызывать у интересующих нас интеллектуалов справедливой рефлексии.
На наш взгляд, можно выделить две темы (государство и царь), подтверждающие политические несовпадения В. Розанова и М. Пришвина. Конечно, оценки государства и места царя могли даваться ими позже, чем произошёл данный конфликт. Тем не менее, вряд ли интересующие нас интеллектуалы могли с точностью до наоборот поменять свои представления о данных институтах. Богобоязненность Розанова, сочетающаяся с уважением государства, равно как и бунтарство Пришвина, его увлечения марксизмом, стремление стоять за собственную правду и отсутствие пиетета в отношении начальства – это тот «капитал», с которым интеллектуалы вошли в конфликт в Елецкой гимназии. Этот конфликт носил фундаментальный характер, раскрывая серьёзные различия, существовавшие между Розановым и Пришвиным.
Государство
Для Розанова, безусловно, государство представляет собой один из самых важных политических институтов. Политическое кредо писателя легко реконструируется по одному только дневниковому признанию 1914 г.: «Моё дело любить государя и повиноваться ему» [14, 200].
Государство – аппарат насилия и принуждения, и Розанов ни в коем случае не опровергает данный тезис. Несмотря на свою текучесть и парадоксальность, отношение к государству как к политическому институту у В. Розанова остаётся достаточно ровным. Сказалась, видимо, и определённая законопослушность В. Розанова, не решающегося оспаривать право государства на формулирование смыслов.
Показательна и оценка В. Розановым самого аппарата принуждения и его институтов. Речь идёт об армии, позиция которой по отношению к правящему классу, по сути дела, является одним из важнейших факторов политической легитимации власти. Несмотря на свойственную В. Розанову неровность в рассуждениях, общая линия остаётся неизменной. Офицеры должны служить государству, выступая его «телохранителями» в тех ситуациях, отмечает В. Розанов в «Мимолётном», когда «несчастные жители государства или «подобного отечества» находятся в состоянии постоянного желания восстать» [14, 409–410].
Показательно его высказывание и по поводу того, как должен вести себя офицер в ситуации измены: «Изменники подзуживают солдат не повиноваться, когда офицер пьян, когда офицер – трус. Хотя, “офицер” не может быть трус. Во всех подобных случаях пьяный или трусливый офицер должен расстрелять солдата и критика и тем – спасти отечество. Самому же – отправиться на гауптвахту» [14, 220].
Розанов – сторонник жёсткой руки. Его стиль хоть и предполагает некий «троллинг», насмешку, но, тем не менее, он полностью готов оправдать и авторитарный режим. Революционные схемы он не принимает. В них нет смысла, поскольку власть уже есть, и её следует терпеть. «Навести жерла на весь этот маскарад и озорство и испепелить всё… всех…», – вот какое должно быть решение всех политических карнава-лизаций [14, 222].
Что касается М. Пришвина, то у него, безусловно, трудно найти подобное послушание власти. Семья Пришвина была в меньшей степени богобоязненна, и формировавшая его характер среда также не была склонна к почитанию власти. Напротив, ближайшие родственники Пришвина испытывают стремление как-то менять существующий порядок вещей, ставя под сомнение государственное устройство России того времени.
Так, ближайшая родственница Пришвина Евдокия Николаевна, получив образование в Сорбонне, связывается с народовольческим «Черным переделом». После ликвидации организации она решает заняться просветительской деятельностью. Она уезжает в имение Пришвиных, где в деревне открывает школу, «на свои деньги купив столы, скамейки, сняв флигель в одном из имений Елецкого уезда» [6].
Педагогические опыты родственницы Пришвина сложно будет оценить позитивно. По странному стечению обстоятельств, либо по определённой предначертанности русской культуры, многие ее ученики как раз и становятся охранителями государственной машины. Вот отчего так грустно звучит ее признание в «Кащеевой цепи»: «Среди моих учеников уже есть два попа, семь диаконов, двенадцать полицейских» [19]. Вот так «в люди» выходят ученики сельских школ в России, создавая опору полицейской системе, усиливая репрессивную машину.
Проблема восприятия государства тесным образом сообщается с проблемой восприятия религии, церкви как таковой. Церковь интегрирует государство, и, наоборот, государство интегрирует церковь. Здесь, среди поспоривших в Елецкой гимназии интеллектуалов, также сложно обнаружить консенсус. Государство свято и царь свят. Если для В. Розанова религия есть нечто свершившееся – готовый нарратив, то для М. Пришвина вера остаётся вопросом самостоятельного поиска. Именно с этим, видимо, связывается его увлечение народным православием, сектами.
Конфликт В. Розанова и М. Пришвина в гимназии в Ельце проецируется как бы на сам город и на ощущение себя в нём каждой из сторон конфликта. Отсюда, наверное, и проистекает некая генеральная линия рассуждений о политике. Репрессивный елецкий текст прослеживается в оценках В. Розановым государства и политического порядка, равно, как и в самом факте возвращения «блудного сына» в то место, откуда ему пришлось уходить в поисках лучшей доли. Показательна дневниковая запись Пришвина от 13 октября 1919 года: «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым» [18]. По иронии судьбы, М. Пришвину приходится оказаться в статусе своего бывшего обидчика, к которому, кстати, к этому времени он уже не испытывал неприязни. Даже, наоборот, был в каком-то смысле благодарен за преподнесённый урок.
С точки зрения некоторых авторов, опыт отношений Розанова и Пришвина «интересен не только тем, что оба защищали свое человеческое достоинство, и каждый из них был честен в своих действиях и помыслах. Это был опыт переживания образовательного события как культурного» [7]. Видимо, сторонам конфликта приходилось не раз реконструировать сам елецкий конфликт и пытаться его по-новому моделировать.
Изменение взгляда М. Пришвина на елецкий гимназический конфликт в каком-то смысле созвучно с репликой В. Розанова, брошенной М. Пришвину во время встречи в Петербурге: «Голубчик Пришвин, простите меня, только это пошло Вам на пользу» [8]. В. Розанова довольно часто могли третировать произошедшим конфликтом (А. Ремизов, Н. Страхов, возможно, даже и 3. Гиппиус), да и постепенное взросление М. Пришвина, его появление в литературных и философских кругах столицы не могли не возвращать В. Розанова к елецкому тексту.
Возвращение в Елец М. Пришвина было показательным с точки зрения политической цикличности. Репрессивная государственная машина оказывается сильнее отдельно взятого характера, и со временем расправляется с человеческой гордостью и юношеским свободолюбием. Тем самым, подчёркивается некая всесильность политической власти, которая, по мнению Р. Барта, «гнездится в любом дискурсе, даже если он рождён в сфере безвластия» [2, 547]. Власть обладает онтологической природой – это понимает В. Розанов. Но, вместе с тем имеет место и диалектический двойник власти – сопротивление. И это прекрасно понимает М. Пришвин, всеми силами пытаясь ускользать к периферии политического пространства, где сигналы власти менее ощутимы.
Царь
Об уважительном отношении В. Розанова не только к государству, но и к фигуре царя свидетельствует хотя бы такое его высказывание: «Царь строил Россию, но и Россия строила царя. И как трудно поколебать Россию, так же трудно поколебать царя». Или: «Царь, что Солнышко: то сияет, то скроется. Так и день: то ясный, то хмурый» [14, 445].
Если для Розанова политический порядок, схватывающийся монархом и гарантирующийся им, кажется предписанным и неизменным, то для Пришвина здесь остаются определённые вопросы и недоумения. Царь – живой человек, поэтому он смертен. Вместе с остановкой жизни царя, вполне логично должно останавливаться сердце государства. Вспомним хотя бы фразу из «Кащеевой цепи»: «Царя убили, и опять стал царь, большой, с бородой».
Видимо, взгляды на фигуру царя двух интеллектуалов разнятся в силу диалектики «фундаментального» и «эпизодического». Царь для В. Розанова фундаментален, именно он центрирует политический порядок, пронизывая его своими предписаниями, имеющими силу высших законов. Что касается М. Пришвина, то царь для него – обычный смертный человек, обладающий телом, которому суждено постепенно утрачивать свою мощь и силу. Уход царя означает уход прежнего порядка, гарантом которого он являлся, а также наступление периода некоторой неопределенности.
Рассматриваемое нами несоответствие между представлениями В. Розанова и М. Пришвина можно усилить обращением к тексту Э. Канторовича «Два тела короля», где тело короля оказывается двоичным – вечным в юридическом смысле (монаршее правление, законы, предписания и т. д.), и смертным в физическом смысле [18]. Смертность тела царя вовсе не означает юридическую смерть – институт престолонаследия моментально компенсирует внезапный уход монарха из жизни вступлением на престол нового. Таким образом, для Розанова актуально юридическое тело, для Пришвина – тело физическое.
Пришвин оказывается материалистичнее своего оппонента. В его текстах больше отсылок именно к природе, к сути вещей. Как справедливо отмечает Т.Я. Гринфельд: «Пришвин-материалист более доверяет естеству, прекрасное для него не только “энергия”, но и “сознание” растительного и животного царства… В.В. Розанов в понимании прекрасного – “антропоцентрист”, у М.М. Пришвина же природа эстетически равна человеку» [9, 32].
Государство и царь, отсюда, конструируются интеллектуалами в зависимости от того, как они центрируют самих себя в пространстве. И если у Розанова можно встретить: «Царь собрал Русь. Устроил Русь. Как мне ему не повиноваться. Я пыль» [9, 520], то для Пришвина более предпочтителен натуралистический и в каком-то смысле даже анархистский взгляд на проблему власти и подчинения.
Для В. Розанова всё стекается к государству – его подвижный ум моментально политически оформляет практически любые рассуждения; у Пришвина, наоборот, рассуждения «убегают» от государства в сторону природы, в сторону натурального порядка вещей. Особенно актуально данное наблюдение для текстов последнего, созданных в уже зрелом возрасте: несмотря на свою относительную резкость и бескомпромиссность, М. Пришвин старается избегать оценки тех или иных политических событий и обсуждения конкретных политических персоналий.
Это различие мировоззренческих картин споривших между собой интеллектуалов во многом объясняет сам их конфликт и его истоки. Безусловно, противоречия между В. Розановым и М. Пришвиным не стоит понимать исключительно в контексте несовпадения восприятия ими политического. Можно предположить, что они вызваны и разницей в их темпераментах, в свою очередь, отразившихся на их творчестве, на манере письма. Относительно стройный текст М. Пришвина, обогащённый блистательными описаниями, противопоставляется «розановской клоч-коватости». Как отметил А. Синявский: «Розанов пишет не афоризмами, а клочками афоризмов, и сохраняет эту кл оч ко ватость мысли и стиля» [15, 181]. «Монументальность» писательской манеры противопоставляется «ртутной» всеядности журналиста – «идиотического унтера» на службе в печатном издании.
Правда, несмотря на различия в восприятии тех или иных феноменов (в частности, государства и царя), между философами могли существовать и сходства. Сходства, на наш взгляд, касаются определённых табуированных тем, которые в силу различных причин не всплывают в текстах интеллектуалов. Скажем, если В. Розанов не позволяет себе критиковать монарха, то в период советской государственности М. Пришвин также стороной обходит личности советских вождей. Подобная тактика интеллектуалов в своё время была довольно чётко определена И. Берлиным в эссе «Молчание в русской культуре». Действительно, разве пиетет, с которым Розанов относится к самодержавию и царю, в каком-то смысле не напоминает молчание Пришвина, практически не упоминавшего имя Сталина в своих текстах? Ни один, ни другой философ не смогли избежать участи быть молчащими. По справедливому замечанию А. Эткинда: «В советское время, лишённый возможности говорить о народе, Пришвин говорил уже только о природе» [17, 414].
В случае спора В. Розанова и М. Пришвина имеет значение культурный контекст, предопределяющий их поведение и выбор. Образ самого города, где было суждено им пересечься, его особый культурный ландшафт может стать довольно «говорящей» декорацией, определённым образом располагавшей их к «производству культуры». Действительно, «именно культурный контекст легитимирует бунт, артикулируя энергию бунтующего человека на тех или иных целях. Именно с помощью культурного контекста можно приблизиться к пониманию содержания самого человеческого отказа, к структуре произнесённого бунтующим человеком: “нет”» [23, 18].
Таким образом, первый опыт знакомства интеллектуалов, состоявшийся в Ельце, был не совсем позитивным. На первый взгляд, имеющий очевидные педагогические формы конфликт учителя и ученика в каком-то смысле мог наполняться и их мировоззренческими различиями. Общественный резонанс, который получил этот конфликт, в любом случае, не мог быть капитализирован ни В. Розановым, ни М. Пришвиным. Но, с другой стороны, полученный ими опыт мог стать определённым шансом на иску пление для двух этих творческих натур, всеми силами стремящихся доказать, как себе, так и другим, свою правоту.
Литература
1. Алексей Ремизов. Исследования и материалы / под ред. А.М. Грачёва. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 286 с
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс. Универс, 1989. 615 с.
3. Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. / Ред кол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др. М.: Художественная литература, 1990. 687 с.
4. Боровски А. Религия, интеллигенция и власть (религиозные институты в пейзаже польских городов). / Интеллигенция в этноконфессиональном мире: пути выбора. М.: РГГУ, 2011. 600 с.
5. Бунин И. Жизнь Арсеньева. Повести и рассказы. М.: Правда, 1989. 608 с.
6. Варламов А. Пришвин, или Гений места // Октябрь. 2002. № 1. [Электронный ресурс. Режим доступа: ]
7. Воля Е. Культура как воспроизводство достоинства. Гимназическое достоинство, из мыслей об образовательной биографии. [Электронный ресурс. Режим доступа: ]
8. Горлов В. П. Розанов и Пришвин [Электронный ресурс. Режим доступа: -info.ru/prishvin/about/gorlov-rozanov-i-prishvin.htm]
9. Гринфельд Т.Я. В.В. Розанов и М.М. Пришвин: понимание прекрасного в природе // Розановские чтения. Материалы к республиканской научной конференции. Елец: Типография отдела печати и полиграфии Администрации Липецкой области, 1993. С. 31–32.
10. Пришвин М. Кащеева цепь. М.: Советская Россия, 1983. 496 с.
11. Пришвин М.М. Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 8. Дневники 1905–1954. М.: Художественная литература, 1986. 759 с.
12. Розанов В.В. Полное собрание «опавших листьев». Кн. 2: Смертное / Под ред. В.Г. Сукача. М.: Русский путь, 2004. 191 с.
13. Розанов В.В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло… М.: Республика, 1997. 671 с.
14. Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2001. 478 с.
15. Синявский А. Опавшие листья Василия Васильевича Розанова. М.: Захаров, 1999. 317 с.
16. Скиперских А.В. Европейский и русский бунт: сходство и различие культурных контекстов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 1 (29). С. 15–21.
17. Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 644 с.
18. Kantorowicz E. H. The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957. 612 p.
Максимилиан Волошин: мистическое измерение истории Евгений Кузьмин
В этом тексте вместе обсуждаются две темы, которые, как правило, невозможно соединить в рамках академических штудий. Однако они практически неразделимы у Волошина: это «политика» и история. Впрочем, как мы покажем, сам Волошин не считал свои рассуждения об актуальных проблемах и судьбах государств «политическими». Идея данной работы – соединить то, что соединяет сам Волошин. Он осознает окружающую действительность, включающую и текущие события, используя историческую информацию и предсказывая будущее. Спектр его идей и обсуждаемых им концепций чрезвычайно широк. Мы решили не останавливаться на каждой из них, что требует куда более обстоятельного исследования. В сущности, каждый из разделов нашего текста может быть значительно расширен. Для нас главное – дать ключи к пониманию истории у Волошина, отметить важнейшие проблемы, которые никогда раньше не поднимались.
1. Объяснение терминологии
За использованием терминов «мистицизм», «мистика», «мистическое» часто скрывают стремление избежать четких определений, сохранить недосказанность или создать атмосферу таинственности. Неоднозначность открывает неограниченные возможности для игры со смыслами, а это плохо для научной работы, где важна ясность. По этой причине следует начать с объяснений, что в в данном тексте подразумевается под «мистическим».
Начнем с краткого исторического экскурса, который не является оригинальным, он лишь повторяет то, что можно вычитать во многочисленных энциклопедиях, либо в базовых работах по данному вопросу. Ведь обстоятельные изыскания могут нас увести в сторону, тем более, что предмет нас интересует лишь для объяснения термина. Ссылки же даются на первые и на самые известные работы.
Термин греческого происхождения и он имеет любопытную пред-историю [19]. Слово происходит от глагола рюш, что значит «закрывать», «скрывать». От него было образовано рюсплкб^, которое, в числе прочего, значит и «посвященный». Отсюда же термин «мистерии» (pocrcfipiov). Таким образом, корень был связан с ритуальными тайнами, хотя не всегда с ними и не всегда именно с ними. Но, начиная с александрийской школы,[2] наблюдается очень явная тенденция связывать термин с религиозными воззрениями. Под «мистическим» начинает пониматься нечто труднодостижимое, глубочайшая истина, нечто важнейшее в литургии, глубочайшее понимание или экспериментальное познание божественных вещей.
Термины «мистицизм», «мистика» как существительные, обозначающие некие направления, течения мысли или совокупность неких учений, появились сравнительно недавно, во Франции XVII века («la mystique») [20; 22, 266–267]. Если верить Мишелю де Серто, тогда «мистические тексты» возникли как класс, как некая категория. В другие страны термин пришел, очевидно, несколько позже. Например, в то же время в Британии использовался термин «мистическая теология», а термин «мистицизм» вошел в употребление лишь к сер. XVIII века [24].
Так или иначе, в кон. XVIII – нач. XIX веков термин входит в широчайший обиход. О мистике спорят теологи, пишут историки. Однако на современную традицию изучения мистики оказали влияние преимущественно авторы рубежа XIX и XX веков, а их непосредственные предшественники редко обсуждаются в научной литературе. Среди авторов этого времени стали считаться классиками такие, как Альбрехт Ричль (1822–1889), Адольф фон Гарнак (1851–1930), Уильям Ральф Индж (1860–1954), Эвелин Андерхил (1875–1941), Артур Эдвард Уэйт (1857–1942) и ряд других мыслителей. И хотя изучение мистики со времени написания их книг шагнуло далеко вперед, данных авторов можно считать основателями современной традиции изучения проблемы.
Нетрудно заметить, что предмет «мистика» возник сравнительно недавно и проецировался на прошлое, в котором не было ничего, называемого «мистикой» тогда. Причем есть некий разрыв между временем появления термина в разных странах, а потом также между временем появления первых исследований и появлением влиятельных трудов по теме. Все это создало невероятный хаос в понимании предмета. Определения термина возникали вместе с теориями, сущность которых должно означать само слово. Можно сказать, его значение призвано обслуживать, описывать каждую отдельную теорию, обозначением которой он и призван быть. Выходит, слово меняет свое значение от книги к книге. Ведь каждый автор использует слово для обозначения интересующего его феномена.
Впрочем, обычно, хотя и не всегда, под «мистиками» подразумеваются те, кто пережил некий особый «мистической опыт», то есть испытал личные глубокие религиозные переживания. Под мистикой, мистицизмом, как правило, понимается опытное духовное знание, которое в западном своем проявлении ассоциируется с традицией, восходящей к Псевдо-Дионисию Ареопагиту (рубеж V и VI веков) и Августину Блаженному (354–430).
Мистика порой ассоциируется с оккультизмом. Но вряд ли их можно отождествить. Слово «оккультизм» происходит от латинского слова «тайный», «скрытый» («occultus»). В эпоху Ренессанса скрытыми или оккультными свойствами называли то, что не обнаруживается органами чувств. Это, например, влияние планет, свойства камней, воздействие магнита [18; 21; 23]. В 1533 Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма (1486–1535) опубликовал свою знаменитую книгу по магии «De Occulta Philosophia». Очевидно, она определила во многом судьбу термина, сделав его обозначением «тайноведенья», которое так или иначе связано с магической традицией.
Волошин увлекался внеконфессиональными религиозными феноменами, в первую очередь учениями Елены Петровны Блаватской (теософией) и Рудольфа Штейнера (антропософией), о чем речь еще пойдет далее. Но, как человек разносторонний, он проявлял любопытство к самым разным феноменам, которые часто и описывались в его время как «мистические» или «оккультные».
Для самого Волошина термины «мистика» и «оккультизм», как он сообщает в своих дневниках «История моей души»,[3] взаимозаменяемы, это синонимы: «А оккультизм и мистика – это только латинское и греческое имя одного и того же» [5, 7/1:288]. Но что же это за «одно и то же»? Что именно Волошин подразумевает под «мистикой» и «оккультизмом»? Наиболее внятное и полное объяснение можно найти в его статье «О теософии». Есть еще разрозненные свидетельства, в первую очередь в набросках к статье «Об оккультизме» [5, 6/2: 687–688], которые нет смысла обсуждать здесь, ввиду их согласия с указанной статьей, которая вполне ясно представляет «символ веры» автора. Итак в статье «О теософии»[4] и в ряде других текстов Волошин говорит о существовании некоего «тайного знания», «оккультизма». Оно отличается от научного мышления. Но два подхода к действительности не противостоят друг другу: «На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между тем, что в настоящее время называется наукой, и оккультизмом». Их пути когда-то разошлись, что нашло свое выражение в различных предметах исследований. Наука занимается внешним миром, а «тайное знание» внутренним миром человека.
2. Волошин и традиция тайного знания
Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) трудно заподозрить в четком, последовательном, фанатичном или слепом следовании какой-либо традиции. Его отношение к формальному систематическому образованию было резко отрицательным. Сам он скверно учился в гимназии и не имел университетского диплома. В его дневниках, озаглавленных «История моей души» записано, например, со слов Вячеслава Иванова: ««Не проповедуй и не учи» – это единственная <запо-ведь>». Там же Волошин делает и еще более резкое утверждение: «Всякое учение – воспитание – это онанизм» [5, 7/1:161].
Ввиду обилия оккультных, мистических положений в самой основе идей Волошина оказывается вопрос о зависимости его от существующих систем. Иными словами, насколько он творчески и свободно относился к оккультным, или мистическим утверждениям, был готов к свободному с ними обращению? Насколько Волошин зависим от каких-то воспринятых извне догматов?
Круг чтения поэта был чрезвычайно широк, но основные идеи пропускались через учения Елены Петровны Блаватской (1831–1891) и особенно Рудольфа Штейнера (1861–1925). Нужно сказать, Волошин лично общался со Штейнером и всю свою жизнь признавал его своим учителем. Вот собственные слова поэта [5, 7/2:259]: «Затем мне довелось… и наконец в 1905 г. встретиться с Рудольфом Штейнером, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя». Дмитрий Кленовский в статье «Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века» [9] написал: «А в отношении Максимилиана Волошина никаких сомнений на этот счет не существует – он был сознательным и последовательным антропософом». В статье К. Азадовского и В. Купченко «У истоков русского штейнерианства» представлена более сложная картина духовных поисков Волошина [1]. Но цель этой публикации, кажется, – ознакомление с архивными материалами, имеющими отношение к проблеме. У нас же цель иная. Здесь важно не выявить влияние, которое очевидно, а легитимировать независимость оккультных, мистических воззрений Волошина.
В самом деле, несомненно вполне свободное, творческое обращение Волошина с текстами. Так в письме Ю.Л. Оболенской (15 ноября 1917 года) он пишет: «Теософское поучение дает отвлеченный остов понятий, а его надо принять в душу как зерно, вырастить в себе, собой его одеть» [5,10:721]. Похожее утверждение делается в другом письме Ю.Л. Оболенской (21–25 октября 1913 году) и относительно антропософии, хотя и с оговоркой про неправильное догматичное понимание учения: «Протест больше против штейнеристов, в которых я видел людей, «изнасилованных истинами», чем против него <Штейнера> самого. Не принимал я тоже и догматизма его последователей. У него самого нет его» [5,10:47].[5] Как подмечает первая жена поэта и очень близкий к Р. Штейнеру человек Маргарита Сабашникова (1882–1973) в своих воспоминаниях, написанных по-немецки («Зеленая змея», «Die grime Schlange»), Волошин брал из антропософии лишь то, что было близко лично ему [14, 251]. Переводчик Евгения Герцык (1878–1944) пишет в своих воспоминаниях [7, 79]:
Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка – так всегда строила мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж – и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична – угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагават Гиты по-французски.
И в другом месте [7, 84]:
Маргарита оттесняла его: «Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь…» Он не сдавался: «Но как же, Амори, только из путаницы и выступает смысл».
Кажется, Волошин признает некое сходство подходов у себя с теософским и антропософским мировоззрением, которое само не тождественно какому-то строгому набору догм. Он настаивает на том, что мыслил в рамках этих учений еще до знакомства с ними. В «Истории моей души» есть такая запись, датированная 20 июля 1905 года: «Все теософские идеи, которые я узнаю теперь, были моими уже давно. Почти с детства, точно они были врождены» [5,7/1:228]. Также и в письме того же года, адресованном Маргарите Сабашниковой (24 октября 1905), он выносит сходную мысль из личных дневниковых записей в диалог с другим человеком [5, 11:633]: «Моя милая, милая Аморя <Маргарита Сабашникова>… Как странно согласно все то, что ты пишешь из слов St<einter’a> с тем, что мне всегда, с детства, мерещилось…» Через десять лет, в письме Оболенской, 19 мая 1915, он практически это повторяет: «…Я знаю, что и до встречи с антропософией мыслил исключительно в ее категориях и впредь буду мыслить не иначе» [5,10:349].[6]
Однако, вряд ли можно рассматривать независимость суждений как вольность. Волошина беспокоит соответствие его стихов незыблемым истинам. И он оговаривает право поэта искать и ошибаться (письмо А.М. Петровой, 2 декабря 1913 года) [5, 10:78]:
Ведь если писать стихи, зная все, то тогда только адепты имеют право писать стихи. И это тайные мысли Амори [Сабашниковой]. Но для адептов раскрыты более важные виды творчества. Стихи пишутся не о том, что знаешь, а о том, что чувствуешь, о чем догадываешься. Они говорят не об объективной истине, а от том, что переживает и познает мое «я» на одной из промежуточных ступеней.
Таким образом, вполне допустимо говорить о мировоззрении Волошина, которое хоть и связано с учениями Е.Блаватской и Р. Штейнера, но одновременно является самостоятельной системой взглядов. Ведь, во-первых, Волошин хоть и отталкивался прежде всего от их учений, но много читал и занимался самостоятельным поиском. Во-вторых, сам Волошин отстаивал свое право на самостоятельный поиск, радуясь совпадению собственных прозрений с прозрениями Штейнера.
Также очевидно, что сложно настаивать на эволюции взглядов Волошина. О влиянии на его мировоззрение Штейнера Волошин делает практически идентичные заявления с разрывом в 10 лет! При этом настаивая, что и раньше имел аналогичные взгляды.
3. Волошин и философия истории
Волошин не является историком или философом в академическом смысле, но при этом он оставил множество суждений как о конкретных исторических событиях и эпохах, так и о философии истории. Тема для него важна. Все это разбросано по многочисленным текстам, как опубликованным либо предназначенным для публичного обсуждения, так и по личным бумагам, письмам и дневникам. Свои взгляды поэт излагал в различной форме: это стихи, письма, лекции, статьи, заметки, личные записи. У него нет труда, который бы последовательно и однозначно суммировал именно его исторические воззрения. Таким образом, мы имеем дело с мозаикой, где трудно отдавать чему-нибудь приоритет, а сами концепции могут обсуждаться лишь отдельно, не собираясь в целостное повествование.
Однако важно найти ключ к этому хаосу, который дает возможность верного прочтения Волошина. В статье «Революционный Париж» (1906) есть утверждения, которые могут показаться вполне нейтральными и просто красивыми, полными поэзии словами (5:615–616):
Историки, пишущие историю характеров и событий, подобно Титу Ливию, Мишле и Ламартину, бессознательно пользуются этим свойством человеческой фантазии. И пусть позитивные историки, пишущие экономическую историю человечества, с презрением упрекают в лживости эти «исторические романы» – в них остается вечная правда человеческой души, брошенной в тот или иной вихрь событий, подобная той правде, которую искал Бальзак, ставя заранее данный характер в исключительное положение и наблюдая его рефлективное действие. В тревожные времена духа, подобно нынешнему времени, переживаемому Россией, является неизбежная потребность в психологической истории человечества… Да и что же такое история исторических событий, как не сказка, и не в этом ли ее сущность и полное оправдание ее существования?
Есть множество параллелей этому утверждению в различных текстах Волошина. Но, кажется, одна дневниковая запись проясняет значение данного утверждения с предельной четкостью. Она сделана задолго до написания статьи (17 июля 1903 года), здесь, очевидно, речь идет о лелеемой и долго взращиваемой концепции, которая лежит в основе подхода поэта к исторической науке [5, 7/2:162]:
История – это память человечества и моя память в человечестве. Мне она дорога со всеми ее баснями, легендами и анекдотами – даже заведомо ложными. Экономические причины и пр. – да, это имеет специальный интерес, мне любопытны искривления физиологических ошибок памяти, но мое «я» в этих ошибках. Нянюшкины сказки, рапсоды, Ренан – это мир памяти.
Волошин считает это не просто своим мнением, но утверждением, имеющим значение для всего человечества [5,7/1:162]:
Вся наука человечества, все его знания должны стать субъективными – превратиться в воспоминание. Человек должен суметь развернуть свиток своих мозговых усилий, в которых записано все, и прочесть всю свою историю изнутри. Мы заключены в темницу мгновения. Из нее один выход – в прошлое. Завесу будущего нам заказано подымать. Кто подымет и увидит, тот умрет, т. е. лишится иллюзии действия. Майа. В будущее можно проникать только желанием. Для человечества воспоминание – все. Это единственная дверь в бесконечность. Наш дух всегда должен идти обратным ходом по отношению к жизни.
Здесь речь идет о «желании», которое проникает в будущее. Через год (9 августа 1904 года) в «Истории моей души» Волошин делает такую запись [5,7/1:160], проясняющую смысл этого слова в данной концепции:
Желание – это предчувствие, это наше зрение в будущее. Поэтому всякое желание – когда пожелаешь всем телом, а не только умом – исполняется. Все завершено. Лучи достигают к нам из будущего, и это ощущение мы называем желанием. Это дает нам необходимую иллюзию свободы воли. Чудеса расположены, как вехи, по дороге человечества; тот, кто их предугадывает, их совершает.
Таким образом, для Волошина имеет значение преимущественно история духа, а она важнее материальных проявлений. Выходит, что сказка – более весомый исторический источник, чем документ, потому что свидетельствует не о материальном событии, а о факте духовной жизни. Изучение же прошлого является важным, поскольку оно нам доступно, в отличие от понимания будущего. Мы можем проследить человеческий дух в развитии. А в нашем желании заложено наше будущее. Из этой схемы выпадает «иллюзия свободы воли». Но она, как мне кажется, говорит лишь о том, что, возможно, наши действия по обустройству грядущего предопределены.
Все это очень хорошо согласуется с упомянутыми в данной статье в первом разделе утверждениями текста Волошина «О теософии». Там речь идёт, как уже было сказано, о двух типах мышления – в рамках тайного знания (мистика, оккультизм) и в рамках научного мышления. Первое занимается внутренним миром человека, второе внешним, материальным миром. При этом, в конечном счете, они приходят на высшем уровне к одному. Получается, есть оккультная, нацеленная на внутренний мир человека историческая наука. Но это не просто теоретическая дисциплина. Это магическое знание, позволяющее шагнуть в будущее, влиять на материальную действительность (даже если все и предопределено заранее).
4. Отрешённость от материального и политические бури начала XX века
Итак, из вышесказанного следует, что Волошин декларировал изучение субъективного одновременно и как способ познания, и как способ преобразования мира. Любопытно сочетание полного неучастия Волошина в какой-либо форме политической деятельности после 1899 года[7]и обилие у него публикаций на актуальные политические темы.[8]
Здесь сразу следует сказать, что неучастие в политической жизни не является искусственным, надуманным, позой. Например, в письме к матери (25 мая/7 июня 1905) он сообщает: «Русская революция повергает меня в какое-то скучное безразличие» [5, 9:189]. И в письме к Р.М. Голдовской (8 августа 1917): «Чем дальше идут исторические события, тем больше неприязни и презрения я чувствую к политике как таковой. Впрочем, это уже застарелая антипатия». При этом речь не идет о вере в то, что политика – занятие ненужное. Волошин утверждает, что народ несет ответственность за свое правительство [5,6/2:360].
Эту двойственность Волошин спокойно констатировал посреди бушующего моря Гражданской войны в 1918–1920 годах в неизданной при его жизни статье «Россия распятая» [5,6/2:454–505]:
Прилагательное «политический» подразумевает принадлежность к партии, исповедание тех или иных политических убеждений. Нас стараются уверить в том, что долг каждого – принадлежать к определенной политической партии и что сознательный гражданин обязан иметь твердые политические убеждения. Для правильных отправлений парламентского строя и для политических выборов это действительно необходимо.
При этом каждый человек здесь может лишь отстаивать свои личные текущие интересы, которые ошибочно можно принять за всеобщие:
Один убежден в том, что он должен каждый день обедать и настаивает на одинаковых правах в этой области; другой убежден в своем праве иметь дом, капитал и много земли, но распространяет подобное право лишь на немногих… Может быть, все эти разнородные хотения, именуемые убеждениями, и утряслись бы как-нибудь с течением времени, но политические борцы в пылу борьбы слишком легко рассекают вопросы на «да» и «нет», придавая им императив всеобщности… большинство политических альтернатив отнюдь не безвыходно и самые непримиримые партии прекрасно уживаются при нормальном и крепком государственном строе, логически дополняя друг друга.
Рассматривая политику как простое отстаивание своих интересов в рамках «политической борьбы», Волошин здесь же отметил, что его осмысляющим действительность стихам на политические темы не годится бирка «политические стихи»: «…стихи, написанные во время Революции и отвечающие на текущие политические события. Но остерегусь называть мои стихи политическими». Конечно, отстаивание своих шкурных интересов хоть и важно человеку, но размышлять здесь особенно не о чем: «Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди этих беспорядочных столкновений, хотений и мнений». Более того: «Политика – это только очень популярный и очень бестолковый подход к современности».
Вовлекаясь в реальную политику, человек становится причастен моменту, теряя связь с будущим. В статье «О Граде Господнем» он пишет: «буржуазия и пролетариат – едино, так как основано на том же идеале благополучия и комфорта, то есть на эгоизме» [5,6/2:353]. Эта мысль Волошина практически теми же словами высказана в письме М. Петровой от 9 мая 1917 [5, 10:583]. И, обращаясь к ней же в письме от 19 мая, он уточняет, что социализм, капитализм, «германизм» – это все от демонов машин, от обожествления «здорового комфортабельного эгоизма» [5, 10:592].
Не во власти политика вершить историю. Это утверждение Волошин приводит и в критической заметке, где разбирается фрагмент книги Анатоля Франса «На белом камне», которая, по мнению поэта, сопоставима с «Тремя разговорами» Владимира Соловьева. По словам Волошина, это пророческая книга, хотя и о прошлом. Ведь важно здесь то, что она появилась при ощущении, что мы стоим на важном стыке времен: «Есть состояния в истории человечества, когда является потребность заглянуть в будущее. Как будто разверзается бездна времени и в ней шевелятся неясные призраки наступающего. Как будто физически ощущается та точка, из которой лучатся направления всех возможностей и есть вера в выбор» [5, 6/2:174]. В тексте три интеллектуала во время начала правления императора Нерона ведут разговор о грядущем. Между тем, к одному из участников беседы Галлиону, занимающему должность проконсула, приводят на суд апостола Павла. Но проконсул решает дело быстро и относится к нему без особого внимания. Он не только не способен разглядеть будущее, но у него нет никаких точек соприкосновения с Павлом. И в конце концов «Ни Павел, ни Галлион не могли знать будущего, потому что будущее скрыто даже от тех, которые его сами делают» [5, 6/2:183]. И далее: «Их сила и их ошибка в том, что оба они <Франс и Галлион> только логично рассуждают, но не предчувствуют» [5, 6/2:192].
Интересна в данном контексте роль поэта, который не обязан быть адептом, как мы указали во втором разделе. У Волошина есть статья «Поэзия и революция», где прямо ставится вопрос, впрочем, затрагиваемый и в других текстах, о гражданственности поэта: «Существует схоластический вопрос, о котором любят время от времени спорить в русской литературе: обязан ли поэт откликаться на текущие исторические события» [5, 6/2:25]. Революция и гражданственность плохо сочетается с искусством [5, 6/2:27]:
Но вообще времена революционные мало благоприятствуют искусству. Отчасти от того, что революционеры, как люди прямолинейные, страстные и наивные, бывают в искусстве крайними консерваторами и академистами; с другой же стороны оттого, что Революция больше всех остальных тиранов требует себе дифирамбов, лести и фимиама. Гораздо сложнее вопрос о том, что ценно, что бесценно в произведениях поэтов, отдающихся политическому вихрю эпохи…. Теоретически ответить на этот вопрос как будто очень легко: неценно все партийное, а ценно все общее. Но практически вопрос оказывается гораздо сложнее… Вдохновение в высшем смысле этого слова – это именно то, что раскрывается как откровение, по ту сторону идей и целей поэта.
Роль поэта в преображении – в привлечении сущностей из духовного и душевного миров в материальный [5, 6/2:25–26]:
Все материальное, конкретное преображается в слово, ищет своего имени, знака; все же духовное, все эмоциональное стремится найти себе материальную незыблемую форму. Поэзия работает над размыванием твердых пород мира и претворением их в слово… у поэта – один долг: стать голосом вещей и явлений глухонемых по природе своей. Исполняя его, поэт освобождает великих и мятежных духов.
К этому тесно примыкает стихотворение Волошина «Доблесть поэта» [5, 2:67], где есть и такие слова:
В смутах усобиц и войн постигать целокупность. Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обеих. Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель, Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.Следует особо сказать, что образ «демонов глухонемых» Волошин заимствовал у Тютчева («Ночное небо так угрюмо»). Так же назван четвертый, изданный в 1919 г., сборник стихов поэта. В нем Волошин выстраивает кармические связи прошлого, настоящего и грядущего России, сравнивая катаклизмы, происходящие на родине, с событиями Великой Французской революции. О самих глухонемых демонах он пишет следующее [5, 1:261]:
Они проходят по земле Слепые и глухонемые И чертят знаки огневые В распахивающейся мгле. Собою бездны озаряя, Они не видят ничего, Они творят, не постигая Предназначенья своего. Сквозь дымный сумрак преисподней Они кидают вещий луч… Их судьбы – это лик Господний, Во мраке явленный из туч.Волошин, в соответствии с раннее упомянутым утверждением, дает этим самым демонам имена, раскрывая будущее, исполняя свою миссию поэта. Впрочем, мы воздержимся от обстоятельного комментария каждого стихотворения. О сборнике написана обстоятельная монография З.Д. Давыдова и С.М. Шварцбанда [8].
Здесь важно следующее: эти демоны проявляются, согласно Волошину, в истории вообще, поэты лишь играют особо важную роль в этом воплощении. Волошин говорил о подобном воплощении в довольно ранней статье «Пророки и мстители», написанной в 1905 году и напечатанной в 1906. Здесь, правда, нет самого термина «демоны глухонемые», а сама идея возводится к Достоевскому [5, 3:274–304].
Таким образом, Волошин видит смысл деятельности поэта в его посредничестве между материальным миром и миром, из которого приходят демоны. Это посредничество является ключевым в историческом процессе, а воплощение демонов, наделение их именами и является осуществлением истории.
5. Молюсь за тех и за других
На основании сказанного ранее очевидно, что Волошин не проповедовал, не предлагал отказа от политической активности. Он считал чистую политику сферой, недостойной серьезного обсуждения. В политике все просто – каждый отстаивает свои шкурные интересы. И обсуждать здесь особо нечего. Кроме того, основные направления развития человеческого общества определялись вовсе не в сфере политики.
Понимая все это, логично задать вопрос о смысле заключительных строчек стихотворения «Гражданская война», которые очень часто приводятся как иллюстрация политической нейтральности Волошина [5, 1:329–330]:
А я стою один меж них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех и за других.Здесь довольно легко принять слово «молюсь» за «благословляю». Однако это ошибочное толкование.
У Волошина есть по меньшей мере два текста, проясняющих смысл этих строк. Первый – уже обсуждавшаяся неопубликованная статья «Россия распятая». Там Волошин дает собственное ясное толкование именно этого стихотворения. Как уже было сказано, политика – это отстаивание своих интересов в здоровом обществе. И здесь само противостояние «Кто не за нас – тот против нас»[9] является абсурдом. Политическая жизнь, конфликт партий имеют смысл, как уже было сказано в предшествующем разделе, для нормального функционирования парламентского строя. В условиях гражданской войны реалии совершенно иные, особенно для поэта, который, как мы видели, меняет, формирует реальность, контактируя с высшими мирами: «Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев». В сущности, части человеческого сообщества едины и в братоубийственной войне [5, 6/2:496]:
Первоначальный и основной знак братства – это братство Каина и Авеля. Братоубийство лежит в самой сущности братства… Ведь то, что проявляется войною и ненавистью здесь, на земле, с духовной перспективы является высшим слиянием… Мир строится на равновесиях.
И победа одной стороны может обернуться катастрофой:
Один из обычных оптических обманов людей, безумных политикой, в том, что они думают, что от победы той или иной стороны зависит будущее. На самом же деле будущее никогда не зависит от победы принципа, так как партии, сами того не замечая, в пылу борьбы обмениваются лозунгами и программами.
Однако, выступая за равновесие сил, против насилия и считая победу одной из сторон злом, Волошин довольно ясно высказывает свое отношение к одной из сторон: «Большевизм нельзя победить одной силой оружия, от бесноватости нельзя исцелиться путем хирургическим… свойство бесов – дробление и множественность» [5, 6:2/497].
Здесь можно было бы поставить точку, если бы Волошин не завел речь о «молитве поэта». Почему именно поэта? Ведь, как мы уже говорили, для Волошина поэт – это практически маг, привлекающий демонов в наш мир, определяющий ход истории. Хотя поэт и не адеггг, не высший маг, о чем свидетельствует процитированное во втором разделе письмо, адресованное А.М.Петровой [5, 10: 78].
Кажется, пояснение к этим словам можно найти в записях, датированных второй половиной апреля 1932 года, но описывающих события 1917–1919 годов, отмеченных заголовком «Дело Н.А. Маркса. Окончание и следующие годы» [5, 7/2: 385–418]. Текст настолько красноречив, что позволим себе привести пространную цитату:
Поэтому я не стал ему возражать, но сейчас же сосредоточился в молитве за него <начальник местной контрразведки ротмистр Стеценко>. Это был мой старый, испытанный и безошибочный прием с большевиками.
Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена на него: не все молитвы доходят, потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чем надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей – убийцы и жертвы в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей – и в результатах молитвы можно не сомневаться… Так было и теперь.
Этой молитвой, согласно тексту, Волошин спасает Маркса от расстрела. Из рассказа следует, что поэт практиковал это и ранее. Конечно, молитва за душу убийцы, за душу врага имеет глубокие корни в христианской традиции и восходит к Новому Завету. В Евангелии от Матфея сказано: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Однако, в данном случае речь идет о несомненно магической практике, где молитва приводит к конкретным результатам в материальном мире.
6. Возвращение мага
С 1927 по 1977 год тексты Волошина не переиздавались. А интерес к его наследию постепенно угасал в СССР. Ситуация радикально изменилась в 60-е гг. Интерес к Волошину возродился. Можно говорить о неком мистическом разрыве в восприятии его наследия, закончившимся триумфальным «вторым пришествием».
Нужно отметить, что, как это часто бывает, интерес не возник вдруг, а, видимо, назревал постепенно. И причин тому было, вероятно, немало. В конце концов, Волошин был значительной фигурой в литературной жизни начала XX века. Им продолжали интересоваться, о нем писали на Западе. Так, мы уже упоминали о статье Дмитрия Кленовского (Крачковский, 1893–1976). Еще жили люди, которые помнили его былую славу. И Волошин вошел в диссидентскую культуру, когда его имя еще не было у всех на слуху. Он появляется в статье важнейшей фигуры в диссидентском движении Андрея Синявского (1925–1997) «Что такое социалистический реализм», изданной под псевдонимом Абрам Терц в 1957 году. Здесь автор противопоставляет «телеологическому», «фанатичному» искусству, которое он называет и религиозным, взгляд Волошина: «В борьбе религиозных партий он объявил себя нейтральным и выражал соболезнование и тем, и другим» [16, 446]. Здесь же Синявский цитирует отрывок из стихотворения «Гражданская война», который мы приводили ранее:
А я стою один меж них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех и за других.Но настоящее триумфальной возвращение Волошина произошло немного позже. Илья Эренбург (1891–1967) в 1961–1965 под заголовком «Люди, годы, жизнь» опубликовал свои воспоминания в шести книгах (седьмая вышла лишь в 1990), получивших среди советской интеллигенции необычайную популярность. Работа стала настоящей энциклопедией по малоизвестному или совершенно забытому миру русской литературы рубежа XIX и XX веков. Эренбург рассказал о большом числе важнейших фигур в русской культуре ушедшей эпохи, которые с одной стороны играли большую роль в ее развитии, а с другой были искусственно, по политическим причинам из нее изгнаны. Ввиду трудности достать аутентичные тексты, часто мемуары Эренбурга являлись единственным источником знаний о тех или иных поэтах. Материалы о Волошине опубликованы в первой книге. Советский читатель мог с ними ознакомиться уже в 1960 году.
В созданной галерее портретов Волошин показан в исключительно положительном свете. А в важном для советского человека вопросе (отношение к советской власти) Эренбург выделил нейтральность Волошина: «Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять». Впрочем, по словам Эренбурга, «Понять революцию он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность». Однако Оренбург специально рассказывает, как Волошин укрывал у себя большевика, что делает поэта практически «своим» для советской власти.
Реакция последовала незамедлительно. «Вопросы литературы» в 1966 году печатают статью Вл. Орлова «На рубеже двух эпох (Из истории русской поэзии начала нашего века)» [13, 111–143]. И здесь тоже цитируются слова из стихотворения «О гражданской войне» о «молитве за тех и за других». Здесь тоже они толкуются как политическая позиция:
Многие стихи вчерашнего эстета, как видно из сказанного, приобретали открыто контрреволюционный смысл. И все же ими не определяется целиком общественно-литературная позиция Волошина в послеоктябрьское время. Исходя из абстрактно-гуманистических иллюзий, он пытался встать «над схваткой», равно осуждая и «красных» и «белых» за творимое ими кровопролитие и взывая к милосердию тех и других.
По словам Орлова, Волошин «проявил немалое упорство», через много лет формулируя свое кредо такими словами: «В дни революции быть Человеком, а не Гражданином» (цитата из стихотворения «Доблесть поэта»). Автор при этом замечает: «С такой позицией, с такой философией и историософией Волошину, конечно, не было и не могло быть места в советской литературе». Однако в заключение Орлов говорит: «Можно пожалеть о заблуждениях поэта, но нельзя отказать ему ни в искренности, ни в чувстве собственного достоинства» [13, 126].
В те же годы Волошиным заинтересовался и главный, абсолютно доминантный в этой области, советский и российский исследователь жизни и творчества поэта, автор основных работ о нем. Это Владимир Петрович Купченко (1938–2004). В 1961 году он впервые посетил Коктебель и познакомился с Марией Степановной (1887–1976), вдовой Максимилиана Александровича. В 1964 году Купченко женился на местной жительнице и обосновался в Крыму, покинув его лишь в 1986 году.
Вскоре, в 1968 году, в номерах 6 и 7 журнала «Литературная Армения» появились воспоминания Марины Цветаевой (1892–1941) о Волошине («Живое о живом»).
А уже в 1977, к столетию Волошина, после большого перерыва вышел сборник его стихов. Любопытно, что в этом же году в третьем номере журнала «Отчизна» вышли и дневниковые записи 1932 года, озаглавленные «Дело Н.П.Маркса», где речь идет о спасении жизни коммуниста магической молитвой. Потом этот текст вышел повторно при советской власти в 1990 году в составе сборника «Воспоминания о Максимилиане Волошине» [12, 378–409].
Все это наложилось на огромный интерес к религии и оккультизму во второй половине 60-х годов. Петр Вайль и Александр Гейне утверждают, что чуть ли не первым самиздатом были инструкции по хатха-йоге. А в 1970 году вышел фильм Альмара Серебрякова «Индийские йоги: кто они?», ставший в атеистическом СССР настоящей сенсацией [2, 270].
Мы не будем анализировать роль Волошина в оккультном самиздате. Эта обширная тема заслуживает отдельной монографии. Но отметим, Волошин сразу появляется в числе важных персонажей, когда в годы Перестройки мистика и оккультизм выходят из подполья. Тогда, в конце 80-х и нач. 90-х, журнал «Наука и религия» становится настоящим и единственным официальным советским оккультным изданием. Значительная часть второго номера за 1990 год посвящена Волошину. Публикация состояла из статьи Купченко, в которой выпячивались оккультные таланты поэта, лечившего наложением рук и творившего чудеса, а также статья самого Волошина «О теософии».
Таким образом, слова Волошина о роли поэта любопытным образом можно обнаружить в судьбе его произведений. Интерес к его творчеству имел место в удобное для них время, и неверные политические интерпретации его слов вели, в конечном счете, к правильному, оккультному истолкованию наследия поэта.
7. Заключение
Максимилиан Волошин интересовался историей субъективного, которое ему лично представлялось важнее объективной истории как набора фактов. Такой подход не мог не сказаться на пренебрежительном отношении к хронологической последовательности. События прошлого и настоящего равнозначны и равноудалены. А осмысление текущей ситуации ничем не отличается от подхода к былому. Такой подход сам Волошин относит к мистической, оккультной традиции, которая сегодня отличается от научной, хотя на каком-то высшем уровне их результаты должны совпадать.
И в самом деле, «исторический подход» у Волошина имеет прямое отношение к оккультной традиции (которая в данном случае называется еще и «мистической»), к традиции магии, обещающей своим приверженцам возможность нематериального воздействия на окружающий мир. Человек, поэт, определяет историю, привлекая в материальный мир демонов. Тот, кто умеет управлять своими желаниями и владеет некоторыми техниками, может влиять на происходящее в материальном мире.
Любопытно отметить, что «мистическая», те. необычная и загадочная, судьба наследия Волошина очевидна. Более того, оккультные, мистические установки поэта врывались в политическую мысль, в политическое восприятие действительности, формируя его.
Литература
1. Азадовский К., Купченко В. У истоков русского штейнерианства // Звезда. – 1998. – № 6. —С. 146–191.
2. Вайль П., Генис А. 60-е: Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 367 с.
3. Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники / Cост., статья, примеч. З.Д. Давыдов и В.П. Купченко. М.: Книга, 1991. 416 с.
4. Волошин М. История моей души. М.: Аграф, 1999. 480 с.
5. Волошин М. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2003.
6. Волошин М. Теософия //Наука и религия. 1990, № 2. C. 31–33.
7. Герцык Е. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1973. 192 с.
8. Давыдов З.Д., Шварцбанд С.М. «…И голос мой – набат» (О книге М.А. Волошина «Демоны глухонемые»). Pisa: ECIG, 1997. 136 с.
9. Кленовский Д. Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века // Грани. 1953. № 20. C. 129–137.
10. Купченко В.П. В вечных поисках истоков // Наука и религия. 1990. № 2. C. 29–30;
11. Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. СПб: Алетейя, 2002, 2007. 2 т.
12. Купченко В.П. Давыдов З.Д., сост. и коммент. Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Советский писатель, 1990. 720 с.
13. Орлов В. На рубежа двух эпох // Вопросы литературы. 1966. № 10. C. 111–143.
14. Cабашникова М. Зеленая Змея: История одной жизни / Пер. М.Н. Жемчужниковой. М.: Энигма, 1993. 414 с.
15. Цветаева М. Живое о живом // Сочинения. М.: Художественная литература, 1980. т. 2. C. 190–254.
16. Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. Москва: Книга, 1989.
17. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М.: Советский писатель, 1990. 3 т.
18. Blum P.R. Qualitates occultae: Zur philosophischen Vorgeschichte eines Schlüsselbegriffs zwischen Okkultismus und Wissenschaft // Die okkulten Wissenschaften in der Renaissance / ed. August Buck. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. S. 45–64.
19. Bouyer L. Mysticism: An Essay on the History of the World // Understanding Mysticism / ed. Richard Woods. London: The Athlone Press, 1981. C. 42–55.
20. Certeau M. de. ‘Mystique’ au XVIIe siècle: La problème du langage ‘mystique’ // L’Homme devant Dieu: Mélanges offerts au Père Henri au Lubac. Paris: Aubier, 1964. Vol. 2. P. 267–291.
21. Hutchison K. What Happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution? // Isis. 1982. № 73. P. 233–53;
22. McGinn B. The Foundations of Mysticism. New York: Crossroad, 1991. 494 p.
23. Meinel Ch. Okkulte und exakte Wissenschaften // Die okkulten Wissenschaften in der Renaissance /ed. August Buck. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. P. 22–43.
24. Schmidt L.E. The Making of Modern ‘Mysticism’ // Journal of the American Academy of Religion. 2003. № 17(2). P. 273–302.
Зазеркальное «имяславие»[10] Зинаиды Гиппиус: псевдонимы и революция Оксана Штайн
Не’s in prison now; being punished and the trial doesn’t even begin till next Wednesday.
Lewis Carroll, Trough the looking-glass, and what Alice found there.Имя, как и лицо, – явление мира, условие существования. Словарь С.И. Ожегова определяет значение слова «имя» так: «личное название человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа». [14,368]. Имяславие – направление русской православной мысли XX в., началом которой послужила книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа» с беседой двух старцев подвижников о внутреннем единении с Господом через молитву Иисусу Христу. Духовная деятельность, представляющая собой описание мистического опыта, особого состояния верующего во время так называемой Иисусовой молитвы с многократным упоминанием его имени. Иларион неоднократно упоминает, что Бог присутствует в своем имени.
В работе «Имеславие как философская предпосылка» отец Павел Флоренский определяет его как интеллектуальное творчество: «исконное ощущение человечества», призвание которого в том, чтобы «вскрыть онтологические, гносеологические и психофизиологические предпосылки всечеловеческого ощущения и самоощущения». [22, 178]
Отец Павел Флоренский утверждает, «…что Имя Божие как реальность… больше самой себя…, мало того – есть Сам Бог». [22, 180] Явления являют являемое и потому могут именоваться именем последнего, то есть именем являемого.
Об этом говорит в своей статье «Воззрения о. Павла Флоренского на имяславие в 20-е годы XX столетия» протоиерей Дмитрий Сазонов: «Формулой утверждается, что Имя Божие, как реальность, раскрывающая и являющая Божественное существо, большей самой себя». [16] Флоренский в анализе имяславия определяет его языковые установки и магическое восприятие слова.
Имя Зинаиды Гиппиус – сконструированное, сложенное из обломков и кубиков смальты. Она решила быть скульптором и глиной, формой и конечной целью, объединив в своем имени все 4 аристотелевские причины существования бытия. Предметность интендирует к именованию, историческая действительность 1917 года взывала к новым именам, которые бы закрепили силу и статус происходящего. Вслушаемся в имена революции: НКВД, РКСМ(б), ВКП(б), ВДНХ, ВЛКСМ, ВЦИК, ВЦСПС, ЛКСМ, КПСС. Аббревиатура напоминает детское сложение по слогам или шариковское «абырвалг».
Имена, которыми нарекались советские люди, также звучали странно. Тролебузина – «Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев», Эльмира – «электрификация мира, или Энгельс, Ленин, Маркс и революция», Оюш мина льда – «Отто Юльевич Шмидт на льдине», Нинель – «Ленин наоборот», Рем – «революция мировая», Роблен – «родился быть ленинцем», Мотвил – «мы от В.И. Ленина», и, конечно, небезызвестная Даздраперма – «да здравствует 1 мая».
Упомянутый выше о. Павел Флоренский в работе «Имена» [23] говорит о зачарованности именем, об особом чутье писателей к именам. Так, рассказывал он историю, когда на званом обеде Флобер почувствовал себя дурно при упоминании Эмилем Золя о задуманном романе с героями по имени Бювар и Пекюшэ. Не дождавшись конца обеда, Флобер отозвал в сторону Золя и взволнованно просил уступить ему эти имена.
Бальзак как-то писал: «Больше мне ничего не нужно. Моего героя будут звать Марка, – в этом слышится и философ, и писатель, и непризнанный поэт, и великий политик – всё» [23, 116].
Вяч. Иванов сводил выраженную Пушкиным суть характера цыган к имени матери Земфиры Мариулы: «Это глубоко женственное и музыкальное имя, стихия цыганства». [10]. Имя Мариула служит у Пушкина «особым разрезом мира» [10].
Имя о. Павел Флоренский называет «тончайшей плотью, посредством которой объявляется духовная сущность» [23, 128]. В пространственном отношении в имени фокусируется духовность или бездуховность. Отец Павел Флоренский говорит об имени как о лице или личности. В народном сознании данное священником при крещении имя преподобного обещает счастливую жизнь, имя мученика – тяжелую. Народная мудрость гласит: «По имени и житие».
Социальная значимость имени признается всеми. Интересна статья Льва Троцкого, опубликованная в № 4 газеты «Рабочая Москва» за 1922 год: «Главкократия превратила заводы в номера. Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Вношу предложения: работу по переименованию заводов и фабрик приурочить к 5 годовщине Октябрьской революции и строжайше воспретить после определенного срока называть заводы… именем бывших владельцев» [19] и подпись: «Член Московского Совета Л.Троцкий».
Так подписался сын богатых землевладельцев-арендодателей из числа еврейских колонистов Лейба Давидович Бронштейн. В революционной деятельности имел псевдонимы «Перо», «Антид Ото», «Л. Седов», «Старик». В 1922 году он был председателем Революционного военного совета РСФСР, Львом Троцким. Он как никто другой понимал силу нового имени и пустоту цифр, которыми временно наделили советские заводы. Цифры – всегда переход или фундамент нового. Порядковый номер обезличивает, стирает память, готовит что-то или кого-то к новой постройке.
Это понимал Евгений Замятин, наделяя строителей ИНТЕГРАЛА, жителей Единого Государства «нумерами» мужскими: «Д-503», «R-13», «S-4711» иженскими: «1-330», «0-90». Евгений Иванович говорил: «Всякий звук человеческого голоса, всякая буква – сама по себе вызывает в человеке известные представления: Р – говорит о чем-то ярком, красном горячем, Л – о бледном, голубом, холодном, И – о чем-то нежном, о снеге, небе, ночи, Д и Т – о чем-то душном, тяжелом, о тьме и затхлом, с А – связывается ширь, даль, океан, с О – высокое, глубокое, море». Даже «нумера» наделяются у Замятина персональным звучанием характера героя: Д-503 – главный герой, в звуке «д» слышится рациональность и однозначность, R-13 – нумер поэта, в «R» эмоции и вибрация, S-4711 – имя хранителя, «двоякоизогнутого, сутулого и крылоухого».
О. Павел Флоренский приводит случай, когда маршал Бернадотта просит Наполеона I именовать и окрестить сына. Наполеон читал в это время Оссиана и дал мальчику имя Оскар. Оскар стал королем Швеции [23,186].
Утеря имени всегда означала гражданскую и историческую смерть. Процессы переименования и приращивания дополнительных имен означали смену или революцию культурной традиции.
Имя «Зинаида» с древнегреческого обозначает «из рода Зевса». Бесславилась или прославлялась Зинаида Гиппиус, имеющая в своем творческом арсенале порядка 47 зафиксированных псевдонимов? Когда её имя как ноумен становится феноменом?
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) родилась в Белёве Тульской области. 8 января 1889 года в церкви Михаила Архангела в Тифлисе венчалась с Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Театральные постановки, Религиозно-философские общества в Петербурге и Париже, редакторство журналов, в том числе журнала «Новый путь», общество «Зелёная лампа» – далеко не весть «послужной список» творческого пути Гиппиус.
Литературное наследие Зинаиды Николаевны составляет 5 сборников стихов, 6 сборников рассказов, несколько романов, драмы, литературную критику и публицистику, дневники, мемуары.
Она писала под псевдонимами «Г-с», «Денисов», «Л», «З.Г.», «Товарищ Герман», «X», «Роман Аренский», «Никита Вечер», но самым известным стало имя Антона Крайнего. Литературные критики с профессиональными вопросами обращались к Антону Крайнему, а с комплиментами о красоте к Зинаиде Гиппиус.
Магическую внешность Гиппиус описывает А.Тыркова-Вильямс: «Зелёные, сияющие, русалочьи глаза… смотрели с настойчивым вызовом. Толстые, золотые косы были положены на выпуклый лоб как корона. Совсем бы Гретхен, если бы не эти румяна и рот, странный, большой, неожиданный на этом красивом лице с неприятной, точно чужой улыбкой» [20, 659].
Игра с именами и образами не исключительна для современников Гиппиус. Символизм строился на карнавальном фундаменте. Литературный образ Гиппиус формировал новый литературный быт, философско-эстетическое сознание эпохи начала века. К выбранным ею именам прибавлялись имена извне. Её называли «декадентской мадонной», «дерзкой сатанессой», «ведьмой» и, как упоминает Н.Тэфи, «белой дьяволицей» [21, 707].
Раздвоения между Гиппиус и Антоном Крайним не наблюдалось, современники гармонично воспринимали её и авторов её произведений: «Не будь у Зинаиды Гиппиус таких длинных, изумительных, как у феи, золотых волос, таких колдовских глаз, она и стихи писала бы иначе, и Антон Крайний иначе судил бы чужие стихи», – говорит А. Тыркова-Вильямс [20,661].
Зинаида Гиппиус писала от мужского лица почти во всех своих произведениях, предназначенных для публикации. Как поэт, прозаик – автор рассказов, повестей и романов, критик по литературным, культурным, общественным и религиозным делам, она предстает в мужском лице. Даже когда она пишет от своего имени, то отдает предпочтение не фамилии по мужу – Мережковская, а фамилии в девичестве – Гиппиус, которая, со своим латинским окончанием, выглядит как мужская.
Одаренная такими «мужскими» качествами, как логическое мышление и сила воли, она ставит их выше пассивности и эмоциональности, якобы типичных для женского пола. Г. Адамович описал в книге «Из разговоров с З.Н. Гиппиус» случай, когда Мариэтта Шагинян приглашала Гиппиус на вечер женской поэзии, на что Зинаида Николаевна ответила отказом, кратко прокомментировав: «Простите, по половому признаку я не объединяюсь» [4, 654].
«Неженскость» литературного стиля Гиппиус выражалась в концептуальности и жёсткости. Н.Н. Берберова отмечала в своих мемуарах: «Она (Гиппиус) искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной» [3, 186].
Гиппиус поражала окружение пронзительно острыми умозаключениями, сознанием и культом своей исключительности. С удовольствием Зинаида Николаевна шокировала публику, появляясь одетой по-мужски чрезвычайно экстравагантно: курточки, бантики, мальчик-паж, что по тем временам было неслыханной дерзостью. При этом густо белила и румянила лицо, как делали актрисы для сцены. Она часто фотографировалась с сигаретой в руках. Курила много и охотно. Это придавало ее лицу вид маски, подчеркивая созданную искусственность.
Я Богом оскорблен навек. За это я в Него не верю. Я самый жалкий человек, Перед всеми лицемерю. «Я». [8, 59]В.Я. Брюсов в «Дневниках» отмечал в ней «обольстительную пикантность»: «Я причесываться не буду. Вы не рассердитесь?» [2, 108] Соединение боттичеллевской и демонической красоты во внешнем и внутреннем мире тоже было свойственно художественным кругам того времени.
Только в своих дневниках и письмах предстаёт Гиппиус как женщина от собственного имени. Мужское в публичном и женское в приватном. Казалось бы, мужское лицо Зинаиды Гиппиус только маска, прием. Но это слишком простой взгляд на её сложную натуру. «Петербургские дневники», «Синяя» и «Чёрная» книги написаны Зинаидой Николаевной Гиппиус, а не Антоном Крайним, и она с ответственностью заявляет, что как представитель петербургской интеллигенции несёт голос в события этого исторического момента. Экзистенциал личности свёлся к имени собственному.
Октябрьскую революцию 1917 года Гиппиус встретила крайне враждебно. Уже в октябре 1905 года в письме к Философову, написанному за час до Манифеста, она, размышляя о судьбе России после возможной победы революции, писала: «…весь путь их и вся эта картина так мною неприемлема, противна, отвратительна, страшна, что коснуться к ней… равносильно для меня было бы предательству» [5]. После прихода «царства Антихриста», 24 декабря 1919 года 3.Гиппиус и Д.Мережковский навсегда уезжают из России сначала в Польшу, а затем во Францию.
Дневники Гиппиус день за днем отражают трагическую картину происходившего: «Собачину продают на рынке спекулянты из-под полы. Стоит 50 рублей за фунт. Дохлая мышь стоит два рубля» [6, 104].
А. Тыркова-Вильямс говорит о чете Мережковских: «События мелькали, не задевая сознания этих двух выдающихся интеллигентов» [20, 663]. С этим высказыванием можно не согласиться. Веяния того времени позволяли определять жизненное кредо: «Странник. Странник. Всегда лишь странник», как у В.В. Розанова, или «Я в этом мире лишь прохожий», как у Н.А. Бердяева, но говорить об эмоциональной отстраненности Гиппиус в этот сложный исторический момент неверно. Смена имен, портретов кисти Бакста или Сомова ушли. Осталось имя собственное.
В «Петербургских дневниках» 1914–1919 гг. Гиппиус писала о псевдонимах революции: «Ленин, Зиновьев, Троцкий, Стеклов, Каменев – вот псевдонимы вожаков, скрывающих их неблагозвучные фамилии» [6, 121]. Она стала называть себя «летописцем», «голосом России»: «Мы, коренные петербуржцы, принадлежали к тому кругу русской интеллигенции, которую принято называть «словом» и «голосом» России. Вся интеллигенция: ученые, врачи, поэты, оказались причастными к политике» [6, 45].
«Петербургские дневники» – один из самых волнующих и страшных документов эпохи. Характеры Карташова, Милюкова, Керенского, Николая II прописаны с психологической точностью. Квартира Мережковских становится граждане ко-литературным штабом, куда приходят и председатель временного правительства, и матросы, и матери кадетов, сидящих в Петропавловской крепости. Гиппиус описывает то, что происходит на улицах: «На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только» [6, 42].
Постреволюционную ситуацию она называет «ассирийским рабством»: «Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатающихся от голода, – сгоняют в снег, дождь, холод, тьму… Бывало ли?» [6, 56].
Гиппиус определила собственное место жительства как центр революционных действий. Центр Петербурга, где и сосредоточилась революция: Дума, Таврический дворец. «Я следила, как умирал старый дворец, я видела, как умирал город… Да, целый город, Петербург, созданный Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий и страшный город – он умирал» [6, 161].
Ведь даже Петербургу дали новое имя. Он стал Петроградом. Гиппиус яростно описывает свое отношение к этому в стихотворении «Петроград» из «Последних стихов» 1914–1918 гг:
Кто посягнул на детище Петрово? Кто совершенное деянье рук Смел оскорбить, отняв хотя бы слово, Смел изменить хотя б единый звук? Не мы, не мы… растерянная челядь, Что, властвуя, сама боится нас! Все мечутся да чьи-то ризы делят, И все дрожат за свой последний час.Не менее остро и проникновенно она пишет о революции 29 октября 1917:
Блевотина войны – октябрьское веселье! От этого зловонного вина Как было омерзительно твое похмелье, О бедная, о, грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, Каким кошмарным обуянный сном, Народ, безумствуя, убил свою свободу, И даже не убил – засек кнутом? Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, Смеются пушки, разевая рты. И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь.М.Вишняк в статье «Зинаида Гиппиус в письмах» [4, 672] говорит о том, что «ближе к 17-ому году они (З.Г. и Д.М) стали неким центром, вокруг которого скоплялись и вращались люди, вести, слухи, которыми жил предреволюционный и революционный Петроград».
Не только описания были даны в дневниках, как, к примеру, запись от 25 октября 1917: «Очень красивый пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и сегодняшними грязными, темно-серыми, склизкими тучами» [4, 382].
Март 1917 года Зинаида Николаевна описывает как юность, предвещающую светлую жизнь. Подъем и единение настроения народа и интеллигенции выливаются в строках от 1 марта 1917: «С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний – и весь уж весенний…. Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые, белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь, а вот и золотая весенняя пурга… Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотой, отливающей, белости» [4, 293].
Однако «золотая весенняя пурга» сменилась «мзглятью» октября 1917. От 25 октября 1917: «Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка. На окраинах листки: объявляется, что «правительство низложено»… Заняли вокзалы, Мариинский дворец, телеграфы, типографии» [4, 381].
Психологически и идейно точно прослежена эволюция и низвержение личности А.Ф. Керенского в деле революции. От 21 октября 1917: «Керенский телефонограммой отменил-так и завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. (Они ненавидят Керенского). А большевики, между тем, и моленья не ожидая, выступили» [4, 378].
Или: «Сегодня несчастный Керенский выступал в Предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки правительства» [4, 379].
В марте 1917 Керенский стал предводителем, к июлю неврастеником, а к октябрю трусом в женском одеянии и как итог, запись в ноябре: «Да, фатальный человек, слабый… герой. Мужественный…. предатель. Женственный…. революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови – убийца. И очень, очень, весь – несчастный» [4, 395].
Также точно на границе с революцией она описывает судьбы современников: От 24 октября 1917: «Бедное «потерянное дитя», Боря Бугаев, приезжал сюда и уехал обратно в Москву Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком – Ив. Разумниковым… Другое «потерянное дитя», похожее, – А. Блок… сказал, я, мол, имею склонность к большевикам» [4, 380].
Тонко улавливает состояние масс: От 24 октября 1917: «Все как будто в одинаковой панике, и ни у кого нет активности само проявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет» [4, 379].
Она именует происходящее «социальным переворотом». От 24 октября 1917: «Сейчас большевики захватили «Пта» (Петер, телегр. агенство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба. Словом, готовится «социальный переворот», самый темный, идиотский и грязный, какой только будет в истории» [4, 380].
Как же выглядит «торжество победителей»? 26 октября 1917: «Давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба… Нет, слишком стыдно писать… Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали» [4, 385].
Пишет о «страшных и стыдных днях» как И.Бунин пишет о днях «окаянных».
Заканчиваются «Петербургские дневники» от 6 ноября 1917 года: «Я кончу, видно, свою запись в аду. Я буду, конечно, писать… потому что я летописец» [4, 395].
Итак, если в 1899–1901 годах 3.Гиппиус публиковала первые литературно-критические статьи в журнале «Мир искусств», подписывая их, как правило, псевдонимами: Антон Крайний, Роман Аренский, Никита Вечер, то собственную позицию по отношению к происходящим в стране событиям она отписывает от себя лично. По улицам Петрограда ходил не Антон Крайний, а Зинаида Николаевна Гиппиус.
В центре внимания символистов оказалось внутреннее переустройство личности, вычленение в библейской поэзии личностно-мистического пласта. Образ поэта изменился. Он перестал быть трибуном, но остался пророком. А пророком может быть Гиппиус, но не Антон Крайний или Никита Вечер. Известны две книги воспоминаний Зинаиды Николаевны «Живые лица» – серия портретов А.Блока, А.Белого, В.Брюсова, Ф.Сологуба, В.Розанова, А. Вырубовой, «Дм. Мережковский», могли быть написаны только самой Зинаидой Николаевной, ведь именно она встречала, провожала, любила, изменяла, ссорилась, принимала у себя дома этих людей.
Не осуждай меня, пойми: Я не хочу тебя обидеть, о слишком больно ненавидеть, я не умею жить с людьми. («К пруду»)Имя человека как реальность, раскрывающая и являющая его, иногда становится больше его самого. Именовать значит творить. Творческая натура Гиппиус позволяет создавать и множить себя в разных именах.
Перверсия субъекта проявляется в конститутивной расщепленности себя на множество имён. Установление идентичности через именование, формирование субъективности через десубъективацию: каждое новое имя стирает старое, субъект обезличивается и примеряет новое имя, а с ним новое лицо. Именование себя – субъективная сингулярность, определяющаяся через универсальную норму, которая – порядок. Личность пытается упорядочить себя. Persona от personare: «сквозь» «голос». Она именует себя и говорит разными голосами. Это попытка определения границ (околопредельность) своего сознания. «Бесстыдство таланта» – умение дойти до табуированной границы и заглянуть за неё, более того, рассказать об этом заглядывании, подглядывании. Поэтому многоименный всегда немного вуайерист – подглядывающий за норму.
Публичная манифестация упорядочена универсальной нормой, которую обозначают в качестве меры, мерки, марки, образца. Это похоже на кафкианский Закон. Кафка писал о Вратах Закона: с самого начала человек включен в Закон. Закон не просто пленил взор человека, став социальным видением, он всегда смотрел на него. Человек до закона – человек без отличительных свойств и особенностей. Раз-личение, от-личение сущности от себя устанавливается в отношениях между абстрактной универсальностью и частным содержанием.
Имя – пространство «между». Дж. Агамбен это пространство «между» соотносит в триединстве Целое-Часть-Остаток. Остаток определяется через избыточный элемент. Имя – остаток между нормой и лицом. Но именно псевдонимы дают возможность переизбыток личности оформить в социальную норму. Псевдоним – умение удержать колоссальное письмо, в котором личность бы захлебнулась, способ удержать личность и имя собственное в пределах социальной нормы, в поле общественности.
Разноголосье автора создает увертюру его творчества. Если Имя Божие в имяславии – реальность, раскрывающая Божественное. Зазеркальное «имяславие» – реальность, раскрывающая личность, иногда более самой себя. Есть высказывание, что книга талантливее автора. Книга и есть Целое, Частью которого является имя автора, а остатком – сам автор.
З.Н. Гиппиус была романтичной особой периода 1889–1903 гг:
О, пусть будет то, чего не бывает, Никогда не бывает: Мне бледное небо чудес обещает, Оно обещает. («Песня»)Была жесткой:
Твой остов прям, твой облик жесток, Шершавопыльный – сер гранит, И каждый зыбкий перекресток Тупым предательством дрожит. («Петербург»)Была откровенной:
Страшное, грубое, липкое, грязное, Жестко тупое, всегда безобразное, медленно рвущее, мелко нечестное, скользкое, стыдное, низкое, тесное. (Собр. соч. 1903–1909, с.88)И всё это один и тот же человек, одна и та же личность!
Если Зинаида Николаевна Гиппиус говорила разными голосами и разными интонациями о литературе и символизме как новом направлении в искусстве, умножая собственную сущность, создавая хор и эхо сказанного одновременно, то в экзистенциальной ситуации пограничного страха и отчаяния за судьбу России и за собственную судьбу она говорила только от лица собственного, оставив в истории имя собственное. Имя Зинаиды Гиппиус.
Литература
1. Аненков Ю. Евгений Замятин // Замятин Е. Уездное. Мы; Платонов А. Ювенильное море. Котлован. М: Азбука, 1996. 476 с.
2. Брюсов В.Я. Русская литература ХХ века. 1890–1910/Под ред. С.А. Венгерова. М.: Мир, 1914.Т.1.С.178–188.
3. Берберова Н.Н. Предисловие. Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919/ Предисловие Н.Н. Берберовой. Нью-Йорк: Орфей, 1982. Печатается по 2-ому изданию этой книги (Нью-Йорк: Телекс, 1990. С. 11–18).
4. Вишняк М. З.Н. Гиппиус в письмах // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 669–697 сс.
5. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники З.Н. Гиппиус. Тбилиси: Мерани, 1991.
6. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. Нью-Йорк: Орфей, 1982.
7. Гиппиус З.Н. Живые лица. Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение, 1991.
8. Гиппиус З.Н. Собрание стихов. 1889–1903. Тбилиси: Мерани, 1991.
9. Гиппиус З.Н. Пьесы. Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение,1991.
10. Иванов В.И. О «Цыганах» Пушкина // -info.ru/ivanov/kritikaivanova/o-cyganah-pushkina.htm
11. Замятин Е.И. Мы. М.: АСТ, 2008, 480 с.
12. Каменев Ю. О робком пламени гг. Антонов Крайних // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 246–268 сс.
13. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс-Лит, 2012. 1376 с.
14. Полный церковнославянский словарь под ред. священника магистра Г.Дьяченко // /
15. Слоним М. Литературные отклики. Бунин-критик. – Антон Крайний и Зинаида Гиппиус… О «Верстах» // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 612–627 сс.
16. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 718–721 сс.
17. Троцкий Л. Дадим имена заводам // Рабочая Москва, 1922, № 14.
18. Тыркова-Вильямс А. О Мережковских // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 659–664 сс.
19. Тэффи Н. Зинаида Гиппиус // З.Н.Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 707–718 сс.
20. Флоренский П.А. Имеславие, как философская предпосылка. М.: Республика, 1994.
21. Флоренский П.А. Иконостас. Имена. М.: АСТ, 2009. – 318 с.
22. Хоружий С.С. Современные проблемы православного миросозерцания.// Исследования по исихастской традиции. В 2-х т. Т.1. СПб: РХГА, 2013. 237 с.
Алексей Лосев в 1917 году: Русский платоник встречает пролетарскую революцию Михаил Немцев
В начале 1934 года в жизни философа Алексея Лосева произошёл крайне неприятный и теперь довольно известный эпизод. Совсем недавно, в конце декабря 1933 года, он закончил роман «Женщина-мыслитель» и предложил его прочитать пианистке Марии Юдиной. Роман произвёл на Юдину совершенно не то впечатление, какого ожидал его автор, он её шокировал. В героине романа она увидела злой шарж на себя. Разгневанная Юдина пришла домой к Лосеву, но не застала его. После этого Лосев написал ей два письма, в которых прямо-таки принуждал Юдину понимать его роман особым образом, а не так, как поняла его она. После этого все отношения между ними были прерваны.
Эти два сохранившихся письма 1934 года – один из источников, на основе которых можно выдвинуть предположение о том, как совсем молодой философ Лосев мог воспринимать события 1917 года. Взвинченные, страстные, сбивчивые тексты раскрывают некоторые важные аспекты его мировосприятия. Мы к ним ещё вернёмся.
Источников о том, как Алексей Лосев пережил и воспринял 1917 год с его двумя революциями, распадом Российского государства и другими потрясениями, немного. Сохранился ряд важных личных документов Лосева, в том числе юношеская переписка, и они позволяют делать выводы о его ранних воззрениях, политических и философских (они опубликованы в двухтомнике «Я сослан в XX век…» [6], [7]). Однако непосредственных источников о его актуальном восприятии именно русской революции очень мало. В качестве таковых можно использовать несколько статей и заметок, написанных Лосевым в 1917 году – они собраны и детально исследованы А. Тахо-Годи в специальной работе [11], а также ряд высказываний в поздних воспоминаниях, записанных различными собеседниками Лосева. Исследование и публикация А. Тахо-Годи позволяет реконструировать примерный круг чтения и интересы А. Ф. Лосева в революционный период, но она очень осторожна в каких-либо выводах о его переживаниях и размышлениях того времени. Эти материалы позволяют, однако, выявить основные темы, направления его творческого самоопределения в тот период острого и всеобщего кризиса.
Революционный год был Событием. Сейчас, ретроспективно, кажется невозможным для столичного интеллектуала остаться совершенно в стороне от происходящего, поскольку оно касается смысла и целей совместной жизни всех (здесь можно вспомнить реакцию пастернаковского Юрия Живаго на расклеенные на улицах замерзающей Москвы листовки с первыми декретами нового большевистского правительства). И в то же время, можно предположить, что для человека, занятого своими академическими исследованиями и перспективами академической карьеры, это вроде бы всеобщее потрясение может оставаться событием периферийным, во всяком случае, пока возможно избежать присоединения к той или иной стороне. Возможно, выяснив, как Лосев воспринял это Событие и почему он его принял (о чём мы опять-таки знаем, «глядя из будущего»), можно лучше представить себе восприятие революции людьми его поколения и его круга интересов. Многие из них приняли Революцию вовсе не потому что испытывали хотя бы малейшую симпатию к большевикам. Им была уготована жизнь и судьба «бывших», но в 1917–1918 годах знать это ещё было нельзя. В какой мере события этого года затронули Алексея Лосева?
В его личной жизни 1917 год был временем жизненного перехода – от ученичества к полноправной академической жизни, от юношеского «вольного» состояния к более зрелому состоянию. Он занят профессиональным и жизненным самоопределением и сосредоточен на нём, поэтому этот год не оставил заметного «событийного» следа в его памяти, и вероятно поэтому в исследовательской биографической литературе о Лосеве 1917 год упоминается тоже скудно. Лосев живёт в Москве, выступает с докладами в профессиональных обществах и готовит к публикации первые академические статьи (в 1916 году состоялась его первая публикация «Эрос у Платона»), готовится к академическим экзаменам в магистратуре Московского университета и выдерживает их. Впереди подготовка к профессорскому званию. Он углубленно занимается проблемами развития среднего образования.
В мае Лосев знакомится с дочерью хозяина квартиры, где он снял комнату, и это знакомство с будущей женой становится, вероятно, важнейшим личностно-значимым событием в его жизни в 1917 году. Этот переходный период продолжается до февраля 1919 года, когда Лосев получит должность профессора в Нижнем Новгороде, а в течение этих двух лет он занимается педагогической и издательской деятельностью: преподает в женских гимназиях, становится Председателем педагогического совета женской гимназии Е. Печинской, предпринимает (неудачное) издание книжной серии «Духовная Русь» [11, гл. I]. В этот же период Лосев интенсивно занимается религиозным самообразованием. В целом, можно сказать, что в этот переходный период Лосев был ещё вполне свободен в выборе карьерного пути и институциональной аффилиации. Из опубликованных Еленой Тахо-Годи документов (в сборнике, о котором подробно речь пойдёт ниже) явствует, что он был вовлечён в кризисные процессы, осмыслял их, вовсе не замыкаясь в «нише» проблем классической филологии. Но как именно происходило его самоопределение? Об этом можно делать только косвенные выводы, основываясь на тематике, дискурсивных особенностях написанных в это время текстов, и неизбежно – на общих предположениях о том, какие (типичные) проблемы должен решать молодой человек в подобной ситуации личного перехода и общегосударственного кризиса. Эти работы требуют сопоставления с более поздними, знаменитыми философскими работами конца 1920-х, когда Лосев фактически был одним из наиболее глубоких «красных платоников» (см. тексты Е. Абдуллаева и А. Каменских в настоящем издании, также [2]). Истоки принятия Лосевым революционного движения естественно пытаться отыскать в непосредственном опыте переживания революционных событий. Существуют естественные ограничения в возможности исследования философского самоопределения, поскольку его исследователь обычно имеет дело с документами, выражающими это самоопределение в сравнительно позднем, отрефлектированном и сопоставленном с самоопределениями других ровесников виде. Некоторым исключением могут быть дневники – если они не подвергаются значительному редактированию автором или третьими лицами (редакторами, наследниками) перед публикацией; к сожалению, молодой Лосев таких дневников не оставил. Выводы предстоит делать на основе опубликованных им в 1917 – 1918 гг. работ, отслеживая в них следы его философского самоопределения, связанного с самоопределением жизненным (с поиском того, что можно было бы назвать «миссией»).
Одну из линий философского и профессионального самоопределения молодого Лосева можно условно назвать «веховской» или, точнее, «неославянофильской». В 1917 – 1918 годах Лосев пишет статью «Русская философия» для швейцарского сборника «Russland». Этот сборник вышел в Цюрихе в 1919 году и не привлёк к себе особого внимания европейцев. Сам Лосев случайно узнал о факте публикации этого текста только в 1980-х [11, с. 144–145]; он вскоре был переведён на русский язык. В книге Е. Тахо-Годи приводится новый перевод, сделанный Владимиром Янценом, и текстологический анализ имеющегося немецкого текста (который, как показывает Янцен, был именно переводом с русского языка. Оригинальный русский текст самого Лосева до сих пор не известен) [14].
История появления этой статьи в изданном в Швейцарии во время Мировой войны сборнике не ясна. Легко заметить, что она представляет собой реферат работ В. Ф. Эрна, и сам выбор этого автора молодым Лосевым весьма показателен. Можно предположить, что выбор этот обусловлен не только и не столько методической четкостью статей Эрна по русской истории, позволяющей легко их реферировать, но и близостью Лосева к Эрну по политическому темпераменту, по ощущению общественного призвания философа.
Владимир Эри занял в истории философии в России весьма своеобразное место [1]. Он активно разрабатывал правую консервативную религиозную идеологию и свои историко-философские исследования использовал как источник аргументов для крайних антизападных (антинемецких) и антисекулярных рассуждений. Его статьи и лекции начального периода Первой мировой войны были в сборниках с «говорящими» названиями «Меч и крест» (1915; наиболее известным и в своём роде классическим стал текст опубликованной здесь лекции «От Канта к Круппу») и «Время славянофильствует» (1915) [13].
Однако Эри не ограничивался полемическим «антигерманизмом в философии», его целью было переучреждение современной философии в России на основе православной традиции и академической философии двух прошлых веков. Эта метафилософская концепция Эрна, а тем более его обращение к философии Платона в поисках новой философской методологии [8], гораздо менее известны сейчас, но являются частью единого философского проекта. По-видимому, он был одним из первых, кто последовательно развивал концепцию единой и при том принципиально отличной от «западной» философской традиции в России, и ещё до Мировой войны проблема существования такой традиции была постоянным предметом его дискуссии с молодыми философами, объединившимися вокруг российской редакции журнала «Логос». Политическая «антизападная» программа и философская программа пересоздания современной русской философии были органически связаны в его творчестве.
Лосев не разделял политический радикализм Эрна. Также он не испытывал и особенного интереса к славянофильству (или неославянофильству), хотя и упоминал о некоторых симпатиях к этому движению в юности – но не более чем временных симпатиях[11]. И Эрн, и Лосев испытывали глубокий интерес к имяславию, хотя на философию Эрна имяславие не оказало какого-либо заметного влияния, в отличие от фактически сформированного им Лосева. В 1917 году Эрн умер, и нет оснований говорить о каком-либо его непосредственном воздействии на формирующегося филолога-классика Лосева, который стремился участвовать во всех значимых интеллектуальных событиях и дискуссиях. Однако Лосев перенимает у Эрна пафос утверждения самостоятельной интеллектуальной традиции религиозной (православной) философии в России. Это не простое подражание. Он пишет, приводя длинную цитату из книги Н. Бердяева об А. С. Хомякове: «русская философская мысль нашего времени осознала свою собственную сущность… она, как правило, не ставит себе никаких иных задач, кроме тех, которые всегда были в неискаженной русской философии» [11, 238].
Признаки русской философии, по Лосеву, следующие [11, 240]:
1) «Она является чисто внутренним, интуитивным и чисто мистическим познанием сущего, его скрытых глубин, которые могут постигаться не логическим схватыванием и определением, но только в символе»; отсюда фактическое отождествление «русской философии» и философского символизма, античные истоки которого Лосев будет так подробно исследовать в последующие годы.
2) «Русская философия неразрывно связана с реальной жизнью, часто представая поэтому в виде публицистики» – отсюда, по-видимому, и допустимость публицистического пафоса собственных философских работ для самого Лосева (знаменитые «добавленные» фрагменты «Диалектики мифа» [3] – это, очевидно, именно страстная злободневная публицистика).
3) С этим связано то, что «изящная литература является колыбелью самобытной русской философии». Позже Лосев блестяще продолжит эту «традицию» объединения литературы и философии, о важности которого было заявлено уже здесь, в статье 1917 года.
В качестве признаков западной философии указаны и рассмотрены рационализм, меонизм и имперсонализм, а русская противоположность им – логизм, реализм и тонизм [11, 243–244]. Это опять же полное воспроизводство подхода В.Ф. Эрна. Наконец, Лосев пишет: «Русская самобытная философия представляет собой непрерывную борьбу между западноевропейским абстрактным Ratio и восточно-христианским, конкретным, богочеловеческим Логосом и продолжающееся, постоянно возрастающее постижение иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом» 11, 245].
На мой взгляд, такое полное следование историко-философскому схематизму Эрна – это не проявление интеллектуальной зависимости Лосева от него (как некоей ученической ещё несамостоятельности), но скорее выражение некоего общего настроения, «духа эпохи». Это сознательное обращение к национальной традиции для её победительного утверждения в неизбежном противостоянии европейской культурной гегемонии. Фактически такое обращение становится конструированием; «единую» традицию предстояло ещё создать, для этого Эрн пишет её историю.
Для Лосева православие значило, конечно, нечто большее, чем для самого Эрна. Он не только глубоко интересовался литургикой, самой практикой православной жизни, посещал монастыри (о чём с восторгом много позже воспоминал), но и в своей философии стремился последовательно опираться на опыт православной, святоотеческой мысли, синтезируя её с античным платонизмом и европейской философией Нового времени. Этот синтез приводит позже к довольно странным для современного читателя сопоставлениям процессов в античной философии и в современной материалистической философии [2].
«Постславянофильское» самоопределение Лосева времени русской революции помещает его в большее культурное течение, на которое в рамках настоящего текста можно только указать: это настроение, или течение (не оформившееся в сколько-нибудь заметное и влиятельное культурное или политическое движение) сторонников преобразования российской культуры в сторону её большей «национализации» и «право-слав из ации» с усилением недемократической консервативной центральной власти. Это, так сказать, «философская правая». Яркими представителями этого течения были, с одной стороны, о. Павел Флоренский (который через много лет блестяще выразит его в трактате «Предполагаемое государственное устройство в будущем» [12]), а с другой – авторы первых евразийских сборников. Это было течение несостоявшейся консервативной революции, для которой желательным общественным устройством была бы христианская идеократия[12]. С. Земляной, анализируя фрагменты «Диалектики мифа», называет выраженную в них социальную утопию Лосева конца 1920-х «клерикально-консервативная мифологическая дистопия» [3].
Для Лосева утверждение самого себя в качестве полномочного представителя этой (конструируемой) традиции «русской философии» в его переходном положении начинающего учёного означало и принятие некой общественной миссии, и возможность социализации в московском интеллектуальном сообществе посредством этого. С весны 1918 года Лосев участвует в подготовке книжной серии «Духовная Русь» со «старшими товарищами» – Вяч. Ивановым и С. Н. Булгаковым. Это должна была быть серия небольших работ о философии и, шире, духовной культуре в России, рассматриваемых в «национальном» ключе. В качестве редактора серии весной 1918 года Лосев пишет письма о. Павлу Флоренскому и другим, принимая на себя ответственность за развитие программы по «изобретению» русской философии [11, 291–298]. Этот издательский план не удался в силу не зависящих от редактора серии причин. Благодаря этому проекту Лосев получил возможность позиционировать себя как полноправного участника философского процесса. Впервые Лосев оказывается в деловом взаимодействии с авторитетными представителями старшего поколения, включаясь таким образом в профессиональную социальную сеть. Если бы проект удался, Лосев публично выступил бы в роли представителя этой «неославянофильской» линии. В тот период он формирует эстетическую установку философа-бойца, столь хорошо заметную в более поздних произведениях. В этом он так же напоминает В. Ф. Эрна.
«Неославянофильская» линия в самоопределении Лосева характеризует его общественно-политический темперамент, формирующуюся готовность брать и нести миссию выразителя национальной традиции. Но здесь можно вернуться к вопросу о том, как он при этом воспринимал сами революционные события? По-видимому, это восприятие было предопределено второй перспективой его самоопределения. Её можно назвать идеалистической или символической.
В 1918 году Лосев сотрудничает с анархистской газетой «Жизнь». Она была учреждена известным анархистом А. Боровым, выходила всего несколько месяцев и была закрыта большевиками. Лосев опубликовал в ней три статьи; они были впервые обнаружены и переопубликованы Е. Тахо-Годи. Наибольший интерес из этих статей представляет собой небольшой очерк «К столетию великой книги…» (Жизнь. 1918. № 48.22(9) июня), где речь идёт о «Мире как воле и представлении» А. Шопенгауэра.
Сам по себе выбор этой книги как темы статьи не удивителен, учитывая популярность Шопенгауэра, и удивляет скорее само его появление в анархистском издании. Я хочу обратить внимание на слова Лосева в этой статье, не совсем привычные в тексте рационалиста, вроде бы чуждого декадентскому поклонению стихиям и т. п.: «Мы все поклонники и служители Диониса, этой тайной радости анархизма и совлечения с себя границ индивидуальности… Мы теперь уже не верим в логику, в систему, в законченность, в «мир, как представление». Мы научились ценить силы, клокочущие в глубине души и космоса. Мы научились чувствовать их родство» [11, с. 187]. Кто подразумевается под этим риторическим «мы»? По-видимому, речь идёт о всех современниках, свидетелях революционного подъема «сил, клокочущих в глубине души и космоса». Лосев признаёт хаос и права хаоса. Можно предположить, что это – не только риторическое упражнение.
В 1981 году Лосев вспоминал свои переживания во время революции 1905 года, когда он ещё учился в Новочеркасской гимназии: «Однажды, собравшись в гимназическом саду, гимназисты торжественно сожгли учебник латинской грамматики Никифорова. В этом сожжении я не участвовал, но стоял рядом со многими другими и радовался неизвестно чему… всё это… не просто волновало, а наполняло голову и грудь каким-то бешеным восторгом. А почему, неизвестно. Таких волнений, которые я безрассудно переживал в 12 лет, я потом в жизни уже никогда не имел. И когда пришла настоящая революция, то даже и те ее многочисленные свойства, которые я считал положительными, я уже не мог переживать столь безрассудно и мальчишески, а воспринимал это обдуманно и критически. Но своих безрассудных волнений в 12 лет забыть не могу» [7, 524]. Важно здесь то, что первичным опытом революции Лосева стало чувство интенсивного восторга и экстатического освобождения. «Настоящую революцию» он воспринимает уже на основе того первичного опыта.
Можно ли считать, что православный платоник Лосев воспринимал революцию символически? С одной стороны, ретроспективно нам известно, что он принял её и установившуюся власть большевиков как фактическую и философскую необходимость, как приняли её и другие представители «философской правой». С другой стороны, тема хаоса и экстатики появляется и в этом фрагменте из воспоминаний, и затем постоянно возвращается в корпусе литературно-философских произведений, созданных Лосевым после возвращения с Беломорканала – так сказать, после встречи с советской властью во всей её неприглядной мощи. Одно из этих произведений – это роман «Женщина-мыслитель», о котором шла речь в начале. Вернёмся к нему и к отчаянным письмам Лосева к Юдиной.
Этот роман, как и тематически близкая к нему короткая повесть «Мне было 19 лет…», представляют собой эротические фантасмагории. Их персонаж, рассказывающий от первого лица историю своих приключений, встречает женщину с невероятным музыкальным талантом, чувствует к ней сильное половое влечение и вступает в сложные отношения с ней и её окружением. Постепенно он погружается в сноподобную реальность, где любые межличностные отношения постепенно превращаются в эротический гротеск (ещё в лагерной переписке с женой Лосев писал об образах гофманианы, настоятельно требовавших от него художественного воплощения). Эти произведения действительно кажутся описанием каких-то сложных фантазий, и неудивительно, что Мария Юдина, «опознав» себя в качестве прототипа главной героини «Женщины-мыслителя», была в гневе (об истории образной системы романа см. [4]). Страстно пытаясь оправдаться, Лосев пишет ей два письма, и в них буквально навязывает инструкцию – как именно следует читать его произведения. Он горестно возражает против оценки его нравственных качеств посредством этого произведения, ибо автора нельзя ведь отождествлять с лирическим персонажем. Лосев сокрушается о том, что его длительный духовный труд, вложенный в этот текст, совершенно не был воспринят Юдиной. Он сокрушается, что духовное родство между ними и перспектива близкой духовной связи разрушены её резкой уничтожающей реакцией. Основной лейтмотив этих писем – обида на неспособность адресатки, ослеплённой обидой, правильно прочитать текст романа как философское произведение: «женский инстинкт элементарной самообороны подсказал Вам очень простой выход: похерить всю философию… выхватить сцены, где изображен порок и духовное мещанство, приписать все это мне самому и – отчитать, выругать…» [7, 149]. Лосев указывает на пропущенные ею ключевые для понимания философии романа места и настаивает на правильном чтении его романа. Его читательница должна увидеть: главный персонаж романа погружается в иррациональный оргиазм в надежде спасти «погрязшую» в нём женщину – фактически, эта женщина, несомненный «объект желания», оказывается проводником сквозь иные, «хаотические» реальности, так что мужчине-рассказчику приходится прилагать усилия, чтобы сохранить рациональное восприятие реальности. Текст романа оказывается символическим произведением, устроенным по схеме символа: «верхнее», литературное значение, собственно художественная часть романа открывает его настоящее философское содержание. Эротическая фантасмагория Лосева при правильном прочтении приоткрыеает достаточно внимательному, искушенному читателю или читательнице некий рациональный порядок. Это обычная герменевтическая схема «двойного значения», которая уже в послевоенное время станет предметом специального анализа в философской герменевтике [9]. Лосев настойчиво требует внимания к этому скрытому значению, но достичь его можно только отвлекаясь от себя самой, даже сопротивляясь собственному стремлению увидеть в литературном тексте нечто относящееся к себе самой. Духовной и экзистенциальной неспособностью Юдиной к такому чтению в отвлечении от себя самой Лосев и объяснил её реакцию. Он противопоставляет свой аскетизм её жизне– и страсте-любию (впрочем, позволяя себе в их описании весьма оскорбительную и явно неаскетическую образность на грани эротомании): «не нуждаемся мы [с В.М. Лосевой – М.Н.] ни в чьей помощи и хотим умереть за свое дело вот так, в одиночестве, в нищете, в покинутости всеми, когда Вы там в блудном одеянии зажариваете перед сотнями зевак какого-нибудь мистического онаниста Прокофьева или Шапорина» [7, 152]. Понимание символа требует самоотдачи.
Если предположить, что Русскую революцию Лосев также воспринимал символически, то какую истину он мог увидеть «там», за хаотической мешаниной политических и социальных перемен? По-видимому, это не что иное, как рождение органического государства – идеократического общества «естественной справедливости».
В декабре 1918 года Лосев записывает в дневнике небольшое рассуждение, удачно названное Е. Тахо-Годи при публикации «тезисами о справедливости и социалистах». В них он обсуждает соотношение справедливости и равенства (одна из важных тем теории социализма), приходит к выводу о неизбежно уравнительном характере справедливости и далее пишет: «Ибо социализм только и возможен при монархизме… Все дело, господа, в одном: кто у кого на шее сидит. А уж сидение на шее – это извините, это – религия и онтология. Социалисты – правы!» [11, с. 139]. Дневник был изъят при аресте в 1930 году, и приведённое рассуждение было подчёркнуто следователем. В нём прочитывается элемент характерной лосевской пародийности. Однако эта тема философского оправдания монархизма (или авторитаризма) отнюдь не пародийна. Е. Тахо-Тоди указывает, что эта запись явно перекликается с публицистическими пассажами из «Диалектики мифа». Она также связана с написанными в тот же по еле лагерный период, что и «Женщина-мыслигель», повестями «Встреча» и «Из разговоров на Беломорстрое», где эта же мысль получает довольно изощрённое обоснование. Их персонажи, арестанты, вынужденные к аскетизму самими условиями своего существования, приходят к диалектической необходимости сильной уравнительной государственной власти в Советской России и смирению самих себя в подчинении ей. Так, Вершинин, персонаж повести «Встреча» (по мнению Е. Тахо-Годи, alter-ego Лосева), заявляет: «Да, я очень рад… пришла-таки моя настоящая власть… Цари слишком либеральничали и поэтому я совсем не хочу их возвращения. Царскую политику и русский национализм проводили наемные немецкие министры. А вот сейчас это действительно Русь. Тут, сударыня, Русью пахнет» [6, 386]. Эта новая «настоящая власть» оказывается более «русской», т. е. более соответствующей народной традиции, чем предшествовавшая царская. (Под уничижительным суждением о «немецких министрах» подписался бы В. Ф. Эри, между тем для самого Лосева такой национализм не характерен; не является ли это суждение Вершинина авторским намёком на Эрна?)
Но ещё раньше, в «Очерках античного символизма и мифологии» (1927), он недвусмысленно прописал социальный идеал платонизма: «Платонизм как социальная теория есть, с полной и неумолимой диалектической необходимостью, проповедь аристократии. Никакая демократия, никакая олигархия, вообще ничто иное не способно выразить подлинной социальной природы платонизма. Платонизм диалектически требует аристократии, которая должна всем править и быть единственной властью для народа» [5, 818] Платоновские аристократы – это самоотверженные аскетичные созерцатели интеллигибельных идеалов.
Итак, можно предположить, что Лосев достаточно быстро «прозревает» в Русской революции 1917 года перспективу установления подобия платоновской утопии. Для этого требуется аскетическая готовность принять вызов социальных потрясений и воспринимать их символически, как раскрытие истины будущего, нового социального порядка (органическое государство в духе «государства» Платона). Эта утопия и будет утверждением консервативной национальной русской традиции. «Нео-славянофильство» и консервативный идеализм совпадают в таком принятии большевизма. Нет оснований думать, что такой опыт молодого Лосева был хотя в чём-нибудь уникальным.
Литература
1. Kukulin Ilya. The World War against the spirit of Immanuel Kant: philosophical Germanophobia in Russia in 1914–1915 and the birth of cultural racism // Studies in East European Thought 2014, Vol. 66, Issue 1, pp. 101–121 // DOI 10.1007/s11212-014-9199-9.
2. Гаврюшин Н.К. «Платонизму трижды анафема!»: кому адресована филиппика А. Ф. Лосева 1930 года? // Исследования по истории русской мысли: ежегодник. Т. 11. /под ред. М. А. Колерова. М., 2015. С. 548–557.
3. Земляной С. Клерикально-консервативная мифологическая дистопия: Алексей Лосев. URL: (обращение 20.02.2016; оригинальная версия, размещённая на сайте «Русский журнал» недоступна).
4. Кибальник С. А. «Роман с ключом» в русской прозе 1920 – 1930-х годов («Женщина-мыслитель» Алексея Лосева и «Козлиная песнь» Константина Вагинова) // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2014. Вып. 2. С. 24–30.
5. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии М.: Мысль, 1993.
6. Лосев А.Ф. «Я сослан в XX век…»: В 2 т. Т. 1. М.: Время, 2002.
7. Лосев А.Ф. «Я сослан в XX век…»: В 2 т. Т. 2. М.: Время, 2002.
8. Немцев М.Ю. Владимир Эрн как читатель Платона // ΣΧΟΛΗ. Т. 8. Номер 2. 2014. С. 520–537.
9. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. И. Сергеевой. М.: Медиум, 1995.
10. Срезневский В. И., Идеократия, идеократизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIIа, 1894, с. 798.
11. Тахо-Годи Е. Алексей Лосев в эпоху русской революции: 1917–1919. М.: Модест Колеров, 2014. 368 с.
12. Флоренский П. Предполагаемое государственное устройство в будущем // Флоренский П.А. Соч. В 4-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 641–681.
13. Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. (Приложение к журналу «Вопросы философии»).
14. Янцен В. Послесловие переводчика // Тахо-Годи Е. Алексей Лосев в эпоху русской революции: 1917–1919. М.: Модест Колеров, 2014. С. 273–279.
Горизонты нового мира: Родина
Политический платонизм как предмет интеллектуалbной контрабанды: казус А.Ф. Лосева Алексей Каменских
Впервые открывая соответствующие страницы платоновского «Государства», любой человек, выросший в Советском Союзе, испытывает ни с чем не сравнимое чувство узнавания.
П.Ю. Рахшмир, из лекции 1997 годаНесколько лет назад, выступая на одной из сессий международного семинара Есг%атю^, Оксана Довгополова предложила свои размышления об особой интеллектуальной стратегии, которую, отталкиваясь от слов Б.Вальденфельса в его «Топографии Чужого»[13], она предложила именовать «интеллектуальной контрабандой» (2, 203–226). Речь идёт об одном из возможных способов поведения интеллектуала в условиях жёсткого политико-идеологического контроля, когда, вместо того, чтоб уходить из профессии или писать «в стол», он пытается продолжать работать, «как нормальный учёный», облекая уязвимые для цензурной критики идеи в идеологически допустимые формы, цитируя запрещённых авторов под видом разрешённых и т. д. Так в конце 60-х годов прошлого века А.Я. Гуревич вводил в оборот отечественной медиевистики идеи запрещённого в Советском Союзе П.М. Бицилли, ссылаясь при этом на представителей «Школы Анналов» и обыгрывая в названии собственной монографии название ключевой работы Петра Михайловича. О.Довгополова отметила чрезвычайную уязвимость позиции «интеллектуального контрабандиста»: помимо того, что представители контролирующих органов в любой момент могут схватить его за руку и уличить в «интеллектуальной диверсии», собратья по цеху всегда могут предъявить ему обвинения в плагиате.
В предлагаемом очерке мне хотелось бы рассмотреть другой кейс интеллектуальной контрабанды, на сорок лет предваряющий игры поздних шестидесятников с советской цензурой. «Контрабандистом» в нашем случае выступил Алексей Фёдорович Лосев, а предметом контрабанды – гипотеза учёного о платонической природе советского режима.
Вообще, представление о высокой значимости исследований платонизма для понимания многих явлений в политике, идеологии и философии двадцатого столетия и даже наших дней за последние сто лет высказывалось многократно. Социальный проект Платона рассматривался в качестве своего рода парадигмальной модели тоталитарных режимов нацистской Германии и большевистской России[14] или, сравнительно недавно, – как единственное основание для решения всего комплекса современных глобальных проблем [10].
Лосевская гипотеза о платонизме как своего рода интерпретативной модели советского проекта может рассматриваться как «контрабандное» содержание его очерка «Социальная природа платонизма», опубликованного в 1930 г. В составе «Очерков античного символизма и мифологии» [4, 773–904]. Будучи вынужден прикрывать свои феноменологические и неоплатонические τρόποι квази-марксистской риторикой, скрывать собственные философские и богословские построения и полемические суждения за ширмой академических историко-философских штудий, А. Лосев использует весь комплекс косвенных выразительных средств для того, чтоб продемонстрировать сходство платоновского социального проекта и реалий большевистской России[15]; более того – для того, чтоб объяснить это сходство с силой логической необходимости. Отметим, что, по Лосеву, анализ социальной природы платонизма оказывается также необходимым основанием для объяснения социальной специфики православия и католицизма.
Лосев начинает обсуждение социальной природы платонизма с утверждения о невозможности исследовать платоновскую теорию идей и платоновский социальный проект как две изолированные доктрины. Мы не можем, полагает он, восхищаться возвышенным идеализмом и закрывать при этом глаза на многочисленные «неудобства» и «неожиданности» в платоновском проекте идеального государства. Лосев утверждает, что из «Идеи» Платона «вытекает вполне определённая и только одна-единстеенная социальная система, что его ‘Идея’ насквозь социальна, а его социальность насквозь ‘идеальна’» [4, 773][16]. Лосев формулирует свою задачу как попытку проследить эту внутреннюю диалектическую зависимость между теорией идей и теорией идеального государства, философски объяснить все эти «странные места» в текстах Платона, когда вместо учения о семье мы обнаруживаем «теорию конного завода», когда вместо возвышенной теории искусства и красоты обнаруживаются требования изгнать из идеального государства художников и поэтов, «вместе с проститутками, актёрами, модистками, цирюльниками, поварами… всю эту, как он выражался, ‘массу ненужных людей’» [4, 775].
(Следует подчеркнуть, что фраза «масса ненужных людей», типичная для советской риторики конца двадцатых, представлена в лосевском тексте как принадлежащая самому Платону. Аналогичные примеры разбросаны по всему тексту очерка: это упоминание о «рабочее-крестьянском населении» идеального государства (4,819,825), о Платоне как антилиберале и т. д.: реалии платоновского государства описываются Лосевым в терминах советской действительности конца двадцатых. Что это? Случайно допущенные Лосевым анахронизмы, результат стилистической небрежности? Едва ли. Лосев обладал прекрасным чувством стиля. Я склонен видеть в подобного рода «анахронизмах» форму «контрабандной стилистики»: в ситуации жёсткого идеологического контроля Лосев использует такие «намеренно анахронистические» пассажи как один из косвенных приёмов демонстрации близости платоновского и советского социального и политического проектов).
Итак, какая социальная структура, согласно Лосеву, с диалектической необходимостью вытекает из платоновского учения о идеях? Прежде чем дать ответ, автор предлагает некоторое методологическое отступление. По утверждению Лосева, любой культурный тип, во всём многообразии своих аспектов, может быть с логической строгостью дедуцирован из некоторого фундаментального принципа. Этот принцип может не осознаваться самими представителями культурной традиции, более того – эти представители могут иметь некие частные взгляды и вкусы, противоречащие данному принципу (так, какой-нибудь выдающийся естествоиспытатель может быть верующим христианином, а какой-нибудь русский марксист может любить поэзию Пушкина), но, тем не менее, именно этот принцип определяет характер традиции в целом. Платонизм, согласно Лосеву, являясь одной из таких культурных традиций, также может быть дедуцирован из некого исходного принципа, который манифестирует себя в каждом аспекте этой традиции – в равной мере в платоновской социальной философии (и в практических приложениях этой философии – если ей случится быть реализованной) и в теории идей. Так, Лосев утверждает, что все именующие себя платониками «должны делать все те социальные выводы, которые с неумолимой диалектической необходимостью вытекают из Платона и фактически делаются также и самим Платоном» [4, 778].
«…ведь каждый чувствует, что с Платоном не совместима никакая социал-демократия, никакой парламентаризм, никакое равенство, никакой вообще либерализм и пр. и пр. Платонизм не совместим ни с верой в прогресс (эта вера есть создание исключительно европейского либерализма), ни с безобрядовой религией (созданием европейской дуалистической метафизики), ни с экономическим материализмом… Мы… должны показать, как входит некая социальная структура в самую сущность его, как и какое социальное учение имманентно содержится в чистом платонизме» [4, 778–779].[17]
Лосев выделяет в платоновских текстах о идеальном государстве три основных момента. Во-первых, полное подчинение индивидуальной жизни целого [4, 808, 811]. Второй момент связан со своеобразным пониманием справедливости ((δικαιοσύνη) – главной ценности социальной философии Платона. Справедливость определяется здесь как «мудрое равновесие всех сторон души…. и, след., всех классов общества» [4, 808]. Ни один отдельный элемент не имеет здесь самостоятельной силы или значения. 462а9-b2 пятой книги «Государства» представляет хорошую иллюстрацию такого понимания справедливости: «Может ли быть, по-нашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?»[18] «Справедливость» в идеальном государстве есть геометрическая симметрия скульптуры: идеальный полис «есть цельная статуя, интересная только как целое» [4, 810], и весь полис есть не что иное как совершенная статуя, прекрасная совершенной геометрической симметрией своих пропорций.
Стиль Лосева становится здесь чрезвычайно экспрессивным и эмоциональным. Структура предложений, подбор слов, курсив, сопровождающие, казалось бы, простое цитирование и парафраз положений социальной теории Платона, показывают, что перед нами – более чем предмет отвлечённого академического интереса.[19]
Эти положения а) о полном поглощении личного общим в идеальном государстве и b) о статуарном, геометрическом характере совершенства идеального государства позволяют Лосеву постулировать окончательную формулу социальной природы (античного, языческого) платонизма. Да, говорит Лосев, сущность платонизма – идеализм. Но платоновская идея есть идея тела, а не личности. Это такая идея, которая, будучи воплощенной, не допустила бы трансформации земного индивида в духовную индивидуальность, которая «обобщила бы все индивидуумы, формализовала бы их духовное содержание… Именно в силу примата земли и тела социальное бытие в платонизме как раз таково, что оно поглощает все индивидуальное и неумолимо подчиняет всё и всех целому и общему» [4, 811–812]. Итак, Лосев приходит к парадоксальному определению платонизма в его социальном измерении:
…Реально же, т. е… социально – платонизм есть учение о субстанциальном примате материи, о бытийственном преимуществе тела и твари, земли, что необходимо ведёт к учению о формально-смысловом примате идеи, о господстве и преимуществе целого над индивидуальным. Такова логика всякого материализма [4, 812].
Определение представляет собой прекрасный пример лосевского «контрабандного стиля». Что является здесь определяемым, definiendum? – Платонизм? Очевидно. Точнее – античный, языческий платонизм, в котором Лосев видит интеллектуальную квинтэссенцию основной интуиции греческой культуры – интуицию тела. Поскольку платоновская идея есть, по Лосеву, идея геометрически совершенного тела, (языческий) платонизм парадоксальным образом оказывается формой материализма. Но, поскольку платонизм есть единственная форма, в которой оказывается возможным действительное диалектическое мышление (к примеру, разновидность платонизма, имеющая в качестве своего основания идею или интуицию абсолютной личности, есть, по Лосеву, подлинная христианская философия), то языческий, нехристианский платонизм представляет собой парадигмальную форму любого последовательного материализма, включая русский большевизм. Так что, рассуждая, как будто, лишь о социальной философии Платона, Лосев предлагает формулу, или (онто)логическую схему, определяющую теорию и практику русских большевиков: «Такова логика всякого материализма».[20]
Вся последующая экспозиция социального проекта Платона, во всём многообразии деталей этого проекта, представлена Лосевым как диалектическое раскрытие этой формулы. Исследование Лосева показывает, что в своём отношении к социальной практике платонизм раскрывается как религия – охватывающая собой, подчиняющая и определяющая все аспекты и черты общественной жизни. Три сословия платоновского полиса превращаются, в силу диалектической необходимости, в три «сословия» языческого монастыря – монахов (= правителей-философов), полицейских (= стражей) и послушников (= ремесленников и земледельцев) [4, 813–829]; доказывается, что подлинная сущность мифологии в платоновском государстве – догматическое богословие [4, 829–833]; диалектически обосновывается, почему единственно допустимыми формами искусства в платоновском государстве оказываются гимнография и иконография [4, 834–847].
Лосев показывает, что единственной формой теории семьи в «языческом монастыре» Платона оказывается такая, которая исключает любую частную жизнь, любую индивидуальную любовь: «античный платонизм допускает брак, но выбрасывает из него всякое духовное и личностное содержание… Поэтому родить детей надо, но не должно быть ни семьи, т. е. ни отца, ни матери, ни детей (в собственном смысле), ни какой-нибудь любви» [4, 849].[21]
Более того, поскольку платонизм, по Лосеву, есть высшая (и, соответственно, общая) форма диалектического мышления как такового и поскольку основная оппозиция между античностью и христианством оказывается выражена в противоположности двух базовых культурных интуиций – тела и личности[22], – античный, языческий платонизм, во всём многообразии своих социальных экспликаций оказывается противопоставлен христианскому платонизму, наиболее строгую форму которого Лосев видит в византийском паламизме (со всеми диалектически дедуцируемыми формами соответствующего типа социальности) [4, 865–873]. Католицизм, во всем многообразии своих как догматических, так и художественных, и социальных форм, интерпретируется Лосевым как переходный культурный принцип – как «христианский аристотелизм» [4, 873–892]. Христианство отвергает языческий платонизм, однако любая из его основных исторических форм оказывается одним из культурных типов, имеющим в своей основе тот или иной вариант платонизма: «языческий платонизм мы противопоставили христианскому платонизму в трёх его основных видах – 1) православно-восточному (паламигскому), 2) католическо-западному и 3) варлаамигско-протестантскому» [4, 892].
Следующий шаг в цепи «логико-контрабандных умозаключений» – утверждение о том, что каждый из описанных вариантов христианской культуры сохраняет свою специфику даже в своей деградировавшей форме. Так, «католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию. Православие, развращаясь, даёт хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм». И далее – тезис, который можно истолковать как лишь слегка закамуфлированную лосевскую формулу русской революции: «Только в своем извращении и развращении они могут сойтись, в особенности, если их синтезировать при помощи протестанте ко-возрожденческого иудаизма, который умеет истерию и формализм, неврастению и римское право объединять с разбойничеством, кровавым сладострастием и сатанизмом при помощи холодного и сухого блуда политико-экономических теорий» [4, 891–892].
Итак, перед нами текст, который может рассматриваться как один из ранних образцов советской «интеллектуальной контрабанды».
Это попытка обмануть власть, внешне демонстрируя ей свою полную лояльность или идеологическую нейтральность, в действительности же – стремясь обличить эту власть, раскрыть её подлинную природу; однако – неизменно исподволь, косвенно, «держа кукиш в кармане», руководствуясь принципом sapient sat. Вот, к слову, ещё один важный вопрос: кто действительный адресат Лосева? Как он представлял себе ту аудиторию sapientium, к которой обращался в своём очерке?
Далее. В отличие от рассмотренного О.А. Довгополовой «контрабандного проекта» А.Я. Гуревича, осуществившего интродукцию идей своего старшего коллеги по медиевистскому цеху, лосевский очерк социальной природы платонизма «ауто ко нтр аба нде и»: Лосев говорит сам и своё. Более того, здесь Лосев выступает как контрабандист не только по отношению к цензурно-репрессивному аппарату власти, но и по отношению к научному сообществу: как отметил ещё в 2012 году Л.Я. Жмудь в своём выступлении на третьей сессии Есг%атю(^а, под видом историко-философского исследования Лосев контрабандой пытается «протащить» собственную философскую систему.
Литература
1. Вальденфельс Б. Топографiя Чужого: студiї до феноменологiї Чужого. Київ: ППС, 2002, 2004.
2. Довгополова О.А. «Casus Бицилли»: феномен интеллектуальной контрабанды и судьбы научных традиций // Эсхатос-II: философия истории в контексте идеи «предела». Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2012. С. 203–226.
3. Замятин Е.И. Мы: Текст и материалы к творческой истории романа. Ред. М. Любимова, Дж. Куртис. СПб.: Мiръ, 2011.
4. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологию Москва Мысль, 1993.
5. Незеркотт Ф. Восприятие Платона в Советской России (1920–1960 гг.) / Пер. Ю. Тихеева // Логос. 2011. № 3 (84). С. 159–169.
6. Радек К. Сентиментальное путешествие Бертрана Рассела // Правда, 24 октяря 1920 г.
7. Семёнова А.Л. Роман Замятина «Мы» и «Государство» Платона // Русская литература, 3 (1999). С. 175–184.
8. Тихеев Ю. Платон в России: взгляд со стороны: Предисловие к статье Ф. Незеркотт // Логос. 2011. № 4 (83). С. 155–157.
9. Crossman R.H. Plato Today. New York: Oxford University Press, 1939.
10. Dillon, John. Platonism and the World Crisis // ΣΧΟΛΗ: Ancient Philosophy and the Classical Tradition 1, no. 1 (2007). P. 7–24.
11. Fite W. The Platonic Legend. New York: Charles Scribner’s Sons, 1934.
12. Nethercott F. Endings and Ends in Early Soviet Philosophical Culture: Plato’s Republic
in a Bolshevik Utopia // Intellectual News: Review of the International society for intellectual history. 1999. Spring. № 4–5: 55–61.
13. Nethercott F. Russia’s Plato: Plato and the Platonic Tradition in Russian Education, Science and Ideology (1840–1930). Aldershot: Ashgate, 2000.
14. Popper, Karl R. The Open Society and Its Enemies. Vol. 1, The Spell of Plato. London: Routledge, 1945.
15. Russell, Bertrand. The Collected Papers. Vol. 29, Détente or Destruction, 1955-57. Edited by Andrew G. Bone. New York: Routledge, 2006.
«Красный» Платон: образ советского государства как платоновской утопии (1920-е – 1930-е годы) Евгений Абдуллаев
20 мая 1918 года в газете «Понедельник» был напечатан рассказ философа и прозаика Бориса Грифцова «Переселение душ». Герой рассказа Николай Бредихин, закрыв том «Государства» Платона, умер и – оказался среди длинной вереницы таких же, как он, бестелесных, ждущих своего земного воплощения… [12].
Смерть героя, похоже, не случайно наступает после прочтения одного из самых известных диалогов Платона. В рассказе, правда, развивается только одна линия этого диалога – изложенное в его конце учение о переселении душ. Однако контекстуально «просвечивает» и другая, которая, что называлось, носилась в первые пореволюционные годы в воздухе. А именно – связь социальной утопии Платона (как она дана в «Государстве») с коммунистическими идеями советской власти.
Тема интерпретации философии Платона в советской России в 1920 – 1930-е годы остается, к сожалению, крайне скудно исследованной. Особенно это касается социального учения Платона и его параллелей с проектом большевиков. Сжатый обзор основных работ по этой теме содержится в статье Ф.Х. Кессиди 1979 года [15][23]. Как отмечал Кессиди:
В первые годы советской власти в научных кругах, занимавшихся изучением истории античной общественной и философской мысли, приобрели особую актуальность проблемы так называемого античного социализма и коммунизма и в первую очередь вопрос об утопии Платона… [15, 240].
В 1999 году вышла статья Френсис Нэтеркотт (Nethercott) «Завершения и разрывы в ранне советской философской культуре: “Государство” Платона и большевистская утопия» [42]; в несколько расширенном и доработанном виде она вошла в качестве пятой главы («Вопрос о русском платонизме») в ее книгу «Русский Платон: Платон и платонизм в российском образовании, науке и идеологии (1840–1930)» [43][24]. По сути, и статья, и глава представляют лишь расширенный вариант статьи Кессиди. Исследовательница строит свой анализ фактически на тех же источниках[25], лишь чуть более подробно излагая их, и почти полностью повторяет выводы своего предшественника.
Как и статья Кессиди, исследования Нэтеркотт охватывают лишь часть источников по теме – условно говоря, официально-академическую: то, что публиковалось в советских научных изданиях[26]. За пределами остается слой полу– или неофициальных источников, которые, особенно в 1920-е, составляли немаловажную часть русской философии. В них параллели между утопией Платона и русским коммунизмом проводились более однозначно.
Таким источником, например, являются протоколы заседаний Вольной философской ассоциации (Вольфилы, 1918 – 1924 гг.)[27]. Платону было отдельно посвящено юбилейное, пятидесятое заседание Вольфилы, неслучайно проведенное 7 ноября 1920 года – в третью годовщину Октябрьской революции. На нем отмечалось, что «у Платона есть попытка разрешить социалистические проблемы» и «то революционное начало, которое так дорого Вольфиле» (К. Эрберг) [4(1), 391][28]. О «злободневности» Платона говорил и выступавший на том же заседании А. Штейнберг [см.: 4 (1), 396][29].
Еще более важный источник – труды Алексея Лосева 1920-х годов, без анализа которых реконструкция «восприятия Платона в советской России» оказывается неполной[30]. Особенно это касается «Очерков античного символизма» (в которых Лосев пишет о политической утопии Платона с явными аллюзиями на советский строй [16, 820–829]) и «Дополнений» к «Диалектике мифа»[31]. Вообще, хотя главной причиной «превращения Платона в persona non grata» в 1920-е годы, как это верно отмечает Нэтеркотт, был его идеализм [20, 158], следует учитывать и то, что Платон был своего рода паролем для интеллектуальной оппозиции большевикам. Причем, как внутри России[32], так и за ее пределами.
Зарубежная дискуссия вокруг «коммунизма» Платона также является очень важным контекстом, забывать о котором не следует. В ней прослеживаются те же тенденции, что и в той, которая шла в России. Ф. Нэтеркотт справедливо указывает на работу Бертрана Рассела «Практика и теория большевизма» (1920), в которой философ, посетивший Советскую Россию, сравнивает ее с платоновским государством.
Наиболее близкой исторической параллелью большевизма, – писал Рассел, – является «Республика» Платона. Коммунистическая партия соответствует здесь стражам; солдаты обладают похожим статусом; в России в большей или меньшей мере в соответствии с учением Платона наблюдается стремление регулировать и семейную жизнь. Думаю, есть основания предполагать, что любой из приверженцев Платона во всем мире ненавидит большевизм, равно как и каждый большевик считает Платона античным буржуем. И тем не менее аналогия между «Республикой» Платона и режимом, который стремятся осуществить лучшие из большевиков, в высшей степени уместна [34].
Это замечание Рассела становится одним из первых (но далеко не единственным) в дискуссии 1920-х – 1930-х годов о характере Платонова «коммунизма» и его связи с тоталитарными режимами того времени: большевистским и, позже – фашистским.
Основным «референтным полем» в интерпретации «коммунизма» Платона все же был коммунизм большевиков. Дальше уже начинались расхождения – в зависимости от того, как тот или иной автор понимал термин коммунизм (или социализм). С. И. Гессен («Основы педагогики», 1923), а следом за ним Н. Устрялов («О политическом идеале Платона», 1930) отмечали, как главную черту Платонова «коммунизма», не эгалитаризм, а заботу о целостности государства[33]. Автор многотомного труда «Платон сегодня» (1937) Р.Х.С. Кроссмен считал, что социализм большевиков радикальнее и демократичнее «элитарного» социализма Платона [40, 139–140].
В целом, как отмечает М. Лейн, в дискуссии 1920-х – 1930-х годов вокруг Платона:
Некоторые марксисты стремились, скорее, «разоблачить» Платона, <…> нежели оценить радикализм его «Государства»; а еще чаще либеральные демократы, которые в накаленной атмосфере 1930-х отбросили прежнее идеалистическое прочтение [Платона] и стали видеть в Платоне не протолиберала, а протофашиста [41][34].
В целом, можно сказать, что тема изучения в раннесоветской философии трудов Платона и, прежде всего, его социального учения требует более внимательного и глубокого исследования. К примеру, место Платона в университетских учебных курсах[35] (Платон продолжал преподаваться, пока в середине 1920-х университетская цензура не ужесточилась). Или издававшееся с 1922 по 1929 годы собрание сочинений Платона (из 15 томов было издано 6) [27].
Ниже я приведу три небольших сюжета, касающихся смежной с философией области – советской литературы 1920-х – 1930-х. Как это часто случалось в русской культуре, литература гораздо рельефнее отражала те процессы, которые происходили в сфере философии, чем собственно профессиональная философия.
Сюжет первый: Горький, Крупская и «запрещённый» Платон
В 1923 году Главный политико-просветительский отдел (Главлит-просвет) Наркомпроса РСФСР выпустил «Инструкцию о пересмотре книжного состава библиотек и изъятия контрреволюционной и антихудожественной литератур» [7]. Эта инструкция была подписана Н.К. Крупской, бывшей председателем Главлитпросвета, и заместителем заведующего Главлитом П.И. Лебедевым-Полянским. К инструкции был приложен «Указатель об изъятии контрреволюционной и антихудожественной литератур из библиотек, обслуживающих массового читателя». В числе книг, которые требовалось изъять, значились и сочинения Платона[36].
Вскоре брошюра попала к Горькому, жившему во Фрейбурге. Как показывает переписка писателя, она привела его в ярость. Почти сразу он писал В.Ф. Ходасевичу:
Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить <…> в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским (так! – Е.А.) запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, В л. Соловьев, Тэн, Рёскин, Нитчше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. <…> Я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм [11, 266].
В этом же тоне Горький пишет 15 января 1924 года Роллану, снова ставя имя Платона на первое место:
…Жена Ленина, человек по природе неумный, страдающий базедовой болезнью и, значит, едва ли нормальный психически, составила индекс контрреволюционных книг и приказала изъять их из библиотек. Старуха считает такими книгами труды Платона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, Маха, Евангелие, Талмуд, Коран, книги Ипполита Тэна, Джэмса, Гефдинга, Карлейля, Мирбо, Л. Толстого и еще несколько десятков таких же «контрреволюционных» сочинений. Лично для меня, человека, который всем лучшим своим обязан книгам – это хуже всего, что я испытал в жизни, и позорнее всего, испытанного когда-либо Россией. Несколько дней я прожил в состоянии человека, готового верить тем, кто утверждает, что мы возвращаемся к мрачнейшим годам средневековья. У меня возникло желание отказаться от русского подданства, заявив Москве, что я не могу быть гражданином страны, где законодательствуют сумасшедшие бабы. <…> Я написал трем «вельможам» (Рыкову, Бухарину и Каменеву – Е.А.) резкие письма, но до сего дня не имею ответов от вельмож» [11, 286][37].
Возможно, благодаря этому энергичному вмешательству Горького «инструкция» Крупской осуществлялась не слишком жестко. По крайней мере, в отношении Платона, чьи сочинения, выходившие вплоть до 1929 года, естественно, поступали в публичные библиотеки. Можно, правда, заметить, что, по исторической иронии, само по себе изъятие из библиотек «контрреволюционной литературы» вполне соответствовало той цензуре, которую Платон вводил в своем идеальном государстве (см. Rep. 377с-391b).
И еще один парадоксальный момент: участие Горького – уже примирившегося с советским «средневековьем» – в кампании против Лосева в 1931 году. Горький ошибочно (или сознательно) интерпретировал изложение Лосевым отношения Платона к рабам[38] как отношение самого Лосева к русскому народу. Однако этот сюжет уже достаточно подробно исследован в статье Л. Кациса «А.Ф. Лосев. В.С. Соловьев. Максим Горький» [14].
Сюжет второй: Мариенгоф, Пономарёв и Платон как социалист
В своей мемуарной прозе «Мой век, мои друзья и подруги» (1953–1956) Анатолий Мариенгоф рассказывает, как в годы военного коммунизма он встретился с бывшим директором своей гимназии, неким Сергеем Афанасьевичем. Сергей Афанасьевич «принял Октябрьскую революцию через Платона и Аристотеля»; далее писатель приводит его слова:
Если толком разобраться во всем, что происходит, можно прийти к выводу, что большевики осуществляют великие идеи Платона и Аристотеля. «Все доходы граждан контролируются государством»… Так это же Платон! «Граждане получают пищу в общественных столовых»…
И это Платон! [17, 188–189].
Мариенгоф упоминает здесь Сергея Афанасьевича Пономарева (1858 – ?), который был не просто директором, а содержателем 3-ей частной пензенской гимназии, в которой Мариенгоф учился в 1913–1916 годы. Пономарев был кандидатом богословия, статским советником, а до определения содержателем 3-ей гимназии в 1907 году был епархиальным наблюдателем церковноприходских школ Пензенской губернии [33].
Пономарев был не только чиновником, но и достаточно известным православным публицистом. Будучи еще преподавателем Пензенской семинарии, он опубликовал в 1881–1884 годах в журнале «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения» ряд статей, посвященных прозе Достоевского, прежде всего «Братьям Карамазовым» (о феномене иночества, о понятии «всепрощающей любви») [28; 29; 30]. Сотрудничал Понамарев и в «Пензенских епархиальных ведомостях». Здесь вышли его статьи о православном паломничестве, а также очерк о хлыстах [31; 32].
Сообщение Мариенгофа, что Пономарев (богослов и религиозный публицист) принял революцию «через Платона», вполне вписывается в тот контекст, через который пытались осмыслить режим большевиков другие религиозные мыслители, прежде всего – Лосев.
Не исключено также, что это мнение Пономарева пришло Мариенгофу на память, когда он писал свой «Роман без вранья» (1927). В этом романе писатель проводит еще одну прозрачную аналогию с платоновским государством:
Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики. Я не Гомер. У нас республика Советов, а не идеальная [17,131].
И хотя эта аналогия тут же отрицается, само ее присутствие говорит о том, что платоновская утопия служила своего рода метафорой для описания (и понимания) советских политических реалий не только во времена военного коммунизма, но и значительно позже. Это иллюстрирует и третий сюжет нашего очерка, относящийся уже к концу 1930-х.
Сюжет третий: Фейхтвангер, Сталин, Пастернак
8 января 1937 года в Кремле состоялась встреча Сталина с посетившим Москву Леоном Фейхтвангером. В разговоре между писателем и генсеком неожиданно возникло имя Платона.
Фейхтвангер. Если я Вас правильно понял, Вы также считаете, что писатель-художник больше апеллирует к инстинкту читателя, а не к его разуму. Но тогда писатель-художник должен быть более реакционным, чем писатель научный, так как инстинкт более реакционен, чем разум. Как известно, Платон хотел удалить писателей из своего идеального государства.
Сталин. Нельзя играть на слове «инстинкт». Я говорил не только об инстинкте, но и о настроениях, о неосознанных настроениях масс. Это не то же, что инстинкт, это нечто большее. Кроме того, я не считаю инстинкты неизменными, неподвижными. Они меняются. <…> У Платона была рабовладельческая психология. Рабовладельцы нуждались в писателях, но они превращали их в рабов (много писателей было продано в рабство – в истории тому достаточно примеров) или прогоняли их, когда писатели плохо обслуживали нужды рабовладельческого строя [18].
Интересен здесь не столько ответ Сталина (явно не читавшего платоновское «Государство»), сколько вопрос Фейхтвангера. В нем нельзя не почувствовать игру с аллюзиями. Платон, требующий удаления «писателей-художников» из своего идеального государства, служил довольно прозрачной аналогией тому, что проделывали с «реакционными» писателями большевики. И эту аллюзию Сталин, похоже, уловил довольно точно. То есть, сделал вид, что этого намека не понял, и начал разглагольствовать о тяжелой доле писателя в рабовладельческую эпоху.
То, что тема Платона и судьбы писателей в «идеальном» государстве была для Фейхтвангера не случайной, видно по его книге «Москва. 1937», оперативно написанной, изданной в Амстердаме и столь же оперативно переведенной и вышедшей в 1937 году в Москве.
В главке «Свобода слова и печати в Советском Союзе» Фейхтвангер цитирует 125 статью сталинской конституции о «свободе слова». Эта статья, по словам писателя, производит «отрадное впечатление». Но далее он пишет:
Однако практика показывает, что, несмотря на эти гарантии, со свободой слова и печати в Советском Союзе дело обстоит еще далеко не идеально. Как я указывал выше, некоторым писателям приходится часто вздыхать по поводу того, что политические власти водят их на поводу, и мысль, что Платон намеревался вообще изгнать из своего государства всех писателей, является для них слабым утешением (курсив мой-Е.А.) [39,55].
Здесь Фейхтвангер более конкретен, чем в разговоре с «вождем». Он ссылается на недовольства со стороны «некоторых» писателей слишком жестким идеологическим контролем.
О каких писателях идет речь?
Автор «Москвы. 1937» пользуется, чтобы не подставлять никого под удар, предельно общими обтекаемыми фразами. Он не упоминает ни имен, ни того, были ли эти недовольства высказаны в беседе или он услышал о них от третьего лица. Неясно и то, кто высказывал «утешительную» мысль о Платоне? Сами ли писатели – Фейхтвангеру, или Фейхтвангер – писателям? То, что отсылка к Платону была здесь просто риторическим тропом, представляется маловероятным – она явно связана с каким-то конкретным разговором.
Что касается имен писателей, то здесь «ключом» служит фраза самого Фейхтвангера: «как я указал выше…». Выше он, действительно, пишет – снова не называя имени – об одном из них:
Несомненно, писателю, рискнувшему отклониться от генеральной линии, приходится не очень легко. Например, имя одного крупного лирика, основными настроениями творчества которого являются меланхолия, осенние мотивы, во всяком случае никак не героический оптимизм, не упоминается ни в прессе, ни в общественных местах, несмотря на то, что вещи его еще печатаются, его читают и он вообще любим [39, 46].
Благодаря опубликованным в конце 1980-х отчетам сопровождавшей Фейхтвангера сотрудницы ВОКСа[39] Д. Карав киной, прояснилось, что под «крупным лириком» имелся в виду Борис Пастернак [см.: 2, 55].
Фейхтвангер познакомился с Пастернаком за полтора года до своей московской одиссеи, в июне 1935 года на антифашистском конгрессе в Париже. Оказавшись в Москве, Фейхтвангер хотел возобновить знакомство, но не смог. 13 декабря 1936 года он жалуется Каравкиной, что встречи с «менее интересными для него людьми» заполняют его время и не дают встретиться с теми, кого бы он хотел повидать. В их числе им был назван и Пастернак [2, 56].
Сегодня он вдруг спросил меня, – сообщает Каравкина в отчете от 3 января 1937 года, – «Правда ли, что Пастернак в опале? – так как его творчество не совпадает с генеральной линией партии» [2, 61].
Можно предположить, что аналогию с платоновским изгнанием поэтов высказал в беседе с Фейхтвангером Пастернак – во время их встречи в Париже. Пастернак был единственным из советских писателей, с кем общался Фейхтвангер, который хорошо знал Платона и мог провести такую аналогию. Увлечение Платоном Пастернак пронес через всю жизнь – начиная с университета (о чем он писал в «Охранной грамоте» [23,202]) до старости[40]. В 1930 году Пастернак пишет свое известное стихотворение «Осень», с его сопряжением платоновского «Пира» с пушкинским «Пиром во время чумы»:
И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе — На пире Платона во время чумы.Именно так – как «пир Платона во время чумы» – воспринимал Пастернак реальность начала 1930-х [см. об этом: 1]. В середине десятилетия, когда Пастернак оказался в опале – напрашивалась уже другая платоновская аналогия – с «Государством» и изгнанием поэтов. На парижском конгрессе Пастернак находился в состоянии глубокой депрессии – и вполне мог высказать эту мысль в разговоре с немецким коллегой, который сам был к тому времени изгнанником, точнее, беженцем. Фейхтвангеру, писавшему тогда своего «Лже-Нерона» (в котором он пытался на античном материале осмыслить политические процессы в современной ему Европе) эта мысль должна была понравиться.
В период пребывания Фейхтвангера в Москве положение Пастернака, действительно, было крайне сложным. 16 декабря 1936 председатель Союза писателей В. Ставский обвинил поэта в клевете на советский народ. Зимой 1936 – 1937 годов Пастернак совершает несколько крайне рискованных – учитывая идущие полным ходом репрессии – шагов: отказывается осудить книгу А. Жида «Возвращение в СССР», а в начале антибухаринского «Процесса 17-ти» пишет Бухарину поддерживающее письмо. Поэта, тем не менее, не тронули. Возможно, что косвенное заступничество Фейхтвангера сыграло свою роль.
Таким образом, параллели между социальным проектом большевиков (в диапазоне от военного коммунизма до сталинской диктатуры) и утопией Платона было очевидным для широкого круга интеллектуалов, как советских, так и иностранных. Эти параллели служили своего рода объясняющей моделью для понимания происходивших в советской России процессов. Эта модель могла служить как для легитимизации власти большевиков и принятия ее, так и для ее критики. В любом случае, она предполагала позицию, внешнюю по отношению к марксистскому дискурсу – внутри самого этого дискурса платоновские параллели отвергались либо игнорировались.
С 1940-х обращение к «платоновской» модели для описания советской реальности исчезает. Отчасти это было вызвано угасанием революционно-утопического потенциала советской власти; главным же образом – тем, что следующие поколения интеллигенции (родившиеся в предсоветское и в раннесоветское время) были мало знакомы с Платоном. Он не был для них такой же важной интеллектуальной фигурой, как для интеллигенции начала века.
Литература
1. Абдуллаев Е.В. «На пире Платона во время чумы…» Об одном платоновском сюжете в русской литературе 1830 – 1930-х годов // Вопросы литературы. 2007, № 2. C. 189–209.
2. Альтман И.А. Л. Фейхтвангер в Москве (из отчетов сотрудницы ВОКС) // Советские архивы, 1989, № 4. С. 55–61.
3. Артемьев М. Подпольная литература в советской России // Рассвет. Чикаго. 1930, № 233–235.
4. Белоус В.Г. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. В 2-х кн. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2005. 848 с.; 800 с.
5. Белый А. Воспоминания о Блоке // Эпопея. Литературный сборник. № 4. Берлин: 1923. С. 222–238.
6. Валентин Фердинандович Асмус / Сост. В.А. Жучков и И.И. Блауберг. М.: РОССПЭН, 2010. 479 с.
7. Всем губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек и изъятия контрреволюционной и антихудожественной литератур. М.: Красная новь, 1923. 22 с.
8. Выгодский М. Платон как математик // Вестник коммунистической академии. Кн. ХVI. 1926. С. 192–215
9. Гаген-Торн Н.И. Вольфила: Вольно-Философская Ассоциация в Ленинграде в 1920–1922 годах / Публ. Г.Ю. Гаген-Торн // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 88–104.
10. Гессен С.И. Основы педагогики: введение в прикладную философию. Берлин: Слово, 1923. 419 с.
11. Горький М. Полн. собр. соч. и письма: В 24 т. М.: Наука, 1996 —… Т.14 (Письма 1922 – май 1924). 2009. 821 с.
12. Грифцов Б.А. Анахронистические рассказы / Подг. текста и коммент. Т.Н. Фоминых. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2008. 151 с.
13. Дмитриев А.П. Достоевский и оптинские насельники. (Забытое газетное свидетельство 1881 г.) // Оптина пустынь. [Электронный ресурс. Режим доступа на: /#2].
14. Кацис Л. А.Ф. Лосев. В.С. Соловьев. Максим Горький. Ретроспективный взгляд из 1999 года // Логос. 1999, № 4 (14). С. 68–95. [Электронный ресурс. Режим доступа на: ].
15. Кессиди Ф.Х. Изучение философии Платона в СССР // Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения / Отв. ред. Ф.Х. Кессиди. М.: Наука, 1979. С. 238–268.
16. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост. А.А. Тахо-Годи; Общ. ред. А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1993. 959 с.
17. Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия». М.: Вагриус, 1998. 544 с.
18. «Между социализмом и демократией есть разница». Запись беседы товарища Сталина с германским писателем Лионом Фейхтвангером // Независимая газета, 22 января 2008 г. [Электронный ресурс. Режим доступа на: -01-22/10_socialism.html].
19. Михаленко Ю.П. Платон и современная антитеза либерализма и тоталитаризма: Р. Кроссмен, К. Поппер, Б. Рассел и др. В окружении корифеев античной политической мудрости. М.: Диалог-МГУ, 1998. 152 с.
20. Незеркотт Ф. Восприятие Платона в Советской России (1920–1960 гг.) / Пер. Ю. Тихеева // Логос. 2011. № 3 (84). С. 159–169.
21. Никитин А.Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. Исследования и материалы. М.: Интерграф Сервис, 1998. 344 с.
22. Новицкий К.П. (Петровин К.) Платон (Сер. «Родоначальники утопического коммунизма»). М.: Красная новь, 1923. 284 с.
23. Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. Вступ. ст. акад. Д.С. Лихачева. Сост., подгот. текста и подбор иллюстраций Е.В. и Е.Б. Пастернака. Коммент. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова. М.: Советский писатель, 1982. 496 c.
24. Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1910. 333 с.
25. Переписка М. Горького с Н.К. Крупской, М.И. Ульяновой и А.И. Елизаровой-Ульяновой / Вступ. ст., подгот. текста и прим. О.В. Быстровой // Горький. Неизвестные страницы истории (материалы и исследования). [Ред. коллегия: Спиридонова Л. А. (отв. ред.), Примочкина Н.Н., Семашкина М. А.]. М.: ИМЛИ РАН, 2014. (М. Горький. Материалы и исследования. Вып. 12). С. 53–136.
26. Перцев В.П. Социально-политическое мировоззрение Платона // Труды Белорусск. гос. ун-та. 1922. № 2–3. С. 50–73.
27. Полное собрание творений Платона в 15 томах. Тома I, IV, V, IX, XIII, XIV. Ленинград: Academia, 1922–1929.
28. Пономарев С. [подписано «-в»]. Об иноке русском и возможном значении его: По поводу мыслей об русском иночестве в романе Ф.М. Достоевского // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Кн. III, ч. I. Отд. I. С. 344 – 363
29. Пономарев С. Православная идея // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. I, ч. I. Отд. I. С. 58–59.
30. Пономарев С. Любовь как начало единения: (По поводу брошюры о Ф.М. Достоевском) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1884. Кн. I, ч. I. Отд. I. С. 101.
31. Пономарев С. Сектанты в селе Селиксе // Пензенские епархиальные ведомости. 1887. № 15 (1 авг.). С. 11–28; № 16 (15 авг.). С. 1–14.
32. Пономарев С. [подписано «С.П.»] Паломничество в древней Руси и в настоящее время // Пензенские епархиальные ведомости. 1890. № 3 (1 февр.). С. 1–11; № 4 (15 февр). С. 1–18.
33. [Автор не указан]. Пономаревская гимназия // Сайт ГТРК «Пенза» [Электронный ресурс. Режим доступа на: -trv.ru/go/region/ponomargimnaziy]
34. Рассел Б. Практика и теория большевизма. М.: Наука, 1991. [Электронный ресурс. Режим доступа на: ]
35. Рождественский А.А. Положение третьего сословия в «Государстве» Платона. Ярославль: Тип. Яросл. с.-х. и кредитного союза кооперативов, 1919. 23 с.
36. «Так истязуется и распинается истина…» А.Ф. Лосев в рецензиях ОГПУ // Источник. Документы русской истории. 1996, № 4 (23). С. 115–129.
37. Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона. М.: Типолитогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1908. 118 с.
38. Устрялов Н. О политическом идеале Платона. Харбин: Отд. типографии КВЖД, 1929. [Электронный ресурс. Режим доступа на: -nv-o-politicheskom-ideale-platona].
39. Фейхтвангер Л. Москва 1937. М.: Захаров, 2001. 159 c.
40. Crossman R.H.S. Plato To-Day. Vol.9. New-York: Routledge, 2013. 215 р.
41. Lane M. Plato’s Progeny: How Plato and Socrates Still Captivate the Modern Mind. L.: Duckworth, 2001. 165 p. [Электронный ресурс. Режим доступа на: books.google.co.uz/ books?id=-dh4BgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false].
42. Nethercott F. Endings and ends in early Soviet philosophical culture: Plato’s Republic in a Bolshevik utopia // Intellectual News: Review of the International society for intellectual history. 1999. Spring. No. 4–5. P. 55–61.
43. Nethercott F. Russia’s Plato: Plato and the Platonic tradition in Russian education, science and ideology (1840–1930). Aldershot etc: Ashgate, 2000. 233 р.
В поисках первичного автора (Михаил Бахтин: философия и повседневность) Инна Наливайко
Философия начинается там, где кончается современность.
М. Бахтин. Из бесед с С. Бочаровым [3, 65]Время здесь не линия, а сложная форма тела вращения.
М. Бахтин [1, 519]Название данного текста навеяно одновременно двумя источниками. Это название пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» и сравнительно небольшой фрагмент «Из записей 1970–1971 годов» Михаила Бахтина, посвященный поиску авторского голоса (образа автора) [см.: 2, 352–354]. Почему-то мне кажется, что именно в этой «системе координат» мы способны обрести возможность хотя бы приблизиться к пониманию того «экзистенциального жеста», который и определил «единство и единственность» жизни и судьбы М.М. Бахтина.
На фоне своеобразного бума интереса к бахтинскому наследию[41], охватившего мировую гуманитарную мысль после представления его работ широкому читателю в конце 70-х годов прошлого века, писать о Бахтине представляется занятием достаточно рискованным. В равной мере опасно как вовлечься в процесс «забалтывания смыслов», так и занять отстраненную позицию рубрикатора и классификатора. Принципиальная открытость и смысловое напряжение бахтинских текстов сами по себе превращают их в событие такого масштаба, встреча с которым требует от читающего и пишущего собственного «экзистенциального жеста»; встреча с ними – всякий раз вызов и выбор, выбрасывающий из безопасной теоретической дистанцированное™ в экзистенциальное измерение с его «страстностью и пристрастностью». По крайней мере, так произошло со мной, разделив мою профессиональную судьбу на «до и после Бахтина». Я надеюсь, что этот «экзистенциальный вызов» послужит некоторым оправданием экскурса в собственную биографию. Я открыла для себя тексты Бахтина совершенно случайно (если такие события вообще могут быть случайными), на последнем курсе университета, совершая дежурный «рейд» по книжным магазинам города. Сейчас это звучит дико, но в описываемом 1982 году имя Бахтина ни о чем мне не сказало, хотя кафедра философии Белорусского государственного университета, возглавляемая в то время В.С. Степиным, была, возможно, одной из самых прогрессивных на советском пространстве. И тем не менее, имя Бахтина ни разу не прозвучало ни в одной из лекций, несмотря на то, что привлекшая меня своим названием «Эстетика словесного творчества» была издана уже в 1979. Начало 80-х – переломный рубеж, с которого начинается активное обсуждение идей Бахтина в Минске. В 1984-85 оно уже идет полным ходом. А тогда, в 1982, это был шок, потрясение, вдох с задержанным выдохом. Открытая на произвольной странице книга потрясла такой «густотой» мысли (хотя и определение это придет в мое сознание позже, после знакомства с текстами В. Розанова), которая ощущалась почти физически, пробуждая небывалую «интеллектуальную эйфорию». Гораздо позже, после знакомства с текстами и контекстами, придет осознание того факта, что в известной степени М. Бахтин – продукт своего времени, что эта невероятная плотность мысли и высочайший уровень профессионализма отмечает тексты и некоторых других его современников. Придет печальное знание о том, что потрясшая меня стилистика его текстов – сжатость и «конспективность», невероятная смысловая нагруженность некоторых пассажей, носящих характер архивных записей, во многом объясняется тем, что они таковыми и были, что судьба не позволила им развернуться в полномасштабные тексты. Но тогда, впрочем, как и сейчас, для меня[42] в этом и состоит их притягательность и сила. Но это сила особого рода, это не сила напора монологической мысли, это спокойная сила открытости, готовности к диалогу, которая инициирует собственную мысль читателя, сила мысли, которая не боится разрывов и a-системности, обращаясь и обращая к живой пульсирующей ткани «единства и единственности человеческой жизни и судьбы». С тех пор и до сего дня тексты Бахтина для меня – это не столько «методология» или «объект исследования», сколько «возможность разговора», интеллектуальный и экзистенциальный вызов, к которому я обращаюсь для пробуждения собственной мысли, для совершения или хотя бы осознания необходимости собственного «экзистенциального жеста». Может, это хоть в какой-то мере оправдывает заявленную здесь претензию приблизиться к пониманию «экзистенциального жеста» Бахтина, увидеть диалогическую связь между философией и повседневным существованием мыслителя.
Встреча двух сознаний по определению событийна, но «парадокс Бахтина» заключается в том, что даже внешняя, фактологическая сторона его биографии, кажущейся относительно спокойной на фоне катастрофичности послереволюционных десятилетий, вызывает порой диаметрально противоположные оценки, не говоря уже о неутихающих спорах об авторстве некоторых ранних работ или «несвоевременности» для нас, нынешних, его текстов. Для меня очень забавным, и в то же время симптоматичным стало подобное расхождение в оценках двух англоязычных авторов – М. Гардинера и К. Эмерсон, с которого последняя начинает свой критический анализ книги Гардинера о Бахтине. Если Гардинер считает Бахтина «загадочной, даже таинственной личностью, человеком, прожившим жизнь и писавшим свои произведения в крайне тяжелых условиях» [циг. по: 5, 264], то Эмерсон находит необходимым ему возразить: «Сразу же отметим: на фоне судеб одаренных русских мыслителей 1920-х и 1930-х годов биография Бахтина не заключала в себе ничего особенно загадочного или крайне тяжелого. «Домашний» характер обсуждения теоретических проблем в узком кругу друзей; дистанцированность по отношению к «центру»; арест и ссылка; пропавшие рукописи и многочисленные работы, написанные «в стол»; наконец, относительно сносное безвестное существование в провинциальном институте – нет, биография Бахтина была скорее обыкновенной, даже счастливой, и любой славист подтвердит это» [5, 264–265]. Возможно, причина оценочного расхождения скрыта в последней фразе. То, что для слависта, «эксперта» по русской культуре, кажется обычным, «стороннему наблюдателю» представляется необычным и загадочным. При всем уважении к профессионализму К. Эмерсон, мне представляется, что здесь ближе к истине «сторонний наблюдатель», чья дистанция ближе по сути своей к бахтинской «дистанции вненаходимости», чем профессиональная «включенность» исследовательницы, являющейся специалистом по Бахтину. Как ни странно, но даже незнание русского языка, в котором она упрекает Гардинера, в данном случае имеет свои положительные моменты. Несомненно, знание русского существенно влияет на полноту понимания бахтинских текстов, поскольку Бахтин виртуозно играет оттенками и взаимопроникновением смыслов. Чего стоит одно «бытие-событие»! Отсюда – неутихающие споры об адекватности переводов. Но знакомство с несколькими работами Гардинера заставляет меня думать, что в данном случае мы имеем дело со способностью видеть поверх барьеров. Речь идет о том иногда случающемся и между мыслителями моменте «попадания в такт такого же неровного дыхания». Продуктивность исследовательской попытки Гардинера в том, что, не зная в подробностях исторического и биографического контекста, он и не пытается связать им Бахтина. Он выводит последнего в более широкий контекст, контекст диалога с самыми значимыми философскими именами и идеями современности, раздвигая границы его «малого времени». И даже упрек в том, что он «независимо от своих намерений отдан на милость разнообразных и своеобразных идеологий, которые сыграли роль повивальной бабки при рождении Бахтина на английском и других европейских языках» [5, 265], не выглядит столь уж убедительным. Всякий диалог неизбежно исходит из различия наших мест-в-бытии, по мнению самого Бахтина. Невозможно отречься от своего, как и вжиться в чужое. Важна именно плодотворность диалога, «услышанность в большом времени», намеки на которую явно присутствуют в гардинеровской трактовке Бахтина.
Я относительно подробно описала этот частный случай для того, чтобы снять ненужный пафос фразы, которая сейчас звучит уже банально: «Бахтин принадлежит большому времени». Но, как напоминают слова, вынесенные в эпиграф, время может быть не линией, а сложной формой тела вращения. И именно в свете этих утверждений я и хотела бы рассмотреть взаимопересечения текстов с «жизнью и судьбой».
Начну издалека. По мере собственного погружения в пространство русской философии я обнаружила своеобразное «трио» собеседников: Владимир Одоевский, Василий Розанов, Михаил Бахтин. Можно представить удовлетворение, которое я испытала, обнаружив «фактологические» подтверждения этой связи. Не помню, что прочла раньше: известное бахтинское «Читайте Розанова» в ответ на расспросы молодых московских филологов, или свидетельство биографа Розанова о том, что книга Одоевского «Русские ночи» стояла на рабочей полке мыслителя наряду с несколькими избранными. Для меня эти три фигуры оказались объединены вот этой самой принадлежностью большому времени, или мировому контексту, или некому разговору «поверх барьеров». Последнее стоит подчеркнуть, так как, по моему мнению, все трое очень чутко обозначили эпоху «великого окончания литературы», или, как любил выражаться А.В. Михайлов, кризиса и падения «риторической культуры» [4, 524–525] Запада, культуры «готового слова» [4, 510], за которым стоит готовая форма миропонимания. Все трое владели искусством высшего пилотажа в работе со словом и в обозначении его места в культуре и индивидуальном бытии. Все трое обозначили проблему, которая родилась задолго до них и чей эпистемологический и экзистенциальный вызов актуален и поныне.
В пределе, весь комплекс порожденных этой ситуацией вопросов суммируется в проблеме автора. В наше время уже излишне объяснять, что проблема автора является отнюдь не специально-филологической или литературоведческой. Слово «автор», тысячью коннотаций связанное с темой субъективности, давно уже стало одним из ведущих понятий философского дискурса. Поскольку данная работа посвящена именно Михаилу Бахтину, здесь я позволю себе опираться только на его тексты.[43]
В упомянутом в начале статьи отрывке Бахтин замечает: «Проблема автора и его первичной авторской позиции особенно остро встала в XVIII веке (в связи с падением авторитетов и авторитарных форм и отказом от авторитарных форм языка)» [1, 354]. Тогда же в литературный язык массировано входят оговорочный стиль высказываний и ирония. В чем причина этих культурных подвижек? Почему имеет смысл говорить об этом в рамках темы данной книги? Ответ на эти вопросы лежит в плоскости обозначенной Бахтиным проблемы авторского голоса. Понимание того, что человек есть говорящее бытие проникает в культуру достаточно давно, в независимости от времени артикуляции этой истины. Но обозначение этой проблемы как проблемы поиска собственного авторского голоса, причем в такой своеобразной трактовке, принадлежит Бахтину: «В поисках собственного (авторского) голоса. Воплотиться, стать определеннее, стать меньше, ограниченнее, глупее. Не оставаться на касательной, ворваться в круг жизни, стать одним из людей. Отбросить оговорки, отбросить иронию (курсив мой – И.Н.» [2, 352]. Стать ограниченнее, стать глупее… Как не вяжется это с привычным образом автора как творящего субъекта. Не оставаться на касательной, ворваться в круг жизни, стать одним из людей… Это совершенно не совпадает ни с классической внеположенностью автора, ни с постмодернистской заменой голоса автономизированным письмом. О чем вообще идет речь? О том самом поиске первичного автора, которому и посвящена данная работа. Проблематизация авторской позиции может быть связана с утратой первичного автора как некой основы, легитимизирующей собственное слово, и поиском ее альтернативы. Чтобы не поддаться искушению редукции и морализаторства, вслушаемся в слова самого Бахтина:
«Проблема образа автора. Первичный (не созданный) автор и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором). Первичный автор – natura non create quae creat; вторичный автор – natura create quae creat… Первичный автор не может быть образом: он ускользает из всякого образного представления… Создающий образ (то есть первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ. Слово первичного автора не может быть собственным словом; оно нуждается в освящении чем-то высшим и безличным (научными аргументами, экспериментом, объективными данными, вдохновением, наитием, властью и т. п.). Первичный автор, если он выступает с прямым словом, не может быть просто писателем: от лица писателя ничего нельзя сказать (писатель превращается в публициста, моралиста, ученого и т. п.). Поэтому первичный автор облекается в молчание. Но это молчание может принимать различные формы выражения, различные формы редуцированного смеха (ирония), иносказания и др.
Поиски собственного слова на самом деле есть поиски не собственного, а слова, которое больше меня самого… Другой путь – заставить мир заговорить и вслушиваться в слова самого мира (Хайдеггер)» [2, 354].
На мой взгляд, этот пассаж органично встраивается в бахтинскую теорию диалога, которая не только утверждает, что «для слова, как и для человека, нет ничего страшнее безответности» [2, 306], но и напоминает, что цель диалога – не в полемике, а в понимании. Греческая приставка dia– (между) отсылает к некой необходимой инстанции, обеспечивающей понимание. Для Бахтина, утверждавшего, что слово – это не дуэт, а трио, это инстанция третьего в диалоге – некоего «высшего нададресата, абсолютно справедливое ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в далеком историческом времени» [2, 305]. Как и идеальный нададресат, первичный автор выступает своеобразным гарантом понимания, его утрата производит разрывы в ткани культуры, которые ставят под вопрос саму возможность высказанности и услышанное™ в большом времени.
Трагичность постреволюционного разрыва, поставившая интеллектуалов перед экзистенциальным выбором, может быть реконструирована и в контексте описанной проблемы поиска первичного автора. По большому счету, этот выбор предполагал только три возможности:
1) забыть о первичном авторе, заместить его собой, стать самозванцем;
2) найти новую авторитетную основу, выстроить новое авторитарное слово, опирающееся на ценности своего «малого времени», положив жизнь на борьбу за них; 3) осознать и принять утрату первичного автора как вызов, как путь напряженного поиска. Принять необходимость и значимость молчания.
Представляется, что Бахтин реализовал именно третью возможность. Честное признание утраты и честный поиск – путь, в который укладываются и ненаписанные (недописанные) или «подаренные» друзьям книги (как бы не относиться к этой версии авторства некоторых книг, нет оснований подвергать сомнению воспоминания С. Бочарова о беседах с Бахтиным, где последний неоднократно говорил: «Я ведь думал, что еще напишу свои книги», «считал, что еще не время» [см.: 3; 52, 62]), и скромная, лишенная пафоса жизнь ученого и работа «в стол», и верность друзьям, и отсутствие духа мести врагам (воспоминания об отношениях со следователями) [см.: 3; 70–71]). Та же К. Эмерсон отмечает: «Своего рода культ Бахтина у русских связан с представлением об уравновешенном, основательном и здравом уме, сложившемся до большевистской революции; с представлением о человеке, который пережил сталинизм и дожил до старости, не скомпрометировав себя и не принося вреда другим; с представлением о мыслителе, который никогда не поддавался искушениям кастового, группового мышления или тщеславной гордыни жертвенности» [5, 295].
Именно этот поиск ощущается, как мне кажется, и в стилистике его текстов, открытых и вопрошающих, наполненных различными формами молчания и приближающихся к границе несказанного, насыщенных оговорками и вмещающих «пророческую косноязычность» (вспомним Розанова и Ницше). Вообще, тема оговорок заслуживает особого внимания, так как, по воспоминанием, склонность к оговорочным высказываниям была характерна и для обыденной речи Бахтина. «Он ценил оговорку как необходимый корректив, спасающий широту суждения, и владел культурой оговорки» [3, 65], не упиваясь правотой т. н. «собственного голоса».
Даже идущее вразрез с академической традицией почти полное отсутствие ссылок и цитат, как мне кажется, свидетельствует все о том же честном признании потери.
Все вместе, вышесказанное напоминает о той самой слиянности философии и повседневности, о которой было заявлено в заглавии. Несмотря на претензии Бахтина к самому себе, вердикт современников и потомков практически единодушен: не предавал. Ни людей, ни мысль, ни себя. Но эта верность не принимала форму откровенного подвига, скорее ежедневного подвижничества. Впрочем, даже это слово кажется чересчур претенциозным для этой естественной сращенности философии и жизни, для прорастания деталей и подробностей «жизни и судьбы» в ткань мышления, для переплетенности большого и малого времени. Поиски первичного автора не имеют ничего общего с темпоральной моделью прогрессизма и утопизма. Встреча большого и малого времени, происходящая здесь и сейчас, в хронотопе повседневного существования, действительно отсылает к пониманию времени как сложной фигуры тела вращения. Экзистенциальное время – время повседневной жизни, – это время повторов и прерывов, время ускользающих мгновений и повторяющихся событий, время, в котором являет себя «реальность смертной плоти мира». Но именно повседневность является точкой исхождения нашего голоса, нашим здесь и теперь, местом пересечения скоростей, местом схождения времени экзистенциального и космического. И то, что не вмещает в рамки «строгой науки» философ, договаривает поэт, «вслушиваясь в слова самого мира» и утверждая, по словам Бахтина, реальность смертной плоти мира.
Вероятно, совсем неслучаен тот факт, что очень разные люди, говоря о Бахтине, вспоминают Бориса Пастернака. Равное Бахтину по силе и экзистенциальной напряженности смысловое пространство, в котором сплетается обыденное и космическое, мы находим именно в его работах. И равную меру трагизма человека, размыкающего границы своего времени:
Это – круто налившийся свист, Это – щелканье сдавленных льдинок, Это – ночь, леденящая лист, Это – двух соловьев поединок, Это – сладкий заглохший горох, Это – слезы вселенной в лопатках, Это – с пультов и флейт – Фигаро Низвергается градом на грядку. Все, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях. И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях. Площе досок в воде – духота. Небосвод завалился ольхою. Этим звездам к лицу б хохотать, Ан вселенная – место глухое. («Определение поэзии»)Литература
1. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / Сост. С. Бочаров и В. Кожи-нов. – М.: Худож. лит, 1986. – 543 с.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров; Примеч. С.С. Аверинцева. – М.: Искусство, 1979. -424 с.
3. Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Михаил Михайлович Бахтин / М. М. Бахтин; [под ред. В.Л. Махлина]. – М.: РОССПЭН, 2010. – 440 с.: ил. С. 47–79.
4. Михайлов А.В. Языки культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 912с.
5. Эмерсон К. Бахтин, понятый. Право, но влево // Михаил Михайлович Бахтин: [сб. ст.| / М. М. Бахтин; [под ред. В.Л. Махлина]. – М.: РОССПЭН, 2010. -440 с.: ил,-С. 264–296.
«Симфоническая личность» и «трздовая артель»: Л.П. Карсавин в 1918–1922 гг.[44] Анна Резниченко
И издательство «Наука и Школа»[45], и позже издательство «Academia»[46] были изначально сформированы как артели. Вообще, анализ «артельных», «эсэровских», «социалистических», постнароднических концепций, в том числе, и книгоиздания, – является темой отдельного исследования[47]. Однако то была особая артель: артель с ярко выраженным философским уклоном, хотя формальными идеологами проекта были литературовед акад. Н.А. Котляревский, юрист Ю.П. Новицкий и издатель А.А. Кроленко, а в правление артели входили изначально «Председатель-академик Нестор Котляревский, члены: Новицкий, Сакетти, Кубасов, Барсков и Кроленко» [12, л. 8]. Уже на третьем заседании правления «Науки и Школы» (30 марта – 12 апреля 1918 г.) А.Л. Саккетти[48], бывший действительным членом правления артели с самого ее основания, т. е. с 22 марта 1918 г., ставит вопрос о «желании вступления в члены артели Эр<неста> Львов<ича> <так!> Радлова и Ник<олая> Он<уфриевича> Лосского»[49] со следующей резолюцией: «Принять в члены артели Эрнеста Львовича Радлова и Ник<олая> Онуф<риевича> Лосского» [9, л. 3 об.][50]. В июле 1918 г. В круг авторов артели попадает И.И. Лапшин и его книги: «сборник по вопросам творчества, психологии Джемса и философии воображения» [9, л. 15 об.][51].
Первое присутствие Л.П. Карсавина на заседаниях Правления зафиксировано в Протоколах 26 декабря 1926 г. – и это заседание становится программным:
3) намеченный издательскою комиссиею план издательской деятельности артели. – I) Наметить издание программ (по философии, истории и литературе, в коих должна охватываться литература вопроса, критика, руководство и введение в отдельные дисциплины) – II) Просить Н.О. Лосского, Э.Л. Радлова и Л.П. Карсавина взять на себя составление программы по философии (философии, психологии, логике и этике) – III) Наметить к изданию книгу Н.О. Лосского «Вопросы гносеологии» – IV) Воздержать<ся> от издания книг Лапшина И.И. временно. – V) Отказаться от издания книг а) Перельмана учебник геометрии б) Державин методика. – VI) – просить Л.П. Карсавина обдумать вопрос о издании и переводе христианских апокрифов первых двух веков [9, л. 29об.].
Действительно, основные философские направления деятельности «Науки и Школы»: издание специальных программ; философское книгоиздание; постепенный отход от изначальной идеи издавать популярные, и потому хорошо продающиеся учебники для средней и высшей школы в сторону публикации философской литературы при условии четкого соблюдения авторского права, не очень выгодного именно для плохо, как правило, раскупаемых философских новинок[52]; и, наконец, идея перевода христианских апокрифов первых двух веков, столь важных для русской христианской философской традиции, – уже заключены в этой резолюции. Нам остается лишь посмотреть, как реализовывалась эта программа в суровой реальности рубежа 1910-х – 1920-х гг.
* * *
Началом творческой деятельности Карсавина как участника «артельного дела» следует считать период с 26 декабря 1918 г. по 16 января 1919 г., когда, на первом заседании Правления нового года, наряду с невозможностью «временно приступить к изданию книг Н.О. Лосского “Сборник статей” и “Гносеология”», вторым пунктом повестки было заслушано «2) Сообщение о возможности осуществления издания апокрифов отдельными выпусками при редакторах Карсавине, Жебелеве, Тураеве и Марре» – и резолюция: «Принято к сведению» [9, л. 31]. Из этого же протокола мы узнаем, что «Учебник социологии» маститого Н.И. Кареева издавался на тех же условиях, что и «Введение в философию» Н.О. Лосского, что только подчеркивает высокий статус философа-интуигивиста. То, что в начале деятельности «Науки и Школы» бывший историк-медиевист со скандальной репутацией[53] Карсавин не был ключевой фигурой, свидетельствует характерная описка секретаря «Н.П. Карсавин» в Протоколе Заседания Правления от 23 января 1919 г. В этом заседании Карсавин принимает участие и делает сообщение «… о плане работ по переводу и изданию Новозаветных апокрифов», предлагая, одновременно, издать и его собственные новые работы [9, л. 31об.]. Видимо, с этого момента следует считать поворот интереса Карсавина от истории средних веков к построению собственной философской системы свершившимся: первой же книгой, предложенной для «Науки и Школы», была философская «Saligia» – и она была моментально принята к публикации в виде «книги-миниатюры» [9, л. 32].
С тех пор Карсавин становится постоянным участником заседаний Правления артели вплоть до 5 февраля 1922 г. – (полустертая карандашная запись), в которой записано лаконично: «Присутствовали все» [9, л. 60]. Протоколы дают документальное подтверждение постепенного роста авторитета философа в «Науке и Школе». Уже в 1918 г. Карсавин указан как член правления артели, а в четвертом по счету списке членов артели идет вторым после Председателя правления – акад. Н.А. Котля-ревского. Особенно показательными оказались выборы в члены правления от 6 мая 1919 г.: при общем голосовании Карсавин набирает 13 голосов (больше всего – Котляревский и Новицкий, соответственно 14 и 15; Саккеттии Лосский– по 11 и Лапшин – 1) [9, л. 40,41.]. Для будущих исследователей творчества Л. Карсавина, Н. Лосскош и С. Аскольдова немаловажно то обстоятельство, что журнал «Ирида», редактируемый будущим достоевистом А.Г. Долининым, также издавался на средства артели [9, л. 7об.-11, 12об.]; поэтому позднейшее участие «социально-близких» Карсавина и Аскольдова в долининских сборниках по Достоевскому не должно вызвать никакого удивления.
* * *
Наиболее важным программным документом любой организации является её устав [18]. Следует сразу же отметить, что в архиве отложилась вторая редакция Устава артели, поскольку первая в вышестоящих инстанциях зарегистрирована не была [см.: 9, л. 24об.][54], и именно вторая была утверждена Регистрационной комиссией Кооперативного отдела СНХ Северного района 1 ноября 1918 г. за № 252. Устав гласил:
§ 1. Трудовая артель профессоров, педагогов и интеллигентных тружеников под названием «НАУКА И ШКОЛА», учреждается в Петрограде и имеет своею целью содействовать материальному и духовному благосостоянию своих членов посредством организации личного их труда, для составления, редактирования, издания и снабжения широких слоёв учащихся, учителей, читателей, любителей полезной и нужной книгой и иного рода произведениями печати.
§ 2. В осуществление своей цели, артель организует ряд различных культурных начинаний по составлению библиотек, даче экспертизы по вопросам книжного дела, а также издательство книг и пособий, снабжение учебных заведений книгами и пособиями и книготорговлю.
<…>
§ 3. Наряду с хозяйственной деятельностью для достижения своих целей, артель может производить всякого рода обследования и опубликовывать их результаты основывать учреждения для обслуживания всякого рода действий, направленных к развитию артели и благосостоянию её членов [18, л. 1.][55].
Достаточно декларативен и другой документ: Программа деятельности «организованной группой профессоров и приват-доцентов Петроградского университета книгопродавческой и книгоиздательской трудовой артели “Наука и Школа”» [11, л.1], где подчеркивается, что с миром наживы и капитала деятельность артели ничего общего не имеет, а «… предполагаемая здесь работа в области книжного дела находится в совершенно других условиях. Ни в какой области интеллигенция не стоит так близко к промышленной и торговой деятельности и не находится с ней в такой органической связи, как в области книготорговли и книгоиздания» [11, л. 3], и указываются три основные направления деятельности артели: «1) книготорговля, 2) организованное снабжение книгами учебных заведений на началах кооперации, 3) книгоиздательство» [п, л. 3]. Показательно и то, что «пай не может иметь места без личного участия, т. е. все паи предприятия принадлежат только трудящимся в нем (копартнершип) <…> Что же касается участия личным трудом в предприятии артели, то таковое <…> может получить самое разнообразное выражение» [п, л. 7]. Личный труд в участии деятельности артели заключался, в частности, в том, что наиболее именитые ее участники – Котляревский и Лосский – передали артели ряд своих книг для напечатания, что сразу же подняло ее рейтинг, а сами члены партнерства были честны друг перед другом во взаиморасчетах, фактически немыслимых в сегодняшнем книгоиздании.
Всё это позволяло издательской артели держаться «на плаву» в 1918–1921 гг. – бесспорно, не самых удачных годах для книгопечатания, тем более – для издания научной и философской литературы, рассчитанной на специфический круг потребителя. Только 25 ноября 1921 г. артель «Наука и Школа» попросила у государства ссуду в размере 1 млрд, руб. – не столь значительную по тем временам; до этого, судя по Протоколам заседаний правления, приход сходился с расходом с небольшим положительным сальдо. Правда, для того, чтобы этот странный коммерческий проект был успешным, необходимо было такого читателя-потребителя обрести.
* * *
И именно поэтому так примечателен документ, похожий на программный проспект, но слишком страстно написанный для сочинений такого жанра, по-своему и совсем внеэкономически объясняющий главную цель артели: «<…>Цель предприятия быть непосредственным проводником книг между её творцом, т. е. автором, и главным потребителем, т. е. школой высшей, средней и низшей, а также лицами, ищущими самообразования (курсив мой – А.Р.). Предприятие ставит себе технической задачей: 1) облегчить авторам доступ к печатному станку с наименьшей для них затратой труда и средств, 2) допускать книгу в школу непосредственно путем привлечения самих школьных организаций в кооператив “Наука и Школа”» [11, л. 10–12][56]: И, наконец, суть проекта, который без сомнения можно было бы назвать утопическим, если бы не его успешность; фактически – политическая программа мирного «артельного дела»: два огромных предложения, которые имеет смысл привести практически целиком:
… В то время как одна группа русских людей, верящая в исключительную силу штыка и физической силы, бряцая сама смертоносным оружием, призывает всех научиться владеть им, полагая в нем единственное орудие как для отвоевания потерянного прошлого, так и для защиты только что завоёванной политической свободы, упомянутая группа-артель также призывает всех вооружиться, но другим оружием – знанием, памятуя, что история цивилизации всех времен и народов свидетельствует, что победа в борьбе наций всегда останется на стороне более сильной культуры. Повторяем, именно теперь, в эти страшные, эти грозные часы испытания глубин национального самолюбия и высот национальной гордости, упомянутая группа представителей интеллигентного труда, безсильная противупоставить что-либо однородное врагу, направившему против нее острие своего оружия, готова вся уйти в одно любовное попечение об единственном своем богатстве, ещё не в конец загубленном, – о своих детях, отстаивать их интересы, полагая в них счастие грядущей России [11, л.11][57].
В этом пространном пассаже – не только интерпретация распространенного эсеровского лозунга «в борьбе обретешь ты право своё». Тут ещё и известная самоотверженность, – самоумаление своего поколения «во славу грядущих поколений», столь характерное и для неонародников, и для ранних марксистов. Как видим, уже основные уставные документы артели в своей риторике содержали элементы всех этих трех традиций.
Но самое интересное здесь не это, не «повторение пройденного». Самое интересное здесь – фраза об «истории цивилизации всех времен и народов» и о сильной культуре как залоге победы в «борьбе наций». Оставим пока в стороне О. Шпенглера и К. Леонтьева, волна интереса к которым, поднимающаяся примерно в это время (чуть позже) и в Москве, и в Петербурге, вполне объяснима: сама идея смены цивилизаций как нельзя лучше подходила для текущего момента и внушала оптимизм. Не случайно автор этой программы самоназывает скромную на первый взгляд трудовую артель «Вольной Академией учебно-просветительного дела», по аналогу с Вольфилой и Вольной Академией духовной культуры, – как и не случайно то, что многие члены артели мигрировали из институциональной смычки «Наука и Школа» – «Мысль» – «Academia» – в Вольфилу и обратно: «Эта своеобразная Вольная Академия учебно-просветительного дела [58] – может развернуться в крупнейшее всероссийское предприятие высокой культурной ценности. Семя уже брошено, но всходы зависят не только от воли Провидения и от рук трудящихся, но и от благоустройства и богатства тех технических средств, которыми необходимо обладать, если хочешь хорошего урожая» [11, л. 11об.]. Заметим вскользь, что, действительно, помимо рабочей силы и удачи в любом артельном деле необходимы технические средства, к примеру, сеялка, веялка или молотилка. Или – сеть книжных магазинов и печатный станок. Этими техническими средствами артель обладала.
Но здесь речь идет о культуре, и прежде всего о культуре; о смене типов культур. И среди участников этой артели мы действительно находим человека, – единственного такого человека, Карсавина, – теория культуры в творчестве которого займет совершенно особое место и выльется, – в итоге, – в «Europos kulturos istorij а» [19] в пяти томах, до сих пор до конца не переведенной на русский язык и, как следствие, неоцененной.
Наиболее близкий к решению задачи построения теории новой культуры замысел – «Проект серии монографий “Россия и Европа”» (1918–1920) [12], к которому Карсавин был привлечен уже с самого начала его практической реализации: на заседании от 6 ноября 1921 г было принято решение запустить в печать уже все имеющиеся монографии серии, а саму серию предлагалось открыть вводной книгой, написанной Котляревским и Карсавиным [9, л. 55]. Сам проект включал в себя перечень лиц от Екатерины II и Фон Визина до – разумеется – Плеханова и Кропоткина (впрочем, не были забыты и Александры II и III, народники и народовольцы, Данилевский и Страхов, эпигоны славянофильства и Владимир Соловьев, размер монографий – от 8 до 10 листов); был очень похож на краткое оглавление грядущих «Историй русской философии» от Радлова и Шпета до Зеньковского и Лосского; – и смело мог бы быть причислен к феноменам «истории несбывшихся событий», наряду с дурылинскими «Московскими сборниками» или лосевской серией «Духовная Русь», если бы не одно обстоятельство.
В преамбуле к программе написано:
В какие-бы формы эта революция на первых порах не вылилась, к какому-бы социально-политическому укладу она ни привела в ближайшем будущем, она ни в каком случае не может быть сочтена явлением случайным и местным Участие России в мировой войне и перенос полюса революционной силы с Запада на Восток – должны повлечь за собой и перемещение границы, отделявшей до сих пор восточные страны от западных: и наша родина, которая до сих пор была авангардом Востока, должна стать авангардом Запада.
<…> несомненно, что после всего пережитого наша мысль должна будет вернуться к старой теме – о Востоке и Западе, о России, о Европе, о призвании и мысли России среди других племен и государств, и наконец о тех отвлеченных, общих началах жизни, которые – как люди издавна думают – находят свое более или менее осязаемое обнаружение в жизни того или иного народа. К этим старым вопросам придется вернуться» [12, л. 1].
Однако Карсавин, вне всяких проектов и программ, сам уже начинает совершать потихоньку это «вечное возвращение»: итогом его петербургского периода, отразившимся в книжной продукции «Науки и Школы» и «Мысли», помимо уже упоминаемой выше «Saligia» (1919), становятся «Введение в историю (теория истории)» (1920) и «Восток, Запад и русская идея» (1922). Кроме того, есть все основания полагать, что центральное свое онтологическое сочинение «О началах», увидевшее свет только в Берлине в 1925 г., Карсавин в фактически завершенном виде вывез из Петербурга.
Центральным задачам артели «Наука и Школа», перечисляемым в самом начале статьи, – «составления, редактирования, издания и снабжения широких слоёв учащихся, учителей, читателей, любителей полезной и нужной книгой» [16, л. 1], – как нельзя лучше соответствовала концепция «систематических программ» для самообразования населения. Одной из наиболее разработанных таких программ оказалась программа по философии – но отнюдь не в диалектико-материалистическом или вульгарно-материалистическом ее изводе. Например: «Введение в науку. Философия. Под редакцией Л.П. Карсавина, Н.О. Лосскош,
Э. Л. Радлова. Вып. I. Э. Л. Радлов. Введение в философию. Наука и школа. Петербург <так! – А.Р> 1919». В предисловии «От редакции» были четко сформулированы цели и задачи этого нового, так и не получившего в полной мере развития образовательного жанра: «Издавая “систематические программы”, редакторы ставят себе целью дать в руки желающим серьёзно и систематически заняться философией или пополнить своё философское образование, своего рода философский путеводитель. Программы написаны в общедоступной форме и не предполагают в читателях подготовки и специальных сведений. Объективные и сжатые обзоры содержания, методов, задач и главных направлений той или иной философской дисциплины должны облегчить ориентировку в ней, а критический обзор литературы – указать наилучшие пути к её изучению» [3, 3]. По замыслу авторов программ, философское знание десакрализуется, становится объективным, ясным и общезначимым. Философский язык становится универсальным и прозрачным, и овладение им – лишь дело усердия каждого. Всего было задумано одиннадцать выпусков таких программ: «вып. I. Введение в философию Э.Л. Радлова; вып. II История философии на Западе и в России А.Я. Маковельского, И.В. Попова, Л.П. Карсавина, И.И. Лапшина, С.А. Алексеева (Аскольдова); вып. III: История философий Востока О.О. Розенберга; вып. IV: Метафизика и натур-философия Н.О. Лосского; вып. V: Гносеология С.А. Алексеева; вып. VI: Логика С.И. Поварнина; вып. VII: Психология Г.М. Челпанова; вып. VIII: Этика Э.Л. Радлова; вып. IX Эстетика И.И. Лапшина; вып. X: Философия религий С.А. Алексеева; вып. XI: Философия истории Л.П. Карсавина» [3, 3–4][59]. Однако идея коллективного философского творчества в целях идеи коллективного же философского самообразования потерпела провал.
Проектам этим сбыться не было суждено. Однако идея соединения трудового и экономического единства с философским единомышленничеством и желанием дать трудовому народу всю систему философии, от введения в предмет до философии истории – безусловно, заслуживает внимания. Как и то обстоятельство, что, видимо, индивидуальное начало у некоторых представителей этого соборно-артельного всеединства победило кооперацию: в 1920 г В «Науке и Школе» у Карсавина выходит – отдельной брошюрой – «Теория истории» [5], положившая начало его собственной и оригинальной теории коммуникативного действия.
* * *
Поэтому мы не должны быть удивлены участию Карсавина[60] в таком, казалось бы, нефилософском журнале, как «Артельное Дело» (1921–1924): помимо фигуры издателя, В.В. Миролюбова, чуть ранее привлекшего Карсавина к другому своему проекту, возобновленному «Ежемесячному Журналу для Всех», «артельно-общежительная» идея, если смотреть по его текстам этого периода, несомненно, интересовала Карсавина. Следует также учесть, что и философским издательством «Мысль» выпускались книги по кооперации (см.: [10]). Подлинным же манифестом кооперации и артельного дела является статья теоретика этого движения, Е.Д. Максимова-Слобожанина с характерным называнием «Идеализм в кооперации» [8], где связываются воедино высокий идеализм Платона и Гегеля, идеализм «Проблем идеализма» и дискуссий вокруг него – с артельным делом: «<…> Философия Платона имела огромное влияние и на религию, и на мораль, и на понятие высшей правды, вечности, высших духовных ценностей <… > Но не об этом идеализме я хотел говорить, а тех жизненных, даже повседневных идеалистических проявлениях, которые встречаются чуть не на каждом шагу <…> Возьмите всякую артель, любой кооператив, разве их можно осуществить без идеалистической веры в человека» [8, 21–22]. И далее в статье Максимова следует важный для понимания истории идей переход: от «идеалистической веры в человека» – нет, не к общественному служению, это уже осталось в народнической и неонароднической риторике. Следующим шагом становится «артель как дружба» и «кооперация как содружество»[61]:
«Славяне, улавливая духовную сущность артели, называли ее другими именами; они говорили: дружина, согласие, товарищество, братство; сербы аналогичные единения называли задругами, черногорцы – удружениями (вот он, искомый путь к братству славянских народов и “славянской взаимности”! – А.Р.). Нагли предки понимали, что в основе их лежит дружба, товарищество, братское согласие. Сам творивший этот институт народ чувствовал и знал одухотворяющую силу этих слов» [8,21].
Резюмируем вышесказанное: существует идеализм высокий, философский, – и идеализм практический, основанный на «вере в человека». При этом остается непроясненным, как связаны между собой эти два рода идеализма, да и, собственно говоря, что в данном случае нужно понимать под человеком как объектом такой веры: то ли это просто субъект, в котором «здоровая душа действует на оздоровление тела» [8, 20] – то ли все-таки элемент и действующее лицо социальных коммуникаций. Вероятнее всё же второе, поскольку «дружба» и «согласие» воспринимаются как поле этих самых социальных коммуникаций, «задруга» и «удружение» придают этому полю универсально-всеславянский статус, а творит это дело, само собой, народ.
Поэтому мы не будем удивляться ни предшествующим «субстанциальным деятелям» Н.О. Лосского, ни последующим «симфоническим личностям» Л.П. Карсавина: это Zeitgeist[62], а попытка прояснить основания этой конструкции, безусловно, очень шаткие, предпринятая в том числе и Карсавиным – есть попытка ответить на «мучительно-болящие запросы времени». Причем этот Zeitgeist, похоже, носил всеевропейский характер. Чуть позже Э. Юнгер будет писать о гештальте – о целом, содержащем больше, чем сумму своих частей, «как человек больше, чем сумма атомов, из которых он состоит, дружба больше, чем двое мужчин, и народ больше, чем может показаться по итогам переписи или подсчету политических голосов» [20, 88]. Проблема заключается в том, что происходит в действительности с элементом системы в том случае, когда он перестает быть самим собой – и становится элементом системы; что происходит с другом, когда он становится элементом дружбы; и что происходит с субъектом, с индивидуальностью, с лицом как с «неделимой субстанцией разумной природы» (Боэций)[63], – когда он становится субъектом истории как «социально-деятельным человечеством, всевременным и всепространственным единством» [5, 9-10][64] Ответ Карсавина, увы, неутешителен для субъекта как индивида и лица.
Литература
1. Артель и артельный человек / Сост., введение В.В. Аверьянова / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014.
2. Боэций. Против Евтихия и Нестория / Пер. Т.Ю. Бородай // Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М.: Наука, 1990.
3. Введение в науку. Философия / Под ред. Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, Э.Л. Радлова. Вып. I. Радлов Э.Л. Введение в философию. Наука и Школа. Пг., 1919.
4. Исаев А.А. Артели в России. Ярославль: Печатня Губернского правления, 1881.
5. Карсавин Л. Введение в историю (теория истории). Пг.: Наука и Школа, 1920.
6. Лосский Н.О. Интуитивная философия Бергсона. М.: Путь, 1914.
7. Lossky Nikolai O. History of Russian Philosophy. New York: International Universities Press, 1951.
8. Максимов Е.Д. Идеализм в кооперации (Речь Е.Д. Максимова в торжественном заседании Артельтрудсоюза в день первой годовщины его основания – 31 декабря 1920) // Артельное дело. 1921. № 1–4. С. 19–22.
9. Наука и Школа. Книгоиздательская трудовая артель. Протоколы заседания правления и общего собрания членов. 22 марта 1918 – 5 февраля 1922 г. Петроград // РО РНБ. Фонд 1120. Оп.1. Ед. хр. 10.
10. Николаев А.А. Теория и практика кооперативного движения. Т.1. Пг.: Мысль, 1919.
11. Об организованной группой профессоров и приват-доцентов Петроградского университета книгопродавческой и книгоиздательской трудовой артели «Наука и Школа». Программа деятельности // РО РНБ. Фонд 1120 (А.А. Кроленко). Оп. 1. №. 12.
12. Проект серии монографий «Россия и Европа» (1918–1920) // РО РНБ. Фонд 1120. Оп.1. Ед. хр. 17.
13. Резвых Т.Н. Петербургское философское общество и журнал «Мысль» (1921–1923): новые документы // Исследования по истории русской мысли [10]: Ежегодник за 2010–2011 год. М: Модест Колеров, 2014. С. 481–494.
14. Русский биографический словарь [Электронный ресурс. Режим доступа на: ].
15. Саккетти А.Л. Основные понятия о праве и государстве. 1916–1917. Курс общедоступных лекций. На правах рукописи (отпечатано на ротапринте). 1917.
16. Свешников А.В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем: (История одного профессорского конфликта) // НЛО. 2009. № 96. С. 42–72.
17. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. М.: Ун-т Шанявского, 1916.
18. Устав «Науки и Школы». Ноябрь 1918 // РО РНБ. Фонд 1120. Оп.1. Ед. хр. 11.
19. Чаянов А.В. Организация северного крестьянского хозяйства. Ярославль: Ярославский кредитный союз кооперативов, 1918.
20. Юнгер Э. Рабочий // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли / Пер. А.В. Михайловского. СПб.: Наука, 2000.
21. Karsavinas L. Europos kulturos istorija. T. 1–5. Kaunas, 1931–1938 (переизд.: Europos kulturos istorija. Vilnius, 1991–1998).
Горизонты нового мира: Эмиграция
Молчать или писать «в стол». Выбор Клавдии Васильевны Флоровской и андрея Павловича Мещерского Таня Галчева
Ако за миг престана да работя, там, където ме в сложило времето, есичко ще рухне.
Александър Герое, «Рухване» [6].[65]Я бы хотела привлечь внимание уважаемой аудитории к феномену выбора отсутствия. «Отсутствующий» текст является результатом выбора. «Выбор, – утверждает во время последнего, V-ro, Съезда русских академических организации за границей в Софии в 1930 г, болгарский философ Димигър Михалчев. – может быть предваряем только хотящим сознанием» [16, 353].
Выбор отсутствия не всегда различим. Историки словесности могли бы его пропустить, тогда, когда его следствием является отказ от слова. На эту тему болезненно-лично рассуждал самый первый умолкнувший поэт русской эмиграции первой волны Владислав Ходасевич: «Отказ поэта от поэзии может быть следствием двоякого рода причин: или он вытекает из принципиального разуверения в поэзии как подвиге – и тогда мы имеем дело с величайшей внутренней трагедией; или же на такой отказ толкают поэта иные, более внешние, но все же властные обстоятельства: однако и тут мы становимся зрителями тяжелой душевной драмы» [21, 484].
Практика отказа широко пропагандировалась Ходасевичем. Всматриваясь, однако, в его писательскую судьбу, мне кажется, что стоит задуматься о феномене молчания в истории русской эмиграции первой волны. Его устои коренятся в способности к самоограничению, сила его воздействия в том, что он создает такую модель самовыражения, при котором отказ от социализации собственного слова превращается в этическую норму. Результатом этого поведения являются не «арестованные» властью (политиков или редакторов) тексты, а существование материалов, обычно принадлежавших только авторскому архиву. «Замолчанный» текст (нужно вспомнить о том, что в 1923 г. Марина Цветаева говорила о «замолчанном голосе» и «замолчанном журнале» [22, 271]) обладает особой силой: будучи частью потока современной ему словесности, он мог оказаться незамеченным. Спустя много лет, однако, факт его публикации представляет собой оценку прочности, возвращение его в читательскую среду последующих поколений придает ему ореол таинственности и запретного шарма.
Судьба автора, по своей воле лишившегося прижизненной публикации, вызвала мой интерес к личностям Клавдии Васильевны Флоровской (1883 – 1965)и Андрея Павловича Мещерского (1915 – 1992). Сопряжение этих двух имен возникло в контексте изучения биографии Петра Михайловича Бицилли (1879 – 1953). Спустя два десятилетия мы привыкли уже к шаблонам о «первом „бициллиеведе”» [2, 800] и об «обладающей скромным даром» [1, 505] ученице И.М. Гревса. Несмотря на все различия, на судьбы Клавдии Васильевны и кн. Мещерского можно смотреть через призму их принадлежности к длинной веренице людей, жизни которых оказались подвластны исторической ситуации, ибо она своей насыщенностью исключительных событий, чрезвычайных обстоятельств, заставила их пересмотреть свои планы, «свернуть» ожидания, принять не всегда желанные решения. Выбор, сделанный этими двумя учеными, не принадлежавшими официально к академической среде, подчинялся обстоятельствам, но при этом защищал внутреннюю, духовную свободу личности, не давая ей оказаться жертвой исторического момента. Полная или частичная невозможность желанной профессиональной реализации в быстро меняющихся эмигрантских условиях не лишила их способности продвижения по предназначенному пути; их голоса затихли, но смолкнувшие слова прорвались к нам через несколько десятилетий и побуждают к размышлению.
Я не буду подробно восстанавливать вехи жизненных путей этих двух представителей русской эмиграции в Болгарии; необходимые источники, упорядочивающие разрозненные факты, уже опубликованы. Хотелось бы, однако, провести некоторые параллели:
1. К.В. Флоровская и А.П. Мещерский, несмотря на поколенческую разницу между ними, принадлежали к первой волне русской эмиграции. Решающим с точки зрения экзистенциального выбора здесь было колебание, как долго придется жить в принимающем государстве, стоит ли приспосабливаться к новым условия (в том числе, есть ли смысл приложить усилия к изучению чужого языка этого государства). Читая документы интимного характера (письма, записная книжка), складывается ощущение, что жили они, особенно в первые годы осмысления наступивших перемен, «на чемоданах». Отсюда и ощущение двойнственности существования: с одной стороны, чтобы физически выжить, приходилось искать возможность зарабатывать больше, а это сильно ограничивало шансы заниматься любимой, но не особенно высоко оплачиваемой работой. В одном своем письме к брату Георгию Клавдия Васильевна кратко назвала суть проблемы: «Беда одна – в сутках слишком мало часов и дух не может настолько победить тело, чтобы совершенно не считаться с его утомлением» [20,16]. Нужно было еще и найти такие резервы стойкости, которые помогли бы переодолеть ощущение накопившего возмущения, упрек в несправедливости судьбы и не впасть в отчаяние. А основания для этого были: первой женщине приват-доценту Императорского Новороссийского университета пришлось лепить папиросные коробочки, вышивать бисером, разбираться в конторских делах. Князю Мещерскому, одному из активистов «Союза младороссов», понадобилось несколько лет, чтобы сжиться с мыслью о непрактичности выбранной специальности. В результате бывший студент историко-филологического факультета Софийского университета все-таки получил диплом финансиста Государственной высшей школы хозяйственных и административных наук (бывшего Свободного университета). С другой стороны, сохранение своего «внутреннего я», частью которого являлась верность выбранному пути гуманитария, рассматривалось как возможность быть полезным в будущем Родине. Хотя вопросов было больше, чем ответов. «…Строго говоря, кому в будущей, возрождающейся России и для чего нужна будет моя западноевропейская средневековая история или лат[инский] яз[ык]?» [20, 79], спрашивала не брата, а саму себя Клавдия Васильевна. Тридцать лет спустя князь Мещерский напряженно ждал письмо директора Пушкинского Дома в Ленинграде, чтобы укрепить уверенность в необходимости сформировать в Болгарии личную библиотеку, посвященную прошлому родной России.
2. Семья, будь то бы родная, или же семья супруги, имела решающую роль в выборе К.В. Флоровской и А.П. Мещерского. В письмах к брату Георгию Клавдия Васильевна часто признается в том, что ее решения не раз были обусловлены желанием считаться с мнением родителей. В этом плане особенно следует подчеркнуть ее убежденность, вопреки напряженному поиску любой возможности переселения в Прагу, остаться в Софии. Она знала, что состав местных библиотек в столице Болгарии не позволит или во всяком случае сильно затруднит ее работу над начатой в Одессе магистерской диссертацией. Однако долг оказался сильнее: «Если бы не родители, для меня не было бы вопроса о Праге, я сейчас бы поехала туда, моих страшно перетягивать без необходимости и уверенности, что будет там по крайней мере не хуже, чем здесь» [20, 19]. Полностью осознавая последствия сделанного выбора, Клавдия Васильевна, однако, никому не ставила в укор свою «неудачливость»: «… Теперь я вижу, что если бы всю жизнь меньше думала о том, чтобы сделать так, как ей [маме] нравится, а делала бы так, как хотела сама, то достигла бы и для себя, и для нее гораздо большего удовлетворения» [20, 79].
О том, какую роль в его жизни сыграл тот факт, что, будучи зятем П.М. Бицилли, более чем 10 лет он жил с его семьей, А.П. Мещерский рассказал незадолго до смерти. В моих стенограммах разговоров с ним, на вопросы ведущего беседы, болгарского исследователя Эмила Ив. Димитрова, сохранились следующие ответы: «Он [П.М. Бицилли] был потрясающим человеком – по образу жизни, по требованиям, предъявляемым к людям и к жизни. Я никогда не встречал таких людей»; «Разговоры, которые велись у Петра Михайловича, касались высоких тем. Мы, „молодежь^, не принимали участия в этих разговорах. Для нас эти разговоры были Откровением» [14].
Вопреки тому, что биография П.М. Бицилли уже расписана чуть ли не по дням, нам до сих пор не много известно о том, какова была атмосфера в доме профессора. Сохранились немногочисленные свидетельства знакомых, а, по моим впечатлениям, Марии Петровне Бицилли (1917–1996), единственной родной дочке ученого, дожившей до «эпохи возвращения» ее отца в научный мир, не особенно нравилось любопытство к семейным делам. Поэтому откровение близкого друга А.П. Мещерского – Владимира Юрьевича Макарова (1914 – 2007) (это тот же самый Владимир Юрьевич, который в 70-х годах прошлого века отсидел в болгарской тюрьме 6 лет за распросстранение книг Солженицына) обладает исключительной ценностью для современных «бициллиеведов»: «Человек получает свою культуру, точнее, свою культурность – понятие несколько неопределенного содержания, для меня очень, очень важное, связанное довольно тесно с чувством терпимости, с уважением к чужому мнению… – обычно из книжек. Из университета не получает, там он получает другое. Но в первую очередь получает он ту самую культурность в семье, от семьи. В нормальной семье. У меня таковой не было. Сам я получал все же все, почти все, вечерами в субботу у Бицилли» [10, 1].
3. Клавдия Васильевна и Андрей Павлович формально не принадлежали к академическому кругу, хотя оба сделали первый шаг к академической карьере: сдали магистерский экзамен (соответственно, кандидатский минимум). Им в разное время, в условиях эмиграции, пришлось решать одинаковый вопрос: что делать со своим голосом тогда, когда исторический момент оказался не самым лучшим для самовыражении? Вопрос этот не был исключением, его решали «отцы и дети» в русской эмиграции. Он был сосредоточием усилий всех, кто не смог профессионально реализоваться, независимо от того, к какому поколению принадлежали: к поколению «грымз», согласно евразийскому сленгу, или к «раздавленному», согласно Мещерскому, поколению. До конца своей жизни Клавдия Васильевна и Андрей Павлович сохранили желание «немного и к науке вернуться» [18, 1].
Мне кажется, что необходимость высказаться, приоткрыть свой внутренний мир, в котором горестные размышления о поиске личного предназначения составляли центр внутренних переживаний, была вызвана конкретным фактом: встречей с творимым текстом и его последующей социализацией. Их работы принадлежали к разным областям познания, появились они в разное время и при разных обстоятельствах, но имели одинаковую судьбу. Они не были опубликованы в свое время по воле авторов, не получили отзыва среди современников, и, таким образом, их значимость замкнулась на многие годы в рамках личных биографий.
Эмпирический материал, на основе которого строится мой анализ практики молчания, ограничен. Он сосредоточен вокруг двух главных «сюжетов»: создание и отказ от публикации рукописи «Разделение церквей» Клавдии Васильевны Флоровской и осуществляемая в условиях «академического подполья» деятельность кн. Андрея Павловича Мещерского.
Постараюсь кратко перечислить факты, необходимые для реконструкции этих событий.
Идея привлечь сестру к участию в евразийском сборнике возникла у Г.В. Флоровского зимой 1923 г., когда после «католического» сборника «Россия и латинство» пришлось подумать и о «ряде общедоступных сборников о православии» [9, 102]. 1 февраля план действий уже был изложен в письме к Н.С. Трубецкому. Вероятно, в то же время к сестре было отправлено и другое, более конкретное предложение, на которое Клавдия Васильевна откликнулась сразу же «с удовольствием». Для нее возможность написать статью для евразийского сборника была одним из редчайших шансов после выезда из Одессы попасть в число печатаемых авторов. «Сюжет» о неопубликованной в свое время, но все-таки написанной статье на тему «Разделение церквей» выпал из внимания многочисленных комментаторов по евразийской теме и не зря: задуманный сборник не осуществился и тем самым не вызывает любопытства ни у кого, кроме кропотливых любителей исторической микроскопии. Для меня, однако, реконструкция тех событий интересна с точки зрения поведенческой модели гуманитария. Они иллюстрируют как происходят процессы, когда шанс быть услышанным натыкается на «упоительное и трудное», по словам поэта, решение человека, привыкшего к слову, замолчать.
Получив письмо брата, которого считала во многих отношениях своим учеником, Клавдия Васильевна безоговорочно согласилась сотрудничать переводами и справками; с некоторой условностью, однако, стала обдумывать возможность написать статью о разделении церквей. Колебания были, кажется, не особенно глубокими; нехватка литературы и источников вызывала тревогу, но преобладала уверенность в том, что «тут не надо никаких новых открытий, а нужна ясная, отчетливая картина в правильном освещении» [20, 65]. Как и раньше, Клавдия Васильевна поделилась своими идеями, не останавливаясь лишь на уровне предложенного. Она перечислила набор вопросов, могущих вызвать интерес издателей: о различиях православной и католической литургии, о дисциплине обеих церквей, о параллельном развитии католического и православного миросозерцания.
В течение полугода Клавдия Васильевна делилась с братом Георгием радостями и муками творчества. Мелькнула даже идея «развить эту тему в большую работу, какой на русском языке совсем нет» [20, 69]. В начале августа 1923 г. статья «Разделение церквей» была закончена, хотя автору она показалась «по-ученически» [20, 80] написанной. Больше месяца рукопись пролежала на столе. За это время сложилось окончательное решение: «оставить ее у себя» [20, 87]. Аргумент в сторону такого выбора не подлежал дискуссии: работа не выдержала критики автора. Ей показалось, что написанное «не научно», основывается на случайных книгах, а большая часть источников осталась не изученной. Невозможность ознакомиться с основным сводом литературы мотивировала глубоко продуманный отказ: «нельзя снова открывать Америку». Незнание греческого языка тоже было указано в качестве «большой помехи» [20, 79].
Это решение поражает своим внутренним драматизмом. В нем сталкивается высокая этика самотребовательности ученого с интуицией человека, понимающего, что он лишается возможности, вряд ли в другой раз доступной. Однако честность по отношению к самому себе, к внутреннему миру, диктовала нравственный императив: «Работать для ваших изданий я все-таки очень хочу по мере сил и постараюсь выбрать что-нибудь, чем можно заниматься при данных условиях» (курсив мой – Т. Г.)[20, 79].
В отличие от наследия Клавдии Васильевны Флоровской, работы князя Андрея Павловича Мещерского более известны современным эмигр антове д ам. Наибольшей популярно стью пользуется его «Био – библиография П.М. Бицилли», биографическая часть которой опубликована еще в 2000 г [12, 570–588]. Нельзя забывать, однако, что эта рукопись пролежала «в столе» почти 50 лет, в то время как ее этическая ценность для современников не подлежала сомнению: «Вы, – написал Мещерскому проф. Иван Дуйчев, ознакомившись с очерком о П.М. Бицилли, – свершили то, что должны – обязаны! – были сделать мы, Его[66]ученики и духовные чада» [4, 596].
Для меня не подлежит сомнению факт, что кроме своей профессиональной интуиции, А.П. Мещерский руководствовался и соображением о том, как оставить для последующих поколений воспоминание не только об ученом, но и о «исключительном» человеке Петре Михайловиче Бицилли. Биограф воссоздал его образ крупными линиями: «По складу своего характера он был очень добр, мягок и отзывчив к человеческому горю» [12, 587]. Впадаю в искушение на минутку отклониться от основной темы, чтобы рассказать о степени отзывчивости П.М. Бицилли. Буквально несколько дней тому назад в Софии был обнаружен написанный от руки текст, часть которого я процитирую без сокращений:
«Я, Надежда Киреева (моя девичья фамилия), имела счастье познакомиться с проф. Бицилли и этот случай остался для меня памятным на всю жизнь. Окончив гимназию в 1942 г., у меня было желание учиться в университете, но наше тяжелое материальное положение не позволяло этого. Мне надо было искать работу, а [тем], кто работал в то время и одновременно учился, анулировали все экзамены. Я поступила в Свободный университет. Он не был престижным, но там можно было не посещать лекции.
В один пасмурный день в нашу дверь постучала соседка и сказала, что меня хочет увидеть один господин. Я вышла и передо мной стоял пожилой человек. Он представился мне и сказал, что он проф. Бицилли, узнал, что я русская, отличница в институте и хотел бы мне помогать из личных средств. Меня это взволновало и я его спросила, откуда он узнал обо мне. Он сказал, что его приятель г-н Агура работает секретарем в этом институте и открыл меня по спискам.
В продолжении 5–6 месяцев, он в определенный день мне приносил сумму. Я не помню сколько было, но это для меня было большой помощью, в то время не было никаких стипендий в институте. Через 5–6 месяцев в 1943 г. начались бомбардировки.
…Этот благородный, человеческий жест остался памятным для меня на всю жизнь. Таких людей или мало[,] или вообще нет» [8, 2].[67]
Документы, хранящиеся в личном архиве А.П. Мещерского (собрание Т. Галчевой), показывают, что он систематически, не имея никакой уверенности в возможности будущей публикации, работал над рукописями. Думая о себе как о «составителе» био-библиографических справок, он далеко не ограничивался одним перечислением названий книг, журналов и газет. В течение всей своей жизни он был исследователем, распространяющим результаты своих поисков почти апокрифным способом. Ему принадлежит открытие темы о русских ученых-эмигрантах, работавших в Болгарии; он сформулировал ее актуальность еще в 1955 г., провел многолетнюю кропотливую работу и указал на фонды и архивы в Болгарии, в которых можно было бы найти следы для изучения сохраненных материалов. Особенно актуальна сегодня методологическая постановка вопроса об оценке наследия русской эмиграции. Князь Мещерский первым сформулировал принцип, которым должен руководствоваться любой эмигрантовед: «Не степенью талантливости и научной подготовленности и не политическим аршином следует измерять тот вклад в русскую и европейскую культуру, который сделали […] представители русской научной мысли заграницей. Мерой, с которой следует подходить к их наследству, должна быть компетентная и беспристрастная оценка их деятельности на новом поприще – достойных представителей и пропагандистов русской культуры и русской науки вне пределов их отечества» [12, 564].
Собранные в 1955 г. материалы, в числе которых много архивных документов, выпрошенных А.П. Мещерским «по горячим следам», например, рукописные справки о деятельности К.В. Флоровской, Ф.Г. Александрова (1886 – 1981), Н.М. Дылевского (1904 – 2001), остались неопубликованными.
В середине 50-х гг., не имея никакой уверенности, что удастся заняться их изучением, библиограф показал себя истинным хранителем исторического наследия русской эмиграции. Он уговорил уезжающего из Болгарии бывшего узника народной власти проф. Семена Семеновича Демосфенова (1886 – 1966) оставить часть своего архива в Софии.
Написанной и невостребованной, «в стол», осталась и статья, открывающая тему «И.А. Бунин в Болгарии», по поводу которой в 1962 г А.П. Мещерский получил письмо ответственного секретаря журнала «Русская литература», о том, что редакция «по-прежнему» [7] заинтересована в ней.
В начале 80-х гг прошлого века А. П. Мещерский переработал вариант своей «Био-библиографии» для готовящегося в Софии сборника избранных работ П.М. Бицилли. И этому изданию тоже не суждено было увидеть свет
Болгарский перевод «Био-библиографии Н.С. Трубецкого» стал в 1991 г единственной прижизненной публикацией, для которой Андрей Павлович в возрасте 75 лет написал отдельное предисловие [11, 138].
Восстанавливая судьбы рукописей К.В. Флоровской и А.П. Мещерского, современный исследователь истории русской эмиграции мог бы провести некоторые параллели.
Географическое местонахождение было веским фактором в решении вопроса, что делать тогда, когда «независящие обстоятельства» угрожают свободе выбора, когда они обладают силой ограничить волю личности. Остаться в Скопье или в Софии в начале 20-х годов прошлого века решало проблему выживания и даже, с некоторыми оговорками, проблему сохранения академической карьеры. Отсутствие необходимых книг и изданий, необходимых для работы, также сыграло свою роль в выборе жеста молчания, как авторской судьбы. В таких условиях, по-видимому, нетрудно было дойти до заключения о том, что «просто теряется критерий для проверки собственных мыслей» [20, 69]. Пространство русской эмиграции приобрело иерархию именно по этому признаку: с экономической точки зрения жить в Скопье или в Софии было выгодно, однако, в начале 20-х гг. прошлого века Белград и Прага были маркером принадлежности к столичной науке.
«Масштабы у меня с Вами не совпадают. Вы еще можете мечтать о Фрейбурге или Париже, но для меня, после трех лет, проведенных в Скопле, и София рисуется чем-то вроде Парижа» [3, 113], подвел итоги своего пребывания в КСХС П.М. Бицилли. Из болгарской столицы Клавдия Васильевна заметила, как изменились представления брата Георгия: «Какая разница в масштабах – для тебя скучная, пыльная Прага, а для нас по теперешнему нашему положению она – вроде Парижа» [20, 82].
Утверждать, однако, что страна пребывания полностью предопределяла выбор молчания отдельной личности, я не стану. Наоборот, мне даже кажется, что именно отсутствие подходящих для продолжения работы условий сыграло роль катализатора для создания новых текстов. Наиболее лаконично это можно было бы высказать словами П.М. Бицилли о его собственной несостоявшейся докторской диссертации: «Не имея возможности „писать истории”, я написал „об историях”, – теоретическую работу… » [3, 130]. «Исход» к глубинам теории денег был основным выходом и фактором преодоления молчания для С. С. Демосфенова (профессора Пермского и Софийского университетов), как показывают сегодня исследования историков экономической мысли. Раздавленный европейской ночью поэт Ходасевич нашел спасение для своей пишущей души, превратившись «во всезнающего змея» русской эмигрантской критики. Возможно, руководствуясь именно этими соображениями, Клавдия Васильевна, как это выясняется из письма, найденного Инной Владимировной Голубович [5, 89], предприняла попытку начать работу над диссертацией по философии под руководством Бориса Вышеславцева.
Следуя своему собственному пути, лишившаяся по собственной воле публикации в евразийском сборнике, Клавдия Васильевна замолчала, но не умолкла. От своего «приватного» слова она не отказалась, и на ее письма к брату Георгию следует смотреть и с точки зрения пере-модулированного голоса. Они разбросаны в разных архивах по двум, по крайней мере, континентам; не изучены и не введены в научный оборот. Ограниченно исследуя их на примере только трехлетнего периода – с начала 1921 по конец 1923 г., – я могу сказать, что интерес к этим письмам не только обязателен, он уже немного запоздал. Хорошо, как будто, описанная, история первых лет евразийства выглядела бы более полной после ознакомления с этими материалами. Назову наиболее интригующие моменты для будущего изучения этого эпистолярия:
1. Сказалось ли на составе обсуждаемых участников в евразийских изданиях предупреждение Клавдии Васильевны: «Что же, что нет у вас философа права? У вас нет и писателя профессионала, и богослова-специалиста, и историка – вы просто случайно встретившаяся (и очень счастливо) группа единомышленников, едино настроенных…» [20, 5].
2. Как сложились «персональные параллели» [23] Г.В. Флоровский – Л.П. Карсавин, учитывая мнение Клавдии Васильевны: «Виделся ли ты с Карсавиным? Как вы с ним понравились друг другу? […] У него была всегда несчастная склонность балаганничать, – сначала это было забавно, потом оригинально, а потом приобрело характер дурного тона, но уже вошло в привычку. А жаль, п[отому] ч[то] он и чуток, и умен, и остроумен, и вообще хороший человек…» [20, 81].
3. Проникли-ли некоторые идеи и темы из корреспонденции К.В. Флоровской с братом Георгием в статьях младшего брата? Насколько соображения Клавдии Васильевны о том, что «впечатление от сборника „России и латинства” на публику должно быть бледнее» [20, 78] нашли отражение в решении Г.В. Флоровского не принимать в дальнейшем участия в евразийских изданиях?
Для Андрея Павловича Мещерского решение писать в «стол», формировать свой собственный архив, создавать вокруг себя сеть сообщников было выбором, позволяющим преодолеть запреты исторического момента. Он четко сознавал, что тема его интереса не находится на повестке современности, более того, что она угрожает его спокойной жизни советского гражданина Народной Республики Болгарии.
Исторические перемены обуславливали иногда превратные и казалось бы необоснованные решения Клавдии Васильевны и Андрея Павловича. Им пришлось два раза на протяжении двадцати с лишним лет принимать решения или испытывать их последствия в условиях «независящих обстоятельств». И если в 1920 г. выбор производился согласно политическим пристрастиям, то Вторая мировая война отодвинула их в сторону и на смену пришли соображения о том, как найти свое место в процессе восстановления Родины. В 1937 г. В письме к брату Антонию Клавдия Васильевна не постеснялась высказаться: «[Бицилли] становятся все более откровенно проольшевистскими, и это противно» [19, 35]. В 1955 г. она, однако, оказалась в числе репатриантов, вернувшихся в Советский Союз, и ее выбор был обусловлен не только фактом, что семья Любощинских, с которыми она жила уже много лет, переселилась из Болгарии в СССР. Вернувшись на Родину, Клавдия Васильевна осуществила свою мечту иметь работу более близкую к специальности.
Такой же поворот пережил бы и А. П. Мещерский, если бы в середине 50-х гг. была выполнена его просьба стать репатриантом в Новосибирск, «куда хотел бы отправиться вместе с семьей» [15]. В 1955 г. он подвел итоги всех своих раздумий: «…Пересмотр многих ценностей и представлений, которые казались нам очевидными и незыблемыми еще так недавно, в итоге Второй Мировой войны и послевоенных лет оказался неизбежным» [13,2]. 14 марта 1958 г. заведующий Библиотекой Института растениеводства в Болгарской академии наук отправил письмо Президенту Сибирского филиала Академии наук с вопросом, существуют ли условия для продолжения его работы над кандидатской диссертацией по специальности библиография и библиотечное дело. Знакомясь с документами из фонда «Князь», сохраняемыми в Комиссии по досье, нельзя поверить, что речь идет об одном и том же человеке, не подчиняющемся «коллективному контролю», «не проявляющим никакого желания усвоить марксизм-ленинизм», «чрезвычайно сильно интересовавшимся старой белогвардейской литературой» [17, 55]. Трудно сказать, что произошло бы с документами, собранными и бережно описанными «Князем», если бы их владелец присоединился к составу служащих Библиотеки Новосибирского отделения наук. В одном я уверена: Болгария бы потеряла их намного раньше, чем потеряла архив П.М. Бицилли.
Месяц тому назад я обратила внимание на горячую дискуссию о том, кому принадлежит the american citizen Joseph Brodsky: России или США? В том же порядке мыслей хочется спросить, кому вернуть прожившего большую часть своей жизни с Нансеновским паспортом Петра Михайловича Бицилли (он же Петро Бицили, а также и Петър Бицили)? На каком языке «прочитать» безмолствование граждан Союза Советских Социалистических республик Клавдии Васильевны Флоровской и Андрея Павловича Мещерского?
Кажется, что им принадлежит пространство памяти, которое мы коллективно обязаны изучать и осваивать. Только оно обладает силой стирать границы и создавать сообщества.
Литература
1. Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания / вступ. ст., сост., примеч. и аннот. указ. имен А. И. Добкина. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992. С. 505.
2. Бирман М.А. А.П. Мещерский (1915–1992). Несколько страниц к биографии первого “бициллиеведа” // Politropon. К 70-летию В.Н. Топорова. М.: Индрик, 1998. С. 800–805.
3. Галчева Т. П.М. Бицилли. Письма к К.В. Флоровской (1921–1923 гг.). Публикация, вступительная статья и комментарии Т.Н. Галчевой // Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам”». П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. София: Солнце, 2015. С. 49–143.
4. Галчева Т. Судьба свидетеля: «собрать все, что возможно, воедино» (неизвестное об А.П. Мещерском) // Свидетельство: традиции, формы, имена. Киев: Дух i Литера, 2013. С. 583–604.
5. Галчева Т.Н., Голубович И.В. Забота о себе в опыте русской эмиграции (по материалам эпистолярного наследия П.М. Бицилли) // Мы все в заботе постоянной… Концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры. Материалы Международной конференции памяти философа, социолога, психолога Г.В. Иванченко (1965–2009) (НИУ ВШЭ, Москва, 9–11 сентября 2015). Часть 1: Постоянство пребывания с собою. М.: Канон+, 2015. С. 83–97.
6. Геров А. Рухване // Свободен стих. София: Български писател, 1967. [Электронный ресурс. Режим доступа: (дата обращения 24.11.2015 г.)].
7. Горелов А.А. Письмо отв. секретаря редакции журнала «Русская литература» А.А. Горелова к А.П. Мещерскому от 14 февраля 1962 г. Собрание Т. Галчевой.
8. Киреева Н. Рукописная заметка без заголовка. Собрание Т. Галчевой.
9. Климов А., Байссвенгер М. Переписка Г.В. Флоровского с Н.С. Трубецким (1921–1924). Публикация А.Е. Климова и М. Байссвенгера // Записки русской академической группы в США. Том XXXVII. New York: Association of Russian-American Scholars in the U.S.A., 2012. С. 32–145.
10. Макаров В.Ю. Письмо В.Ю. Макарова к Е.П. Ивановой-Аначковой от 4 октября 1998 г. Собрание Т. Галчевой.
11. Мещерски А.П. Опит за библиография на професор Н.С. Трубецкой. Превод на български език и публикация Таня Галчева // Литературна мисъл. София, 1991, № 4. С. 138–151.
12. Мещерский А.П. Заметки и материалы к биобиблиографии русских ученых в Болгарии. 1920–1949 // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. М.: Русский путь, 2012. С. 562–588.
13. Мещерский А.П. Материалы к библиографии русской периодической печати в Болгарии 1920–1944 гг. София, 1955, рукопись. Собрание Т. Галчевой.
14. Мещерский А.П. «Он был потрясающим человеком». Разговоры с А.П. Мещерским. Часть первая. [Электронный ресурс. Режим доступа: -byl-potriasaiushtim-chelovekom-razgovory-s-a-pmeshterskim-chast-pervaia (дата обращения 24.11.2015 г.)].
15. Мещерский А.П. Письмо к Президенту Сибирского филиала Академии наук СССР от 14 марта 1958 г. Собрание Т. Галчевой.
16. Михалчев Д. Свобода воли // Труды V-го съезда Русских академических организаций за границей в Софии 14–21 сентября 1930 года. Часть II. София: Русские академические организации, 1940. С. 335–381.
17. Неделчева В. Характеристика на А.П. Мещерски. Архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация (АКРДОПБГДСРСБНА) – М, ф. ІІІ раз., а.е.15562.
18. Флоровская К.В. Воспоминания (рукопись). Личный архив А.В. Флоровского. Архив Российской академии наук, ф. 1609, опись 1, д. 245.
19. Флоровская К.В. Письма к А.В. Флоровскому. Личный архив А.В. Флоровского. Архив Российской академии наук, ф. 1609, опись 2, д. 459.
20. Флоровская К.В. Письма к Г.В. Флоровскому и А.В. Флоровскому. Slovanská knihovna, Praha, T-FLOR, box XVI, part 3.
21. Ходасевич В.Ф. Бесславная слава (1918) // Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Стихотворения. Литературная критика 1906–1922. М.: Согласие, 1996. С. 484–486.
22. Цветаева М.И. Возрожденщина (1925) // Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5: Кн. 1: Автобиографическая проза; статьи, эссе. М.: Терра, Книжная лавка – РТР, 1997. С. 271–273.
23. Янцен В.В. Что связывало Чижевского с Кёнигсбергом? // The Ergo Journal. Русская философия и культура. [Электронный ресурс. Режим доступа: (дата обращения 28.11.2015 г.)].
Методологический выбор историка и философско-исторические установки (теоретические поиски П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина)
Оксана Довгополова
Общим местом философско-исторических исследований второй половины XX века (с момента оформления нарративистской концепции Хейдена Уайта) стало утверждение о том, что любое историческое исследование по сути является и философско-историческим. Конструктивистская природа исторического знания делает невозможным не просто требование писать историю «как она была», но и любую попытку отстраниться от серьёзного философского осмысления профессионального усилия историка. Объективность научного поиска не противоречит наличию некоей философской установки, задающей способ отбора и интерпретации исторического материала. После появления трудов Артура Данто уже неловко вменять историку в вину его философско-историческую позицию как проявление субъективизма. Не будем пересказывать утверждения классика аналитической философии истории, они достаточно известны.
Предметом нашего интереса в данном тексте является возможность соотнесения философско-исторической позиции исследователя с той методологической моделью, которую он вырабатывает. Методология исторического исследования базируется на понимании автором природы исторического знания. Предлагаемая исследовательская разведка осуществлена на материалах теоретического наследия П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина. Обращение к данному материалу продиктовано, в частности, тем, что в силу остроты переживаемого теоретиками исторического момента они сосредотачиваются даже не на общем сюжете (emplotment) исторического процесса, а на метафизических основаниях исторического бытия человека. Именно эта сосредоточенность на метафизике исторического бытия заставляет тщательно разрабатывать исследовательский инструментарий, соответствующий природе изучаемого предмета. Инструмент определяется не просто удобством рассмотрения предмета с данного ракурса, но видением способа взаимоотношений исследователя как участника исторического процесса с трансцендентными основаниями данного способа саморазвертывания мира.
Обращение к наследию П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина в данном контексте интересно тем, что оба теоретика оставили серьёзный след в истории европейской исторической науки и одновременно могут рассматриваться в философской перспективе. При этом П.М. Бицилли традиционно рассматривается в первую очередь как «чистый» историк, воспринимающий философию как нечто, что должно быть выведено из поля исторического исследования. Второй слишком часто воспринимается в двух своих ипостасях (историка и философа) изолированно, как будто Карсавин-историк и Карсавин-философ – два разные лица. Автору этих строк представляется, что анализ соотношения философско-исторической и методологической позиций теоретиков может создать тот дополнительный ракурс видения их исследований, который не виден с конкретной дисциплинарной точки зрения.
Оба теоретика формировались в сходных методологических установках, вели исследовательский поиск в одном направлении, даже реализовали сходный экзистенциальный жест, в эмиграции включившись в разработку основ национальной истории в странах, которые их приняли (Болгария и Литва). Насколько изумляет методологическая близость двух теоретиков, настолько же ставит в тупик абсолютное неприятие философско-исторической позиции друг друга. Представляется продуктивным обращение к более широкому горизонту видения природы исторического знания, дабы обнаружить основания этой странной теоретической игры двух авторов.
В отдельной оговорке нуждается решение рассматривать философско-исторические установки П.М. Бицилли, который в «Очерках теории исторической науки» [1] достаточно резко высказался против философии истории в целом и признал ее достоянием прошлого. Напомню цитируемую большинством бициллиеведов фразу о том, что Клио стала строга и не допускает метафизических рассуждений в историческом исследовании. Ироничная беспощадность взгляда Бицилли на философию истории, казалось бы, исключает возможность включения его выводов в русло философско-исторической теории. При этом исследования наследия Бицилли в философском контексте уже осуществлялись. Достаточно напомнить работы болгарского философа Красимира Делчева [3]. Простой взгляд на перечень спецкурсов, читавшихся П.М. Бицилли в Софийском университете, даёт возможность убедиться, что историк был не чужд философско-исторической проблематике. Кроме того, он активно участвовал в заседаниях Философского общества, причем не только в качестве слушателя, но и докладчика. П.М. Бицилли – автор, способный поставить своего читателя «по стойке смирно», когда кажется, что вопросы неуместны. Вероятно, только этим определяется до сих пор невысокий уровень внимания к наследию П.М. Бицилли именно с точки зрения философии истории.
Хотелось бы оговорить и значимость исторических работ Л.П. Карсавина, которые для историков философии несколько теряются на фоне его известных философских разысканий. Автор этих строк уверен, что вне контекста профессионализма Л.П. Карсавина как историка мы не сможем по достоинству оценить его философский потенциал.
Профессиональные установки П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина создавались в контексте нескольких мощных интеллектуальных течений конца XIX – начала XX веков. Общими теоретическими основаниями их профессионального подхода в истории стали исследования французской исторической Школы Хартий (.Ecole des Chartes), а также российская историческая школа, основанная Иваном Гревсом. Л.П. Карсавин и О.А. Добиаш-Рождественская были непосредственными учениками Гревса, на П.М. Бицилли Гревс также имел огромное влияние, исследователи были связаны процессами защиты диссертаций и взаимного рецензирования.
П.М. Бицилли и Л.П. Карсавин создали особенное направление в исторической антропологии (позволю себе это несколько анахроничное определение, ибо труды рассматриваемых авторов вписываются в общетеоретические рамки этого возникшего несколько позже направления), основанное на уверенности в том, что дух средневековья открывает себя наилучшим образом в том образе мира, который создан «средним человеком» эпохи. Будучи воспитаны в духе позитивистской исторической науки, историки используют технику позитивистской акрибии, выработанную Школой Хартий, Ланглу а, Сеньо босом и их последователями, для изучения тех проблем, которые позитивистской науке представляются несуществующими. Именно то, что прежде отбрасывалось как недостоверное и навеянное «суевериями», подвергается акрибическому анализу П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина. Картины мира средневекового человека, мифологизированные и символические интерпретации мира становятся предметом тщательного анализа, основанного на позитивистских техниках. Стоит добавить, что И. Гревс на разыскания молодого поколения историков смотрел с изумлением, полагая предложенные подходы чем-то по меньшей мере странным.
Для изучения методологических позиций П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина необходимо не упускать из виду значимость для обоих мыслителей философских построений А. Бергсона, неокантианское понимание природы исторического знания, а также общую установку на выяснение действительной роли человеческого усилия в истории (вопреки популярным на тот момент теоретическим направлениям, ориентирующимся на утверждение первостепенности надличностных структур – классов, наций и т. п.). Для обоих мыслителей актуально преодоление политической и героической истории XIX в., оппозиция к распространяющейся марксистской аргументации, а также общее неприятие просвещенческой идеи Прогресса. Для обоих историков одним из центральных понятий становится понятие индивидуальности.
Позитивистская акрибия, бергсонианство, неокантианство, оппозиция Прогрессу и любому теоретическому построению, рисующему историю надличностных структур – вот те теоретические установки, которые роднят П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина. Позитивизм присутствует здесь как техника, поиск же объектов изучения осуществляется с помощью философских установок. Оба историка совершили революционный прорыв к феномену «среднего человека» средних веков, описав его каждый собственным способом, но пройдя достаточно схожий исследовательский путь. Оба историка пришли к выводу о значимости изучения не только «исторической правды», но того способа интерпретации мира, который формируется в ту или иную эпоху. Внерациональность и способность к фантазированию принимается ими не как досадное недоразумение, которое необходимо выявить и исключить из исследования в качестве проявления необъективности. Это фундаментальное свойство человека – трактовать мир внерационально. И понять отдаленную от нас эпоху мы сможем, только войдя в систему представлений, которую разделяет подавляющее большинство ее (эпохи) представителей. Именно в этой оптике формируется интерес П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина к проблеме «среднего человека» эпохи – один из наиболее интересных узлов в теоретическом наследии обоих историков.
«Средний человек» эпохи – это носитель рационально-внерациональной системы представлений, которая формирует его проект жизни, заставляет поступать тем или иным образом. Оба историка исходят из представления, что идеи гениев не воспринимаются большинством их современников, сознание обычного человека эпохи трансформирует новации неким иррациональным способом, являя миру далекие от «оригинала» конструкты. При этом П.М. Бицилли и Л.П. Карсавин подошли к решению проблемы «среднего человека» с принципиально разных позиций.
Очертив для себя принципиально новый объект исследования, историк обязан ответить себе на вопрос – как возможен его объективный анализ? Именно исходя из понимания принципиальной отличности картины мира человека иной исторической эпохи, П.М. Бицилли и Л.П. Карсавин делают вывод о значимости исследования этих картин мира. Но если она принципиально отлична, как мы можем быть уверены, что наши выводы вообще имеют смысл и не являются плодом нашего воображения? Это выводит теоретиков на наиболее значимый и философски нагруженный вопрос – вопрос о природе исторического знания. Как возможно знание о прошлом?
В поиске ответа на этот вопрос можно пойти двумя путями.
Первый путь предполагает опору на убежденность в общей и неизменной природе человека. Человек иной эпохи мыслит иначе, но это не субстанциальные, а акцидентальные различия. Поэтому, применяя наработанные техники анализа источников, отделяя акциденции от субстанций, мы можем проникнуть во внутренний мир другого человека, даже если нас отделяет несколько столетий. Этим путем идет Л.П. Карсавин.
Второй путь предполагает убежденность в том, что исторические эпохи принципиально отличны друг от друга. Все попытки «вчувствования» и всякого рода интуитивного познания (через единую человеческую природу) внутреннего мира человека другой эпохи обречены на провал. Суть исторического знания – в фиксации невозможности предсказать ход истории, сосредоточенности на неожиданных поворотах истории. Это своего рода феноменологический путь исторического познания. Этим путем идёт П.М. Бицилли.
Видение природы исторического знания неотделимо от понимания природы бытия человека в истории. Выясняя способ интерпретации П.М. Бицилли и Л.П. Карсавиным вопроса о бытии человека в истории, мы обнаруживаем истоки различия их философско-исторических позиций и выясняем предельные основания их методологических установок.
Философско-историческая позиция Л.П. Карсавина отражена в таких работах, как «Философия истории», изданная в 1923 г. В Берлине [6], и «О времени», написанная незадолго до ареста и опубликованная только в 2002 году [5]. Анализ этого же текста под названием «К метафизике всевременности» можно видеть в издании С. Хоружего [7]. Центральной идеей философии истории для Л.П. Карсавина становится идея индивидуальности как оппозиции телеологической идее Прогресса. Для мыслителя важно показать, что смысл истории свершается не «в конце времен», а в каждый конкретный момент времени. К просвещенческой схеме Прогресса в начале XX века предъявляются претензии морального порядка – многие поколения людей в этой схеме оказываются всего лишь «строительным материалом» для будущего царства смысла. Карсавин опровергает телеологию, придавая смысл каждому конкретному мигу истории. Решение проблемы теоретик находит в разработке модели взаимоотношений Личности и Абсолюта.
Индивидуальность оказывается в центре внимания Карсавина как в исторических, так и в философских работах. Когда мы ищем место и роль индивидуальности в историческом процессе, обосновать центральную роль индивидуальности достаточно сложно. Как избежать определения индивидуальности как чего-то второстепенного? Перед лицом Абсолюта индивидуальность неизбежно оказывается тенью и отражением. Как доказать, что индивид есть не только орудие Абсолютного Духа, но самостоятельная творческая сущность?
Выстроенная Карсавиным модель перекликается с неоплатоническими построениями. На показательные аналогии между карсавинской философией истории и неоплатоническими схемами исторического времени внимание автора этих строк обратил А. А. Каменских [4]. Здесь мы позволим себе обозначить общее направление мысли философа, позволяющее выяснить суть его понимания природы исторического знания. Карсавин изображает не стрелу времени, а окружность с предельно большим радиусом. Каждая точка этой окружности соотносится напрямую с центром. Таким образом, через связь с Абсолютом любой момент истории сакрален. С соседней точкой данная точка соотносится также не непосредственно, но через Абсолют. Причинно-следственные связи в истории оказываются проблематичными – характер взаимодействия между различными моментами истории не зависит от того, насколько далеко они отстоят друг от друга, ведь связь между ними проходит через центр, то есть расстояние между любыми двумя моментами истории оказывается одинаковым (признавая сложность концепции Л.П. Карсавина, мы здесь намеренно акцентируем те моменты, которые позволяют наиболее выпукло рассмотреть различие позиций двух рассматриваемых исследователей).
А. А. Каменских анализирует моменты пересечений теории Л.П. Карсавина с неоплатоническими построениями [4]. Позволю себе здесь просто пересказать основные моменты этих пересечений, необходимые для раскрытия нашей темы – зависимости методологических установок историка от его философско-исторической позиции. Достаточно четкие аналогии карсавинским схемам прослеживаются в текстах Ямвлиха о соотнесенности режимов темпоральности. Время движется из будущего в прошлое через точку настоящего, как движется веревка через блок. В точке настоящего смыкаются ноуменальное и феноменальное время. У Прокла находим используемую Л.П. Карсавиным метафору окружности. Дамаский продолжает античную традицию описания времени как дискретного, не сплошного, однако дополняет ее учением о временных квантах как элементарных, содержательно наполненных единицах временной деятельности. Это принципиально важно для Л.П. Карсавина – время не только складывается в единую линию, где каждый следующий момент является последствием предыдущего. Каждый момент существует и отдельно от других, и связан напрямую с центром временной окружности, в которой находится Абсолют.
Анализ текстов Л.П. Карсавина и неоплатоников заставляет А.А. Каменских [4] выделить особую формы темпоральной топологии, которая обнаруживается не только в трудах названых мыслителей, но и, скажем, ренессансных неоплатоников. Внимание Л.П. Карсавина к наследию Джордано Бруно даёт возможность предположить, что русский мыслитель воспринял эту традицию именно у Джордано Бруно или Николая Кузанского. Для наших целей выяснение источника мысли Л.П. Карсавина не принципиально. В данном случае обращение к содержанию неоплатонических теорий времени обусловлено желанием предельно ясно проиллюстрировать особенности видения Л.П. Карсавина.
Значимость и самоценность каждого момента истории объясняется здесь дискретностью времени, отсутствием причинно-следственной прямолинейности, а также воплощенностью в каждом моменте истории того смысла, который исходит из Центра. Переводя это на язык методологии исторического исследования, мы получаем следующий ответ на вопрос о возможности проникнуть во внутренний мир человека иной эпохи: благодаря наличию связанности каждого момента истории с центром и связанности каждого момента истории с другими моментами через центр мы способны понять внутренний мир иного человека – в каждом уникальном моменте истории светится отблеск единого смысла. Анализируя теорию Л.П. Карсавина в целом, не только его исторические работы, мы обнаруживаем в экзистенциальном жесте мыслителя готовность максимально отказаться от себя ради высшего предназначения, максимально утвердить уникальность своего существования через очищение путей для света этого единого смысла.
Обратимся теперь к теоретическому наследию П.М. Бицилли с целью выяснения его философско-исторических установок. Основным трудом, в котором мы можем вычленить философско-историческую позицию историка, оказываются «Очерки теории исторической науки», изданные в 1925 году в Праге [1]. В 2012 г. работа была переиздана в петербургском издательстве Axioma. Отталкиваясь от выводов этой работы, мы оказываемся способны вычленить философско-исторические выводы других текстов П.М. Бицилли.
Согласно выводам П.М. Бицилли, историческое знание является плодом аналитической активности теоретика, которая не имеет никакого отношения к любой разновидности «эмпатии», вчувствования и т. п. «Очерки теории исторической науки» демонстрируют уверенность автора в фундаментальной отличности прошлого от настоящего – условием профессионального исторического исследования П.М. Бицилли видит очищение мысли исследователя от представлений об общности человеческой природы и телеологических установок в понимании истории. «Очерки теории исторической науки» проникнуты мыслью о том, что историческое сознание зарождается в момент осознания непреодолимой отличности прошлого, а историческое исследование – в момент признания невозможности сделать вывод о поведении человека прошлого на основе самоанализа. Историку знание о прошлом даётся в виде хаотического нагромождения фактов, которые он призван упорядочить в ходе исследования. Характер исследования определяет отбор источников исследования, а также требует профессионального акрибическош подхода, исключающего субъективизм и включение установок, не вытекающих напрямую из источника.
Для П.М. Бицилли любой вариант телеологической аргументации оказывается однозначным признаком непрофессионализма. Истолкование данных источников с опорой на представление о «должном» ходе истории для П.М. Бицилли абсолютно неприемлемо. Именно включение телеологических схем в исторические сочинения оказывается для автора «Очерков…» источником его уничтожающей критики в адрес философии истории. Историк отторгает не философию истории в целом, но «надчеловеческую» телеологическую теорию как Просвещенческого, так и марксистского образца. П.М. Бицилли уверен, что телеологическая философия истории исчерпала свой потенциал.
Описывать историю, используя категорию законов (подобных законам природы), невозможно. История – не регулярный процесс, это трагедия. Жесткая каузальность истории иллюзорна. Всё имеет свою причину, но невозможно доказать, что именно это следствие порождено этой и только этой причиной. Рассматривая причины рождения Ренессанса, П.М. Бицилли замечает, что в предшествующих Ренессансу событиях нет ничего, что доказывало бы необходимость появления именно таких, а не каких-то иных культурных форм. В появлении нового в истории неизбежно сохраняется некая тайна, раскрывающая для нас творческий характер исторической деятельности и свободу акторов исторического процесса. Это становится очевидно, когда мы делаем предметом своего исследования неожиданные повороты и появление принципиально нового в истории. Уверенность в необходимости постичь регулярности исторического процесса и законы истории закрывает от историка возможность такого видения – эта уверенность заставит его отбросить выбивающееся из регулярности (а именно это является наиболее значимым), и услужливо предоставит материал для обобщения.
Зафиксируем момент пересечения теоретических позиций Л.П. Карсавина и П.М. Бицилли. Оба мыслителя настаивают на необходимости отказа от прямолинейности причинно-следственных интерпретаций хода истории, настаивают на уникальности каждого исторического момента и невозможности понять смысл события прошлого, исходя из собственной позиции в истории, отказывают в историческом профессионализме теоретикам, использующим телеологические представления в качестве аргументов, скептически относятся к идее Прогресса, фиксируют внимание на «квантах» времени в противовес преставлениям о историческом времени как «реке». Далее начинаются различия в теоретических позициях, обусловившие острую полемику о природе исторического знания, зафиксированную, в частности, на страницах «Очерков теории исторической науки».
Если карсавинская теоретическая позиция представляется особенно выпуклой в сопоставлении с неоплатоническими теориями различных эпох, то установки П.М. Бицилли продуктивно очерчивать в контексте значимых направлений философии истории второй половины XX века и начала нынешнего столетия. Конструктивистская природа исторического знания, описанная в «Очерках…», в XX веке становится мейнстимом в теории истории. «Аналитическая философия истории» Артура Данто, представляющая анализ исторического знания как продукта аналитической активности теоретика, становится необходимым звеном профессионального инструментария современного историка. Появление исследовательского направления, запущенного Рейнгардом Козеллеком, связывает историческое сознание именно с осознанием непреодолимого барьера между настоящим моментом и прошлым. Философия истории второй половины XX века во многом базируется на метафоре прошлого как «чужой страны». Один из предельно значимых текстов этой традиции, принадлежащий перу Дэвида Лауенталя, так и называется «Прошлое – чужая страна». Упоминание ведущих философско-исторических теорий XX века связано здесь не с желанием «осовременить» П.М. Бицилли и показать его актуальность, но призвано более четко очертить для современного читателя направленность мысли автора «Очерков теории исторической науки». Фиксация смысловых пересечений выводов П.М. Бицилли с философией истории XX века даёт возможность обозначить очевидность философско-исторического содержания в работах историка.
Вернемся к философско-историческому спору между П.М. Бицилли и Л.П. Карсавиным, зафиксированному, напомним, в дополнении к «Очеркам теории исторической науки». Дополнение это было написано уже после подготовки основного текста «Очерков…», как реакция на только что вышедшую «Философию истории» Л.П. Карсавина. Несовпадение философско-исторических позиций оказалось столь значимым и категорическим, что П.М. Бицилли решился на присоединение к уже готовому тексту дополнительного очерка о философии истории. Моментом предельного несогласия с Л.П. Карсавиным оказалась для П.М. Бицилли убежденность в трагическом характере исторического процесса. Оба мыслителя отстаивают ценность творчества и индивидуального момента в истории. При этом П.М. Бицилли уверен, что циклическая модель Л.П. Карсавина убивает случайность. Значимость каждой индивидуальной точки на окружности вместе с тем задаёт этой точке это и никакое иное место. Эта точка не может оказаться чем-то иным, нежели она есть. Для П.М. Бицилли суть исторического познания – в обнаружении эксцентричности. В описании Л.П. Карсавина каждый индивидуальный и уникальный момент парадоксальным (и вместе с тем естественным образом) оказывается жестко вписан в это и только это место. Вот этот Гегель может появиться только в этот момент и создать только эту теорию, ибо общая организованность окружности вокруг Абсолюта не допускает эксцентричности. Для П.М. Бицилли же смысл истории именно в эксцентричном. Так, эксцентричен Христос. Он не вписан ни в какие порядки, суть события Христа как раз в невозможности описать равно-удалённость от чего бы то ни было. Хотелось бы в этой связи напомнить теоретические развертки Дж. Агамбена – то, что П.М. Бицилли проговаривает одной фразой, современному читателю становится более понятно при обращении к анализу посланий апостола Павла у Агамбена. История несимметрична и не детерминирована некими законами, подобными природным. И для неё невозможно прочертить некую геометрическую траекторию, как бы ни истолковывался каждый её момент в его отношениях с Абсолютом.
Принимая во внимание близость методологических установок двух историков, неудивительно появление утверждения П.М. Бицилли о том, что Карсавин-историк ненавидит позицию Карсавина-философа. С точки зрения П.М. Бицилли, Л.П. Карсавин элиминирует наиболее продуктивную часть теории А. Бергсона – учение о творческой природе времени. Творчество предполагает случайность. При отрицании случайности философия истории оказывается мертворожденной, убивает историю.
Попытка постичь историю через связь с Абсолютом для П.М. Бицилли – нереализуемая и пустая задача. Мы не можем истолковывать события sub speciae etemitatis, Клио больше этого не позволяет Взаимоотношения с Абсолютом необходимо вывести из сферы теоретических разработок. Наше поведение в качестве исторических существ обусловлено комплексом причин, лежащих в области собственно исторического бытия, обладающего достаточной независимостью от сферы трансцендентного. Согласно мысли П.М. Бицилли, для выяснения природы исторического бытия необходимо воздержаться от поиска взаимосвязи с трансцендентным, дистиллировать собственно «посюсторонние» механизмы развития человеческого общества.
Способ проникновения во внутренний мир человека иной исторической эпохи П.М. Бицилли разрабатывает, основываясь на идее особого рода творческой интуиции. Это, по сути, феноменологическое исследование, предполагающее тщательный анализ конкретных индивидуальных проявлений изучаемого объекта в их соотношении с такими же индивидуальными проявлениями его современников. В процессе изучения исторических источников нам важны способы аргументации, пояснения, значимо обнаружение деталей, выбивающихся из «канона» (на этом основано бициллиево исследование хроники Салимбене [2] и оформление теории «среднего человека»). Выяснение подобных деталей позволяет нам выйти за пределы наших предпониманий и изначальных предположений, освободиться от власти гипостазированных понятий и зафиксироваться на индивидуальной творческой активности человека. Для П.М. Бицилли значимо погружение именно в изучение «среднего» человека, не гения, иногда менее образованного и рафинированного, чем его современники. Это позволяет не принять правила игры за действительность.
В чем же суть того особого варианта творческой интуиции, который описывает П.М. Бицилли? Тщательный анализ феноменологических проявлений активности человека другой эпохи создаёт условия для возможности «вставить себя» в ситуацию другого человека. Мысль П.М. Бицилли здесь очень близка описанию особой формы исторического познания, которая находит своё окончательное выражение в теории «возвышенного исторического опыта» Ф.Р. Анкерсмита. Когда Анкерсмит ссылается на описанный И. Хейзинга опыт «заглядывания» в прошлое, как через некий просвет в облаках, мы видим ход мысли, практически аналогичный бициллиевому.
Творчество П.М. Бицилли и Л.П. Карсавина оказывается предельно продуктивным материалом для анализа проблемы зависимости методологии исторического исследования от философско-исторических установок исследователя.
Литература
1. Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. Прага: Пламя, 1925. 339 с.
2. Бицилли П.М. Салимбене: Очерки итальянской жизни XIII в. Одесса, 1916.
3. Делчев К. Мирогледът на Бицили // Петър Бицили. Малки творби. София: Университетско издателство «Св. Климент Орхидски», 2003. С. 33–35.
4. Каменских А.А. Топология темпральности в позднем платонизме: Ямвлих, Прокл, Дамаский // Эсхатос-ІІ: философия истории в контексте идеи предела. Одесса, 2012. С. 41–56.
5. Карсавин Л.П. О времени // Архив Л.П. Карсавина. Вып. I: Семейная корреспонденция. Неопубликованные труды, составление, предисловие / Комментарий П.И. Ивинского. Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.
6. Карсавин Л.П. Философия истории. М.: АСТ, 2007. 510 с.
7. Хоружий С. Карсавин и время [Электронный ресурс. Режим доступа: %3A%2F%2Fsynergiaisa.ru%2Flib%2Fdownload%2Flib%2F%2B063_Horuzhy_Karsavin.doc&text=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84 %-D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&noconv=1&sign=8781708e5c191137d0dae253fc571257&keyno=0.]
Профессор Николай Оттокар: русская академическая традиция и историческая наука в Италии Михаил Талалай
Николай Петрович Оттокар (1884–1957)[68] сам отточил лаконичную формулу своего земного пути – «русский по происхождению, флорентиец по выбору» («russo di origine / fiorentino di elezione»). Такова эпитафия, высеченная на его надгробии на кладбище Аллори во Флоренции [12, 534–535], и есть все основания предполагать, что ее составил сам историк.
Путь воистину удивительный по виртуозности воплощения – ведь Флоренцию, в ее физическом и даже историко-культурном измерении, Оттокар выбрал еще в начале XX века, в «Прекрасную эпоху» до Первой мировой и Гражданской войн.
Его преемник по кафедре истории во Флорентийском университете, профессор Эрнесто Сестан, дал, не без гиперболизации, свою метафору этого пути: «пересаженный в Италию степной цветок» [21, 345]. Удалась ли пересадка?
Размышляя над этим, следует все-таки подвергнуть сомнению эпитет степного цветка. Успешному врастанию Отто кара в итальянскую почву способствовал именно его несомненный европеизм – и по своему петербургскому формированию, в т. ч. академическому, и по вере (кальвинизм), и по богемо-немецкой фамилии, и даже по своему психологическому, четко-рациональному складу.
Н.П. Анциферов еще до окончательной «пересадки» в Италию Оттокара, дает такой, весьма западнический, его портрет (1912 года):
На вокзале нас встретил Оттокар. Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Гревса. Он был одет «с иголочки». Великолепная панама, серый костюм со всеми складочками (словно его только что утюжили заботливые руки), галстук бабочкой, сверкающие туфли – могли заменять зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки (помнится, сиреневого). Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы (зубы слегка выдавались) и глубоко сидевшие, яркие, блестящие глаза. «Какой же он чужой!» – подумал я [1, 74–75].
В последующих анциферовских рассказах об Оттокаре он предстает неким Штольцем, который своей немецкой рассудочностью бичует коллективного Обломова – весь «русский караван» Гревса. Лунатизм, мечтательность, хождение пешком по тосканским городам и весям – эти и прочие свойства учеников Гревса подверглись его жесткой публичной критике (при этом мемуарист отдает дань высокому профессионализму историка).
В те предвоенные годы Оттокар работает в архивах и библиотеках Флоренции, собирая материалы для своей диссертации по ее истории эпохи приората[69]. Тогда же он устраивает свою личную жизнь, еще раз обозначая «западный вектор» выбора: его супругой становится София-Антуанетта Бергман, американка норвежского происхождения. Венчание совершается в немецкой лютеранской церкви на набережной Арно, близ Понте Веккио, 18 мая 1914 года, за пару месяцев до конца «Прекрасной эпохи».
О невзгодах военного и революционного времени и о неожиданном повороте в судьбе молодого историка, оказавшегося в Перми в разгар Первой мировой войны, достаточно известно[70]. Именно этот эпизод мог бы закончиться «пересадкой цветка» – цветка европейского, в уральские «степи». Однако Оттокар был последователен: Флоренцию он выбрал еще студентом Петербургского университета, и, будучи на Урале, продолжает стремиться в «свою Флоренцию» (по выражению В.В. Вейдле[71]). Как только закончилась война, в 1921 году он добивается через Луначарского официальной командировки в Италию, убежденный, что едет туда – по формуле Вяч. Иванова при сходных обстоятельствах, «жить и умереть», что означало не отъезд ради смерти, а ради творческой жизни вплоть до завершающего конца[72]. Что и свершилось.
Ему явно благоприятствовала судьба: даже баул с архивными материалами, который историк оставил в Италии в 1914 году, фантастическим образом дождался хозяина в 1921 году.
Отто кар издает – уже по-итальянски – важнейшую научную книгу по истории Флоренции («II Сопите di Firenze alia fine del Dugento», 1926 [15]) и занимает кафедру истории в ее университете. К концу жизни он окончательно «довоплощает» свое флорентийство: женится, после смерти первой супруги, на флорентийке и принимает крещение в лоне Римско-Католической Церкви. Его крестный отец – мэр Флоренции, Джорджо Да Пира, широко известный общественный и религиозный деятель.
…Мой личный интерес к судьбе Оттокара возник около тридцати лет тому назад, когда я собирался в свою первую поездку в Италию, сотрудником Советского Фонда культуры, в 1988 году. Поездки на Запад тогда были еще относительно редки и молодой петербургский историк, Светлана Румянцева, близкая к инициативам Фонда культуры, попросила: «Узнай во Флоренции что-нибудь об Оттокаре, фамилию можно запомнить по чешскому королю». Кое-что я узнал, но самой Светлане это, увы, не пригодилось: она безвременно скончалась. Работу Светланы Румянцевой продолжил ее муж, историк Александр Клементьев, и подросшая дочь Светланы, Вера.
Было найдено мало. Поиск проходил следующим, весьма простым образом: в толстых, еще тогда печатных, телефонных книгах была обнаружена фамилия Ottokar, единственная не только на Флоренцию, но и на всю Италию, с соответственным номером телефона Лоренцо, сына историка, который формализовал свое уменьшительное имя, став Энцо Отто-каром. Во время моего визита он вынес всё сохранившееся от отца – это оказалось парой фотографий и одним документом – письмом из Академии Наук СССР. Оно, кстати, свидетельствовало, что Оттокар, согласно позднейшей терминологии, стал «невозвращенцем», а до середины 1920-х годов числился советским гражданином[73] (также, как и, к примеру, Вячеслав Иванов, регулярно ходивший в 1920-е годы в советское посольство в Риме для возобновления паспорта). Этот документ и фотографии я позднее передал моей научной руководительнице, уже покойной, Нелли Павловне Комоловой: как историк-игальянист, она также не могла пройти мимо блистательного Оттокара.
Мое личное погружение в итальянскую действительность способствовало укоренению интереса к Оттокару. Получалось, что и моя траектория русского историка вторила его линии, понятно, ни в коей мере не сопоставляя результаты и прочее: тот же «выбор» Флоренции (и шире Италии), но при других исторических обстоятельствах.
Больше всего об Оттокаре мне поведала русская флорентийка Нина Адриановна Харкевич, дружившая с ученым. Она даже подарила мне его книгу о Флоренции [17], с дарственной надписью автора; эту книгу я позднее начал переводить. Нина Адриановна рассказывала о совместных прогулках по городу с Оттокаром Он был блестящим экскурсоводом. Особенно Оттокар любил рассказывать о флорентийских чомпи, в шутку называя их первыми в истории Европы «большевиками» – а, показывая резиденцию их гильдии, уверял, что это самый первый в мире «Дом советов».
С разных сторон доходили до меня другие «оттокароведческие» импульсы. В стенах Публичной библиотеки в Петербурге мне довелось познакомиться с Борисом Соломоновичем Кагановичем, «историком историков», как его полушутливо прозвали коллеги. Не сговариваясь, мы встречались с ним раз в год – в мой традиционный приезд на родину (чего был лишен Оттокар), в Рукописном отделе Публички. (Замечу в скобках, что и Каганович сделал свой «географически-экзистенциаль-ный» выбор: в отличие от традиционного переезда многих петербургских деятелей отечественной науки и культуры в Москву, он совершил обратный маршрут). Наши краткие беседы вращались преимущественно вокруг Отто кар а, так как в тот момент мой абстрактный интерес к его фигуре стал приобретать зримые формы.
Произошло это после одной конференции в 2002 году в Тоскане, посвященной редкой теме: репрезентации евангельских мест вне Святой Земли. Конференцию организовывал некий незнакомый мне флорентийский историк (профессор Серджо Дженсини [Gensini]) в местечке Сан-Вивальдо, прозванном благодаря его евангельским реминисценциям «Малым Иерусалимом». Я представил там доклад об аналогичном отечественном, с русским размахом, проекте – никоновом Новом Иерусалиме на Истре. Когда же мы познакомились с Дженсини поближе, выяснилось, что он – ученик Оттокар а, и чуть ли не единственный: наши беседы, естественно, сосредоточились на Николае Петровиче. Я уговаривал его написать мемуары, Дженсини обещал подумать и, спустя около года, действительно прислал мне свой текст.
В итоге я принес проект оттокаровского сборника, в который вошли материалы Клементьева, Кагановича и Дженсини, своему старшему коллеге, профессору Флорентийского университета русисту Ренато Ризалита, который обещал узнать обстановку насчет публикации и перевести тексты. Обстановка оказалась благоприятной – в том смысле, что про Отто кар а во Флорентийском университете забыли, и он остался чуть ли не единственным его маститым ученым, который не удостоился сборника или какой иной публикации в свою честь.
Невольно приходилось задумываться, отчего же?
Первой причиной была политика. Оттокар заступил на историческую кафедру после того, как от нее был отстранен профессор Гаэтано Сальвемини – уволенный из университета и высланный из Италии за свои антифашистские убеждения. Оттокар, как и все преподаватели той поры, был вынужден, по эвфемистическому выражению, «взять билет», то есть вступить в фашистскую партию, пусть и сделал это только в 1934 г.[74] После падения Муссолини и триумфального возвращения Сальвемини в университет Оттокар мог восприниматься как «сотрудник режима», хотя остракизму, как это произошло с рядом ангажированных при фашизме, он не подвергся: известно, что и Сальвемини никоим образом не порицал своего преемника. Однако в целом в послевоенной Италии стала доминировать левая, промарксистская идеология, и Оттокар, из «белых русских», воспринимался как представитель реакционного направления.
Второе – эмигрантское происхождение Оттокара. Италия, как ни одна страна в Европе, пронизана капиллярной системой знакомств и родственных связей, и «чужаку» здесь трудно. В славяноведении его опережал Этторе Ло Гатто, пусть часто и дилетантствующий, но местный, «свой» (на его ретивость и оттеснение от проекта «Итальянской энциклопедии» Оттокар жаловался в переписке с Вяч. Ивановым). Кроме того, при режиме Муссолини отношение к русским эмигрантам было подозрительным – весьма вероятно, что и Оттокар, несмотря на полученную кафедру, был под колпаком секретных служб.
Третье – личные свойства. Замкнутый по натуре, Оттокар трудно сходился с людьми, редко принимал посетителей, мало общался с коллегами и студентами. Тяжелую печать на характер ученого наложила трагическая смерть дочери в 1940 году. Замкнутость Оттокара объясняли во Флоренции также его аристократическим происхождением, о котором сообщал и Дженсини. В действительности, он был купеческим сыном, но, вероятно, когда в эмиграции ему приписывали «голубую кровь», он от этого не отпирался – в итоге даже на его могильную плиту попало ошибочное «nobile russo», «русский дворянин». Нелюдимостью, а также резкостью Оттокара часто объясняют практически полное отсутствие учеников и, соответственно, преемников.
В итоге Отто кар, несмотря на внешне успешную академическую карьеру, не оставил после себя своей школы, хотя его исследования не остались забытыми. Может, и сам его метод, вне идеологий и схем, основанный на строгой конкретике и весьма персональный, не располагал к созданию школ и направлений.
Что касается судьбы флорентийского сборника в честь Оттокара, на данный момент единственного, то она сложилась следующим образом. Спустя пару лет после сдачи материала, я получил отпечатанную книгу, где редакторами-со став иге лями значились Ренато Ризалита и неизвестный мне до того профессор Флорентийского университета Лоренцо Пуббличи [16][75]. Статья последнего открывала сборник, пересказывая широко известные сведения о «первой волне» эмиграции, за исключением сведений о самом Отто каре [18]. И статья Ренато Ризалита, хотя в ее названии тоже, как у Пуббличи, фигурировало имя Оттокара, имела к нему очень отдаленное отношение [19][76]. Украсили сборник мемуары Дженсини и переводы двух русских текстов [13; 15].
Такой малоудовлетворительный результат стал стимулом к идее новой книги об историке. Точнее, идеи его собственной новой книги, его возвращения на родину. Представляется важным связать оборванные нити и предоставить русской публике его труды – спустя 100 лет. Вероятно, для более широкого резонанса есть смысл опубликовать его три эссе о городах – Сиене, Флоренции, Венеции, написанных не для профессиональных историков, а для любознательных читателей. В качестве анонса будущего сборника в Приложении даются отрывки из очерка «Сиена», переведенные Светланой Яковлевной Сомовой.
Еще одно Приложение освещает материальные свидетельства пребывания Н.П. Оттокара на пермской земле.
Приложение 1 Сиена: очерк сиенской истории и культуры» («Siena: cenni di storia e di cultura senesi», Firenze: La Nuova Italia, 1944)
Николай Оттокар
Сиена – не только один из немногих итальянских городов, сохранивших свой практически нетронутый средневековый облик, но один из немногих городов Италии, обладающих очевидным готическим характером. Тогда, в Средневековье, истинно готический характер города был внятен людям: это подтверждают и легенды об основании города. Показательно, что эти легенды приписывают и основание города, и его название галлам-сенонам, которые, продвигаясь на юг Италии, якобы построили городок, оставив в нём больных и немощных старцев (лат. senes), неспособных продолжать путь. То же обстоятельство указано в изложении легенды, где речь идет не о галлах-сенонах, а о франках под предводительством Карла Мартелла, однако в таком случае, основанный франками, город «сокращает» свой возраст. И хотя сиенские историки не разделяют ни ту, ни другую версию, а горделиво возводят основание города к римской древности, тем не менее обе легенды убедительно подчёркивают родство между характером и духом города и характером и духом средневековой Франции. <1**.> Действительно, дух Сиены исключительно готический, то есть созвучный духу средневековой Франции. Это дух героический и возвышенный, рыцарский и романтический. Самым красноречивым свидетельством может служить родившийся в начале XIV века невероятный проект увеличить Собор так, чтобы старый храм, который до сих пор является кафедральным собором Сиены, служил притвором фантастически огромной новой церкви, увы, не завершённой. Архитектурный облик Сиены чисто готический. Ни в одном итальянском городе нет такого обилия удивительных готических особняков – только в Сиене. Но и романские палаццо этого города выглядят более готическими, нежели романскими (например, дворец Толомеи на пьяццетте Сан Кристофоро[77]). Готические церкви Сиены остро готические, в большей степени, чем так называемые готические церкви Флоренции, где имело место снятие или смягчение вертикального движения ради придания большего значения весомости, устойчивости и массивности. В сиенских церквях готическая устремлённость вверх получает свободный размах. То же самое можно сказать о красочности или игре цвета, что великолепно и непревзойденным образом достигнуто в вибрирующей многокрасочности интерьера Дуомо. В иных случаях ощущению живописности способствуют сами особенности конструкции, как это наблюдается в закругленных линиях фасада великолепного дворца Сарачини[78]. Да и вообще следует признать, что дух живописности есть особая черта сиенской архитектуры. В Сиене всё выглядит устремлённым, вибрирующим, исполненным движения, красочным. Достаточно сравнить знаменитую сиенскую башню Дель Манджа, такую утончённую, с крепкой массивной башней флорентийского Палаццо Веккьо.
Но более всего именно в сиенской живописи проявляется удивительный готический дух нашего города, подчеркнуто линейный, музыкальный и живописный. Оставим в стороне провозвестников утончённой сиенской живописи и перейдём сразу к величайшим её вершинам: Дуччо ди Буонинсенья, братья Лоренцетти и Симоне Мартини. Мы сразу проникаемся изящным вкусом линии и цвета, что стало характерным для сиенской живописи на все три века его процветания. Линии сиенских художников как будто звучат, а в сочетании с цветом составляет тонкую музыкальную трель Наряду с этими главными качествами сиенской живописи она обильно снабжена по воле художников этого города деталями тонкого повествования, что никогда не доходит до разглагольствования, а напротив, ограничено психологическим заданием. В этом чувствуется некое единство, доминирование психологического акцента, так что живописное изображение никогда не впадает в повествовательное многословие. В драматических сценах у Дуччо, а более всего – у Лоренцетти, поражает удивительная выразительность чувства. <…> Есть и ещё одна черта сиенской живописи, которая придает ей некий северный характер. Мы имеем в виду увлечение сиенского искусства пейзажем и натуралистическими деталями. Пейзажи в Картинной галерее Сиены, несомненно созданные рукой сиенского художника и приписываемые Амброджо Лоренцетти, а также весь задний план фрески Доброго Правления самого Амброджо Лоренцетти в Палаццо Пубблико выражают отношение к пейзажу, совершенно неизвестное для Италии того времени. Ничего подобного мы не видим во Флоренции, за исключением работ, созданных целым веком позднее доном Лоренцо Монако. У некоторых сиенских художников первой половины
XV века, более всего у Джованни ди Паоло, проявилась определённая манера, частью повествовательная, частью сказочная, которая увлекает художников прочь от основного течения итальянского искусства, приближая их в этом отношении к северному миру. Припомним выразительность, почти карикатурную, некоторых фигур Джованни ди Паоло, и вообще всю натуралистическую и сказочную атмосферу, в которой творит этот художник.
Однако все подобные тенденции суть лишь одна сторона сиенской живописи и, проявляясь у некоторых других художников Кватроченто (Веккьетта, Сассетта) и даже Чинквеченто (Доменико Беккафуми), они не могут считаться главной особенностью искусства Сиены. Неизменный доминирующий характер сиенской живописи заключается в музыкальности линии и мягкости цвета, благодаря чему отличительные свойства искусства Дуччо и Симоне сохраняются в течение последующих двух веков, создавая удивительную традиционность готического сиенского вкуса, не имеющего аналогов ни в одной другой части Италии. Достаточно назвать для Кватроченто Сано ди Пьетро, Маттео ди Джованни и, пре аде всего, Нероччо ди Бартоломео, не упоминая менее известных, а для Чинквеченто указать на великую фигуру Доменико Беккафуми, который, впрочем, собрал воедино все разнообразные традиции сиенского искусства: не только музыкальную линеарность и чувственную выразительность, но и натурализм. Поэтому его пейзажи на заднем плане или некоторые интерьеры, а также особая игра света и тени предшествуют не только Корреджо и Бароччи, но даже самому Рембрандту.
По преимуществу готической является и сиенская скульптура Кватроченто. Оставим в стороне великого Веккьетту, который, обильно черпая из сиенской традиции, был подвержен различным влияниям извне, особенно со стороны флорентийцев. Он склонялся наравне с великим мастером Франческо ди Джорджо к чисто сиенскому натурализму, однако не разделял полностью традиционный вкус сиенцев, поэтому он выпадает из числа последователей школы родного города и включается в более широкую панораму итальянского искусства своего времени. Но мы вспоминаем крупных скульпторов первой половины Кватроченто Антонио Федеричи и Якопо делла Кверча. Это мастера чисто сиенского готического вкуса. Волнующиеся линии Антонио Федеричи и выразительность его пластических масс характерны для сиенской готики. Что касается великого Якопо делла Кверча, то некоторые критики и историки искусств несправедливо считали его первым скульптором Возрождения не только Сиены, но и всей Италии, даже предшественником Микеланджело Буонарроти. В действительности, величайший мастер увлечен чисто готическими традициями, что выражается как в удлиненных фигурах, так и в патетике изображаемых им сцен. Что касается близости между Кверча и Микеланджело, то некое родство существует, но Кверча является предвозвестником только готических черт великого флорентийца. Хотя и этот аспект немаловажен, если учитывать многоликость и сложность личности Буонарроти, стоявшего как раз между классическим Ренессансом и устремлением к подвижному духу барокко, или «неоготики», столь близкой душе сиенца. Почти все итальянские города, среди них и Сиена, гордятся своим римским происхождением. Известно, что в гербе Сиены изображается волчица, вскармливающая молоком двух близнецов. Этот сюжет повторяется в капителях многочисленных колонн, стоящих по площадям города. Согласно легенде, сыновья Рема, Сенио и Аскио, во избежание гибели от руки Ромула, покинули Рим, прихватив сокровищницу волчицы из храма Аполлона, и на двух конях, белого и черного цвета, которых им послал жрец, достигли места, где будет построена Сиена. На берегу Трессы они возвели мощный замок для защиты от Ромула. Ромул послал против них воевод Монтонио и Камелио. Аскио был ранен, но Камелио вынужден был сдаться, заключил мир и решил остаться со своими воинами в замке Сенио. От Камелио произошло название Камоллиа. Во время жертвоприношения от жертвенника Дианы повалил белый дым, а от жертвенника Аполлона пошёл чёрный-пречёрный дым. Эти два цвета, повторяющие цвет коней, на которых братья бежали из Рима, создают контраст на изображении «бальцаньг», сохранившейся до наших дней и служащей гербом сиенского муниципалитета. Таким образом изложенная нами легенда поясняет многое, что известно путешественникам и поклонникам Сиены: и герб с волчицей, и вывеску бальцану, и топоним Порта Камоллиа. <…>
По-видимому, Сиена несколько позднее других городов приняла христианство. В этом древнем этруском городе, с его бесцветным прозябанием, после утраты политической независимости привязанность к вере пращуров оставалась последней данью памяти о великом и славном прошлом Этрурии. К началу IV века новой эры, а точнее к периоду преследований христиан со стороны Диоклетиана, относятся первые известия об обращении сиенцев в новую веру. Первым здешним легендарным мучеником стал выходец из Рима. Знатный юноша по имени Ансан из семьи Аниция принял христианскую веру втайне от родителей, но мужественно заявлял об этом перед лицом императоров Диоклетиана и Максимилиана. Ни угрозы, ни уговоры некоторых родственников, также принявших христианство, не могли поколебать его веры. Покинув Рим, он добрался до Баньореджо, а оттуда, получив небесное знамение, отправился в Сиену, где его вдохновенные речи увлекали сиенцев. Они покидали языческие храмы, низвергали идолов и обращались в христианскую веру. По приказу проконсула, управлявшего колонией, Ансан был брошен в чан с кипящим маслом, но вышел из него невредимым.
Тогда его изгнали из города, секли розгами и затем обезглавили в местечке под названием Дофана. Культ этого мученика и главного святого быстро утвердился в городе, а в окрестностях Кастельвеккьо и в наши дни показывают узилище, в котором, согласно легенде, сидел святой Ансан, крестивший новых христиан, выглядывая из окна.
А в местечке Валле Пьятта одна из отдаленных улиц сохранила название Ров святого Ансана (ит. Фоссо Сапт-Ансано), ибо именно здесь якобы свершилось чудо, записанное много позже, о дивном оливковом древе, проросшем у ворот Порта Салариа из розги, брошенной бичевателями. «И было это древо больше всех других олив и давало множество плодов, ибо было святым»…
Перевод С.Я. Сомовой
Приложение 2 Книжные дарения Н.П. Оттокара Пермскому университету[79]
В 1917 г. Николай Петрович Отто кар пожертвовал библиотеке Пермского университета девять книг, в фонде библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета сохранилось пять из них:
1. Кареев Н. Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора 2 года. Пг., 1915.
2. Его же. Из курса методики преподавания истории в средней школе. Б.м., б.г.
3. Его же. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года. Варшава, 1881.
4. Дэвис Г. Средневековая Европа. СПб., 1914 (списана).
5. Князев Г. О Чехове. СПб., 1911 (списана).
6. Эберт Б.П. Сравнительная оценка диагностического значения модификаций реакции Was senium'а и других диагностических методов. СПб., 1914 (передана Пермскому ун-ту).
7. Оттокар Н. Культурные центры старой Италии. I. Венеция. Оттиск из журн. «Экскурсионный вестник». Кн. 4. 1915.
8. Оттокар Н. Цехи и коммуны во Флоренции XIII и XIV веков. Оттиск (списана).
9. Соколов Ф.Ф. Лекции по истории Греции и Рима. СПб., б.г. Литография.
В фонде библиотеки выявлено три книги с дарственными надписями, адресованными Н.П. Оттокару:
1. Карсавин Л.П. Из истории духовной культуры падающей римской империи. (Политические взгляды Сидония Аполлинария). СПб., 1908. Извлечено из Журнала Министерства Народного Просвещения, за 1908 г. Записи: «Дорогому Николаю Петровичу Оттокару на добрую память от автора. 1908. Февраль.» (тит. л.).
2. Бутенко В.А. Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. Т. 1. 1814–182 °CПб., 1913. Записи: «Многоуважаемому Николаю Петровичу Оттокару отъ автора» (тит. л.).
3. Крусман В.Э. На заре английского гуманизма: Английские корреспонденты первых итальянских гуманистов в ближайшей своей обстановке: исследование. Одесса, 1915. Записи: «Николаю Петровичу Оттокару на добрую память отъ автора».
Источник поступления в фонд библиотеки этих изданий не указан.
Литература
1. Анциферов Н.П. Отчизна моей души. Воспоминания о путешествиях в Италию. М.: Старая Басманная, 2016. 202 с.
2. Вейдле В.В. Воспоминания / Публ. И. Дороченкова // Диаспора: новые материалы. Вып. 2. СПб.: Феникс, 2001. С. 24–153.
3. Дубровский И.В. Очерки социальной истории средних веков. М.: Издательский дом «Регнум», 2010. 164 с.
4. Из личного дела профессора Пермского университета Н.П. Оттокара / Предисл., подгот. текста и сост. научного комментария А.И. Клюев // Европа: международ. альманах. Вып. 9. Тюмень: Экспресс, 2010. С. 155–158.
5. Клементьев А.К. Николай Петрович Оттокар. (Путь русского историка: Санкт-Петербург – Пермь – Петроград – Флоренция) // Исторические записки. № 7 (125). М., 2004. С. 323–338.
6. Клементьев А.К., Клементьева В.А. Три университета Николая Петровича Оттокара. Санкт-Петербург – Петроград – Пермь – Флоренция // Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции / под ред. М.Г. Талалая. М: Русский путь, 2006. С. 377–404.
7. Клюев А.И. Из истории одной книги. Н.П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. 2011. № 34. С. 249–270.
8. Клюев А.И. Неизвестный известный медиевист: размышления над страницами книги «Николай Оттокар – историк-медиевист» // Диалог со временем. 2011. Вып. 37. С. 366–375.
9. Клюев А.И. Пермский период жизни Николая Петровича Оттокара // Европа: международ. альманах. Вып. 9. Тюмень: Экспресс, 2010. С. 52–66.
10. Комолова Н.П. Страницы итальянской истории по Н.П. Оттокару // Италия в русской культуре Серебряного века: времена и судьбы. М.: Наука, 2005. С. 396–403.
11. Оттокар Н. Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь: Типография Губернского Замства, 1919. 258 с.
12. Талалай М.Г. Российский некрополь в Италии. М.: Старая Басманная, 2014. 908 с.
13. Gensini S. Nicola Ottokar Fiorentino. Note e ricordi di un ex allievo // Nicola Ottokar storico del Medioevo… P. 65–78.
14. Kaganovič B. Nikolaj Ottokar nel circolo dei medievisti di Pietroburgo // Nicola Ottokar storico del Medioevo… Р. 47–54.
15. Кlement’ev A.K., Klement’eva V.A. Nicolaj Petrovič Ottokar // Nicola Ottokar storico del Medioevo… Р. 25–46.
15. Ottokar N. Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze: Vallecchi, 1926. 289 р.
16. Nicola Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a Firenze / a cura di L. Pubblici e R. Risaliti. Presentazione di G. Cherubini. Firenze: Leo S. Olschki, 2008. 143 р.
17. Ottokar N. Firenze: Cenni di storia e di cultura fiorentine. Firenze: La Nuova Italia, 1940. 94 р.
18. Pubblici L. Nikolaj P. Ottokar zarubežom. Riflessioni a margine dell’emigrazione russa in Europa all’inizio del Novecento // Nicola Ottokar storico del Medioevo…. P. 11–24.
19. Risaliti R. Lev Karsavin e la religiosità popolare: alle origini del pensiero critico del Ottokar // Nicola Ottokar storico del Medioevo… P. 55–64.
20. Sestan E. Nicola Ottokar // Sestan E. Scritti vari. Vol. III (Storiografia dell’Otto e Novecento) / a cura di Giuliano Pinto. Firenze: La Lettere, 1991. P. 345–354.
И.И.Фондаминский и «орден русской интеллигенции» Светлана Панич
Фондаминский мало писал… и другие сотрудники явно превосходили его и умом, и знаниями, и литературным талантом, но если бы не было Фондаминского, то не было бы ни «Нового града», ни всех других бесчисленных эмигрантских общественных и культурных начинаний, возникших его стараниями… и державшихся исключительно его неиссякаемой энергией, его добротой, его верой в человеческое действие.
В.Варшавский [6, 246]Стоявший у истоков «Современных записок» и «Нового града», член РСХД и объединения «Православное дело», основатель литературного объединения «Круг» и «Русского драматического театра» в Париже, один из канонизированных в 2004 году Парижских новомучеников И.И. Фондаминский официально к академической среде не принадлежал и ученым в строгом смысле не был. Историк по образованию, он осознавал себя не столько исследователем исторического процесса, сколько «делателем истории» [8, 154]. Если судить по содержанию оставленных им текстов, его можно бы назвать социальным мыслителем, социально-политическим публицистом, «общественником», по словам Федотова, но совершенно особенным, соединившим в себе самые высокие черты главных действующих лиц европейской культуры XX века – борца, интеллектуала и подвижника. Апологет «целостного миросозерцания» как основы созидательного действия, сам он жил настолько целостно, что его опыт, не вместимый ни одним из устоявшихся, тематически замкнутых типов жизнеописания – будь то житие, рассказ о герое-народнике или биография общественного деятеля, ставит перед необходимостью искать новые формы биографического нарратива на границе между интеллектуальной биографией и агиографией, какие могли бы более адекватно выразить уникальный опыт подвижничества, явленный предыдущим столетием.
Опубликованный О.В. Коростелевым в первом томе редакционной переписки сотрудников «Современных записок» список посвященных Фондаминскому работ, вышедших с конца 1940-х годов XX века по начало 2000-х, насчитывает двадцать позиций [11, 30–31]. В четырех он упоминается в связи с историей эсеровской партии, одна – о парижском масонстве, с каким Фондаминский был недолго связан, одна обзорная энциклопедическая статья, защищенная в 2005 году в Орле диссертация А.Берзиной «Общественно-политическая деятельность И.И.Бунакова-Фондаминского», остальное – тексты мемуарного характера, относящиеся, главным образом, к деятельности Фондаминского в «Современных записках». В числе немногих попыток последовательно представить его духовное движение, определившее жизненный выбор в эмиграции, назовем вышедшие в «Новом журнале» за 1948 г статьи В.Зензинова «Памяти И.И.Фондаминского-Бунакова»[80] [10] и Г.Федотова «Фондаминский в эмиграции»[81] [20]. О задуманном Фондаминским «ордене русской интеллигенции» написано еще меньше. Если не считать воспоминаний В.Варшавского «Незамеченное поколение» и обзорной статьи О.Демидовой «Духовные искания русской эмиграции первой волны как продолжение традиции Серебряного века»[82], об этой идее современники, равно как и более поздние исследователи русской эмиграции говорили, главным образом, вскользь, как о прекрасном, но безосновательном и потому неосуществленном начинании. Последующие рассуждения никоим образом не претендуют на исчерпывающий анализ замысла, призванного собрать разнородные силы русской эмиграции, чтобы «продолжить старое дело и духовно подготовить себя к новому творчеству» [3, 102]; скорее, это первые подступы к реконструкции целостного жизненного свидетельства незаслуженно обойденной исследовательским вниманием одной из самых замечательных фигур русской межвоенной эмиграции[83].
По неизбежности схематичному описанию «сквозного» экзистециального жеста, в котором выразилось это свидетельство, имело бы смысл предпослать два высказывания.
«Илья Фондаминский был праведник…, – писала Тэффи. – Трудно думать, что вот среди нас, в нашей плохой и злой жизни жил человек, которого можно назвать таким именем. Жил нашей жизнью среднего русского интеллигента, не проповедовал, не учил, не юродствовал и был праведником» [19].
“Об Илье Исидоровиче Фондаминском трудно писать, не впадая в агиографический тон, – этими словами открывается статья Г. Федотова «И.И. Фондаминский в эмиграции». – Он действительно был праведником… а умер мучеником», – [20, 317]. Далее, в той же статье Федотов проводит параллель между жизненным свидетельством И.И. Фондаминского и подвигом первых русских святых: «В непротивленчестве своем русский революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником – думал ли он об этом? – первого русского святого, князя Бориса» [20, 328][84]. При том, что в эмиграции авторы этих высказываний пересекались разве что географически и на страницах «Современных записок», но никогда тематически и тем более, идейно, оба называют И.И. Фондаминского «праведником» и употребляют это слово в очевидном для обоих библейском смысле. Анализ всех коннотаций данного понятия в иудео-христианской традиции выходит за рамки данной работы; скажем лишь, праведник в Писании – не только тот, кто соблюдает Закон, любит его, «шепчет», «держит на языке» (как буквально сказано в Пс 1, «слова его день и ночь») и «радуется ему», но являет свойство, именуемое «хесед» – безусловную и бескорыстную милость, не делящую на своих и чужих, или, как определяет его А.И.Шмаина-Великанова, «необъяснимую благорасположенность, сочувствие к чужому, к постороннему, и даже к тому, кто может причинить вред» [21].
К Фондаминскому это относится сполна. В «русско-еврейском Париже» межвоенной поры не было человека, которому он отказал бы в помощи. «Илюша искал чужое страдание, – вспоминала Тэффи. – Он откликался на него спешно, точно боялся опоздать, точно некий голос звал его и торопил и он на ходу отвечал: Я здесь». [19] С другой стороны, он – интеллектуал, автор не законченного из-за ареста сочинения «Пути России», задуманного как исторический обзор идеологии российской государственности и призванного объяснить, как мог случиться катаклизм 1917 года, а также регулярно выходивших в «Современных записках» и с 1931 года – в «Новом граде» многочисленных статей по актуальной социально-политической проблематике[85], постоянный участник разнообразных семинаров, образовательных, социальных и культурных инициатив, человек непрерывного умственного усилия, писавший из нацистского лагеря Компьень своим друзьям Ельчаниновым: «Единственное, чего мне не хватает, это Национальная библиотека. Но все же я много читаю» [17, 91].
Это редкое по цельности сочетание разных личностных «ипостасей», побуждает задаться вопросом: что из многообразных внутренних движений и внешних действий, рождающихся на стыке напряженной интеллектуальной деятельности и бесчисленных «малых дел», из которых И.И. Фондаминский, как писала Тэффи, «строил свою великую башню» [19], можно назвать «сквозным» экзистенциальным жестом, определившим его судьбу? Что в этом жесте подсказало столь разным по жизненным установкам современникам увидеть в нем «жест праведника», совершаемый в ситуации, когда само понятие «правда» становится объектом идеологических манипуляций?
Среди текстов И.И. Фондаминского нет ни одного, хотя бы отдаленно напоминающего бердяевское «Самопознание» или иную исповедальную автобиографию. По воспоминаниям современников, он не любил говорить о себе, и саморефлексии, тем более, овнешненной, явно предпочитал рефлексию социальную и историческую. Поэтому наряду с опосредованно-исповедальным высказыванием, имплицитно содержащимся в его публицистике, источником последующих предположений будут биографические события.
Илья Исидорович Фондаминский родился в 1880 году в состоятельной московской еврейской семье – его отец, купец 1 – й гильдии с 1893 года, был компаньоном основателя одной из главных чаеторговых фирм России Вульфа Высоцкого.[86] При внешнем благополучии история семьи была отмечена трагедией: в 1889 на каторге умер от туберкулеза старший брат Ильи, студент земледельческой академии Матвей Фондаминский, сосланный в Сибирь за участие в народовольческом кружке. Смерть брата стала одним из самых сильных детских потрясений Фондам инского – и одновременно «высоким прецедентом», во многом определившим его последующий жизненный выбор. В последних классах известной либеральными взглядами московской гимназии Креймана он вместе с друзьями, в число которых входила его будущая жена, внучка Высоцкого, Амалия Гавронская, и его будущий соратник по «Современным запискам» Михаил Цетлин, создал «кружок самообразования»[87]. По окончании гимназии, в 1900–1902 году, учился в Берлине и Гейдельберге, где, под влиянием В. Зензинова и Н. Авксентьева, с которыми познакомился в Москве зимой 1899–1900 года, увлекся эсеровскими идеями и вступил в партию эсеров. Весной 1902 года, по дороге из Гейдельберга в Москву, его арестовали, отправили в Петербург и около полутора месяцев продержали в Доме Предварительного Заключения. С первым в жизни арестом Фондаминский, по воспоминаниям современников, связывал второе экзистенциальное потрясение. «Ему казалось, как он говорил, что стены одиночки раздвинулись и духовному сознанию открылась новая и светлая правда, ради которой только и можно жить, – писал Зензинов. – О пережитом он говорил как о полном духовном преображении – для него было ясно, что в основе пережитого было неосознаваемое до сих пор… религиозное начало» [10, 303–304].
Довольно скоро Илья Фондаминский, выступавший под фамилией Бунаков[88], становится известен ораторским даром и решимостью, за что получает прозвища «Лассаль» и «Непобедимый». Его тогдашние умонастроения точнее всего характеризует красноречивый жест – почти все приданое Амалии он передал московским эсерам на покупку оружия. В 1906 году он снова был арестован, на сей раз, в Ревеле, на броненосце «Память Азова», куда добровольно приехал, чтобы поддержать восставших матросов. Ему грозил военно-полевой суд и, вероятней всего, смертная казнь. Фондаминский это понимал, тем не менее, когда друзья предложили устроить его побег, он «категорически, хотя и в ласковых словах» отказался «и просил оставить всякую работу по его освобождению» [10, 310] – поступок, внутренняя закономерность которого полнее всего раскрывается ретроспективно, на фоне аналогичного выбора, сделанного в 1940 году, перед лицом неминуемой гибели. Организатора восстания и его восьмерых участников расстреляли; Фондаминского и еще троих, как и он, приехавших, когда восстание уже началось, перевезли в Петербург, где назначили новый военный суд, стараниями адвокатов оправдавший всех обвиняемых. Почти сразу после суда он уехал в Париж, где вскоре сблизился с полярно противоположными людьми – от Д. Мережковского до Б. Савинкова и группы эсеров, в 1915 году вместе с Г.Плехановым и Н.Авксентьевым начал издавать журнал «Призыв». В апреле 1917 году через Англию вернулся в Россию и едва ли не на второй день по возвращении вошел в Совет крестьянских депутатов, летом 1917 года его назначили комиссаром Временного правительства по делам Черноморского флота. В качестве «флотского депутата» И.И.Фондаминский участвовал в единственном заседании Учредительного собрания, состоявшемся ночью 6 января 1918 года. Однако «по мере «углубления» революции и гражданской войны неудовлетворенность и неуверенность все сильнее охватывали его. Позднее свое состояние он объяснял тем, что у него падала вера в успех революции» [10, 313]. В 1918 году Фондаминский вступает в Союз возрождения, вместе с Марком Вишняком, которого знал с детства,[89] выпускает несколько номеров журнала «Сын Отечества». В начале 1919 года, уже будучи на нелегальном положении, эмигрирует из Одессы на о. Халки, оттуда вскоре перебирается в Париж. В 1920-м году совместно с М. Вишняком, М. Цетлиным и В. Рудневым начинает издавать «Современные записки», которые, по замыслу создателей, должны были объединить под одной крышей представителей разных литературных, художественных и философских направлений так, чтобы нашлось место каждому, а в 1931 году, вместе с Г. Федотовым, Ф. Степуном и Л. Шестовым создает журнал «Новый град». В первом номере, под своим эсеровским псевдонимом Бунаков, он публикует программную статью «Пути освобождения», содержащую обзор истории и обоснование целей Ордена русской интеллигенции: «Надо восстановить… Орден воинов-монахов, пламенно верующих в правду Учения и готовых на жертвы и подвиг для освобождения России. И надо, чтобы новые рыцари, как их отцы и деды, шли в народ – жить его жизнью, страдать его страданиями и, освещая души людей светом Истины, уводить их за собой от власти» [4, 47]. Однако само понятие «Орден русской интеллигенции» появляется в публичных высказываниях Фондаминскош гораздо раньше. В 1928 году, на одном из первых заседаний «Зеленой лампы» он представляет свой замысел в докладе «Русская интеллигенция как духовный Орден»,[90] а в «Путях освобождения» идея приобретает концептуальную оформленность.
Почему именно Орден?
Апеллируя к сознанию людей Серебряного века, Фондаминский пользуется близкой им мифологемой «рыцарь-монах», которая стараниями символистов приобрела в русской поэзии и религиозной мысли очень высокую смысловую нагрузку. Показательно, что понятие «орден» как синоним «братования в жертвенности» – «все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда» [13, 446] – приводит в одном из писем к Блоку Е.Ю. Кузьмина-Караваева, будущая мать Мария (Скобцова).
Все интенции и направленность предшествующей деятельности Фондаминского позволяют предположить, что Орден был ему ближе, чем другие формы социальных или религиозных сообществ, поскольку он основывается на идеях братства и жертвенного служения, точнее, братства в жертвенном служении, связующего людей разных поколений и позволяющего «без внутреннего противоречия» соединить «интеллигентский героизм… с христианским подвижничеством» [6, 245].
Наконец, на третью причину притягательности этого понятия опосредованно указывает Г. Федотов, когда говорит, что Фондаминский терпеливо и мужественно выстраивал «оборону против хаоса» [20, 326]. Как представляется, историк по образованию, он держал в памяти изначальный смысл этого понятия, какой закрепился в культуре возникновения монашеских орденов – ordo как уклад, устав, порядок, или, пользуясь языком Фондаминского, «целостное мироощущение», способное противостоять хаосу и расколотости как общественной, так и внутренней жизни.
Само понятие «Орден русской интеллигенции» в русском религиозно-философском и публицистическом обиходе существовало и прежде. Рамки этой работы не позволяют проследить все его контексты (это самостоятельная и очень интересная работа), приведем лишь два, наиболее показательных. Так, Н. Бердяев в «Русской идее» пишет о том, что во второй половине XIX в. российская левая интеллигенция, окончательно к этому времени сформировавшаяся, «приобрела характер, сходный с монашеским орденом” [2]. В работе «Истоки и смысл русского коммунизма» он развивает это сравнение: “Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп” [1, 17].
В эмигрантской среде это словосочетание воспринималось неоднозначно, если не саркастически, поскольку именно на «интеллигентский орден» самые разные круги возлагали ответственность за большевистский переворот[91]. Фондаминский пытается вернуть понятию положительный смысл.
Историю Ордена он ведет от Радищева, через декабристов, людей «с тонкими, одухотворенными лицами, светящимися, часто грустно-задумчивыми глазами» [4, 37], через народничество к трагедии и одновременно победе Ордена в 1917 году. Исток трагедии, по Фондаминскому, таится в принципиальной ошибке декабристов и народников: при всем искреннем, жертвенном стремлении что-то «дать» народу, они помогали ему «с другого берега», не деля, по существу, его страдание, несводимое к одной лишь бедности и социальной униженности, и поэтому не смогли «увести… души людей из народа» [4, 38]. С установлением «антигеократической», по определению Фондаминского, большевистской власти Орден рассыпался, но в его поражении – исток его победы. Это победа побежденных, точка полного исторического бессилия, но именно в ней, в новых, более свободных, по крайней мере, по сравнению с теми, что складываются в советской России, условиях, он может возродиться и осуществить, наконец, свое призвание.[92]
В чем оно состоит? Главной задачей Ордена И. И. Фондаминский видит просвещение: свои основные силы, пишет он, «Орден должен отдать на мирную работу просвещения народа – увода душ» [4, 42]. В статье 1935 года «Надо ли нам возвращаться в Россию» он уточняет: «Обинтеллигентивание и европеизация русского народа, чтобы культура Ордена стала общенародной культурой» [5, 130]. Но одного только учительства, одной лишь проповеди тех высоких гуманистических идей, которые он объединяет словом «Учение», для этого недостаточно: «Нужно жить с народом его жизнью, страдать его страданиями и, помогая ему в ежедневной борьбе за существование, передать ему свет» [4, 42].
В той же статье Фондаминский описывает «орденское сознание». Его отличает, прежде всего, «целостное мировоззрение», т. е., отсутствие разделений на материальное и духовное, на «религиозное» и «социальное» (воплощением этой целостности были призваны стать «Новый град» и объединение «Круг»). Такое мировоззрение обеспечивает единство внутри Ордена, но не идеологическое, а экзистенциальное, которое Фондаминский описывает как общее «стояние перед истиной», «жажда общего дела» и осознание собственной судьбы как героической, ибо «на передовых позициях нельзя устроить мирное и благоденственное житие» [5, 131]. Орденское сознание не нивелирует личностых различий, но творит особую общность, которую отличает органический аскетизм, не помнящий о своей аскетичности, но обостряющий чуткость к бедам других, самоотвержение и жертвенность, общее дело и сопричастность.
О последнем из названных свойств, определяющем сущность и действия Ордена, стоит сказать подробнее, поскольку именно оно, как представляется, становится тем экзистенциальным жестом, по которому современники узнавали в Илье Фондаминском «праведника».
Из статью в статью Фондаминского проходит мысль о том, что самое главное происходит не на уровне «большой истории», а в душах людей. Вторая исходная посылка: в эпоху невиданных прежде потрясений человеческая жизнь стала так тяжела, что самое главное, что происходит во всех без исключения душах – это страдание. Люди в большевистской России, пишет он, и это «кивок» в сторону той части эмиграции, которая была склонна абсолютизировать тяготы изгнания, страдают не меньше, чем те, кто вынужденно оказался за ее пределами. Пока еще благополучная, но уже зараженная смертельной болезнью фашизма Европа тоже страдает Страдание роднит людей друг с другом, снимает идейные, сословные, культурные барьеры между ними – и оно же взывает к отклику. В нынешней ситуации, когда благополучных нет, а есть только более или менее защищенные, взаимный отклик страдающих их «комму нитарность», пользуясь понятием Н. А.Бердяева, образует качественно новую, по сравнению с прочими формами, и более прочную общность, поскольку вырастает она из реальности общей жизни. А с другой стороны, из сопричастности страданию, всеобщему, но индивидуально проявляющемуся в каждой отдельной судьбе, вырастает сопричастность этой судьбе в целом – и всеобщей судьбе мира. Здесь очевидна еще одна параллель с матерью Марией (Скобцовой), главным мотивирующим принципом которой было «все несчастные – и всех жалко»[93]. Одной лишь благотворительностью такое отношение не исчерпывается; благотворительность возможна «с безопасного расстояния», тогда как сопричастность, на что указывает внутренняя форма слова, предполагает согласие до конца разделить жизнь другого, сделать ее частью собственной жизни.
В каких формах экзистенциального жеста проявлялась эта, по неизбежности схематично описанная, установка?
К концу 1920-х годов русская эмиграция во Франции несколько освоилась в своем новом состоянии и, с одной стороны, могла более глубоко и системно осмыслить новую участь, а с другой, и это явно был признак некоторого социального успокоения, начала более рьяно делиться на многочисленные идейные платформы, кружки, кружки внутри кружков, многие из которых считали своим долгом не подавать руки друг другу. И.И. Фондаминский, словно не замечая этих противостояний, умудрялся бывать в самых разных группах, «ходил к младороссам, к монархистам, к эсерам, в кружок русских дворян и везде чувствовал себя среди друзей» [19]. Как вспоминал Г.П. Федотов, «совершенно неожиданной в кругу русской идеологической интеллигенции была его терпимость к чужим убеждениям, даже самым далеким, самым враждебным… Он шел во все политические и культурные группировки, которые его терпели, и строил собственные» [20, 318], в которые нередко приглашал людей из противоположных и противоборствующих кругов. Предельно ясные мировоззренческие и нравственные оценки, какие давал он людям и событиям, не позволяют заподозрить его в верхоглядстве или идейной всеядности. В отличие от другой, не менее примечательной в своем роде, личности русской эмиграции, П.Е.Ковалевского, который «бегал по русскому Парижу и его пригородам, заглядывал в гости к многочисленным друзьям и знакомым и узнавал от них…, что волновало эмигрантскую общественность» [18, 15], Фондаминский менее всего стремился «собирать новости»; к тому же он был тем цельным человеком, который откликается на каждую просьбу о помощи, но не разменивается на светскую суету. Чем, помимо несомненной любви к общественным действам, объяснялась эта «вездесущесть», отчасти подсказывают его статьи: они обращены не к «узкому кругу», а ко многим сразу, и такой образ адресата позволяет предположить за этой мнимой разбросанностью усилие собирания. То, что объективно не могло быть собрано в одном интеллектуальном пространстве, Фондаминский своим деятельным участием в каждой из групп собирал в себе, в собственной жизни, и тем, хотя бы в границах своего опыта, преодолевал расколотость эмигрантской среды.
Участие распространялось даже на те группы, деятельность которых была ему не очень близка. Это не в последнюю очередь видно в истории возникновения литературного объединения «Круг» (1935), которое основывалось на сопричастности как интенции и организующем принципе. По воспоминаниям современников, искусства, включая поэтическое, не входили в поле его ближайших интересов. «Его можно было встретить на концерте и на художественной выставке, – писал Федотов. – Но эстетическое не нашло места в его миросозерцании» [20, 324]. Тем не менее, узнав о бедственном положении «молодых монпарнасцев», он создает «Круг», чтобы их поддержать – и одновременно сформировать то ядро или «внутренний круг», к которому со временем будут притягиваться творческие силы – не только люди искусства, но педагоги, врачи, люди умственных профессий, священники; из них, по замыслу Фондаминского, должен был образоваться и благодаря им распространиться Орден – сначала в изгнании, а когда придет пора, – и в России. Исключительность этого начинания состояла еще и в том, что оно открывало возможность преодолеть разобщенность и вызванное ею деление на «лагеря» внутри эмиграции. В большинстве литературных, художнических, артистических эмигрантских объединений отношения между их членами определялись не только общностью мировоззренческих и эстетических установок, но также взаимной состязательностью, иногда крайне жесткой, и в ней виделось свидетельство напряженности художественных поисков и насыщенности творческой жизни. «Круг», по замыслу его создателя и жертвователя, должен был держаться на помощи участников объединения друг другу. Фондаминский дал объединению некоторый начальный капитал, однако по установленному основателем правилу, каждая последующая книга могла быть издана только на средства, полученные после продажи предыдущей, что побуждало участников заботиться о представлении книг своих «монпарнасских собратьев», устраивать литературные вечера и балы в пользу друг друга. Сам Фондаминский тоже участвовал в организации таких вечером, причем не только для «своих» начинаний. Например, известно, что он продавал билеты на первый вечер в пользу еще тогда мало кому известного В. Набокова (при том, что ценителем его прозы не был) и еще до начала вечера вручил ему сумму в три тысячи фунтов[94].
Другая важная особенность «Круга» состояла в том, что он объединял не только представителей противоборствующих идейных и эстетических групп, но старшее и младшее поколения эмиграции, между которыми уже в конце 1920-х годов наметилось явное противостояние. По словам одного из наиболее ярких «монпарнасцев» В.Варшавского, не испытывая особого пристрастия к поэзии и прозе молодых «русских парижан», Фондаминский «сердцем чувствовал отверженность монпарнасских «огарочников» и начал приглашать их к себе на собрания» [6, 247], благодаря чему постепенно «начали налаживаться разговоры» [6, 228]. Участие в общем деле и сопричастность – посредством общего дела – судьбам друг друга, если не снимали, то ослабляли противоречие, которое казалось неразрешимым на уровне идейных споров.
Именно сопричастность приводит Илью Фондаминского на улицу Лурмель 77, в основанное матерью Марией (Скобцовой) общежитие, и в объединение «Православное дело». Он приходит туда не только по любви к «разного рода собраниям» [19], но потому, что он нашел здесь наивысшее и самое чистое из всех возможных выражение «орденского духа», к тому же возвращающее орденскую идею в исторически породившую ее церковную среду. Этой идее, по его убеждению, была подчинена вся жизнь в обоих созданных матерью Марией домах – сначала на Виль-де-Сакс, а потом на улице Лурмель: здесь не просто кормили за символическую плату обедами и давали кров бездомным эмигрантам, но предлагали каждому стать участниками общего дела, творящего общую жизнь[95]. Фондаминский сразу включается в жизнь лурмельского дома не только как один из самых щедрых жертвователей и уважаемый гость религиозно-философских встреч, на которые приглашались все без исключения жильцы[96]. Он становится участником повседневного «единодействия», а после оккупации возвращается из относительно безопасного Арканшона, где он проводил лето, в Париж и, несмотря на увещевания друзей и готовый паспорт, отказывается уехать в Америку – ради того, чтобы остаться с матерью Марией и «многими тихими, невидными и безымянными» [19], с ней и с ним связанными.
Наконец, именно сопричастность помогает лучше понять – хотя до конца он вряд ли может быть понят извне – его последний экзистенциальный жест. Как известно, И.И. Фондаминский уже к концу 1920-х годов осознавал и открыто признавал себя христианином. Он часто бывал на богослужениях в православной общине, которую окормлял о. Лев (Жилле), и в церкви при общежитии на улице Лурмель, 77, но крещение не принимал. Большинство знавших его людей считали, что он не хочет «разрывать связи с еврейским народом, с кругом друзей, родных и близких» [20, 321], тем более, когда, после принятия Нюрнбегских законов, народу отказали в существовании. Такой резон, действительно, был – именно по этой причине отказалась принять крещение признававшая себя христианкой супруга Фондаминского. Сам он на расспросы о том, почему он все же не крестится, объяснял, что еще не достоин. Подобно первым христианам, писал Федотов, «он считал, что крещение означает новый перелом в жизни, новый подвиг святости» [20, 321]. Однако, как представляется, «не достоин» в данном случае стоит трактовать не в количественном смысле (как нехватку нужного количества добродетелей), а в экзистенциальном. «Не достоин» – значит, не приобрел еще того опыта, который позволит по-настоящему «сочетаться Христу», т. е., приобщиться кресту Христову. 22 июня 1941 года И.И. Фондаминского, как и многих русских, отказавших зарегистрироваться в нацистском Управлении по делам русской эмиграции, арестовывают и бросают в лагерь Компьень. Вскоре русских арестантов отпускают, Фондаминского как еврея оставляют в Компьене и в начале 1942 года через пересыльный лагерь Драней отправляют в Освенцим. В сентябре 1941 года, в Компьене, он принимает крещение: вопрос о «достойности» разрешен – Христу «сочетает» сопричастность страданию своего народа. Друзья дважды готовили ему побег, но оба раза он решительно отказался. Вскоре после крещения Илья Фондаминский писал матери Марии (это его последнее письмо): «Пусть мои друзья обо мне не беспокоятся. Скажите всем, что мне очень хорошо. Я совсем счастлив» [19]. Экзистенциальный жест сопричастности обратился в приношение себя «о всех и за вся», стал литургическим жестом.
Г.П. Федотов считал, что проект Ордена русской интеллигенции не удался: многие члены Ордена по призыву 1946 года вернулись в Россию и хорошо, если стали «добрыми комиссарами». По мнению В. Варшавского, напротив, «…Фондаминский достиг своей цели – сумел передать эмигрантским сыновьям мистический дух орденского жертвенного подвижничества. В созданной им маленькой ячейке нового Ордена, как в волшебной реторте, произошло чудо восстановления оборвавшегося преемства» [6, 257–258]. Но как бы ни интерпретировали «итог», сам замысел и стоящий за ним экзистенциальный жест указывают на исключительно важную во все времена сломов возможность и вектор общего действия, наперекор наглеющей нежити утверждающего жизнь.
Литература
1. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 221 с.
2. Бердяев Н. Русская идея. Гл.1. [Электронный ресурс. Режим доступа на: [/#description].
3. Бунаков И. Выступление на заседании «Зеленой лампы» 5 февраля 1927 г. Цит. по: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. СПб.: Росток, 2014. 664 с.
4. Бунаков И. (Фондаминский И.). Пути освобождения // Новый град. № 1, 1931, Париж. С. 31–49.
5. Бунаков И. Надо ли нам возвращаться в Россию // Новый град. № 10, 1935. С. 128–132.
6. Варшавский В. Незамеченное поколение. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Русский путь, 2010. 543 с.
7. Прот. Сергий Гаккель. Мать Мария (1891–1945). Paris: YMCA-Press, 1980. 206 с.
8. Демидова О. Духовные искания русской эмиграции первой волны как продолжение традиций Серебряного века // Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Интеллигенция. Традиция и новое время. / Pod redakcją Hanny Kowalskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagellońskiego, 2001. C. 149–158.
9. Доминик Десанти. Встречи с матерью Марией. Неверующая о святой. Спб.: Алетейя, 2011.
10. Зензинов В. Памяти И.И. Фондаминского-Бунакова // Новый журнал. Нью-Йорк, 1948, № XVIII. С. 298–316.
11. Коростелев О. Фондаминский (Фундаминский) Илья Исидорович. // «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции. Т.1. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 29–31.
12. Мочульский К. Монахиня Мария (Скобцова) // Третий час. Вып.1, 1949. С. 64‑78.
13. М. Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева Е.Ю.). Встречи с Блоком: Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки / Сост. Т..В. Викторовой, Н.А. Струве. М.: Русский путь/Книжница/YMCA-Press, 2012.
14. М.Мария (Скобцова). Доклад в Объединении Православное Дело (1939). Цит. по: Прот. Сергий Гаккель. Мать Мария (1891–1945). Париж: YMCA-Press, 1980. С.105.
15. М.Мария (Скобцова). Настоящее и будущее Церкви. [Электронный ресурс. Режим доступа на: -marie.com/creation/nastoyashee-i-budushee-tserkvi].
16. Носик Б. «…не вышло бы ни одной строчки по-русски». Русско-еврейские меценаты в межвоенном Париже // Евреи в культуре русского зарубежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Сост. М.Пархомовский. Вып. 1. 1919–1939. Иерусалим, 1992. С. 501–506.
17. Письма И.И. Фондаминского Т.В. Ельчаниновой // Вестник русского христианского двидения. 2004, N 187. С. 89–92.
18. Н. Росс. Летопись русской эмиграции во Франции // Пасхальный свет на улице Дарю. Дневники Петра Евграфовича Ковалевского, 1937–1948 годы. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2014. 702 С.
19. Тэффи Н. Моя летопись. [Электронный ресурс. Режим доступа на: -_Moya_letopis.html].
20. Федотов Г. И.И. Фондаминский в эмиграции // Новый журнал, XVIII. Нью-Йорк, 1948. С. 317–329.
21. Шмаина-Великанова А.И. Хесед: солидарность между чужими. В рукописи.
«Вокруг Флоровского»
«Отцы» и «дети» религиозно-философского ренессанса в эмиграции: Георгий Флоровский и старшее поколение Павел Гаврилюк
Эмиграция на Запад сделала встречу с Западом неминуемой, как бы ни желали многие оставаться в привычном для себя умственном мире.
Георгий Флоровский [40, 291]Религиозно-философский ренессанс был исторически травмирован революцией, за которой для его лидеров последовало изгнание. В связи с этим, все движение можно поделить на периоды «до ссылки» (в России, 1890-е – 1910-е) и «в ссылке» (за пределами России, 1920-е -1940-е).[97] Изгнание из Советской России лидеров ренессанса в 1920-е годы означало одновременно прекращение этого течения на родине и его продолжение за рубежом. В диаспоре процесс возвращения интеллигенции к христианству стал интенсивнее и оказался в большей степени ориентированным на Церковь.
Конфликт поколений
«Отцы» религиозного ренессанса, такие мыслители как Сергий Булгаков (1871 – 1944) и Николай Бердяев (1874 – 1948), родились в 1860-е – 1880-е годы. Их влияние на русское общество началось на рубеже веков и продолжало оставаться ощутимым до окончания Второй мировой войны. Георгий Флоровский принадлежал к поколению «детей» ренессанса, родившихся в 1890-е – 1900-е годы. Говоря об «отцах» и «детях» ренессанса, я сознательно опираюсь на классическую картину конфликта поколений в России, изображенную в романе Тургенева «Отцы и дети» (1862).[98] Оба поколения интеллектуалов русской диаспоры часто ссылались на этот главный топос с оттенком сознательной иронии.[99] Флоровский также иногда обращался к этой теме, противопоставляя изнеженных, рефлективных и политически безвольных тургеневских «отцов» 1840-х годов менее культурно утонченным, прагматичным, деятельным и политически радикальным «детям» 1860-х.[100] Русские современники Флоровского безошибочно распознавали в двух поколениях Тургенева собственный образ. Продолжая ту же логику, поколение 1910-х – 1920-х, к которому принадлежали Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф, можно считать «внуками» ренессанса, чье понимание этого движения сформировали такие «дети» как Флоровский и В. Лосский.
Путь духовного и интеллектуального развития Флоровского существенно отличался от пути «отцов» ренессанса. В отличие от них, Флоровский никогда не увлекался марксизмом или какой-либо другой социально-экономической теорией. Напротив, его анализ византийской и русской культуры почти исключительно сосредотачивался на философских и религиозных факторах, в ущерб экономическим и геополитическим. Таков был его сознательный выбор, хотя Флоровского и критиковали за подобную односторонность.[101]
Более того, в отличие от большинства «отцов» ренессанса, Флоровский никогда не уходил из Церкви; поэтому он не мог разделить с ними опыт «возвращения блудных сынов».[102] В отличие от Бердяева, Булгакова и Н. Лосского, Флоровский не переживал утрату веры своего детства. Его сомнения носили иной характер. Как недавно показал Анатолий Черняев, за маской самоуверенности скрывался глубоко конфликтный и эмоционально одинокий человек, который много лет не мог найти свое истинное призвание. Черняев проницательно сравнивает период интеллектуальных исканий старшего поколения за пределами Церкви с ранним периодом ученой карьеры Флоровского (1913–1925), на протяжении которого он искал интеллектуальный центр тяжести за пределами богословия.[103]
Стоит вспомнить, что Флоровский вырос в семье, принадлежавшей и к академическим, и к церковным кругам. По этой причине в дискуссиях с «отцами» русского религиозного ренессанса Флоровский мог занять позицию защитника ортодоксии, уполномоченного высказываться от имени Церкви. Никто официально не наделял его этой ролью; однако он принял ее на себя вполне естественно, что особенно ярко проявилось в его спорах с православными коллегами на экуменических собраниях и других публичных мероприятиях. Позиция, занятая Флоровским, дала основания Николаю Лосскому заметить с некоторой иронией, что Флоровский был «самым православным из всех православных богословов».[104]Что бы ни утверждал Флоровский, он всегда высказывался с внешне-непоколебимой уверенностью в правоте своей позиции; свое богословие он считал адекватным выражением «разума Отцов Церкви».
«Отцы» русского религиозного ренессанса стали уважаемыми лидерами культуры и признанными мыслителями еще в России. По принятой в дореволюционное время практике, они достаточно долго обучались за рубежом. Напротив, научная карьера Флоровского и его поколения прерывалась Первой мировой войной, тремя революциями и гражданской войной. Закончив обучение в университете в 1916 году, Флоровский остался преподавать в Новороссийском университете, а также писать магистерскую диссертацию. В полуголодной и плохо отапливаемой Одессе он продолжал заниматься историей философии и русской литературой.
Через два месяца после октябрьского большевистского переворота Флоровский выразил общее чувство разбитости: «У нас, у молодого поколения, недостает ни ясности духа, ни свежести сил, мы чувствуем себя исковерканными, выброшенными из жизни… Я говорю “мы”, а не “я”, т. к. мои переживания в общем разделяются и моими товарищами, другими оставленными при Университете» [28, 171]. Хотя Флоровский успешно сдал выпускные экзамены, его дальнейшая научная работа была прервана отъездом его семьи из России в 1920 г. Отъезд, а точнее эвакуация, был настолько поспешным, что Флоровскому пришлось оставить свою библиотеку, включая даже и драгоценные для него черновики неопубликованных статей.[105] Семья Флоровского серьезно нуждалась и ее члены были вынуждены радикально менять свои карьерные планы. Доступ к основным научным ресурсам – книгам, журналам и архивным материалам – порой давался ценой огромных усилий. Компенсируя недостаток ресурсов, Флоровский регулярно обменивался книгами со своими коллегами.[106] Поскольку одолженные материалы были в его распоряжении недолго, часто он не мог должным образом сослаться на те из них, которые ранее уже пришлось вернуть. Этим частично объясняется частое отсутствие ссылок в его исторических трудах европейского периода, особенно в «Путях русского богословия» и в лекциях по патрологии.
В ином аспекте, впрочем, резкое изменение географического и культурного окружения жизни Флоровского, по сравнению с его спокойной жизнью в дореволюционной Одессе, стало для него величайшим творческим стимулом. По своим интеллектуальным особенностям, Флоровский творчески нуждался в ситуации конфликта, для чего тесный мир эмиграции предоставлял немало возможностей. Его богословские взгляды, подобно взглядам других его современников, формировались в обстановке кризиса и переселения. Не в пример старшему поколению, младшие современники Флоровского предпочитали стабильность в вопросах веры реформам, духовную уравновешенность – мистической экзальтации, ясное руководство – двусмысленности, а традиционное православие – модернистским экспериментам.[107]
Изгнание лидеров религиозного ренессанса из большевистской России
После большевистской революции, в период с 1917 по 1925 годы, Российскую империю покинули более миллиона человек.[108] Большая часть из них в конечном итоге обосновалась в различных европейских странах; некоторые отправились в Турцию, Китай, США и Канаду. Главными центрами русской диаспоры были Константинополь, София, Прага, Берлин, Париж, Белград, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай и Харбин.[109] В 1920-е годы значительная часть научной активности русской эмиграции была связана с Прагой, Софией, Белградом и Берлином. К середине 1920-х годов центром ее культурной и интеллектуальной жизни стал Париж [47, 77]. По мере перемещений Флоровского по разным европейским столицам (София, Прага, Париж и Белград), характер его научных занятий менялся. Тематика его исследований также расширилась, охватывая уже не только русскую интеллектуальную историю, но и святоотеческое и современное богословие.
После революции большевики особо позаботились о том, чтобы избавиться от возможных противников их режима: аристократии, бывших правительственных чиновников и офицеров, священников, ученых-гуманигариев и культурной элиты.[110] Несколько больше шансов выжить было у тех, кто не был напрямую связан с политикой.
Родители Флоровского приняли решение выехать из России в январе 1920 года, когда советское правительство усилило военное давление на Крымский полуостров. Во время гражданской войны Россию покинула часть лидеров русского религиозного ренессанса, в том числе Карташев, Зеньковский, Мережковский и Гиппиус.[111] Другие были высланы из России в последующие годы.
Среди изгнанников особо выделялась группа религиозных философов и видных интеллектуалов, в которую входили Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, С. Франк, Л. Карсавин и Ф. Степун.[112] В августе 1922 года Бердяев был арестован, тайно допрошен ночью начальником ГПУ Феликсом Дзержинским, и затем выслан в Берлин.[113] Николай Лосский (отец Владимира Лосского) вспоминал, как во время допроса, поеле которого его семья была изгнана из Советской России, молодой офицер сказал ему добродушным тоном: «Наши старшие решили выслать вас за границу, а по-моему вас надо просто к стенке поставить» [17,194]. В период сталинских чисток 1930-х годов образ мыслей этого офицера был положен на практику государственными органами.
Столь же тяжкими были последние годы в России для Булгакова: «После взятия Крыма большевиками в 1920 году я не присоединился к общей эвакуации, которой последовали другие члены В. Ц. У. (с м. Антонием и еп. Вениамином во главе), и остался в родной земле. Передо мной прошла волна красного террора, страшный голод и начавшееся гонение на Церковь – изъятие церковных ценностей, начавшееся живоцерковство. В 1922 году я был на приходе в Ялте, в совершенном богословском одиночестве. Там я и мнил, отдавши на пастырскую работу оставшиеся силы, закончить дни» [7, 428]. Однако Булгаков был слишком заметной фигурой, чтобы жестокий режим обошел его стороной. В августе 1922 года он был арестован большевиками и провел несколько месяцев в заключении в Ялте, где периодически был свидетелем расстрелов «врагов революции» во дворе тюрьмы пьяными офицерами Красной Армии.
В своих мемуарах Булгаков вспоминает, как советское правительство решало его судьбу, приводя такой диалог между ним и начальником политотдела ГПУ: «Ваша фамилия? Б<улгако>в. – Сергей Б<улгако>в? Да. Вы автор “Маркс как религ<иозный> тип”? Да, я. – Так мы вас решили в Китай послать. – Ужас проник у меня до самых пяток, я пролепетал: как в Китай? мне было объявлено, что я высылаюсь в К<онстантинопо>ль? Нет, в К<онстантинопо>ле вам будет слишком хорошо, мы вас в Китай пошлем» [16, 186]. Во время следующего допроса тот же комиссар попытался привлечь Булгакова на службу Советскому государству, обещая ему высокую должность в Москве. Когда Булгаков отказался, его все же отправили в Константинополь, откуда он перебрался сперва в Прагу, а затем в Париж. Ему, как и другим, было запрещено возвращаться в Россию под страхом смертной казни. Сам Булгаков высказывался об этом весьма сурово: «“Россия”, гниющая в гробу, извергла меня за ненадобностью, после того как выжгла на мне клеймо раба» [5, 351]. У жестокого произвола властей была своя логика: лидерам религиозной интеллигенции показывали, кто стал хозяином новой России.
Опыт изгнания из родной страны остался неизгладимым рубцом в жизни поколения Булгакова. Рассуждая об этой коллективной травме в 1930 году, Флоровский писал:
Есть особый трагизм в том факте, что несколько лет тому назад распоряжением советской власти большая группа русских философов была изгнана из родных пределов. Они были изгнаны именно как философы. Это был некий символический жест, означавший отрицание творчества и свободы. Философия стала ненужной и запретной в Советской России. Стала запретной именно потому, что философский пафос и творчество есть явления духовной свободы. И советский быт, напротив, есть волевое отрицание и угашение свободного духа [29].
Изгнанники, осмелившиеся вернуться, были подвергнуты наказанию либо расстреляны. Иногда советское правительство разрешало остаться в России взрослому члену высланной семьи. Это был не жест доброй воли, а хитрый политический маневр: оставшийся в России член семьи при необходимости мог пригодиться власти как заложник. Так случилось со старшим сыном Булгакова Федором (1902 – 1991) – молодым художником, которого задержали в России как военнообязанного. Отец Сергий часто переживал о судьбе своего сына, когда из России переставали приходить его письма. После высылки семье Булгаковых так никогда и не удалось больше повидаться с сыном.[114]
Подобная история случилась и с семьей Флоровских: когда родители в 1920 году перебрались в Софию, два старших брата, Василий и Антоний, остались в Одессе. Затем, в сентябре 1922 года, Антония выслали из России по распоряжению советского правительства.[115] Василий же остался в России, продолжая работать военным хирургом.[116] В возрасте 43 лет он умер от туберкулеза во время сильного голода, случившегося по завершении гражданской войны. Этот голод был гигантской гуманитарной катастрофой. Например, только в 1921 году, в результате конфискации большевиками продуктовых запасов на Урале и в Поволжье, от голода умерло почти пять миллионов человек.
Судьба лидеров ренессанса, оставшихся в России, была трагичной. Забытый и деморализованный Розанов умер от недоедания в 1919 году, в разгар гражданской войны. Флоренский был арестован по вымышленному обвинению во времена сталинских чисток, был отправлен в лагерь особого назначения и был расстрелян в 1937 году по приговору особого трибунала. В том же году киевский философ Густав Шпет (1879–1937) скончался в Гулаге при аналогичных обстоятельствах. Выдающийся философ и историк античности Алексей Лосев (1893–1988) был выслан в трудовой лагерь, но выжил, хотя почти потерял зрение. Как будет обсуждаться в пятой главе, Флоровский опирался на Шпета в его трактовке персоналистской философии Герцена, а также в его описании русской религиозной мысли. Что касается Лосева, то Флоровский интересовался его трудами, в особенности его персоналистической темой в истории античной эстетики.
Философ Лев Карсавин (1882–1952) был выслан из России в 1922 году вместе с другими ведущими религиозными мыслителями. В середине 1920-х годов он примкнул к движению евразийства, выполняя одну из ролей, которая прежде была возложена на Флоровскош. Он также недолше время преподавал в Свято-Сергиевском институте, пока его не сменил там Флоровский. В 1927 году Карсавин переехал в Литву, которая после Второй мировой войны перешла под контроль СССР. В 1949 году он был арестован по вымышленному обвинению в антигосударственной деятельности, приговорен к высылке в трудовой лагерь и спустя три года умер от туберкулеза.[117] Иван Лаговский (1889–1941) в 1920-е годы был коллегой Флоровского по Свято-Сергиевскому институту и редактором журнала «Вестник Русского (студенческого) христианского движения». Затем он перебрался в Эстонию, где после вторжения в Прибалтику Советской Армии был арестован и казнен.
Высылая русских религиозных философов за рубеж, Ленин, с одной стороны, нанес сокрушительный удар по ренессансу на его исторической родине, а с другой стороны, спас его от полного уничтожения.[118]Если Ленин первое время предпочитал высылку инакомыслящих расстрелу, то Сталин был менее гуманным и чаще прибегал к расстрелу и заказным убийствам, так как считал последствия таковою менее проблематичными для своего режима: «Нет человека, нет проблемы».[119]
Культурное созидание русского зарубежья
За рубежом шансы на выживание были выше, чем в Советской России, хотя жизнь в эмиграции тоже была полна лишений и страданий. Болезненный опыт переселения, отвержения и вечной ссылки разделяли все бывшие российские граждане, оказавшиеся в диаспоре. В 1925 году Николай Бердяев афористически подытожил этот опыт: «Русское рассеяние представляет собой исключительное, единственное в истории явление. По размерам своим явление это может быть сравниваемо лишь с еврейской диаспорой» [2, З].[120] Это удачное сравнение Бердяева можно развить и дальше. Для древних израильтян глубокая историческая травма Вавилонского пленения стала стимулом для записи, отбора и сбережения текстов Торы и пророков. Утратив два важнейших маркера идентичности – Землю Обетованную и Иерусалимский Храм, – евреи в изгнании должны были самоопределяться в контексте чужой для них Вавилонской цивилизации. Вавилонское пленение несло в себе опасность ассимиляции и предоставляло возможности для культурного взаимообогащения. Лидеры евреев также мучились над вопросом, кто скорее может представлять древний Израиль: те, кто остался в Палестине, или те, кто обосновался в Вавилоне. Таким образом, при всем его разрушительном и травматическом характере, Вавилонское пленение стимулировало более глубокое осознание еврейской идентичности.
Вынужденное переселение бывших российских граждан на Запад было изгнанием иного рода, однако оно аналогичным образом повлияло на осмысление и сбережение идентичности эмигрантского сообщества. Русская диаспора боролась сразу против двух мощных культурных сил: с одной стороны, ассимиляция к западным жизненным стандартам, с другой – разрушение дореволюционных культурных и религиозных традиций в самой России. Русские эмигранты были оторваны от своих корней, лишены своего жилища, отвергнуты своими соотечественниками. В условиях диаспоры они испытывали потребность защищать, сохранять и распространять культурное наследие России до тех пор, пока оно не будет востребовано дома. Они боролись за социальное пространство и признание, участвовали во многих культурных инициативах, и вопреки всем финансовым трудностям организовывали новые институции. Они преподавали русскую историю и культуру в европейских университетах, организовывали концерты русской музыки и выставки русской живописи, пропагандировали русскую литературу, театр и балет.[121]Они открывали начальные школы, в которых преподавание в основном велось на русском языке, строили церкви, учреждали новые издательства и научные общества.
Историческое значение этих усилий, насколько оно коснулось и русской религиозной философии, не ускользнуло от внимания Флоровского:
При всем разнообразии и частом противоборстве направлений можно говорить о русском философском «рассеянии», как об едином целом. Это не отдельные изгнанники. Но именно «рассеяние», – русская философская колония в Европе… Русские мыслители за рубежом остаются единственными носителями творческих преданий и творческого наследия русской философии. Не только хранителями, но продолжателями. И можно сказать: русское философское «рассеяние» означает новый момент, новый этап в единой исторической судьбе русской мысли [29, 314].
Будучи молодым участником «русской философской колонии», Флоровский принял участие в нескольких важных эмигрантских начинаниях. В 1922 году выдающийся русский правовед Павел Новгородцев основал и возглавил Русский юридический факультет Карлова университета в Праге. В том же году Флоровский переехал в Прагу, где защитил магистерскую диссертацию и преподавал на этом юридическом факультете. Петр Струве учредил и возглавил важный эмигрантский политический журнал «Русская мысль», в котором периодически выходили статьи и рецензии Флоровского. Бердяев, при финансовой поддержке YMCA, учредил в 1922 году в Берлине Русскую религиозно-философскую академию, которая в 1924 году переехала, вслед за своим основателем, в Париж. Флоровский, будучи в Париже, периодически читал публичные лекции в этой академии.
Бердяев также основал «Лигу русской культуры», работавшую на протяжении ряда лет как летний богословский институт для студентов и молодежи. Борис Вышеславцев и Бердяев были соредакторами очень влиятельного журнала «Путь» (1925 – 1940), в котором также публиковались статьи и рецензии Флоровского. Николай Зернов (1898 – 1980), Василий Зеньковский и Сергий Булгаков играли ведущую роль в Русском студенческом христианском движении, ежегодные собрания которого проводились начиная с 1923 года. В этих собраниях принимали участие Флоровский и юный Александр Шмеман.
Флоровский также принимал активное участие в экуменическом движении с момента его зарождения и играл ведущую роль в изложении, пояснении и защите православной позиции в глазах христианского Запада. С 1929 года, по приглашению выдающегося деятеля Англиканской Церкви епископа Чарльза Гора (1858 – 1932) и Сергия Булгакова, Флоровский регулярно участвовал во встречах Содружества святого Албания и преподобного Сергия. Интеллектуальными стимулами для Флоровского были и поддержанные им инициативы, и, в не меньшей степени, те проекты и мыслители, с которыми он в конце концов расходился.
С помощью американских, британских и европейских друзей, русская эмиграция вплоть до Второй мировой войны вела активную издательскую деятельность в области художественной литературы, поэзии, политической мысли, русской истории, философии и богословия.[122] Читательская аудитория тех, кто писал исключительно по-русски, постепенно уменьшалась, по мере того, как с каждым годом уменьшались шансы проникновения их сочинений за «железный занавес». Это вызвало переход ведущих мыслителей русской диаспоры (таких, как Бердяев, Булгаков, Флоровский, Трубецкой, Степу и, Николай и Владимир Лосские) к публикациям их трудов также на других европейских языках, что дало им выход к новой аудитории. Как правило, смена языка давалась «детям» русского религиозного ренессанса легче, чем «отцам».[123] Для некоторых интеграция в культуру страны пребывания была сознательным выбором, но чаще она диктовалась потребностями выживания.
Этот невероятный бум эмигрантской активности можно объяснить отчаянной борьбой за культурное самосохранение и титаническими усилиями по сбережению коллективной памяти. Революция была травмой, трагедией и культурным разрывом, но большевистский переворот не стал концом русского религиозного ренессанса. Напротив, идеи русского религиозного ренессанса очистились в огне революций и закалились в страшных утратах войны. Для большинства русских эмигрантов декадентское изобилие Серебряного века было утраченной роскошью прошлого. Вопреки неблагоприятным обстоятельствам, преодолевая ежедневные лишения и страдания, они сосредоточили духовную энергию диаспоры на новых творческих усилиях, частично с целью противостояния силе ассимиляции. Мережковский, создавший в Париже группу «Зеленая лампа» по образцу прежних религиозно-философских встреч в Санкт-Петербурге, выразил это чувство кратко: «Мы не в ссылке; у нас – миссия».[124] Этой миссией было продолжение культурного ренессанса в изгнании.
Изначально русские эмигранты не предполагали оставаться за рубежом пожизненно. В первые десять лет после революции многие ожидали, что режим большевиков падет в ближайшем будущем. Однако к началу 1930-х годов надежды на интервенцию увяли. Эмигрантские сообщества должны были смириться с тем, что изгнание будет длиться неопределенно долго, и может даже стать перманентным. Ностальгию и надежду их мыслей, слов и текстов постепенно сменяло разочарование.
Выражаясь в библейских терминах, лидеры русского религиозного ренессанса были «остатками» «Святой Руси» в изгнании, хранившими надежду на возвращение домой. В письме Бердяеву из Праги, где он жил некоторое время буквально на чемоданах, Булгаков заметил с долей трагической иронии: «Ив этом русском гетто я чувствую себя русским жидом, вместе ждущим своей Палестины».[125] С годами им пришлось осознать, что их «Палестина» ушла в прошлое, а советский режим в России удержится надолго, если не навсегда. Но в 1920-е годы они не могли смириться с подобным будущим. В то время эмиграция активно надеялась на скорое свержение большевиков.
Русское эмигрантское богословие было богословием «изгнания» – в том смысле, что оно отражало взгляды религиозного и этнического меньшинства, ощущавшего угрозу ассимиляции. Николай Трубецкой удачно назвал экспрессивную, порой яростную антизападную риторику эмигрантских сочинений «компенсаторным национализмом», восполнявшим диаспоре ее маргинальный социальный статус и неизбежную вестернизацию. Чтобы сохранить свое чувство идентичности, поколение Флоровского обратилось к Православной Церкви.
Русская православная церковь после революции
Поколение Булгакова и Бердяева достигло своей духовной зрелости в процессе отхода от Русской Православной Церкви и последующего возвращения к ней. Поколение Флоровского не пережило этот опыт блудных сыновей.[126] Мировоззрение поколения Флоровского вызревало в эмиграции, где страдающая Церковь нуждалась скорее не в модернизации, а в поддержке, не в пророческом слове, а в верном служении. В дореволюционной России старшее поколение стремилось расширить границы православия и вывести поддерживаемую государством Церковь из состояния успокоенного самодовольства. Младшее же поколение в условиях диаспоры столкнулось с совершенно иной ситуацией. Атеистический режим Советов вызвал массовый отход людей от Церкви. В противовес этому историческому выбору, изгнанники прибегли к «воцерковлению», понимаемому как врастание в жизнь, опыт и разум Церкви.[127] «Воцерковление» разума было существенной частью богословской эпистемологии Флоровского. Для него бошсловствовать означало проникнуть в разум Отцов Церкви, отбросить все сугубо местное, развить в себе кафолическое сознание и научиться мыслить с Церковью, в духовной трезвости, с аскетизмом и проницательностью. Эта установка отражала изменившееся понимание миссии русского религиозного ренессанса в изгнании.
До революции главной целью ренессанса было вовлечение культуры в религиозную тематику. Акцент делался на новые формы христианства, реформу Церкви и критику «исторического христианства». В условиях диаспоры русский религиозный ренессанс принял более ответственную в богословском плане форму воцерковления культуры. Для младшего поколения сохранение и защита православия в его более традиционной форме стала важнейшим приоритетом. В противовес поколению «отцов», особенно лидеров авангардного движения «нового религиозного сознания» (Мережковскому, Гиппиус, Розанову, Минскому, Тернавцеву и Бердяеву), «дети» (включая Флоровского, Владимира Лосского, Мирру Лот-Бородину и Василия (Кривошеина) утверждали, что на Западе православие нуждается в выражении и защите, а не в модернизации и реформе.
В СССР Русская Православная Церковь частично уничтожалась и частично была приведена в подчинение новой государственной власти. В сложной политической ситуации, каковая сложилась и в России, и за рубежом, Церковь поразили болезненные разделения, угрожавшие самому ее существованию. В России наиболее многочисленная группа верующих, отколовшаяся после революции от официальной патриаршьей Церкви и просуществовавшая до конца Второй мировой войны, называлась «Живая Церковь».[128] Политические махинации этой группы еще больше затруднили и без того шаткое положение официальной Церкви.
В эмиграции возникли три церковных образования, утверждавших свою преемственность по отношению к Русской Православной Церкви. Первое из них поддержал синод епископов, оставивших после революции свои епархии в России и поселившихся в городе Сремски-Карловци (Сербия, позднее часть Югославии). После смерти патриарха Тихона, новый глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий Стра-городский провозгласил «лояльность» Московского Патриархата большевистскому государству. Синод в Сремски-Карловци, истолковав этот жест митрополита как компромисс с атеистическим режимом, отверг каноническое общение с Москвой и сформировал независимую церковь, известную как «Русская Православная Церковь Заграницей» (сокращенно РПЦЗ), либо же «Русская Православная Церковь Заграницей».[129]В этой группе были особенно сильны голоса тех, кто ратовал за военную интервенцию с целью свержения большевистского режима и восстановления монархии. Под руководством традиционалистов РПЦЗ противостояла вхождению лидеров православия в экуменическое движение. Флоровский, всегда опасавшийся политических манипуляций вокруг Церкви, изначально дистанцировался от политической активности этой группы и не поддержал ее выход из канонического общения с Московским Патриархатом.[130] Однако во время Второй мировой войны, когда Флоровский и его жена переехали в Сербию, они оказались на территории этой православной юрисдикции и вступили в контакт с ее лидерами.[131]
Вторая группа, возглавляемая митрополитом Евлогием (Георгиевским), сперва попыталась сохранить свою каноническую связь с Москвой, но в феврале 1931 года решила перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Этот шаг должен был продемонстрировать нейтралитет группы в спорном вопросе о лояльности Советскому государству, которую провозгласил Сергий Страгородский. Союз с Константинополем не предполагал смены это с а с русского на греческий, поскольку Константинопольский Патриархат допускал в этих вопросах широкие колебания для отдельных этнических приходов. Как правило, приходы этой группы переходили в своем служении на современные языки быстрее, чем это делали эмигрантские общины двух других групп. Многие лидеры русского религиозного ренессанса, включая Булгакова, Бердяева, Зеньковского, Франка, Н. Лосского и Флоровскош, примкнули именно к юрисдикции Евлогия, поскольку им претили политические манипуляции Церкви как со стороны монархистов, так и со стороны Советов. Флоровский гипотетически рассматривал вопрос об автокефалии диаспорной Церкви еще в 1925 году, за два года до разрыва митрополита Евлогия с Московским Патриархатом [4, 85]. В 1932 году Флоровский именно в этой юрисдикции был рукоположен в сан священника, а после переезда в США еще раз подтвердил свое церковное подчинение Константинопольскому Патриархату, к вящему ужасу некоторых националистов из числа русского эмигрантского сообщества в Америке.[132]
Третья группа, гораздо более малочисленная, объединяла ряд приходов, оставшихся под юрисдикцией Московского Патриархата. Одним из парижских богословов, сохранивших верность этой юрисдикции, был Владимир Лосский. В силу принадлежности к различным церковным юрисдикциям, Флоровский и Лосский не сотрудничали так тесно, как можно было бы ожидать от интеллектуалов с весьма схожими богословскими убеждениями.
В этот период Церковь, при всех ее внутренних проблемах, была не просто местом для молитвенных собраний: она несла мир на континент, раздираемый войнами, предлагала утешение посреди хаоса, утверждала человеческое достоинство и единство вопреки дегуманизации и отчуждению. Бывшая государственная Церковь стала убежищем преследуемых, обиталищем изгнанников. Хотя трудности жизни в изгнании еще больше оттолкнули от нее некоторых русских эмигрантов, большинство, особенно представители младшего поколения, напротив, активизировали свое участие в церковной жизни. Рассуждая об этом феномене в 1923 году, Василий Зеньковский отмечал: «В русском обществе, в русском народе с бесспорной ясностью происходит поворот к религии» [12, 2]. Далее в той же статье он пояснял: «Православие ныне открывается русской душе, как основа для построения целостной культуры, как единственная сила, способная обновить жизнь, примирить противоречия истории» [12, 5].[133] Для многих изгнанников воцерковление было способом духовного самосохранения.
В этой связи особенно примечательно становление Русского студенческого христианского движения – массовой организации, предоставлявшей молодым верующим русской диаспоры так нужную им моральную поддержку и узы христианского братства [14, 361–387]. Флоровский, бывший одним из лидеров этого движения, замечал: «Мы стали возвращаться в Церковь. Возвращаться приходится всем, и родившимся, и живущим в Церкви, ибо большей частью нашего существования мы все еще вне Церкви. В этом возвращении должна участвовать и мысль. Это нужно для полноты и твердости нашего воцерковления» [27]. В написанном позднее обращении к эмигрантскому сообществу Флоровский особо подчеркивал доктринальную и интеллектуальную сторону воцерковления [42, 2–4].
Вопреки (а может быть, как раз благодаря) рассеянию, церковная жизнь диаспоры была необычайно активной. По сути, Церковь оказалась одним из самых жизнеспособных, если не самым жизнеспособным институтом России за рубежом. Она обеспечивала чувство общности лишенным корней и разбросанным по миру группам русских беженцев, постоянно скитавшимся из одного европейского города в другой в поисках прибыльной работы. Хорошей иллюстрацией такого существования служит жизненный путь самого Флоровскош. Проведя меньше двух лет в Софии (1920 – 1921), где его родители обосновались на всю оставшуюся жизнь, Флоровский и его брат Антоний в декабре 1921 года отправились в Прагу, где открывалась возможность получить место преподавателя на Русском юридическом факультете Карлова университета. Более академически подготовленный Антоний получил в Карловом университете постоянно место преподавателя и остался в Чехословакии до конца жизни. Георгий же в 1926 году перебрался в Париж, чтобы преподавать там в только что учрежденном Свято-Сергиевском православном богословском институте. Годы войны (1939 – 1946) Флоровский провел в Югославии, затем ненадолго (1946 – 1948) вернулся в Париж, а в 1948 году, через три года после окончания войны, переехал в США. Несмотря на все проблемы, связанные с частыми переездами, и острой потребностью поиска работы и сносного жилья, межвоенные годы в эмиграции стали самым продуктивным и творческим периодом в карьере Флоровского.
Литература
1. Аржаковский А.А. Журнал «Путь» (1925–1940): Поколение русских религиозных мыслителей в эмиграции. Киев: Феникс, 2000.
2. Бердяев Н.А. Духовные задачи русской эмиграции // Путь, 1 (1925). С. 9–13.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. Москва: ДЕМ, 1990.
4. Братство Святой Софии: материалы и документы, 1923–1929 / Ред. Н.А. Струве и Т.В. Емельяновой. Москва: Русский Путь, Париж: YMCA-Press, 2000.
5. Булгаков С.Н. Из «Дневника» // Булгаков С.Н. Тихие думы. Москва: Республика, 1996. С. 351–389.
6. Булгаков С.Н. Письмо А.В. Ставровскому от 1 октября 1924 г. // Вопросы философии, 10 (1994), 160–161.
7. Булгаков С.Н. Путь парижского богословия. Москва: Изд-во храма святой мученицы Татьяны, 2007.
8. Высылка вместо расстрела: депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ
1921–1923 / Вступ. Ст., сост. В.Г. Макарова и В.С. Христофорова. Москва: Русский Путь, 2005.
9. Гиппиус З. Дмитрий Мережковский. Париж: YMCA-Press, 1951.
10. Главацкий М.Г. Философский пароход: год 1922-й. Историографические этюды. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002.
11. Досталь М.Ю. Письма русских учёных-эмигрантов Н.П. Кондакова и Г.В. Флоровского Иржи Поливке // Славяноведение, 4 (1999), 90-101.
12. Зеньковский В.В. Православие и культура: сборник религиозно-философских статей. Берлин: Русская Книга, 1923.
13. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа: критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж: YMCA-Press, 1955.
14. Зеньковский В.В. Русское студенческое христианское движение: история, деятельность, задачи // Зеньковский В.В. Собрание сочинений, в 4 т. Москва: Русский Путь, 2008. Т. 2. С. 361–387.
15. К тридцатилетию со дня кончины прот. Георгия Флоровского. Из писем к П.П. Сувчинскому, отцу Сергию Булгакову, отцу Игорю Вернику, Н.А. Струве // Вестник РХД, 196 (2010).
16. Козырев А.П., Голубкова Н.Ю. Прот. Сергий Булгаков. Из памяти сердца. Прага [Дневник 1923–1924] // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 г. Под. Ред. М.А. Колерова. М.: О.Г.И., 1998. С. 112–256.
17. Лосский Н.О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. Москва: Русский Путь, 2008.
18. Остракизм по-большевистски: преследования политических оппонентов в 1921–1924 гг. / Сост., предисл. В.Г. Макарова и В.С. Христофорова. Москва: Русский Путь, 2010.
19. Переписка протопресвитера Георгия Граббе с протоиереями Георгием Флоровским и Александром Шмеманом / Публикация М. Псаревой // Вестник русского христианского движения, 189 (2005). С. 210–218.
20. Пивовар Е.И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. Москва: РГГУ, 2008.
21. Повилайтис В.И. Русские философы в Литве: Карсавин, Сеземан, Шилкарский. Калининград: Издательство РГУ имени И. Канта, 2005.
22. Свято-Сергиевское Подворье в Париже: К 75-летию со дня основания / Ред. К.К. Давыдов, С.Н. Ершова, А.П. Козырев, А.А. Корольков, Н.М. Осоргин. Париж: Приход храма преп. Сергия, Спб.: Алетейя, 1999.
23. Соболев А.В. О Г.В. Флоровском по поводу его писем евразийской поры. Письма Г.В. Флоровского 1922–1924 гг. // История философии, 9 (2002). С. 150–173.
24. Современное русское зарубежье / Сост., вступ. ст., справ. и метод. материалы. П.В. Басинского, С.Р. Федякина. Москва: Астрель, 2003.
25. Федотов Г.П. Православный нигилизм или православная культура? // Федотов Г.П. Полное собрание статей. Т. 2: Россия, Европа и мы. Париж: YMCA-Press, 1973.
26. Флоровский Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. Москва: Аграф, 1998.
27. Флоровский Г.В. Оправдание знания // Вестник русского студенческого христианского движения, 7 (1928).
28. Флоровский Г.В. Письмо Н. Глубоковскому 21 декабря 1917 г. // Сосуд избранный: История российских духовных школ в ранее не публиковавшихся трудах, письмах деятелей Русской Православной Церкви, а также в секретных документах руководителей советского государства: 1888–1932 гг. / сост. М.Д. Склярова. СПб.: Борей, 1994. С. 171.
29. Флоровский Г.В. Русская философия в эмиграции / Публикация П.Л. Гаврилюка // Историко-философский ежегодник’2013. М.: Канон+, 2014. С. 314–337.
30. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. Санкт-Петербург: Алетейя, 1994.
31. Черняев А.В. Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли. Москва: ИФ РАН, 2010.
32. Шмаглит Р.Г. Русское зарубежье в ХХ веке: 800 биографий. Москва: АСТ, 2007.
33. Эмиграция и репатриация в России / Гл. ред. А.А. Бондарев. Москва: Попечительство о нуждах российских репатриантов, 2001.
34. Bird, Thomas E. “Georges V. Florovsky: Russian Scholar and Theologian”, The American Benedictine Review, 16/3 (1965), 444–454.
35. Blane, Andrew, ed. Georges Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchman (New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1993).
36. Chamberlain, Lesley. The Philosophy Steamer: Lenin and the Exile of the Intelligentsia (London: Atlantic Books, 2006).
37. Chrysostomos, archbishop. “Protopresbyter Georges Florovsky”, Orthodox Tradition, 11/2 (1994).
38. Finkel, Stuart. On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere (New Haven: Yale University Press, 2007).
39. Florovsky, Antony V. “The Work of Russian Émigrés in History (1921–1927)”, SR, 7 (1928), 216–19.
40. Florovsky, George V. “Ecumenics and the Polity of Churches”, в: G. O. Mazur (ed.), Twenty-Five Year Commemoration to the Life of Georges Florovsky (1893–1979) (New York: Semenenko Foundation, 2005), 282–294.
41. Florovsky, George V. “Michael Gerschensohn”, The Slavonic Review, 5/14 (December 1926), 315–331.
42. Florovsky, George V. “Vessels of Clay”, SVSQ 3 (1955), 2–4.
43. Johnston, Robert H. New Mecca, New Babylon: Paris and the Russian Exiles, 1920–1945 (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1988).
44. Livak, Leonid. How It Was Done in Paris: Russian Émigré Literature and French Modernism (Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 2003).
45. Livak, Leonid. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010).
46. Lourie, Donald A. Saint Sergius Institute in Paris: The Orthodox Theological Institute (London: SPCK, 1954), 71–89
47. Raeff Marc. Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration, 1919–1939, New York: Oxford University Press, 1990.
48. Raeff, Marc. “Enticements and Rifts: Georges Florovsky as Russian Intellectual Historian”, в: A. Blane, Georges Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchman (New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1993), 219–286.
49. Rosenthal, Bernice G. Dmitri Sergeevich Merezhkovsky: The Development of a Revolutionary Mentality.
50. Snyder, Timothy. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin (New York: Basic Books, 2010).
Георгий Флоровский и Дмитрий Чижевский: к вопросу о «персональных пареллелях» и истории нереализованных замыслов Владимир Янцен
Вводные замечания
На теме моего очерка можно было бы продемонстрировать, по меньшей мере, три общеметодологических проблемы духовной истории.
Первая, и, на мой взгляд, весьма остро стоящая методологическая проблема гуманитарных наук современности – это проблема персонификации отечественной истории, возвращение в нашу историю незаслуженно забытых или долго замалчивавшихся имен русских ученых. В связи с этой проблемой необходимо постараться дать себе полный отчет в том методе, с помощью которого это возвращение чаще всего происходит. Речь идет о методе персональных или персонифицированных параллелей.
Вторая общеметодологическая проблема – проблема нереализованных творческих замыслов, несостоявшихся или не доведенных до полного завершения проектов. Возникнув в истории литературы, она выводит нас за пределы собственно гуманитарных наук в область математики и информатики, рассматривающих суждения о недостатке информации, о каком-то ее дефиците не в качестве пустого места и банальной констатации того, что у нас не хватает какого-то знания. Речь, однако, должна идти об осознании того, что отсутствующая информация является необходимым логическим звеном для решения поставленной проблемы. Тем самым это звено уже рассматривается как важная составляющая, важный шаг к решению исследовательской задачи, к тому, что требуется в дальнейшем исследовании искать.
Третья проблема – это проблема интердисциплинарности, текучести границ между различными научными дисциплинами вообще и между специально-научным (гуманитарно– и естественнонаучным) знанием и философией в особенности. Эту проблему можно было бы сформулировать и как проблему правомерности и эвристической плодотворности распространения и перенесения методов, исследовательских процедур и центральных понятий, разрабатываемых в одних областях знания, на другие. Примером этого могут служить письма Д.И. Чижевского к В.И. Вернадскому[134], переписка Чижевского на аналогичные темы с зоологом М.М. Новиковым[135] и др.
Что прочно забытое, отброшенное в качестве ненаучного, идеологически дискредитированное и институционально отвергнутое в прошлом знание в новых условиях может оказаться востребованным, послужить отправным пунктом для развития новых направлений науки, доказывать не приходится. Именно с этим было связано возникновение такой сравнительно новой отрасли знания как историко-научные исследования. И отечественные ученые сыграли в этой отрасли далеко не последнюю роль, придав ей именно интердисциплинарный характер. Достаточно назвать имена Владимира Ивановича Вернадского, Даниила Осиповича Святскош, Василия Павловича Зубова, Александра Владимировича Койранского (Койре), Георгия Давидовича Гурвича, Густава Густавовича Шпета и, конечно, Георгия Васильевича Флоровского и Дмитрия Ивановича Чижевского, чтобы напомнить о том огромном вкладе, который был внесен отечественными учеными в эту науку.
Метод персональных параллелей
Даже просто пробежав глазами по именным указателям книг Д.И. Чижевского и сравнив отмеченные в них персоналии с перечнем лиц, с которыми он состоял в переписке, замечаешь, что почти к каждому из них от Д.И. Чижевского может быть проведена именно персональная параллель. Он либо был знаком с ними лично, либо их труды могли сыграть какую-то роль в его собственном творчестве, либо оказанная ими поддержка повлияла на публикацию каких-то его работ. Как историк философии, науки, литературы и религии, он занимался теми же самыми источниками и проблемами и не мог не реагировать на труды и воззрения людей, с которыми общался лично или которые являлись авторами каких-то фундаментальных, классических трудов.
Разумеется, у каждого человека, а особенно у человека, работающего в качестве преподавателя или сотрудника академических организаций, круг общения и знакомых, а тем самым и количество возможных «персональных параллелей» может быть поистине огромным. Чтобы понять это, достаточно бегло просмотреть список корреспондентов в личных архивах интересующих нас ученых. Но такого рода параллели могут оказаться и малосодержательными и даже пустыми – иногда из-за полного отсутствия источников, иногда из-за того, что однажды встретившимся в жизни людям просто нечего было сказать друг другу. Встречался же Д.И. Чижевский с автором замечательной книги о князе Одоевском – П.Н. Сакулиным [2], – но, узнав, что Шеллинга тот читал по Куно Фишеру, понял, что говорить с ним не о чем… И занимаясь историко-научной проблематикой, мы выбираем в первую очередь те из персональных параллелей, которые даже на основе довольно поверхностных аналогий обещают привести к каким-то новым открытиям и результатам или, по крайней мере, не заводят наш поиск в тупик, а направляют его дальше.
Таким образом, метод персональных параллелей в своей начальной стадии имеет структуру не утверждения, а скорее гипотезы, аналогии, вопроса и лишь возможности каких-то творческих влияний или взаимовлияний, которые еще должны быть установлены и доказаны с помощью сравнения и исследования имеющихся в нашем распоряжении источников.
На пути к этим результатам необходимо временно снять исписанное правило иерархичности текстов. Речь идет о разной иерархической ценности текстов устных и письменных, опубликованных и неопубликованных, публичных и частных (например, эпистолярных). Конечно, реальная история влияния этих текстов на Д.И. Чижевского, Г.В. Флоровского и их современников различна. Но информативная значимость этих документов для исследования биографий и творчества интересующих нас персоналий вполне сопоставима, независимо от всех этих различий и от того, были ли эти тексты публичными или же конфиденциально-личными.
Целью такого рода разысканий является выяснение топографии конкретной жизни, «топографии личности». Ее связи не только с определенным временем и кругом лиц, но и с определенными «локусами». Эта последняя связь как раз и осуществляется через персональное окружение человека и, как и все в этом мире, подчиняется законам возникновения, развития и исчезновения. Мертвые объекты и места только тогда могут быть одушевлены и персонифицированы, когда их можно связать с ценностно значимыми событиями собственной или чужих жизней. Без такой конкретизации выражение genius loci превратилось бы в бессмысленную фразу.
Персональная параллель «Г.В. Флоровский – Д.И. Чижевский»
Источники
Именно так обстоит дело и с персональной параллелью «Г.В. Флоровский – Д.И. Чижевский», биографически и исторически почти неисследованной.
На какие источники мы можем опираться, задавшись вопросом о личных отношениях, научном сотрудничестве, возможных идейных взаимовлияниях и отталкиваниях этих двух ученых?
Насколько мне известно, опубликованных источников совсем немного:
1. Это, прежде всего, текст «Пражских воспоминаний» (1976) Чижевского[136], где имя Флоровского, правда, специально не упоминается, но дается информация об обстоятельствах их сотрудничества в Русском философском обществе в Праге. (Чижевский был его бессменным ученым секретарем и членом правления с 1924 по 1932 год, а Флоровский – активным докладчиком, хотя с 1926 года он уже жил в Париже, но, приезжая в Прагу, обязательно принимал участие в заседаниях общества). В 1932 году окончательно покинул Прагу и Д.И. Чижевский, переселившийся в Германию.
2. Следующим важнейшим источником, освещающим их научное сотрудничество и личные отношения, является их почти полувековая переписка (с 1926 по 1932 год и с 1948 по 1972 год) [12][137]. В публикации этой переписки много лакун и интересующая нас экзистенциальная тема отражена неполно. Но за прошедшие со времени первой публикации четыре года удалось выявить еще около 40 не включенных в первое издание писем и текстов Д.И. Чижевского, являющихся непосредственным откликом на творчество о. Георгия.
3. Еще одним источником, свидетельствующим об интересе ученых к творчеству друг друга, являются их рецензии.
Две рецензии Флоровского на украинские книги Чижевского «Философия на Украине. Опыт историографии» (1929) и «Очерки истории философии на Украине» (1931) были опубликованы в парижском журнале «Путь» [5; 6][138].
Чижевский на книги Флоровского рецензий не печатал, но в письмах Флоровского к Чижевскому упоминается не найденный пока еще эпистолярный отзыв Чижевского 1937 года на «Пути русского богословия»[139]. Известно также, что Флоровский откликнулся на 70-летний юбилей Чижевского интересной и по сей день мало кому известной статьей «Чтения по философии религии магистра философии В.С. Соловьева» [7]. В свою очередь, Чижевский написал для сборника в честь Флоровского не просто юбилейную статью, а «Замечания к духовной истории восточных славян» с исправлениями и дополнениями к «Путям русского богословия» Флоровского[140]. Но в виде замечаний к «Путям» эта статья Чижевского осталась неопубликованной и известна только тем, кто работает с его личным архивом. Тот же самый материал, однако, был переработан Чижевским в самостоятельную статью под названием «Эвгемеризм в старославянских литературах» и опубликован с посвящением Г.В. Флоровскому в «Новом Журнале» [9].
4. Для выявления взаимных влияний и отталкиваний этих ученых было бы весьма полезно исследовать статистику, генезис и характер ссылок друг на друга в их работах. Ведь и рецензия, и реферативное изложение, и цитата, и указание в библиографическом обзоре или именном указателе, и скромная отсылка к названию, и солидаризация по методологической или направленческой установке, и упоминание в полемическом контексте, и подробный критический разбор, и попытки популярного изложения, и комментированные переводы на другие языки – все это „отклики”, заслуживающие самого внимательного изучения. Как видим, разного рода вспомогательные указатели могут иметь иногда самое непосредственное отношение к методу персональных параллелей.
5. Почти совершенно скрыт от исследователей такой важный источник биографической информации как личные книжные собрания[141], обмен книгами и отдельными оттисками между учеными. По какой-то несчастной случайности и в немецких, и в американских архивах книги и особенно оттиски статей Флоровского и Чижевского хранятся отдельно от писем, вместе с которыми они посылались. В результате коллекция отдельных оттисков, принадлежавшая Чижевскому, была в 2002 году продана библиотекой Гейдельбергского университета частному букинисту. Тем самым была уничтожена важнейшая часть биографической информации о Чижевском и его корреспондентах: письма и сообщения о посылке каких-то оттисков статей в архиве остались, а самих оттисков там уже нет.
6. Наконец, очень много интересных взаимных упоминаний есть и в письмах наших авторов к третьим лицам: М.М. Карповичу, Ф.А. Слепуну, Т.С. Франк, 3.0. Юрьевой, Г.П. Федотову. Все это до сих пор не исследовано и не издано.
При таком большом количестве источников, освещающих личные отношения и творческие влияния Флоровского и Чижевского совершенно очевидно, что это не пустая и не тупиковая параллель, а аналогия, требующая комплексных архивных разысканий и серьезного анализа их общих идей и взаимных интеллектуальных отталкиваний.
К вопросу об истории нереализованных замыслов Флоровского и Чижевского
Без анализа нереализованных замыслов мы, в общем-то, никогда не можем нарисовать полную картину развития творчества того или иного автора, понять его творчество как целое. Как и в случае с «личными параллелями», тема нереализованных замыслов текстологически и герменевтически гораздо лучше разработана историками и литературоведами, чем философами. В истории литературы ценится каждая бумажка, каждая рукопись и чуть ли не каждая буква наследия великих писателей и поэтов. В истории же философии нереализованные замыслы и проекты часто вообще не принимаются в расчет при характеристике творческих биографий философов.
И это, конечно, абсолютно неверно при анализе экзистенциальной сферы их жизни, то есть при подходе к вопросу о сущности их философии через вопрос о характере и смысле их существования.
Историческая эпоха, в которую жили Флоровский и Чижевский, не была традиционалистской. Это была эпоха двух мировых войн, нескольких революций и множества социальных потрясений, связанных с жизнью в эмиграции. И ожидать, что в такой ситуации всё, что было написано авторами, было ими и опубликовано, не приходится. Но исследование этого вопроса требует конкретного анализа сохранившихся в личных архивах Флоровского и Чижевского рукописей с учетом разной степени осуществленности нереализованных проектов двух мыслителей.
Нереализованным замыслам Д.И. Чижевского я посвятил отдельную брошюру [11], причем выяснилось, что у Чижевского было приблизительно 50–60 нереализованных проектов. Правда, степень этой нереализованное™ оказалась различной. Как справедливо заметила А. Тоичкина, Чижевский мыслил не статьями, а книгами [3, с. 492]. И некоторые из его книг и статей даже были полностью написаны, но по каким-то неизвестным нам причинам либо не нашли своего издателя, либо в издательства вообще не отдавались. И все же совершенно ясно, что эти планы и замыслы оказали огромное влияние на развитие мысли Чижевского в целом.
Мы знаем его сегодня, прежде всего, как историка литературы и филолога-слависта, а в философской области – как историка философии («Философия на Украине», «Гегель в России», «Гегель у славян»). Такова его авторская судьба: многое из его творчества осталось неизвестным даже специалистам и таким близким ему людям, как В.В. Зеньковский или Х.-Г. Гадамер, в разное время пытавшимся дать характеристику его творчества в целом. Но если привлечь к характеристике генезиса творчества Чижевского не только опубликованные труды, но и его планы и замыслы (книга «Шеллинг в России», книги о Гоголе, о русских святых, о Тютчеве, о Достоевском, о формализме в этике все же были написаны и сегодня могут быть напечатаны), то выяснится, что Чижевский был не только филологом и историком литературы и философии, но и философом-систематиком и историком религиозной мысли.
В экзистенциальном плане такой объем до сих пор неизвестных широкой публике работ отечественных ученых может толковаться в понятиях их личной и общенациональной трагедии.
В случае Флоровского это было прекращение всякого творчества по достижении основных жизненных целей, которые он себе поставил и выполнил приблизительно к концу 50-х – началу 60-х годов. После решения всех своих экзистенциальных проблем Флоровский превращается в мемуариста и представителя русской православной мысли на Западе, но подлинное его творчество прекращается. Он больше рассказывает о том, что хотел бы еще сделать, чем делает. И в этом подлинная трагедия его как философа и автора одного из центральных произведений по истории русской мысли: за сорок с лишним лет он не сумел подготовить новое переработанное издание «Путей русского богословия».
Литература
1. Валявко I.В., Чуднов О.В., Янцен В.В. Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники. Листи, спогади. Кіровоград: Имекс-ЛТД, 2013. 528 с.
2. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 1–2. 616 с.
3. Тоичкина А.В. Рец. на: «В.В. Янцен. Неизвестный Чижевский. Обзор неопубликованных трудов. Спб., Издательство РХГА, 2008. 162 с.» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. № 2 / 2010. С. 217–219.
4. Ульянкина Т.И. Жизнь в изгнании: письма М.М. Новикову – бывшему ректору Московского университета // Вопросы история естествознания и техники. 2001. № 1. С. 113–117.
5. Флоровский Г.В. Дмитро Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi // Путь, № 30. С. 93–94.
6. Флоровский Г.В. Дм. Чижевский. Философия на Украине // Путь, № 19. С. 118–119.
7. Флоровский Георгий, прот. Чтения по философии религии магистра философии В.С. Соловьева / Gerhardt D., Weintraub W., zum Winkel H.-J. (Hrsg.) Orbis scriptus, Festschrift für D. Čyževskij zum 70. Geburtstag. München: W. Fink-Verlag 1966. S. 221–243.
8. Чижевский Д.И. Избранное в 3 т. Т. 1: Материалы к биографии (1894–1977) / Сост., вступ. ст. В. Янцена. Коммент. В. Янцена и др. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье» – Русский путь, 2007. 848 c.
9. Чижевский Д. Эвгемеризм в старославянских литературах // Новый журнал. 1968. № 92. С. 254–272.
10. Чижевский Д.И. Пражские воспоминания (1976). Перевод, комментарий и примечания В. Янцена // Русское зарубежье: приглашение к диалогу. Сборник научных трудов / Под ред. Л.В. Сыроватко. Калининград: Издательство Калининградского государственного университета, 2004. С. 227–253.
11. Янцен В.В. Неизвестный Чижевский: обзор неопубликованных трудов. СПб.: Издательство РХГА, 2008. 162 с.
12. Янцен В. Другая философия: переписка Д.И. Чижевского и Г.В. Флоровского (1926–1932, 1948–1972) как источник по истории русской мысли // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2008–2009 [9]. Под ред. М.А. Колерова и Н.С. Плотникова. М.: РЕГНУМ, 2012. C. 465–905.
13. Augustin A. Dmitrij I. Tschižewskij und seine Hallesche Privatbibliothek / Richter A. (Hrsg.). Dmitrij I. Tschižewskij und seine Hallesche Privatbibliothek. Bibliographische Materialien. Eingeführt von André Augustin, bearbeitet von A. Augustin und A. Richter / Slavica Varia Halensia. Hrsg. v. Angela Richter und Swetlana Mengel. Bd. 8. «Lit-Verlag» 2003. 480 S.
14. Heid. Hs. 3881, Abt. C, Buchstabe N, Mappe 11, Novikov M.
15. Heid. Hs. 3881, В 229, В 418, В 764–765.
16. Heid. Hs. 3881, В 396.
17. Tschižewskij D. Prager Erinnerungen: Herkunft des Prager linguistischen Zirkels und seine Leistungen // Sound, Sign and Meaning. Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle / L. Matejka (ed.). Ann Arbor, 1976. P. 15–28.
П.М. Бицилли и Г.В. Флоровский: диалог о формах исторического истолкования Инна Голубович
Позволю себе предварить непосредственное изложение темы двумя небольшими посвящениями. Для меня и для научно-просветительского общества имени Г.В. Флоровского, созданного на философском факультете Одесского национального университета [14, 15], особенно интересен диалог двух выдающихся ученых, представлявших традицию историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета (ИНУ) в Одессе. 2015 год – год юбилея университета. И это выступление – скромное юбилейное подношение альма-матер наших главных героев.
И еще одно посвящение – дань памяти трагически погибшего зимой 2014 года американского теолога Мэтью Бейкера, одного из вдохновителей и организаторов «Православного богословского общества имени Георгия Флоровского» в Принстонском университете (Georges Florovsky Orthodox Theological Society) [37]. Он был одним из самых глубоких исследователей творчества о. Георгия [33, 34, 35]. Именно М. Бейкеру перешла большая часть архива Флоровского, которая долгие годы хранилась у друга и биографа Георгия Васильевича Эндрю Блейна. Э. Блейн, профессор истории и один из лидеров правозащитной организации Amnesty International, известен как составитель «Жизнеописания о. Георгия» [8]. Это единственная более менее полная биография Флоровского, составленная на основании аудиозаписей устных бесед последних лет жизни выдающегося богослова. Мэтью Бейкер вместе с богословом Павлом Гаврилюком, одним из самых глубоких знатоков творчества Г. В. Флоровского [9, 10, 36], публикует материалы перешедшего к нему архива Флоровского[142]. Я познакомилась с Мэтью Бейкером в США, во время работы над проектом изучения интеллектуальной биографии Георгия Флоровского в рамках «Программы Фулбрайт». Он любезно представил мне аудиозапись лекции Флоровского, дал редчайшую возможность услышать его живой голос – ведь аудиозаписей и тем более видеозаписей с о. Георгием фактически не сохранилось. Историческая герменевтика – та часть теоретического наследия Флоровского, которая была наиболее близка Мэтью Бейкеру. В ноябре 2013 года он выступал с докладом на юбилейной конференции, посвященной Г.Флоровскому, которая прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Положения этого доклада, «Флоровский: историзм и герменевтика»[143], могут стать теоретико-концептуальной основой для более глубокого философского осмысления того эпистолярного источника, который представляется нами. В мае 2015 года в Греции прошла международная конференция «Онтология и история: диалог теологии и философии», посвященная памяти М. Бейкера.
Теперь переходим непосредственно к теме нашего исследования, в центре которого – письмо Петра Михайловича Бицилли к Георгию Васильевичу Флоровскому от 17 ноября 1922 г., направленное из Скопье в Прагу.
Небольшая экспозиция. П.М. Бицилли и Г.В. Флоровский покидают Одессу в 1920 году. Петр Бицилли как экстраординарный профессор Новороссийского университета (с сентября 1919 г.), в апреле 1918 г. Советом Саратовского университета он был избран ординарным профессором, но занять эту должность ему не довелось[144].
Г.В. Флоровский, как он сам указывает в официальных документах времен эмиграции, накануне отъезда из Одессы стал приват-доцентом. В личном университетском деле Флоровского последняя сделанная запись – стипендиат-преподаватель философии Высшей школы Одессы (август 1919 г.) [19]. В 1922 году 43-х летний историк-медиевист П. М. Бицилли преподает в филиале философского факультета Белградского университета в Скопье в качестве доцента кафедры всемирной истории. В то же время 29-летний Флоровский с декабря 1921 г. переезжает из Софии в Прагу, где он получает стипендию учебной коллегии правительства Т. Масарика в рамках «Русской программы». Он готовится к защите магистерской работы по философии по теме «Историческая философия Герцена». Кроме того, он приступает к преподаванию в Высшем коммерческом институте и на Русском юридическом факультете.
Письмо, о котором пойдет речь, было недавно обнаружено нами в личном архиве Г.В. Флоровского, хранящемся в библиотеке Свято-Владимирской духовной семинарии (Крествуд, Нью-Йорк)[145].
Письмо находилось в папке неидентифицированных документов, в коробке, с которой очень активно работали исследователи[146]. То, что никому не был известен почерк Петра Михайловича Бицилли, показывает то, что фигура Бицилли остается мало известной для западных исследователей. (Я и сама прошла бы мимо документа, если бы не знакомство с Таней Галчевой, благодаря которой почерк историка мне был известен.)
В целом интерес к судьбе и творчеству Бицилли носит пока у американских славистов эпизодический характер. П.М. Бицилли упомянут у Эндрю Блейна как молодой преподаватель ИНУ, о котором с теплотой вспоминает в поздние годы о. Георгий: «Наиболее способными преподавателями он считал П. М. Бицилли (русская история) и В. Е. Круссмана, который вел семинары. Они “еще были молоды, лет по тридцать пять или около того, они еще только становились на ноги как самостоятельные ученые…Мы подружились, беседовали на самые разные темы, и от них я узнал об истории много, хотя это было скорее неформальное общение”» [8, 22]. О Бицилли упоминает еще один американский ученик Флоровского и один из переводчиков «Путей русского богословия» Ричард Николс: Флоровский вспоминал в беседах с ним Бицилли как одного из любимых преподавателей[147]. Упоминал о нем и американский славист, также один из учеников о. Георгия, Алекс Климов. Наконец, Павел Гаврилюк в своей книге «Георгий Флоровский и русский религиозный Ренессанс» в главе «Философия истории» рассматривает роль Бицилли в формировании философско-исторического подхода Флоровского. Автор приходит к выводу, что именно под влиянием своего университетского преподавателя, ставшего в первые годы другом и соратником, молодой ученый резко выступает против органицизма, панлогизма и космизма с позиций персонализма и исторического сингуляризма [36, 93].
Чем же интересно обнаруженное письмо для исследователей истории российской эмиграции первой волны?
Во-первых, перед нами хронологически первое свидетельство переписки двух представителей историко-филологического факультета ИНУ, оказавшихся в изгнании. Еще в Одессе одаренного студента Георгия Флоровского и талантливого преподавателя истории Петра Михайловича Бицилли связывали дружеские отношения, которые, как видно из публикуемого документа, не прервались и в первые годы эмиграции.
Во-вторых, письмо является первым серьезным отзывом на текст магистерской диссертации Г. В. Флоровского «Историческая философия Герцена» – которая сама, в свою очередь, была первой магистерской диссертацией по философии, защищенной в рамках русских академических организаций за границей, воссоздавших в общих чертах соответствующие университетские структуры Российской империи (См. об этом: [17].). Драматическая история этой защиты, ставшей интеллектуальным событием в эмигрантской среде, привлекает сегодня пристальное внимание многих исследователей (Э. Блейн, В. Яйце и, П. Гаврилюк, М. Бейкер, М. Колеров, М. Каназирска, А. Черняев и др.) [3, 8, 16, 18, 36]. Для того, чтобы стал яснее контекст публикуемого письма, кратко остановимся на ней.
Известно, что защита состоялась 3 июня 1923 года в Праге и имела значительный резонанс. На защиту даже специально приехал П. Милюков, в том числе, чтобы выразить протест против образа А. Герцена, представленного соискателем. Менее известно, что первоначально защита должна была состояться осенью 1922 года. Предварительный вариант диссертации Флоровским был подготовлен еще в Софии, где он жил с января 1920-го по декабрь 1921 года после отъезда из Одессы. Не получив подходящей работы, занимаясь лишь техническим редактированием в Русско-болгарском издательстве и давая уроки русского языка детям дипломатического представителя России в Болгарии, молодой ученый большую часть времени посвящал написанию магистерской диссертации. И уже до отъезда в Прагу Флоровский представил редактору серии «Славянская библиотека» Николе Бобчеву «Краткий предварительный очерк» своего исследования (см.: [16, 330]. В следующем году, уже в Праге текст дорабатывался и расширялся, чтобы быть представленным в качестве магистерской диссертации в Учебную Коллегию. Защита предварительно планировалась на Русском Академическом съезде осенью 1922 года[148]. В начале сентября 1922 г., предположительно, диссертация была отправлена П. М. Бицилли.
Первоначально оппонентами на запланированной в ноябре 1922 года защите были определены философ, педагог, психолог И.И. Малинин и выдающийся мыслитель В.В. Зеньковский, служивший в 1920–1923 гг. профессором философского и богословского факультета Белградского университета. На состоявшейся 3-го июня 1923 г. защите магистерской диссертации Г.В. Флоровского Зеньковский выступил в качестве одного из оппонентов, вместе с П.Б. Струве и Н.О. Лосским.
Интересна фигура Ивана Михаловича Малинина (1883–1961), одесского коллеги Бицилли по историко-филологическому факультету ИНУ, у которого Флоровский прослушал в студенческие годы несколько учебных курсов – «Введение в философию», «Общая эстетика», «Галилей и его философия» (см.: [19]). Находясь с 1920 г. в эмиграции, Малинин был референтом по учебным делам Всероссийского Союза Городов, в 1922 г. назначен членом Совета по русским школам при Министерстве Просвещения. С 1925 г. – директор Русско-сербской гимназии в Белграде. (см: [1]). Обратим внимание еще на то, что назначенный оппонент не являлся вполне историком и философом. С одной стороны, это свидетельствует о кадровой проблеме в эмиграции – не хватало специалистов, занимающихся той или иной конкретной темой. С другой стороны, участие Малинина говорит о том, что диссертация Флоровского выходила за рамки узко-цеховой специализации. Что касается темы «психеи» в историческом истолковании, ключевой для нашего сюжета, то И. М. Малинин впоследствии писал работы именно в этом ключе («Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина: к вопросу о психологии бунта (психоналитический опыт)», 1934) [21]. Бицилли в том же году пишет рецензию на эту книгу [4]). Так что Малинин был идеальным оппонентом магистерской диссертации своего бывшего студента.
Именно об этой запланированной, но несостоявшейся защите, где собирался выступить Бицилли, и идет речь в письме. Документ дает возможность реконструировать некоторые этапы подготовки защиты диссертации. По содержанию публикуемый документ можно охарактеризовать как несостоявшееся выступление Петра Михайловича на диспуте, на который он собирался «непременно» поехать, но где он так и не смог присутствовать.
Наконец, в письме-отзыве на диссертацию поднимаются в сжатой конспективной форме важные для обоих корреспондентов проблемы философии истории, теории и методологии исторического познания, исторического истолкования. Именно этот аспект является наиболее существенным для нашего выступления.
Бицилли в это время готовит собственную работу «Очерки теории исторической науки» (опубликована в Праге в 1925 г. [5; переиздание: 6]). Текст книги должен был стать основой докторской диссертации «Проблемы истории», которую планировал защитить историк. Однако от этой идеи он затем отказался, может быть, что под впечатлением тех процедурных трудностей, которые пришлось претерпеть его младшему коллеге Флоровскому.
Одна из важных общих тем, которая объединяла двух мыслителей, была проблематика философии истории. Бицилли с явным одобрением оценивает принципиальный теоретический результат работы своего корреспондента: «Вы показали, как можно взорвать извнутри (так! – И.Г) философию истории романтизма, если перерасти романтику, но, “исторически” говоря, Вы, как мне кажется, ошиблись, утверждая, что такой взрыв был произведен, и именно Герценом» (подчеркнуто в оригинале – И.Г) [11, 170]. Беремся предположить, что сам Бицилли попытался в своей собственной работе, которую он как раз в это время пишет, «взорвать изнутри» философию истории как таковую, в том понимании, который он вкладывает в данный термин.
Действительно, в самом начале письма историк очень высоко оценивает магистерскую диссертацию своего бывшего студента. Она, по его словам, произвела на него «превосходное впечатление»; он нашел в этой работе «ряд почти буквальных совпадений с текстом» своей книги. [11, 169]. «Совпадения», пишет Бицилли, не касаются «общей концепции Герцена». Он признается, что Герцена знает мало, не все его произведения прочел, и вообще сам по себе этот исторический персонаж ему мало интересен. Речь, прежде всего, идет об общем «подходе». Именно это слово употреблено автором письма сразу после упоминания о совпадениях.
Наличие это общего подхода можно реконструировать, сравнивая «Очерки теории исторической науки» с опубликованными в 1920-е годы статьями Флоровского «Смысл истории и смысл жизни» (1921) [30], «О типах исторического истолкования» (1925) [28], тезисами доклада «О типах исторического истолкования», прочитанного 30 апреля и 27 мая 1925 года на заседании Русского исторического общества в Праге [29].
О своих планах на предполагаемой защите магистерской диссертации Бицилли пишет: «Я, может быть…. воспользуюсь случаем не для “дискуссии”, а для прославления Вашего (NB и моего собственного]) метода интерпретации “текстов” при помощи “перемещения себя внутрь” их автора, и поговорю о том, насколько это правильно и удобно не только для “философа”, но и для историка» [11,172].
Общее проблемное поле для двух авторов – новая трактовка исторического понимания; определение современных задач исторической герменевтики; критика философии истории гегелевского типа, гипостазирующей абстрактные и умозрительные сущности; противопоставление ей философии жизни (история versus жизнь)…
Насколько действительно общими не тематически, а сущностно, были мировоззренческие установки и теоретические подходы и Бищилли, и Флоровского?
П. Гаврилюк, к примеру, подчеркивая близость двух мыслителей, указывает на то, что базовые философско-исторические установки молодого Флоровского (персонализм, исторический сингуляризм versus органицистские модели культурно-исторического развития) сформировались не без влияния его университетского преподавателя. П. Гаврилюк также выстраивает ряд «фигур влияния», с чьими версиями персонализма солидаризировался Г. Флоровский: Шестов, Герцен, Бицилли, Ренувье [36, 93].
М. Каназирска, напротив, склонна говорить о несогласиях, «вызове» и «провокации» (последнее – употребляет сам Флоровский): «По-видимому, на его (Флоровского. -И.Г) письменном столе постоянно лежали в той или иной степени незаконченные рукописи или накопленные материалы для будущих научных сочинений. Иногда ему нужен был какой-то «вызов», чтобы вернуться к ним для окончательного завершения» [16, 340]. Исследовательница далее цитирует отрывок из письма Флоровского виднейшему болгарскому историку Василию Златарскому от 19 декабря 1924 года: «Только к празднику освободился, но тут поддался провокации – новая книга И. М. Бицилли[149] вызывает меня на возражения и занялся этюдом “О типах исторического истолкования”, для которого давно накопился материал» (19.XII.24)[150].
Не будем категорично противопоставлять две точки зрения, примем позицию несогласного согласия, провоцирующего, вызывающего возражения, инициирующего. Не случайно именно книга Бицилли «Очерки теории исторической науки» подтолкнула Флоровского к написанию, возможно, самой теоретически глубокой в его творчестве работы о методологии исторического познания. Однако, вернемся на несколько лет назад, к письму Бицилли и тезисно выделим конкретные темы, которые там затрагиваются:
1. Проблема индивидуальности (личности) в истории и метод индивиду ации в историческом познании. Бицилли подчеркивает общность их с Флоровским в защите идеи «первоисторичности личности» и метода индивидуации. Однако он видит серьезные расхождения в «степени» индивидуации: «Вы не пошли до конца на избранном Вами пути: Вы не “доиндивидуализировали” Герц[ена]» [11, 170]. Он предлагает больше принимать в расчет «эмпирическую», биографическую составляющую, а не прятаться за такими концептами, как «индивидуализм романтики вообще». «Если бы Вы больше приняли в расчет “эмпирическую”, в узком смысле личную его сторону, Вы может быть заметили бы, что его философия, его религиозность, его скепсис, – во многом коренятся в особенностях его личных свойств – человека с легко раздражимой эпидермой, большой способностью возбуждаться, очень хорошо резонирующего на все тона, но с очень небольшой глубины душевным тайником. Недаром он – словесная кокетка» [11,170].
Возражения Флоровскому воспроизводят основные контраргументы Бицилли в адрес трактовки Л.П. Карсавиным индивидуальности, «среднего человека», «общего культурного (религиозного) фонда эпохи». Тут можно вспомнить магистерскую работу самого Бицилли, изданную в 1916 году в Одессе – «Салимбене. Очерки итальянской жизни 13 в.» [7]. Нельзя в угоду концепту «средний человек эпохи» смешивать обычного монаха Салимбене и мистика Бонавентуру – одна из важных мыслей этой новаторской во многом работы.
2. Метод исторического истолкования и интерпретации «текстов» при помощи «перемещения себя внутрь» их автора. Бицилли оценил диссертацию Флоровского как «чрезвычайно удачную и глубокую попытку воссоздания Герценовской psyche. Саму герменевтическую стратегию исторического истолкования через погружение в чужую «психею» и перемещение себя внутрь автора Бицилли считал наиболее перспективной и правильной. Разумеется, при этом исследователь неизбежно вкладывает в исторического персонажа «собственное духовное содержание»[151]. Но для Бицилли это вполне допустимо, и даже неизбежно. Между тем, оппоненты и критики ставили в укор автору магистерской диссертации именно его субъективность: представлен «не действительный Герцен, а вымышленный» (Н.О. Лосский); «Герцен по-евразийски, сусально-православный» (М.В. Вишняк). Для Бицилли же одним из достоинств этой, пусть и весьма субъективной, трактовки столь значимой для российской духовной истории персоны стало «абсолютно-правильное» и «блестяще выполненное» Флоровским разрушение «интеллигентско-общественной» легенды о Герцене. Бицилли поддерживает развенчание этого мифа, однако тут же он пишет: «Мне бы не хотелось устраивать на чужбине процедуру пересмотра мощей наших святых. В конце концов – может быть я и вполне неправ: все это очень иррационально (т[о] е[есть] наши симпатии и антипатии)» [11,172].
Нашим главным аргументом в пользу предположения о том, что сам выдающийся специалист по средневековой истории собирался «взорвать изнутри» философию истории, служит ряд ключевых идей его книги «Очерки теории исторической науки». Бицилли крайне негативно относится к философии истории, считая ее на современном ему этапе «умершей дисциплиной». Для него философия истории является порождением определнной культурной эпохи, продуктом христианства, христианской философии вообще. Философии истории в интерпретации ученого присущи идея провиденциального водительства космической и исторической жизни, сочетание христианского телеологизма и механического детерминизма. С крушением этого базиса философия истории перестраивается. Однако для Бицилли такая трансформация «умершей дисциплины» непродуктивна. Он предлагает вообще заменить философию истории философией культуры. Сама же философия культуры трактуется в духе философии жизни, как и у Г. В. Флоровского, безусловно, с различающимися нюансами, которые с годами все больше и больше будут отдалять их друг от друга. Речь, прежде всего, о глубокой религиозности Флоровского, постепенно все глубже погружающегося в богословие. Сам же Бицилли никак открыто не выражал свое отношение к личной вере, рассматривая в своих публикациях все религиозные феномены преимущественно с научной, беспристрастной (насколько это возможно) точки зрения. В публикуемом нами письме это расхождение пока что выглядит как нюанс: Бицилли вскользь затрагивает тему «романтической религии» Герцена, решения им «проблемы Я и Всеединого» (естественно, так, как это решение было истолковано Флоровским). И далее он обрывает себя – «я этого не касаюсь». Бицилли отказывается обсуждать богословские вопросы – этого я не касаюсь. Для Флоровского чем дальше, тем больше такой путь становится невозможным. Некоторые исследователи употребляют в отношении мыслителя термин «богословие истории» (П.Б. Михайлов, Ю.А. Тюменцев) [21, 27]. А.В. Голубицкая специально ставит вопрос о концептуально-терминологическом самоопределении Флоровского относительно понятий «философия истории», «историческая философия», «историософия» [13, 100–102]. По ее мнению, для мыслителя термин «богословие истории» чужероден ввиду его тавтологичное™, ибо для него всякое подлинное богословие базируется на проблематике истории и не может никоим образом ее миновать. История без Христа невозможна, само христианство – историческая религия.
П.Б. Михайлов предлагает рассматривать как единый комплекс три работы Флоровского по проблематике исторического познания: «Смысл истории и смысл жизни» (1921), «О типах исторического истолкования» (1925), «Затруднения историка-христианина» (1957). Особое внимание он уделяет «О типах исторического истолкования», подчеркивая, что если бы эта работа, вышедшая в малотиражном издании, была бы вовремя введена в широкий научный оборот, Флоровский вошел бы в когорту крупнейших представителей исторической и философской герменевтики XX столетия (См.: [38]).
И еще один путь радикального отказа от философии истории обозначен Бицилли в «Очерках»: тема культурно-исторического синтеза, реально осуществляющегося лишь в историческом познании, а не в самой исторической действительности или с позиций некоей «метафизики истории». Бицилли, таким образом, ставит на первое место гносеологическую проблематику. В современной литературе принято различать субстанциональную философию истории (философию истории как таковую, историософию, телеологию истории и т. д.) и эпистемологию истории (эпистемологическую философию истории). Такое значимое и необходимое различение также должно было стать результатом «взрыва философии истории изнутри», в частности, и в той ее форме, которую осуществили в 1920-е годы Бицилли и Флоровский.
Таков набросок диалога об историческом истолковании двух выдающихся ученых. Я предлагаю для будущего рассмотрения одну весьма неожиданную траекторию, связанную с интересной находкой из архива Флоровского в Свято-Владимирской семинарии. Это тетрадка, подписанная «София 1921», которую можно назвать логико-философской тетрадью. Она содержит развернутый план будущего, возможно – диссертационного, исследования по логике. Еще в Одессе Флоровский заявил себя как ученик известного логика и психолога Николая Ланге. Даже беглый взгляд на софийскую «логико-философскую тетрадь» выявляет общую с идеями очерков об историческом истолковании проблематику эпистемологии истории и логики исторического познания. А более глубокий анализ этой и еще нескольких «философских тетрадок» молодого Флоровского, серьезно готовившего себя в 1920-е годы именно к академической философской карьере, позволит расширить контекст обозначенного нами диалога.
Литература
1. Арсеньев А.Б. Люди и книги: семья Малининых и их библиотека // Русское зарубежье и славянский мир: Сборник трудов. Белград: Славистическое общество Сербии, 2013. С. 206–223.
2. Архивные находки: Переписка ранних евразийцев. Публикация А. Е. Климова и М. Байссвенгера // Записки русской академической группы в США, XXXVII. Richmond Hill: The Association of Russian-American Scholars in the U.S.A. С. 9–229.
3. Бейкер М., Гаврилюк П. Девятнадцать тезисов диссертации протоиерея Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена» // Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 3 (52). М., 2013. С. 126–131.
4. Бицилли П.М. [Рец.:] Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина. – Белград, 1934 // Современные записки. 1934. Кн. 55. С.429–430.
5. Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. Прага: Пламя, 1925. 336 с.
6. Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки / Послесловие и примечания Б. С. Кагановича. СПб.: Axiōma, 2012. 427 с.
7. Бицилли П.М. Салимбене (очерки итальянской жизни 13 в.). Одесса: Тип. «Техник», 1916. 390 с.
8. Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / Общ. ред. Ю.П. Сенокосова. М.: АО Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. С. 17–240.
9. Гаврилюк П. Авторский текст диссертации прот. Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена»: Новый архивный материал и реконструкция композиции // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 1 (50). С. 63–81.
10. Гаврилюк П. Неизвестная страница историко-философского наследия Г. В. Флоровского // Историко-философский ежегодник 2013. М.: Канон, Реабилитация, 2014. С. 304–337.
11. Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспособляюсь к “независящим обстоятельствам”»: П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции / Научн. ред. В.В. Янцен, автор предисловия О.А. Довгополова. София: Солнце, 2015. 320 с.
12. Галчева Т.Н., Голубович И. В. «Вы вложили в Герцена собственное духовное содержание». Об отзыве «бывшем и несбывшемся» и об отложенной защите магистерской диссертации Г.В. Флоровского // «Понемногу приспособляюсь к “независящим обстоятельствам”…». С. 159–199.
13. Голубицкая А.В. Историческое время в философии истории Г. В. Флоровского //Дисс… канд. филос. н. Одесса: Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2015. 200 с.
14. Голубович И.В., Петриковская Е.С. Научно-исследовательский и образовательный центр имени Г. В. Флоровского в Одессе и традиции историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета// Русская философия: история, методология, жизнь. Об-во рус. философии при Укр. филос. Фонде. Полтава: ООО «АСМИ», 2011. С. 881–891.
15. Голубович И.В., Петриковская Е.С. Научно-исследовательский и образовательный центр имени Г.В. Флоровского в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова // Соловьевские исследования. Вып. 4 (36). 2012. С. 172–177.
16. Каназирска М. О раннем Флоровском и его связях с болгарскими учеными (на материале писем Н.С. Бобчеву и В.Н. Златарскому// Каназирска М. После России. К проблеме культуры российской эмиграции в Болгарии (1920–1940). Велико Тырново: Ивис, 2013. С. 330–343.
17. Ковалев М.В. «На этих съездах мы растем и в своих, и в чужих глазах». Из истории научных коммуникаций русской эмиграций (1929–1930) // Россия XXI. 2013. № 4. С. 76–95.
18. Колеров М. Утраченная диссертация Флоровского. Приложение: [Г. В. Флоровский. Историческая философия Герцена. Заключение] // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 г. / Отв. ред. М.А. Колеров. СПб: Алетейя, 1997. С. 245–257.
19. Личное дело Г.В. Флоровского // Государственный архив Одесской области. Ф. 45. Оп. 18. Д. 1024.
20. Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина: К вопросу о психологии бунта: Психоаналитический опыт. Белград: [Б.и.], 1934. 288 с.
21. Михайлов П.Б. Категории богословской мысли. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 310 с.
22. Попова Т.М. Біціллі Петро Михайлович // Одеські історики. Т. 1 (початок XIX – середина XX ст.) Енциклопедичне видання. Одеса: «Друкарский дім», 2009. С. 49–52.
23. Попова Т.Н. Бициллиеведение: Проблемы институциализации // Curriculum Vitae. Вып. 2.: Творчество П. М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета. Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 201 °C.15–25.
24. Попова Т.Н. Приближение к Бицилли [Электронный ресурс. Режим доступа: -k-bicilli].
25. Попова Т.Н. Бициллиеведение: состояние, проблемы, перспективы // «Погасло дневное светило…» Руската литературна емиграция в България 1919–1944 / Р. Русев, Й.Люцканов, Х. Манолакев [ред.]. София: АИ «Проф. Марин Дринов», 2010. С.334–348.
26. Попова Т.Н. Украинский ландшафт бициллиеведения: историографический контекст // ESCHATOS: философия истории в предчувствии конца истории. Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011. С. 16–30.
27. Тюменцев Ю.А. Образ христианского историзма в раннем творчестве Г.В. Флоровского // Вестник Томского Государственного университета. Серия «История. Краеведение. Этнология. Археология». 2005. № 289. С. 73–92.
28. Флоровский Г.В. О типах исторического истолкования // Сборник в чест на Васил Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност. Известия на Българския археологически институт, 3. София: Държавна печатница, 1925. С. 521–541.
29. Флоровский Г.В. «О типах исторического истолкования». Доклад прочитан 30 апреля и 27 мая 1925 года. Напечатан в «Сборник в честь на Васил Н. Златарски», София, 1925 // Записки Русского Исторического Общества в Праге. Книга первая. Прага, 1927. С. 32–33.
30. Флоровский Г.В. Смысл истории и смысл жизни // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли / Сост. Сенокосов Ю.П., Колеров М.А. М.: Аграф, 1998. С. 104–123.
31. Янцен В. Материалы Г. В. Флоровского в базельском архиве Ф. Либа (1928–1954). Приложение 1. Г. В. Флоровский. Тупики романтизма (Заключительная глава из книги «Духовный путь Герцена») (1929). Приложение 2. Г. В. Флоровский. Письма Фрицу Либу (1928–1954). Приложение 3. К предыстории возвращения Г. В. Флоровского из Праги на Запад. Д. Лаури. Письмо Ф. Либу (1945) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2004–2005 [7] / Под ред. М.А. Колерова и Н.С. Плотникова. М.: Модест Колеров, 2007. С. 475–596.
32. Янцен В. Новое о книге Г. В. Флоровского о Герцене: Г. В. Флоровский. Письма Иржи Поливке (1921–1925) // Русский Сборник: исследования по истории Росcии. Т. XII. О. Р. Айрапетов, М. Йованович, М. А. Колеров, Бр. Меннинг, Бр. и П. Чейсти (ред. – сост.). М.: Издательский дом «Регнум», 2012. С. 306–327.
33. Baker M. Between Creation and Eschaton. The Search for the Metaphysical Foundations of Freedom in the Neo-Patristic Synthesis of Georges Florovsky // 5th Annual Archbishop Iakovos Conference on Patristic Studies, March 19–22, 2009, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, 2009.
34. Baker M. Neo-patristic synthesis. An examination of a key hermeneutic paradigm in the thought of Georges V. Florovsky. Master thesis. Brookline, Massachusetts: Holy Cross Greek Christian School of Theology, 2010.
35. Baker M. Bibliography of Literature on the Life and Work of father George V. Florovsky // Записки Русской академической группы в США, XXXVII. New York, 2011–2012. C. 473–548.
36. Gavrilyuk P. L. Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance. – Oxford: Oxford University Press, 2014. 336 p.
37. Georges Florovsky. Orthodox Theological Society [Электронный ресурс. Режим доступа /~florov/#; ].
Сведения об авторах General data about the authors
Абдуллаев Евгений Викторович – кандидат философских наук, преподаватель Ташкентской православной духовной семинарии (Ташкент, Узбекистан), abd_evg@yahoo.com
Abdullaev Eugene – PhD in Philosophy, Lecturer, Tashkent Orthodox theological seminary (Tashkent, Uzbekistan), abd_evg@yahoo.com
Гаврилюк Павел Л. – PhD in Religious Studies, профессор факультета теологии, Университет ев. Фомы (Сент-Пол, Минессота, США), PLGAVRILYUK@stthomas.edu
Gavrilyuk Paul L. - PhD, The Endowed Aquinas Chair in Theology and Philosophy (Full Professor), Theology Department, University of St. Thomas (St. Paul, MN, USA), PLGAVRILYUK@stthomas.edu
Галчева Таня – создатель и главный редактор сайта Saved Archives (http:// ), посвященного истории русской академической эмиграции в Болгарии, независимый исследователь (София, Болгария), doverie@abv.bg
Galcheva Tanya – the Chief Editor of “Saved Archives” (http://www. savedarchives.net), a site devoted to history of Russian scholar emigration in Bulgaria, independent researcher (Sofia, Bulgaria), doverie@abv.bg
Голубович Инна Владимировна – доктор философских наук, профессор кафедры философии и основ общегуманитарного знания философского факультета Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (Одесса, Украина), innok04@mail.ru
Golubovich Inna V. - Dr.hab. in Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Faculty of Philosophy, Odessa I.I. Mechnikov National University (Odessa, Ukraine), innok04@mail.ru
Довгополова Оксана Андреевна – доктор философских наук, профессор кафедры философии и методологии познания Одесского национального университета им. И.И. Мечникова(Одесса, Украина), doaodl@ gmail.com
Dovgopolova Oksana А. - Dr.hab. in Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Methodology of Cognition, Odessa I.I. Mechnikov National University (Odessa, Ukraine), doaodl@gmail.com
Каменских Алексей Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми (Пермь, Россия), kamen7@mail.ru
Kamenskikh Aleksey А. - PhD in Philosophy, Associate Professor, HSE, Campus in Perm, Faculty of Social Sciences and Humanities (Perm, Russia), kamen7@mail.ru
Кузьмин Евгений Валерьевич – PhD in History and Comparative ReligioncneinianHCT по географии Восточной Европы, Музей Яд Вашем (Иерусалим, Израиль), yevgeni_kuzmin@yadvashem.org.il, eugeniuskuzminus@gmail.com
Kuzmin Eugene V – PhD in History and Comparative Religion, Specialist in Eastern European Geography, Yad Vashem Museum (Jerusalem, Israel), yevgeni_kuzmin@yadvashem.org.il, eugeniuskuzminus@gmail.com
Наливайко Инна Михайловна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии культуры Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь), niminna@mail.ru
Nalivaika Ina М. - PhD in Philosophy, Associate Professor, Philosophy of Culture Department, Belarusian State University (Minsk, Belarus), niminna@mail.ru
Немцев Михаил Юрьевич – кандидат философских наук, магистр гендерных исследований. Независимый исследователь (Москва, Россия – Вашингтон, США), nemtsev.m@gmail.com
Nemtsev Mikhail Yu. - PhD in Philosophy, MPhil in Gender Studies, independent researcher (Moscow, Russia – Washington D.C., USA), nemtsev.m@gmail.com
Панич Светлана Михайловна – независимый исследователь, переводчик (Москва, Россия), greycatll07@gmail.com
Panich Svetlana М. - independent researcher, translator (Moscow, Russia), greycat 1107@gmail. com
Резниченко Анна Игоревна – доктор философских наук, профессор кафедры истории отечественной философии философского факультета РГГУ (Москва, Россия), annarezn@yandex.ru
Reznichenko Anna I. - Dr.hab. in Philosophy, Professor, Department of History of National Philosophy, Faculty of Philosophy, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), annarezn@yandex.ru
Скиперских Александр Владимирович – доктор политических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми (Пермь, Россия), AVSkiperskikh@hse.ru
Skiperskikh Aleksander V. - Dr.hab. in Political Science, Professor of HSE, Campus in Penn, Faculty of Social Sciences and Humanities (Perm, Russia), AVSkiperskikh@hse.ru
Тал ал ай Михаил Григорьевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и представитель в Италии Института всеобщей истории Российской Академии Наук, главный редактор сайта “Русская Италия” (-russia.com), исследователь русской академической эмиграции в Италии (Милан, Италия), talalaym@mail.ru
Talalay Mikhail G. - PhD in History, senior staff scientist and a representative of The Russian Academy of Sciences’ Institute of General History in Italy, Chief Editor of the site “Russian Italy” (-russia.com) (Milan, Italy), talalaym@mail.ru
Штайн Оксана Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического университета), shtaynshtayn@ gmail.com
Shtayn Oksana А. - PhD in Philosophy, Associate Professor of the Philosophy Department of St.-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), shtaynshtayn@gmail.com
Янцен Владимир Владимирович – кандидат философских наук, независимый исследователь, хранитель архива Дмитрия Чижевского (Галле, Германия), dr.janzen@mail.ru
Janzen Wladimir W. – PhD in Philosophy, independent researcher, custodian of Dmitry Chizhevsky’s archive (Halle, Germany), dr.janzen@mail.ru
Примечания
1
Под «экзистенциальным жестом» мы понимаем реализацию жизненной стратегии в контексте иерархически наиболее значимых для данного человека ценностей.
(обратно)2
Под Александрийской школой принято подразумевать целый ряд направлений в философии, литературе, искусстве, богословии и науке, существовавших последовательно и параллельно в Александрии (Египет) с III в. до н. э. до VI в. н. э.
(обратно)3
Заголовок, присвоенный Волошиным двум тетрадям, содержащим автобиографические материалы. Они издавались трижды. Первое издание имело очень много пропусков, можно сказать являлось публикацией отрывков – 3, 55-236. Во втором издании были пропущены записи бесед Волошина с В.И.Суриковым – 4. Полностью «История моей души» опубликована в собрании сочинений Волошина [5, 7/1: 143–362].
(обратно)4
Следует отметить, что статья, написанная в 1907, не публиковалась при жизни поэта. Впервые напечатана в 1990 году в журнале «Наука и религия» [6]. В собрании сочинений – 5, 6/2:236–246.
(обратно)5
Ср. 5, 10:83. Здесь утверждается, что антропософы обычно менее догматичны, чем теософы.
(обратно)6
Ср. 1, 154.
(обратно)7
В этом году Волошин был отчислен из Московского университета, в результате его обвинения в участии в студенческих беспорядках. Наиболее обстоятельная биография Волошина – 10.
(обратно)8
Порой сложно отличить сугубо политические тексты от текстов, содержащих политические идеи. У Волошина политика сплетается с оккультизмом. Поэтому трудно назвать точное количество политических текстов. Здесь многое зависит от критериев. Очевидно, что все поэтические сборники после 1918 года насквозь пропитаны политическими идеями. Есть и множество несомненно чисто политических статей. Например, «Пророки и мстители» (1906), «Дело Дрейфуса» (1906), «Вся власть патриарху» (1918), «Гражданская война» (1920), «Россия распятая» (1920, текст никогда не публиковался), многочисленные заметки о Первой мировой войне.
(обратно)9
Фраза о снована на евангельской цитате из Матфей 12:30, Лука 11:23.
(обратно)10
«Имяславие» как перверсия. Светлана М. Панич предложила в ходе семинара название «зеркальное имяславие», обратив внимание на переворот этого термина относительно фигуры Зинаиды Гиппиус. Поддержав мысль Светланы, я продолжила «карнавализацию» М.М. Бахтина, обратив термин «зеркальное» в «зазеркальное», чтобы можно было говорить не только о смене левого и правого, но и о смене верхов и низов в революционной ситуации.
(обратно)11
В январе 1973 года: «Раньше, когда я был молодой, я распространялся о русской душе, славянофильские идеи у меня были… А потом с течением времени я во всем этом разочаровался… Нации уже нет. Теперь международная судьба» [7, с. 551].
(обратно)12
Понятие «идеократия» ещё в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (1894) было охарактеризовано как «искусственный и малоупотребительный термин» [10], но благодаря евразийцам получило уже надёжную «прописку» в русскоязычной социальной философии. Оно кажется подходящим для обозначения идеального общественного строя, чаемого и лидерами большевиков.
и теми, кто, не разделяя их социальных представлений, постепенно всё-таки присоединялся к ним. Это органическое государство, власть в котором принадлежит недемократическим носителям высшего интеллектуального и духовного потенциала, которые ведут особый аскетический образ жизни и требуют полного подчинения повседневной жизни населения реализации духовных задач государства, взятого как целое.
(обратно)13
«Доповщь, яку Гусерль прочитав у 1935 рощ у В1дш перед публпсою, котра переживала кризу, але плекала надйо на одужання, закшчуетъся показовою альтернативою: «геро!зм розуму» або занепад Свропи у «сломлено стих Уйм, теля етшькох десятил1ть, позначених вшнами, револющями та контррево лющями, виникае враження, що розум потребуе не етшьки герогв, скшьки партизашв i контрабандистгв» [1, 114].
(обратно)14
У Карла Поппера, назвавшего первый том своей классической работы «Чарами Платона» (Spell of Plato, 1945), были предшественники. Так, Бертран Рассел, посетивший Советскую Россию в 1920 году, вспоминал в 1956: «Я сказал… что Россия – в точности платоновское государство; моё высказывание шокировало платоников и шокировало русских, но я по-прежнему считаю, что это правда» [15, 211]. Многочисленные аллюзии на социальный проект Платона можно увидеть в знаменитом романе-антиутопии Евгения Замятина (1921), [см.: 3; 7]. Подход к Платону как исторически первому теоретику репрессивного государства и, следовательно, политически актуальному мыслителю был представлен в работах Уорнера Файта (1934) и Ричарда Кроссмана (1939), [см.: 11; 9]. Утверждения Б.Рассела, У Файта, РКроссмана и К. Поппера о «платонической природе» советского государства, платонические аллюзии в работах Е. Замятина и А. Лосева тем более интересны, что сам Платон официальной советской идеологией и философией расценивался только как идейный враг, создатель «объективного идеализма», но не как фигура, авторитетная для философа-марксиста. Здесь характерно то удивление с которым Карл Радек пишет о расселовом сравнении Советской России с государством Платона: «…Он говорит, что во многих отношениях советская Россия напоминает ему государство Платона. Ну, поскольку слово «Платон» используется здесь без издёвки, нам стоит поблагодарить Рассела хотя бы за это», [см.: 6].
См. также по данной теме серию работ Френсис Незеркотт (Frances М. Nethercott): [5; 12; 13]; см. также [8].
(обратно)15
Следует отметить, что помимо использования подобного рода форм «косвенной» интеллектуальной контрабанды, Лосев подчас прибегал и к совершенно непосредственной: через несколько месяцев после публикации «Очерков античного символизма и мифологии» Лосев отдал в типографию другую свою книгу – «Диалектику мифа», включив в неё некоторые параграфы, перед тем удалённые цензурой. Это послужило поводом для его ареста по обвинению в контрреволюционной деятельности и последующего приговора к десяти годам трудовых лагерей. В 1933 г., по причине резкого ухудшения здоровья, Лосев был досрочно освобождён.
(обратно)16
Ср. [4, 774]: «социология» Платона с диалектической необходимостью следует из его «идеологии» и являет собою её наиболее развитую форму.
(обратно)17
Здесь и везде в цитатах из «Очерков античного символизма и мифологии» курсив принадлежит А.Ф. Лосеву.
(обратно)18
Перевод А.Н. Егунова.
(обратно)19
Ср., к примеру, выделение курсивом всего предложения «Нет и не может быть никакой частной собственности» [4, 809]. К слову, здесь Лосев вновь использует в интерпретации текстов Платона терминологию, характерную для своего собственного времени.
(обратно)20
Ср.: «… не только в язычестве и в платонизме, но и везде всегда будет такой же парадокс…, где личность понимается как земное и материальное тело. Материализм диалектически связан с отвлечённой диктатурой общей формальной идеи над живой личностью» [4, 812–813].
(обратно)21
Лосевский анализ теории семьи у Платона дан на страницах 847–860.
(обратно)22
Излишне напоминать о влиянии, которое на раннего Лосева оказало чтение работы Освальда Шпенглера.
1. Вальденфельс Б. Топографы Чужого: студи до феноменологи Чужого. Киш: ППС, 2002,2004.
2. Довгополова О.A. «Casus Бицилли»: феномен интеллектуальной контрабанды и судьбы научных традиций // Эсхатос-П: философия истории в контексте идеи «предела». Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2012. С. 203–226.
3. Замятин Е.И. Мы: Текст и материалы к творческой истории романа. Ред. М. Любимова, Дж. Куртис. СПб.: Мфъ, 2011.
4. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологию МоскваЖ Мысль, 1993.
(обратно)23
Особенно в части «Отмежевание от идеалистической “линии” Платона и его утопии.
(обратно)24
Русский перевод сокращенной версии этой главы: [20]
(обратно)25
На работах Е.Н. Трубецкого [37], Р. Пелъмана [24], А. Рождественского [35], К. Новицкого [22], М. Выгодского [8], В.П. Перцева [26].
(обратно)26
Возможно, что это было сознательным сужением поля исследования – но в таком случае это следовало бы оговорить.
(обратно)27
Например, 2 мая 1920 года имя Платона в числе предтеч коммунизма называет в своем выступлении в Вольфиле Андрей Белый. См.: [4 (2), 436].
(обратно)28
Хотя стенограммы заседаний Вольфилы были опубликованы в 2005 году [4] (т. е. через пять лет после выхода книги Нэтеркотт), подробные воспоминания об этом «платоновском» заседании Н.И. Гаген-Торн вышли еще в 1990-м [9], и на них достаточно часто ссылаются.
(обратно)29
Можно также упомянуть доклад Фаддея Зелинского «Трагедия интеллектуализма у Платона», прочитанный 12 декабря 1920 года, и посвященный вопросам морали в диалоге «Гиппий Младший» [см. 4 (1), 399–401].
(обратно)30
Нэтеркотт анализирует поздние, 60-70-х годов, публикации Лосева [20,168–169].
(обратно)31
См., напр.: «Советская власть держится благодаря платоническим воззрениям русского народа» [36,124]
(обратно)32
Так, в статье М. Артемьева «Подпольная литература в советской России» (1930) среди различных «лагерей старой русской интеллигенции», существовавших в Советской России в 1920-е, названы «антропософы, <., > копирующие в реставрационных целях идеал “Государства” Платона» [245, цит. по: 14]. О популярности написанных в стиле Платона диалогов среди подпольных розенкрейцеров – см. [21,62].
(обратно)33
С.И. Гессен: «Этот коммунизм – не экономический и не политический. Его мотивом является не уничтожение эксплуатации одного лица другим и не осуществление экономического и политического равенства (как в современном коммунизме). Мотивы Платонова коммунизма исключительно этико-государственные: сохранение целостности государства и души отдельного человека через подчинение их идее Блага» [10,189]. Н. Устрялов: «…Коммунизм [у Платона] необходим для устойчивости государства, а отнюдь не ради экономического равенства и всеобщей материальной сытости граждан» [38].
(обратно)34
См. также об этих дискуссиях в: [19].
(обратно)35
Например, анализ социального учения Платона и его «коммунизма» занимал значительное место в лекциях, которые читал вс 1917 по 1921 годы в Томском Университете С.И. Гессен (См. [10]).
(обратно)36
Этот факт упоминает и Ф. Нэтеркотт, однако ошибочно приписывает «авторство» этого документа Ленину: «Первый сигнал об изменении официального отношения к Платону прозвучал в 1923 г., когда Лениным был издан декрет, предписывающий изъятие из публичных библиотек философских книг, признанных непригодными для свободного доступа» [20, 159].
(обратно)37
См. об этом эпизоде: [25, 61–62].
(обратно)38
«Рабы в душе и по сознанию, обыденно скучны, подлы, глупы. Им свойственна зависть на все духовное, гениальное» [Цит. по: 14].
(обратно)39
Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. Сотрудники ВОКСа были, как правило, непосредственно связаны с органами госбезопасности.
(обратно)40
Так, откликаясь в 1953 году на труд своего друга, историка философии В.Ф. Асмуса «Древнегреческая философия», Пастернак отзовется с похвалой именно об изложении учения Платона [6, 332]).
1. Абдуллаев Е.В. «На пире Платона во время чумы…» Об одном платоновском сюжете в русской литературе 1830 – 1930-х годов // Вопросы литературы. 2007, № 2.С.189–209.
2. Альтман И.А. Л. Фейхтвангер в Москве (из отчетов сотрудницы ВОКС) II Советские архивы, 1989, № 4. С. 55–61.
3. Артемьев М. Подпольная литература в советской России // Рассвет. Чикаго. 1930, № 233–235.
4. Белоус В.Г. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919 – 1924. В 2-х кн. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2005. 848 с.; 800 с.
5. Белый А. Воспоминания о Блоке // Эпопея. Литературный сборник. № 4. Берлин: 1923. С. 222–238.
6. Валентин Фердинандович Асмус / Сост. В.А. Жучков и И.И. Блауберг. М.: РОССПЭН, 2010. 479 с.
7. Всем губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек и изъятия контрреволюционной и антихудожественной литератур. М.: Красная новь, 1923. 22 с.
(обратно)41
Очередная Бахтинская конференция, прошедшая в Стокгольме летом 2014 года, показала, что, помимо различных европейских школ бахтиноведения (куда по умолчанию можно включить североамериканских и канадских авторов), есть уже и мощная китайская, и латиноамериканская.
(обратно)42
Впрочем, мысль об особой продуктивности недописанных текстов, посещала многих исследователей Бахтина.
(обратно)43
При желании читатель может обратиться к другим моим публикациям, посвященным творчеству В. Розанова и, отчасти, В. Одоевского.
(обратно)44
Сетевая версия данной работы: . ru/?p=3092#sdendnote46anc.
(обратно)45
Издательство «Наука и Школа» располагалось в самом центре Петрограда, на Литейном 36.
(обратно)46
О взаимосвязи издательства «Наука и Школа», журнала Петербургского философского общества «Мысль» и издательства «Academia» см.: [13]. Здесь же впервые опубликованы программные документы, касающиеся журнала «Мысль» и издательства «Academia», а также приведена существующая к сегодняшнему моменту литература вопроса, что освобождает меня от необходимости делать это ещё раз.
(обратно)47
См., напр.: [4]; [17]; [19] и др. Среди новейших исследований, хотя и не свободных от политической ангажированности, которая отчасти искупается полнотой собранного эмпирического материала, отметим: [1].
(обратно)48
Александр Ливериевич Саккетти (1881–1966) – философ права. Наиболее важная в настоящем контексте работа: [15].
(обратно)49
Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965), интерпретатор А. Бергсона (см: [6]), выдающийся философ-персоналист, автор книги «Мир как органическое целое» (1917); впоследствии – пропагандист и популяризатор русской философской традиции на западе (см.: [7]) в особом представлении не нуждается). Сложнее дело обстоит с Эрнестом Леопольдовичем Радловым (1854–1928), историком философии, принявшем пост редактора, после смерти Вл. С. Соловьева, философского раздела энциклопедии «Брокгауз и Эфрон». Сам биографический «Брокгауз» пишет о нем так: «<…> слушал лекции в Берлине и Лейпциге. Состоит библиотекарем философского отделения Императорской Публичной Библиотеки. Читал лекции по логике на высших женских курсах, по психологии и по истории философии в учил<шце>. правоведения. В Александровском лицее читает историю философии. Помещал статьи по философии в “Журнале Министерства Народного Просвещения”, “Вестнике Европы”, “Archiv fur Geschichte d. Philosophic”, “Северном Вестнике”, “Русском Обозрении”, “Вопросах Философии и Психологии” и в настоящем словаре <т. е. В «Брокгаузе». – А.Р>. Состоит членом ученого комитета при Министерстве народного просвещения и помощником редактора “Журнала Министерства Народного Просвещения» [14].
(обратно)50
Чуть позже, 21 апреля 1918 года, Н.О. Лосскому будет предложено вступить в члены комиссии по изданию намеченных правлением книг (см.: [9, л.4 об.]).
(обратно)51
Это протокол от 11 июля 1918 г. У Ивана Ивановича Лапшина (1870–1952) в рамках деятельности трудовой артели «Наука и Школа» готовились к выходу следующие работы: «Философия изобретения», «Психология изобретения» и «История педагогики», а также перевод «Психологии» В. Джемса ([9, л. 33, 52, 56]).
(обратно)52
В Уставе артели записано: «право собственности сохраняется за автором, но артели принадлежит преимущественное право на 2 издание и следующие» [18, л. 12].
(обратно)53
Об одной из причин сложной репутации Карсавина уже в Петербурге см.: [16].
(обратно)54
Это Протокол от 17 октября 1918 г.
(обратно)55
Экономическая составляющая деятельности этой артели была вполне обычной для того времени: минимизация наёмного труда (и. 7.), оборотный капитал, образованный из членских паев и ежегодных отчислений от прибыли, а также займов (и. 11) и запасный – из ежегодных процентных отчислений от чистой прибыли артели (и. 12.) – причем при ликвидации артели т. н. неделимый капитал не распределялся между членами артели, а передавался в кооперативные учреждения и на кооперативные цели (и. 10)ит.д. [18, л. 1об.-2].
(обратно)56
Это правленая черными чернилами и неподписанная машинопись.
(обратно)57
Стилистика источника сознательно сохранена.
(обратно)58
Подчеркнуто в тексте.
(обратно)59
Шрифтовые выделения и особенности правописания сохранены.
(обратно)60
И не только его одного: среди авторов «Артельного дела» – философ С.А. Аскольдов (Алексеев) и социолог П.А. Сорокин. Пик их участия в журнале приходится на самый первый, 1921 г., а после 1922 г. руководимый Миролюбовым журнал полностью утрачивает философскую проблематику и сосредотачивается исключительно на проблемах кооперации и статистики.
(обратно)61
Темой отдельного исследования может также служить несомненная родственность и преемство смыслов такого понятия, как «община» в публицистической
риторике XIX века в обоих – славянофильском и западническом – изводах, – и понятия «артель».
(обратно)62
Zeitgeist (нем.) – дух времени.
(обратно)63
Точная цитата: «природа есть видовая особенность (specificata proprietas) любой субстанции, а лицо – неделимая (individua) субстанция разумной природы» [2, 175].
(обратно)64
Разрядка Карсавина.
(обратно)65
Если на одно мгновение я приостановлю свою работу
там, куда меня поместило время,
все рухнет.
Александр Геров «Обвал»
(обратно)66
Так – в тексте письма: все местоимения, относящиеся к Бицилли, Дуйнев пишет с заглавной буквы (прим. ред.).
(обратно)67
Сохранена орфография и пунктуация оригинала (прим. ред.).
(обратно)68
О Н.П. Оттокаре в последние годы появилась целая серия исследований; укажем основные: [5; 6; 7; 10].
(обратно)69
О написании и издании этого исследования см.: [8].
(обратно)70
В Перми историк издал свою единственную русскую книгу «Опыты по истории французских городов в средние века» [11]. См. также: [9].
Пользуясь случаем, выражаю благодарность Наталье Верещагиной, преподавателю кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ-Пермь, которая после нашего знакомства на семинаре в Перми любезно отсканировала и переслала мне электронную копию всего дела Н.П. Оттокара из Пермского университета Р-180. Оп. 2. Д. 257 (112 листов).
(обратно)71
В своих мемуарах В.В. Вейдле отводит Н.П. Оттокару значительное место; см.: [2].
(обратно)72
Наблюдение А.Б. Шишкина (Рим).
(обратно)73
До 1925 г. Оттокар числился профессором Пермского университета.
(обратно)74
Эту дату сообщает в своих воспоминаниях Дженсини, причем пишет о вступлении Оттокара в «P.N.F.»: Национал-фашистская партия в виде аббревиатуры выглядит не так брутально. Однако можно предположить, и тому есть некоторые мемуарные подтверждения, что Оттокар мог сочувствовать идеологии Муссолини, ее антикоммунистической закваске и имперским мечтаниям.
(обратно)75
См. обстоятельную рецензию на книгу: [8].
(обратно)76
См. отзыв об этой и предыдущей статьях: «Материалы, подготовленные Ренато Ризалити и Лоренцо Пуббличи, имеют к Оттокару косвенное отношение или, лучше сказать, не имеют никакого. Это обзоры, посвященные русской эмиграции, теме средневековой религиозности в работах Льва Карсавина; переводы писем Карсавина и Гревса с выяснением их отношений, перевод дневниковых записей Гревса о его первом приезде в Италию» [3,106].
(обратно)77
В действительности, это площадь, одноименная дворцу, т. е. пьяцца Толомеи, на которой, в самом деле, стоит также и церковь Сан Кристофоро. – здесь и далее примеч. М.Г. Талалая. (Благодарю Алессандро Фарсетти, доцента Сиенского университета, за просмотр перевода).
(обратно)78
Точное название строения – палаццо Ки д жи-Сарачини.
(обратно)79
Составлено заведующей отделом автоматизации фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Анной Вадимовной Костициной.
1. Анциферов Н.П. Отчизна моей души. Воспоминания о путешествиях в Италию. М.: Старая Басманная, 2016. 202 с.
2. Вейдпе В.В. Воспоминания /Публ. И. Дороченкова // Диаспора: новые материалы. Вып. 2. СПб.: Феникс, 2001. С. 24–153.
3. Дубровский И.В. Очерки социальной истории средних веков. М.: Издательский дом «Регнум», 2010. 164 с.
4. Из личного дела профессора Пермского университета Н.П. Оттокара / Предисл., подгот. текста и сост. научного комментария А.И. Клюев // Европа: международ. альманах. Вып. 9. Тюмень: Экспресс, 2010. С. 155–158.
5. Клементьев А.К. Николай Петрович Оттокар. (Путь русского историка: Санкт-Петербург – Пермь – Петроград – Флоренция) // Исторические записки. № 7 (125). М., 2004. С. 323–338.
6. Клементьев А.К., Клементьева В.А. Три университета Николая Петровича Оттокара. Санкт-Петербург – Петроград – Пермь – Флоренция // Русские в Италии:
(обратно)80
См. также: Зензинов В. Пережитое. New York: Изд-во имени ЧеховаД 953. 414 с.
(обратно)81
Статья Г.П. Федотова была переиздана в 187-м выпуске «Вестника РХД» за 2004 год. См.: Г.П. Федотов. И.И. Фондаминский в эмиграции // Вестник Русского студенческого христианского движения. № 187. Париж-Нью-Иорк-Москва, 2004 (I), с. 73–88.
(обратно)82
Эту работу, опубликованную в вышедшем в Кракове труднодоступном сборнике «Интеллигенция, традиция и Новое время», удалось найти исключительно благодаря подсказке ее автора, за что я О.Р Демидовой очень признательна.
(обратно)83
В этой работе не рассматриваются собственно политические взгляды И.И. Фондаминского, несомненно, позволяющие лучше понять траекторию его выбора, но требующие отдельного исследования.
(обратно)84
Федотов, один из самых глубоких и непредвзятых исследователей русской агиографии, писал, что подвиг свв. Бориса и Глеба задал новую агиологическую парадигму. Утверждение о том, что И.И.Фондаминский «стал учеником первого русского князя, Бориса», дает основания ставить вопрос о новом типе святости, явленном в жизненном свидетельстве Фондаминского, и всех Парижских ново-мучеников.
(обратно)85
Библиографию основных выступлений и статей Фондаминского межвоенных лет см. в: Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. Франция. В 4 т. / Под. общ. ред. Л.А.Мнухина. М.: Эксмо, Париж: YMCA-Press, 1995–1997.
(обратно)86
К тому же кругу еврейских купцов 1-й гильдии, имевших право селиться вне черты оседлости, принадлежал и дед С.Л. Франка, Моисей Россиянский. См. об этом: Ф. Буббайер. С.Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001, с. 16 и далее.
(обратно)87
«Это был кружок юных идеалистов-общественников, искавших смысла и оправдания жизни, чутко откликавшихся на все ее веяния и мечтавших о служении человечеству, – вспоминал В.Зензинов. – Они ходили в Большой и Малый театры, усердно посещали Румянцевскую библиотеку, читали рефераты на общественные, литературные и научные темы, спорили до утра, дурачились и веселились… Вряд ли был такой вопрос – политики, литературы, искусства, философии, которого бы они не касались и не решали» [10, 299].
(обратно)88
Этот псевдоним Фондаминский выбрал случайно, по названию по названию большого бакалейного магазина на Маросейке, мимо которого проезжал на одно из собраний.
(обратно)89
Их семьи вместе ходили в Московскую хоральную синагогу (Большой Спасоглинищевский переулок, д. 10), членами которой могли быть как хасиды, к которым принадлежали многие поколения Вишняков, так и митнагдим, к каким относили себя Фондаминские.
(обратно)90
Обсуждение доклада, вызвавшего крайне неодобрительную реакцию Д. Мережковского и его секретаря В. Злобина, см. в: Зеленая лампа. Беседа IV // Новый корабль. № 4. Париж, 1928. С. 40–48.
(обратно)91
О противоречивом и зачастую настороженном отношении к идее «интеллигентского ордена» со стороны различных эмигрантских кругов, в частности, упоминает В. Варшавский. См.: [6, 20].
(обратно)92
Аналогичную мысль, применительно к церковной ситуации, высказывает в статье 1936 года «Настоящее и будущее Церкви» м. Мария Скобцова: «Разбросанная по территориям многочисленных государств, не связанная органически со странами, ее приютившими, предоставленная сама себе, не интересующая почти нигде никакую власть, церковь в эмиграции вольна жить, лишь руководствуясь ей самой присущими законами. В этом величайший, всемирно-исторический и даже провиденциальный смысл нашего, на первый взгляд невыносимого и ненормального, положения. С точки зрения духовной жизни это положение может быть единственно нормальное за все время существования церковной истории. Мы свободны, – и это значит, что за все наши неудачи, даже просто за нашу инертность, мы отвечаем сами… мы должны вольно и ответственно принять нашу церковную судьбу как подвиг, как крест, возложенный Богом на наши плечи. На нас лежит ответственность за религиозное свободное творчество русского православия, за православную культуру, за сохранение и преумножение полученного нами наследства.» [15].
(обратно)93
Слова матери Марии приводятся в записи к. Мочулъского. См.: [11, 70].
(обратно)94
См.: [16,504].
(обратно)95
Именно так понимала предназначение «Православного дела» мать Мария: «Надо стремиться к тому, чтобы каждое наше начинание было общим делом всех тех, кому оно нужно, а не некоей благотворительной организацией, где одни благотворят и отчитываются перед начальством, а другие получают благотворение и уступают место следующим, выпадая из круга нашего зрения. Нам надо выработать соборный механизм… К этому нас обязывает наша идея соборности…абсолютно никто не может быть для нас очередным номером… Я бы сказала, мы не можем дать кусок хлеба, если мы не почувствовали в просителе человека» [14,105].
(обратно)96
Выразительный образ этих встреч создала в своих воспоминаниях пришедшая на Лурмель подростком Доминик Десанти, дочь парижского друга семьи Фондаминских. См. [9, 13–17].
(обратно)97
Развивая эту схему, можно говорить еще и о русском богословии после «Перестройки» как периоде «после изгнания» (с 1990-х годов по настоящее время). В двадцать первом веке на постсоветскую русскую и украинскую богословскую науку возложены большие ожидания.
(обратно)98
Использование термина «отцы» не означает, что я игнорирую вклад выдающихся женщин, таких как Зинаида Гиппиус и Маргарита Морозова, а также, в поколении «дочерей», монахини Марии Скобцовой (1891 – 1945), недавно причисленной к лику святых.
(обратно)99
См., например: Г.П. Федотов [25, 9-10]. С. Булгаков описывал различия поколений в своем письме А.В. Ставровскому от 1 октября 1924 г.: «Дело, конечно, в различии исторической ориентации и возраста, далее, культурной насыщенности и вследствие этого некоторого неизбежного различия в языке и культурной психологии. Это различие квалифицируется в отношении к нам (я знаю это) как свойственная поколению мягкотелость и половинчатость, в отличие от волевого радикализма молодых, а нами как известная варваризация и направленство, некоторый опасный религиозный синкретизм. Разумеется, молодежь имеет право, а в известном смысле даже обязанность на прямолинейность, которая была бы невыносимым гримом молодящихся стариков у старшего поколения, она неизбежно даже впадает в направленство, но при этом можно и должно преодолеть отношение “отцов” и “детей” прежних наших эпох…» [6,160–161].
(обратно)100
См.: [26,32–33], [41,323].
(обратно)101
Среди прочего, такая критика высказывалась в [48].
(обратно)102
Ср.: [48,242], [1,57].
(обратно)103
См.: [31].
(обратно)104
См. об этом: [34, 446].
(обратно)105
Флоровский, письмо ИржиПоливке 6 июля 1921 г., [11, 95].
(обратно)106
См., например: Флоровский, письмо Иржи Поливке 11 августа 1922 г. [11, 96]; письмо Анне Спалдинг 27 февраля 1940 г.
(обратно)107
Следует заметить, что в поколении Флоровского звучали голоса, не вполне соответствующие моему описанию различий между поколениями. Например, Павла Евдокимова (1901–1970), Николая Арсеньева (1893–1966) и Льва Зандера скорее можно назвать переходными фигурами.
(обратно)108
Ефим Пивовар в [20, 82–84] обсуждает различные количественные оценки, колеблющиеся от полутора до более двух миллионов. Автор подчеркивает, что точную цифру определить затруднительно. Р. Г. Шмаглитв [32, 6] называет общую цифру три миллиона. Марк Раев в [46, 202–203] приводит статистику русскоязычной эмиграции по странам. Следует отметить, что дореволюционная эмиграция была более многочисленной. Со второй половины девятнадцатого века и до 1917 года страну оставили примерно 4,2 миллиона человек, из которых 95 % выехали в США и Канаду (см.: [47, 6]).
(обратно)109
См.: [24,6].
(обратно)110
В своем фундаментальном исследовании «Russia Abroad» Марк Раев показал, что большую часть эмигрантов составили представители не элит (как иногда думают), а рабочего класса.
(обратно)111
История злоключений и несчастий, пережитых Мережковским и Гиппиус во время их бегства из большевистской России в Польшу, описана в [9, 251–272].
(обратно)112
Обсуждение процесса их высылки см. в: [30, 189–208]; на с. 201 приводится список из тринадцати философов.
(обратно)113
См.: [3,223–224]; [18,236–238].
(обратно)114
В 1923 году Булгаковы все еще питали надежду воссоединиться со своим сыном в Праге. См.: Булгаков, письмо Бердяеву 25 января 1923 г., [4, 180]. Федор смог приехать в Париж лишь после Второй мировой войны, чтобы посетить могилы своих родителей.
(обратно)115
Флоровский, письмо Н. Струве 16 января 1979 г., [15, 94].
(обратно)116
По-видимому, советское правительство планировало выслать и Василия, но этот план не был осуществлен. См.: [8, 93].
(обратно)117
См.: [21].
(обратно)118
Детальное описание личного участия Ленина в планах высылки приводится в: [36]; [10]; [38, 151–227].
(обратно)119
См.: [50].
(обратно)120
Ср.: [7, 429^430]; архимандрит Иоанн Леончуков, речь по случаю освящения церкви Святого Сергия «Десятилетие Сергиевского Подворья», в: [22, 25].
(обратно)121
В 1920-е – 1930-е годы в Праге было открыто пять русских учебных заведений, в Харбине шесть, а в Париже восемь. См.: [33, 55].
(обратно)122
Антоний Флоровский в [39, 216] сообщает, что только по русской истории ученые-эмигранты написали более 500 статей и книг, вопреки финансовым ограничениям и недоступности архивных материалов в России. О жизненно значимом иностранном финансировании Свято-Сергиевского института см. также: [46, 71–89]; [47,73–94].
(обратно)123
Описание участия русских эмигрантов во французской культурной жизни см. в: [44]; [45, 3—46]. Анализ смены поколений русской эмиграции и ее ассимиляции см. в: [43, 58–99].
(обратно)124
Марк Вишняк, интервью 30 июня 1968 г., цитируется в: [49,216].
(обратно)125
С. Булгаков, письмо Бердяеву 12 мая 1923 г., [4,182].
(обратно)126
Анализ этого общего опыта см. в: [1, 57].
(обратно)127
Иногда встречается неточное утверждение, что термин «воцерковление» был изобретен в русской эмиграции. Однако еще Николай Гоголь (1809 – 1852) ввел в литературное употребление девятнадцатого века старославянский термин «оцерковление», обозначая этим словом возврат России к истокам православной веры. См.: [13, 44]. В эмигрантской литературе оба термина часто употреблялись почти синонимически.
(обратно)128
В 1925 году в составе «Живой Церкви» насчитывалось около тридцати епископов, не считая более двадцати епископов, к тому времени уже умерших. Список епископов см. в: [28, 328–330].
(обратно)129
Позднее руководство РПЦЗ переехало из Сремски-Карловци в Мюнхен, а затем в Нью-Йорк. В 2007 году было официально восстановлено каноническое общение между РПЦЗ и Московским Патриархатом.
(обратно)130
Флоровский, письмо П. П. Сувчинскому 3 декабря 1923 г., [23, 164]; [4, 93]. На одном из собраний Братства Святой Софии Флоровский сделал следующее заявление: «Я лично очень хотел бы элиминировать из церковной жизни политические элементы, но я откровенно сознаю, что это очень трудно». См.: «О положении Церкви в России», протокол встречи Братства в Праге 21 мая 1925, [4, 81–82]. О критике Флоровским политической позиции РПЦЗ см.: [4, 96].
(обратно)131
См.: [35, 79]. РПЦЗ наградила Флоровского золотым крестом за его служение в годы Второй мировой войны. См.: [19, 217, прим. 14]. Архиепископ Этнийский Хризостом, лидер отколовшейся группы православных традиционалистов, известной как «Старокалендарная Православная Церковь Греции: Священный Синод противостоящих», утверждает, что Флоровский, будучи в Югославии, служил как священник РПЦЗ. См.: [37,28–29].
(обратно)132
Принадлежность Флоровского Константинопольскому Патриархату подтверждает письмо архиепископа Греческой Православной Церкви Северной и Южной Америки Михаила от 2 июня 1958 г., GFP PUT, Box 23, f. 1.
(обратно)133
Православная Церковь оставалась катализатором групповой идентичности также и для последующих волн русской эмиграции. См.: [33, 185].
(обратно)134
Приведу лишь несколько наиболее характерных высказываний Д.И. Чижевского по теме интердисциплинарности из его писем к В.И. Вернадскому: «Думаю, что Вам были бы интересны работы фонологов (по существу – русское течение в европейской лингвистике, – представленное Трубецким и Якобсоном)» (письмо от 7 июля 1932 г.). – Цит. по: [1, 425]. «Последнее время я внимательно следил за выходящей в России литературой по истории литературы – много интересного, но не марксистского. За границей русская наука приобрела сейчас огромное влияние в лингвистике – благодаря Трубецкому (венскому – Николаю Сергеевичу), исходящему отчасти из Фортунатова, отчасти из Бодуэна-де-Куртенэ, а отчасти – по-моему – из традиций русского гегельянства. Думаю, что это влияние еще усилится с течением времени. Для русской науки вообще сейчас крайне благоприятная конъюнктура и просто трагично, что многое сквозь многоразличную цензуру вовсе не доходит до Европы, да не появляется в печати и в самой России» (письмо от 10 августа 1932 г.) [1, 427]. «Ваши философские соображения меня очень интересуют. Сам я, к сожалению, не имею почти возможности заниматься проблемами философии наук. Пока. Надеюсь к этим темам еще вернуться. В частности, исходя из вопросов языковедения, – не знаю, знаете ли Вы работы Ник. Серг. Трубецкого. У меня, к сожалению, нет их лишних оттисков, но думаю, у него еще есть и он Вам их охотно вышлет: несколько его работ – как раз основоположных – вполне доступны и неспециалисту» (письмо от 10 ноября 1936 г.) [1, 431].
(обратно)135
«Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Михайлович! …Ваши естественнoисторические работы мне отчасти известны, так как я, конечно, очень интересуюсь вопросом о „конвергенциях“, пожалуй, еще более важным для истории литературы, чем для лингвистики, да и вообще интересуюсь общими вопросами разных групп наук. И Ваш оттиск о Пуркинье мне интересен (я его читал и раньше). У меня есть ряд неизданных писем Пуркинье его зятю-врачу. Я также их издам в серии „Мусагет“ или в другой, которую собирается выпускать тот же издатель» (письмо Д.И. Чижевского М.М. Новикову от 2 июня 1957 г.). – Цит. по: [4, 135]. «Дорогой Дмитрий Иванович!…Мне очень приятно, что Вы интересуетесь типологическим методом исследования в различных науках и моим принципом гомоморфизма, т. е. сходства между явлениями в отдельных областях науки, сходства, в основе которого лежит не наследственность, т. е. происхождение от общего предка, и не вторичное приспособление к окружающим условиям, а изначальные, первичные закономерности, присущие каждой науке в отдельности, а отчасти и всей совокупности человеческих знаний. Такие сходства объясняются не только механистическими, но и идеологическими причинами, что до изв<естной> степени стирает грань между витализмом и механизмом. Мне очень жаль, что в моем возрасте уже трудно отчетливо мыслить и продолжать разработку всех подобных вопросов. Но я всегда рад слышать, что и друзья мои интересуются ими» (письмо М.М. Новикова Д.И. Чижевскому от 10 июня 1957 г.) [14].
(обратно)136
Машинописный немецкий текст воспоминаний и корректуры их первой публикации хранятся в архиве Чижевского в отделе рукописей и редких книг библиотеки Гейдельбергского университета [15]. Первая публикация: [17]. Перевод на русский язык: [10].
(обратно)137
В Кировограде я готовлю дополненное отдельное издание этой переписки.
(обратно)138
См. также их комментированное современное издание: [8, 686–688].
(обратно)139
«У меня случайно сохранилось Ваше старое письмо – еще 1937-го года – с поправками и дополнениями к, Дутям“» – пишет о. Георгий Чижевскому 18 октября 1965 года [12, 709].
(обратно)140
В предисловии к своим «Замечаниям», датированном маем 1968 года, Чижевский писал: «,Дути русского богословия44 отца Георгия Флоровского принадлежат к основоположным работам по духовной истории восточных славян – отнюдь не только по истории богословия. Эта стилистически блестяще написанная книга вышла уже почти 30 лет тому назад. Вряд ли можно назвать несколько работ, существенно исправивших изложение о. Флоровского. Но работа его шла в связи с его жизненным путем несколько извилистыми дорогами; в частности, в процессе работы он значительно расширил свой план и в то время как первым векам христианства у восточных славян (11–15 век) посвящено всего 30 страниц, 16-му и 17-му векам – 50 страниц, на дальнейших 400-х страницах о. Георгий подробно говорит о следующих, более близких к нашему времени двух веках русской духовной истории. Не удивительно, что у специалистов, занимавшихся не столько историей богословия, сколько историей литературы, языка и культурной историей, накопилось достаточно замечаний, по преимуществу дополняющих многое, слишком бегло освещенное в книге, а отчасти и вопросов, на которые основоположный труд не дает ответа. Я и позволю себе посвятить уважаемому и дорогому юбиляру собрание этих замечаний и вопросов, которые отчасти выросли из чтения и перечитывания книги, отчасти – из разговоров с о. Георгием, отчасти из бесед с немецкими студентами, которым надо постоянно рекомендовать “Пути русского богословия” как источник информации и поучения. По большей части книгу удается получить только с большими трудностями, и перепечатка книги является одним из настоятельнейших пожеланий славистов и историков Восточной Европы вне пределов СССР (таким же настоятельным пожеланием является и составление индекса к этой незаменимой книге, а также дополнение обширной библиографии – 50 страниц петита! – чем автор настоящих строк в надежде на новое издание „Путей44 давно занимается)» [16].
(обратно)141
Каталога личной библиотеки Г.В. Флоровского не существует Первая же часть личной библиотеки Д.И. Чижевского, хранящаяся в Галле, описана довольно основательно: [13].
(обратно)142
В частности, 19 тезисов магистерской диссертации Г.В.Флоровского «Историческая философия Герцена» – одного из важнейших источников и для нашей публикации [3]
(обратно)143
Международная научная конференция «Философское и богословское наследие Г.В. Флоровского: современные интерпретации», 2013: Институт философии РАН, Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына [Электронный ресурс. Режим доступа: ].
(обратно)144
См.: [22]. Укажем и на другие статьи одесского историка Татьяны Николаевны Поповой, предложившей развивать бициллиеведение как область междисциплинарных исследований [23, 24,25, 26].
(обратно)145
Впервые документ был опубликован нами в: [11,12].
(обратно)146
А.Е. Климов и М. Байссвенгер публикуют, в частности, письма раннеевразийского периода (Н.С.Трубецкого, П.П. Сувчинского, А.А. Ливена) См.: [2].
(обратно)147
Письмо Р. Николса И. Голубович, ноябрь 2011. Личный архив автора.
(обратно)148
См. письмо Г. Флоровского к И. Поливке от 11.YII.1922 г. [32, 324].
(обратно)149
Флоровский имеет ввиду книгу П.М.Бицилли «Очерки теории исторической науки» [5].
(обратно)150
Научный архив Болгарской академии наук. Ф. 9. Оп. 1. Док. 1737 (Цит. по: [16,340]).
(обратно)151
«Вы вложили в Герцена собственное духовное содержание», – так оценивает П.М. Бицилли образ российского мыслителя, представленный Г. В. Флоровским.
(обратно)


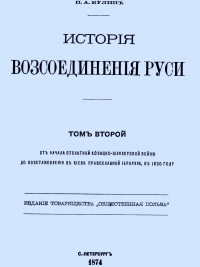
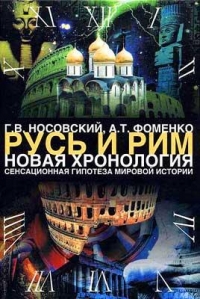
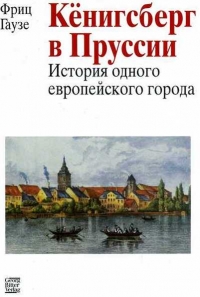
Комментарии к книге «Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года. Экзистенциальное измерение», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев