Людмила Иванова Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева
Ven’an tietoakadeemii
Karjalan tiedokeskus
Kielen, literatuuran da histourien instituuttu
Dmiitrii Požarskoin yliopisto
L. I. Ivanova
Kyly:
karjalaizien tavat da uskomukset, rahvahan liecetiedo da kylyn haltijat
Moskovu
Dmiitrii Pozarskoin yliopisto 2016
Утверждено к печати Ученым советом Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН
Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета Университета Дмитрия Пожарского
Научный редактор
кандидат исторических наук А.П. Конкка Рецензенты:
доктор исторических наук И.Ю. Винокурова,
доктор филологических наук А.В. Пигин,
кандидат филологических наук О.М. Жаринова,
кандидат исторических наук К.К. Логинов,
кандидат филологических наук В.П. Миронова
Введение
Работа написана на основе рукописных материалов, хранящихся в Научном архиве КарНЦ[1], и аудиозаписей из Фонограммархива ИЯЛИ[2]. Данные тексты собраны в основном во второй половине XX века. Все они (кроме причитаний) выявлены, расшифрованы и переведены на русский язык автором книги, на протяжении последних двух десятилетий собиравшим материал по карельской мифологии во время ежегодных фольклорно-этнографических экспедиций. Более ранние записи, относящиеся к XIX и первой трети XX века, выявлены в Фольклорном архиве Финского литературного общества[3]. Большинство фольклорных текстов вводятся в научный оборот впервые, в сносках указывается место записи.
Дополнительный фактический материал по обрядам, проводимым в бане, и верованиям, связанным с банной тематикой карелов, взят из немногочисленных печатных источников. Это статьи Н. Ф. Лескова, М. Д. Георгиевского, А. Георгиевского и некоторых других авторов, напечатанные на рубеже XIX–XX-го веков в журнале «Живая старина» и в газете «Олонецкие губернские ведомости»[4]. Чаще всего в этих статьях описываются быт и верования южных карелов (ливвиков и людиков).
В работах финских собирателей и исследователей также содержится фольклорно-этнографический материал о карельской бане. Сборники текстов Пертти Виртаранта посвящены людикам и северным карелам[5].
В книгах Самули Паулахарью рассматривается архитектура карельской бани и, в меньшей мере, связанные с ней верования карелов, проживающих в Приладожье (Raja-Karjala) и Калевальском районе (Vienan Karjala)[6]. Тексты банных заговоров и материал о лечебной бане выявлены и в многотомном финском издании «Suomen kansan vanhat runot» («Руны финского народа») [7].
В научном плане тема карельской бани до настоящего времени слабо исследована. В 1992 году была опубликована статья Р. Ф. Никольской и Ю. Ю. Сурхаско «Баня в семейном быту карел»[8]. Ю. Ю. Сурхаско также касался рассмотрения роли и функций бани, подробно изучив в своих монографиях семейные обряды карелов[9]. В связи с исследованием карельских свадебных причитаний к банной тематике обращались У. С. Конкка и А. С. Степанова[10]. А. С. Степанова подробнее рассмотрела предсвадебную баню жениха[11].
В гораздо большей степени изучена русская баня. Этой теме посвятил свою работу финский исследователь И. Вахрос[12]. В 2004 году вышла в свет коллективная монография по общерусской банной традиции «Баня и печь в русской народной традиции»[13]. В статьях Н. А. Криничной основное внимание уделено севернорусской мифологической прозе о баеннике[14]. Банным обрядам народов, проживающих на территории
Карелии, посвящены статьи К. К. Логинова[15]. Книга «Баня, банька, баенка», написанная коллективом авторов, касается как архитектурных, так и обрядовых моментов, связанных с русской баней[16]. Роль бани в русской сказочной традиции (с некоторыми параллелями из карельских сказок) рассматривается в статье И. А. Разумовой[17]. Изучением обрядов и верований, связанных с вепсской баней, занимается И. Ю. Винокурова[18].
Данное комплексное исследование – первая попытка обобщить всю имеющуюся в распоряжении автора информацию о карельской бане, банных ритуалах и верованиях, активно бытовавших на территории Республики Карелии в течение XIX и до середины XX века. Это была единая традиция для всего карельского народа с небольшими отличиями в мелких деталях в локальных практиках. В меньшей мере это касается тверских карелов, материал о банных обычаях которых (им, как и вепсам, присуща и печная традиция паренья) включен в работу только в качестве параллелей.
Основной задачей работы является рассмотрение роли бани в общекарельской мифоритуальной традиции на основе разбросанных по разным междисциплинарным источникам сведений, а также их последующая систематизация.
В книге рассматривается архитектура карельской бани и банная утварь. Большое внимание уделено народному этикету и различным табу при посещении бани. Впервые комплексно и наиболее полно исследуются все обряды, проводившиеся в бане и основанные на культе предков syndyzet и банных духов-хозяев kylynizändät da kylynemändät, почитании природных стихий огня и растительности, воды и земли. Это в первую очередь обрядность жизненного цикла, связанная с переходными периодами в жизни человека, – родильная, свадебная (в нее входит несколько видов бани: невестина, женихова, новобрачных, а иногда и ритуальня послесвадебная баня для исцеления молодого мужа) и похоронно-поминальная. Подробно исследуется lemmennostokyly баня поднятия лемби и другие обряды, связанные с любовной магией карелов и практиковавшиеся в бане. Рассматриваются обряды гадания, которые проводились в данном локусе в сакральные временные промежутки, молодежная игровая практика, а также некоторые магические ритуалы, сопряженные с рыбалкой, охотой и сельским хозяйством.
Особое внимание уделено народной медицине, представлениям карелов об истоках болезней и их персонификации, в основе которых лежат мифологические архетипы, а также роли бани в процессе лечения различных недугов, сглазов и проклятий.
Впервые подробно исследуются народные верования о хозяевах карельской бани, их визуальный код, время и место появления, а также их функции и этикет общения человека с духами.
Мировоззрение карельского народа, связанное с банными ритуалами, изучается на основе многочисленных фольклорных жанров. В первую очередь это мифологическая, суеверная проза и заклинательная поэзия, в меньшей мере – эпические песни, баллады, сказки и причитания, а также такие малые жанры, как пословицы и загадки.
Исследование, базирующееся на фольклорных и этнографических материалах, подкрепляется данными смежных наук: лингвистики, истории, археологии, архитектуры.
В Приложении представлены разножанровые фольклорные тексты из Научного архива КарНЦ РАН и Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН.
Подборка фотоматериалов по теме «Карельская баня» подготовлена Национальным архивом Республики Карелия, за что автор выражает особую благодарность директору КУ НА PK О. М. Жариновой и зав. архивохранилищем М. В. Гарбуз. Неоценимую помощь в работе оказали замечания, сделанные рецензентами д.и.н. И. Ю. Винокуровой, д.ф.н. A. В. Пигиным, к.ф.н. О. М. Жариновой, к.и.н. К. К. Логиновым, к.ф.н. B. П. Мироновой, а также научным редактором: к.и.н. А. П. Конкка.
Из истории появления бани на территории славян и финно-угров
Согласно последним исследованиям, изначально у народов, проживавших на территории современной России, была своя гигиеническая практика, которая сохранялась на протяжении очень длительного исторического периода[19]. На Руси традиция паренья появилась в глубокой древности. Еще в «Повести временных лет» описывается, как княгиня Ольга в 945 году сожгла древлянских послов, пригласив их помыться в бане[20]. Андрей Первозванный, посетивший земли славян в первом веке нашей эры, так описывал поразивший его обычай в районе озера Ильмень: «Удивительное я видел в Славянской земле… Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут еле живые, и тогда обольются водою студеной, и только оживут. И делают это всякий день, никем не мучимые, но сами себя мучают, и это совершают омовение себе, а не мучение»[21]. Чешский исследователь А. Миколачек в 1972 году высказал мысль, что Андрей Первозванный описал банный процесс не славян, а одного из финно-угорских племен, живших в ту пору на этой территории[22]. История бань на территории самой Чехии и Словакии начинается «в V–VIII веках с прихода с севера и северо-востока словацких племен, которые уже пользовались баней. Это установлено на основании результатов раскопок, во время которых были обнаружены постройки, относящиеся к старой замковой культуре VII–VII веков, с очагами из камней…Первые письменные сведения о бане на территории Словакии обнаружены в летописи Зоборского аббатства в 1113 году»[23].
После принятия христианства русская гигиеническая практика встретилась с греко-византийской. Как считает А. А. Желтов, «севернорусская баня появилась не позже IX века, а к X веку была известна во многих районах Новгородской земли… Бани были широко распространены на пути “из варяг в греки”»[24]. Исторические истоки бани он видит в пределах Русского Севера и северо-западных областей, расположенных между Финским заливом и верхним течением Днепра, то есть в ареале проживания как финно-угорских, так и славянских народов. Существуют доводы, говорящие в пользу первого появления бани и у той, и у другой культуры. Проанализировав их, ученый делает вывод, что «областью возникновения традиции русской бани следует считать территории вблизи Балтийского моря – бассейн Западной Двины и район вокруг оз. Ильмень»[25].
Иной точки зрения о времени и месте возникновения бани придерживается К. К. Логинов. Он связывает происхождение бани у севернорусского населения «с исторически поздним культурным влиянием на восточных славян населения лесной зоны Евразии, а не с влиянием культур Средиземноморья» и отрицает генетическое родство римско-греческих терм и финско-русских бань[26]. Этнограф считает, что «древнейшей культурно-исторической предшественницей традиционной крестьянской бани народов Карелии была сначала “земляная печь”, а затем – “земляная баня”, бытовавшая в циркумполярной зоне Евразии со времен мезолита. Тогда она была ямой в земле, раскаленной жаром костра. В яме, накрывшись сырой шкурой животного, потели (но не мылись) после выгребания горячих углей. У береговых чукчей и эскимосов она сохранялась еще в прошлом веке. Финская баня с сухим паром, скорее всего, восходит к данному феномену. Прогревание тел не в яме, но внутри полуподземного жилища, осуществляемое за счет водяных паров от поливаемых водой раскаленных камней очага, стало историческим этапом на пути возникновения русской парной бани, известной также у поволжских и прибалтийских финнов. Если идея H. Н. Харузина о происхождении жилища у финнов из простейшей бани верна, то привычка мыться в срубных парных банях не иначе как заимствована русскими колонистами от автохтонного финноязычного населения в Средние века по мере расселения в центральной и северной России»[27].
Здесь следует также отметить, что временем возникновения сауны у древнефинских племен считается начало нашей эры[28]. Это косвенно может свидетельствовать о древности и карельской паровой бани.
Согласно русским летописям, на Руси строительством общественных бань при монастырях занялся переяславский епископ Ефрем, вернувшийся из Константинополя в 1072 году[29]. К одиннадцатому веку М. Фасмер относит проникновение слова «баня» в русский язык из латинского; до этого говорили «мыленка, мыльня, мовня». Латинское balneum – «ванна, купальня, баня», означало «место, где моются и парятся»[30]. Отсюда же истоки слова «бальнеология», то есть лечение водами и грязями.
Но если общественные бани появились на Руси под греко-византийским влиянием, то относительно возникновения приусадебных бань большинство этнологов (H. Н. Харузин, Е. Э. Бломквист, И. Вахрос, Л. Н. Чижикова, А. А. Желтов) придерживаются мнения о самостоятельности их развития в среде славянских племен, основываясь на сходстве конструкции этих построек с жильем и на повторении в них основных типов внутренней планировки избы[31].
Наличие в хозяйстве собственной бани, ее соответствие современным реалиям являлись показателями зажиточности во все времена. Например, в описи домов при Александровском заводе в г. Петрозаводске, составленной в 1775 году, подробно описывается «дом главного командира» и указывается, что «перед покоями ж сделана баня и с печью длиною и шириною по две сажени, вышиною до крыши две сажени»[32].
Как считают исследователи, «банные строения имели широкое распространение лишь на северо-западе, севере, в Сибири… На юге России, на территориях, прилегающих к Украине, мылись в деревянных чанах, стоявших в избе, в центральной зоне и южнорусской этнографической группе – в русских печах. Этот обычай встречался также местами и на севере Европейской части страны»[33].
П. Виртаранта пишет, что даже в середине XX века во многих деревнях тверских карелов (как и у вепсов[34]) бань тоже не было, наряду с банной им была присуща и печная традиция паренья. Процесс омовения в печи финский исследователь и собиратель описывает следующим образом. Утром печь топили очень жарко. Под вечер, когда хлеб уже испечен, еда приготовлена, застилали дно (под) печи соломой, наливали воду в корыто, брали под мышку веник и заползали по одному в печь. Печь была такая большая, что в ней можно было сидеть. Там парились по полчаса и при желании даже дольше. Выйдя из печи, мылись и обливались, зимой это делали рядом с ней, а летом – в хлеву или в сенях[35].
Подобный процесс описан и в книге Л. Воронковой «Девочка из города». Действие в ней происходит во время Великой Отечественной войны в вологодской деревне, куда из блокадного Ленинграда была эвакуирована маленькая Валя. Она была поражена, когда приемная мама устроила баню в большой русской печи. Ей казалось, что черное пространство готово поглотить ее навсегда. Не случайно в фольклоре, как карельском, так и русском, баня воспринимается как некий иной мир со своими правилами и уставом. Бегущая от смерти девочка с дочкой хозяйки прекрасно разместились в печи вдвоем. Они отогрелись там, намылись, и Валя вышла из нее не столько физически очищенная (она-то как раз плечом зацепила печную сажу), сколько внутренне обновленная, словно готовая к новой (в данном случае – мирной) жизни. Это же чувствует человек, выходя из бани даже в наши дни, когда баня и процесс омовения в ней уже утратили свою сакральность.
У карелов печи были гораздо меньше по размеру. Они иногда могли использовать печь в лечебных целях (например, согреть поясницу): ложились в ней спиной на постеленную солому, головой наружу. В одном из текстов, включенных в SKVR, рассказывается о знахарке из Бойницы, которая лечила сглаз мужчине, при этом говорится, что «talvella koissa kyly lämmitetäh» – «зимой в доме баню топят»[36]. Видимо, здесь тоже подразумевается печь, хотя возможно, под это отводилось и какое-то небольшое помещение.
В жизни карела издревле огромное место занимала именно баня. Южные карелы (ливвики и людики) называли ее kyly, а карелы, проживавшие в Приладожье и в Северной Карелии, говорили также и sauna. Это был сакральный локус для проведения множества обрядов на протяжении всего жизненного цикла человека. Широко был распространен и культ хозяев бани, активно практиковавшийся вплоть до конца первой половины XX века.
У карелов, как и у русских, баня и традиция паренья имеют многовековые истоки.
Для дальнейшего рассмотрения архитектуры карельской бани дадим краткую историческую справку. Первое упоминание корела как самостоятельного народа в русских летописях встречается в 1143 году[37]. С. И. Кочкуркина отмечает, что «уже в XII в. корела выступает как самостоятельная этническая общность в истории Древней Руси». На основе последних данных археологии, истории, лингвистики и фольклористики она делает вывод, что «племя корела сформировалось на Карельском перешейке в I тысячелетии н. э., и основу его составило прибалтийско-финское население… в XII–XIV вв. Карельский перешеек с северо-западными берегами Ладожского озера до северо-восточных берегов Финского залива с городом Корела являлся племенным центром». Присутствовали древние карелы и на територии Саво[38]. А. Ю. Жуков также считает, что корела возникла «в результате сложного межэтнического синтеза на землях Карельского перешейка северо-западного Приладожья, а также заняла область Саво и северную половину Финляндии»[39]. Начавшаяся «русская колонизация Севера… выражалась, во-первых, в интенсивном заимствовании северными народами хозяйственно-бытовых и культурных достижений русско-славянского мира, а во-вторых, в заселении русскими северных земель. Но приход русских на север не привел к угасанию этногенеза проживавших тут финно-угров»[40]. Одна из особенностей экспансии, способствовавшая развитию самобытности карельского народа, отмечена в «Хрониках Ливонии» (1220 годы): «Есть обычай у королей русских, покорив какой-либо народ, заботиться не об обращении его в христианскую веру, а о сборе дани и денег»[41]. Официальное крещение карелов состоялось в 1227 году, но реальный процесс растянулся на долгие столетия, и синкретизм древних верований (в том числе связанных с баней) и христианских воззрений сохранялся и практиковался вплоть до середины XX века.
В соответствии с данными археологии в конце первой половины второго тысячелетия деревянные четырехугольные срубы домов корелы стояли на фундаментах из мелких плотно пригнанных друг к другу камней. Крыши были односкатными. Печка-каменка располагалась в центре помещения или ближе к выходу. На временных стоянках жилищами служили легкие каркасные постройки с очагом по центру. Срубные дома карелов соседствовали с хозяйственными постройками – гумном с током, овином, амбаром, помещениями для скота и баней. Все эти сооружения обносились одной изгородью. В древности к поселению примыкали могилы с высокими насыпными курганами, “домики мертвых”.
«Неблагоприятный, суровый климат привел к тому, что на Русском Севере, прежде всего на Двине, в конце XVI – начале XVII вв. возник новый тип двора. Он объединил все жилые помещения и животноводческие постройки под одной крышей. В Карелии такие здания-усадьбы появились, видимо, в конце XVII в., прежде всего в смежной с Двинской землей восточной половине края»[42]. Не случайно во время путешествия 1838 года к сегозерским карелам Э. Леннрот избы нового типа называл русскими. Он писал, что в д. Масельга они жили «в настоящих русских избах с русской печью, дымоходом и припечным столбом, от которого шли к стенам широкие воронцы. Но встречались и карельские курные избы». Затем он описывал быт кильдинских лопарей, жилища которых углублены в землю и обложены дерном, очаг находится посередине, а бань у них нет вообще[43]. В. П. Орфинский делает вывод об общности форм домов-комплексов, «сложившихсся к концу XIX века на всей территории расселения собственно карел, включая карельские ареалы в Олонецком и Тверском краях»[44].
Никаких достоверных сведений о карельских банях в первой половине второго тысячелетия нет. Но если судить по тому, какое влияние оказала русская архитектура жилища на карельскую, можно, в какой-то мере, говорить об аналогичном процессе и в банной архитектуре. В документах XV–XVII вв. уже имеется немало упоминаний о «мыльнях», «мовницах», «байнах»[45]. Трудно определить, когда карелы начали строить бани, но, принимая во внимание их роль, универсальность и широко сохранившиеся дохристианские верования, можно говорить об их древности[46].
Карельская баня сначала ставилась рядом с избой в одном пространстве, огражденном изгородью. После объединения крестьянской усадьбы под единую крышу баня у карелов сместилась к озеру, что наблюдалось в XIX и XX веке[47].
Карельская приусадебная парная баня, как и русская, на протяжении столетий прошла долгий путь развития. На ранних этапах это была однокамерная землянка, затем полуземлянка, в которой пар и горячую воду получали, погружая раскаленные на костре камни в чан с водой. Позже появились наземные постройки, топившиеся по-черному, и каменка с открытой топкой. Самые большие и быстрые изменения стали происходить с XX века. Постепенно к однокамерной бане пристроили небольшой предбанничек (в нем сначала не было двери), а на камни поставили чугунный котел. Первые белые бани с трубой и закрытой дверцей в печи стали появляться только с конца шестидесятых годов XX века; закрыли крышкой котел еще позже. На протяжении столетий баня освещалась лучиной päre, керосиновые лампы даже в избах карелов появились только в первой трети XX века.
В последние десятилетия XX века некоторые новые бани карелов становятся многокамерными, парилка отделяется от моечного отделения, появляется просторное третье помещение для отдыха, а иногда и небольшой бассейн. В то же время следует отметить, что в Финляндии с конца XX века возвращается старая традиция, еще не дошедшая до Карелии: некоторые хозяева ради экзотики начинают, наряду с электросауной в доме, ставить во дворе старинную баню по-черному.
Духовная банная культура карелов сохранила большую самобытность и архаику. Со временем, в том числе и под влиянием христианства, происходило снижение сакральности банных построек. После принятия православия существовал даже запрет мыться в бане, особенно после посещения церкви и перед этим[48]. Вследствие того, что крещение карелов происходило позже, чем принятие христианства русскими, и с большими трудностями, баня на карельской территории оставалась сакральным местом гораздо дольше, а почитание банных духов карелами сохранялось вплоть до последних десятилетий ХХ-го века. Причем хозяева бани, согласно менталитету карелов, были скорее покровителями и помощниками человека, но и в то же время строгими хранителями пространственно-временных границ, в отличие, например, от мари, воспринимавших банного хозяина как исключительно злое и жестокое мифологическое существо.
Для того чтобы понять, как карелы традиционно представляли хорошую и плохую баню, можно привести пример из баллады «Приглашение в баню». В ней сначала девушку зовет отец, потом мать, но она не принимает их приглашения, так как:
Kylyn piha pimitsäinen, Kylyn toroka kaijatsainen, Kylyn kynnys korkejainen, Kyly vesi vilumoinen, Kyly löyly kipakkainen, Kyly muila kartsakkainen, Kylyn lauvot korkejaiset, Kyly vasta raakatsainen. Двор у бани темноватый, Дорога к бане узковата, Банный порог высоковат, Банная вода холодновата, Банный пар щиплет, Банное мыло горчит, Банные полки высоки, Банный веник колюч.Но все меняется, когда Марынку-Дарьюшку в баню приглашает жених:
Kyllä lähen kylysehen: Jo on päivä valkijainen, Jo toroka leveä, Kylyn kynnys matalainen, Kyly vesi mieluhinen, Jo on muila lipeäinen, Jo on löyly makejainen, Jo on lautsaset matalat, Jo on vasta pehmejäinen[49]. Хорошо, пойду я в баньку, День уже светел, Дорога уже широка, Банный порог низок, Банная вода мила, Мыльце уже мылится, Пар уже сладок, Полки уже низки, Веник уже мягок.Архитектура и внутреннее убранство карельской бани
Для верного понимания роли и значения бани и банного культа в жизни карелов следует начать его рассмотрение с архитектуры карельского поселения. Исследователями-архитекторами (это в первую очередь В. П. Орфинский и И. Е. Гришина) неоднократно делался акцент на такой архитектурной особенности карелов, как «природосообразность». «Природосообразность – общая черта культуры ряда финно-угорских народов, которые сформировались как этносы в условиях Севера, где природа требовала от человека учета своих особенностей как необходимого условия выживаемости»1. В соответствии с этим принципом происходит и выбор места строительства, и планировка всей деревни. Как отмечает В. П. Орфинский, регулярность как мера вписанности поселений в природу в условиях Карелии имеет этническую окраску. Поселения карел отличает от русских поселений стремление к большей свободе и, соответственно, к меньшей регулярности планировки и застройки[50] [51]. Об этом пишут все, кто описывал в последние десятилетия XIX века карельскую деревню. Как свидетельствует отчет, присланный в Русское географическое общество, в шестидесятых годах XIX века в ребольском приходе «дома располагаются хаотично, на большом расстоянии друг от друга», между ними лесок, пожня или огород. Поэтому «небольшое селение из десяти домов раскинуто на полверсты и более». Русские осваивали пространство в соответствии с характерной для земледельческого славянского населения радиально-центричной моделью мироздания. У карелов преобладала финно-угорская модель «линейного пространства-пути», сформировавшаяся под влиянием охотничье-промысловой культуры. Поэтому им была свойственна периферийная модель мироздания[52].
С развитием христианства архитектурной доминантой стала деревенская часовня (сельская церковь) – самое высокое сооружение, построенное на природной возвышенности (холм, горушка). Но изначально исходной точкой почти каждой карельской деревни являлась не часовня, а гораздо более древний культовый объект, игравший огромную практическую роль, – озеро или река. И в то же время водоем был не только отправной точкой, но и центром мироустройства карелов. Вокруг озера практически всегда концентрировалось целое гнездо деревень, а если это была река, то разные деревушки (или несколько частей одной) могли располагаться по обоим ее берегам. Гнездовой тип расселения древнее второго, также присущего карелам, разбросанно-хуторского. Он сложился на рубеже I и II тысячелетий н. э. и тесно связан с патронимией[53], которая вполне могла способствовать развитию банного культа, связанного с почитанием предков. Большинство карельских деревень в середине второго тысячелетия были малодворными, а многие состояли всего лишь из одного двора. Соответственно, и бань в таких деревнях не могло быть много. «Так, например, в конце XV в. на 772 деревни, входивших в четыре погоста Заонежья, где проживали, как карелы, так и русские, приходилось 954 двора, что в среднем составляло 1,25 двора на деревню»[54]. Постепенно шло укрупнение деревень, но количество бань в них, судя по собранным материалам, росло медленно. Объяснить это можно тем, что эта постройка, в которой не только мылись, но и проводились различные обряды жизненного цикла, могла принадлежать всему родовому коллективу. С XVI–XVII веков у карелов появляются беспорядочные и прибрежно-рядовые формы деревень, в планировке которых «карелы больше, чем русские, учитывали природные факторы, а беспорядочность и рационализм в формах поселений можно выделить как особенность карельского деревянного зодчества»[55].
Мифоритуальное почитание природных стихий накладывало отпечаток на всю жизнь и быт карела. Вода (в записях М. Агриколы, известного финского просветителя и епископа первой половины XVI века, сумевшего первым зафиксировать сведения о древних карельских божествах, это Vedhen Emä – Мать Воды; в заговорах часто встречается vezi-syöttäine – вода-кормилица; у жителей Сямозерья это vezi-ved’oi – вода-водяница), как и земля (moaemä – мать-земля, moaemä-syöttäine – мать-земля-кормилица), – наиболее архаичные объекты и субъекты поклонения. Вода, согласно древней карельской мифологии, считалась центром зарождения всей жизни на земле, да и самой Земли и Вселенной. Демиург Вяйнямёйнен плавает «сосновой чуркой» по воде, на его колене утка сносит яйцо, из которого он (по мифу, находясь в воде) «творит» землю, небо и все солярные объекты. Карельская деревня начиналась у воды (озера и реки в древности являлись единственными путями сообщения) и уходила к лесу, олицетворявшему чужое, опасное для человека пространство.
В XIX и XX веках бани (а также амбары для хранения рыбы и рыболовецких снастей kalaaitat и nuottikodat) в подавляющем большинстве случаев стояли перед лицом дома, прямо на берегу водоема – природного почитаемого объекта, гораздо менее опасного для карела, чем лес. Как пишут В. П. Орфинский и И. Е. Гришина, в карельских поселениях возле водоемов формировались особые банные зоны, так называемые «банные городки»[56]. Гораздо реже, только если рядом не было водоема, бани ставились у колодца[57]. Риги стояли на окраине деревни. Только иногда в XIX веке амбары строились вблизи дома, а риги и бани – позади двора, вдали от жилых строений, не ближе тридцати сажен[58]. Но сначала, как писал С. Паулахарью в 1907 году, баня ставилась совсем рядом с домом, метрах в двадцати, практически примыкая, чаще всего к углу хлева. При строительстве новых домов бани начали ставить подальше, на расстоянии до ста метров[59].
Кладбища устраивались в некотором отдалении, ближе к лесу, за жилой застройкой, часто к северу от нее или даже на острове. Тем самым моделировалось архаичное представление о мире, разделенном на полуденное царство живых и полуночное царство мертвых, которые одновременно и противопоставлены, и неразрывно связаны друг с другом. Кладбище, с одной стороны, – локус, чуждый живым, но, с другой, концентрирует в себе главных покровителей карела – первопредков syndyzet и spoassaizet.
Баня занимала пограничное место между мирами человека и природы во многих культурах, в том числе и севернорусской, что и обуславливало проведение в ней многочисленных обрядов переходного характера и ритуальных акций, во время которых происходил контакт человека с духами-хозяевами различных стихий[60]. Это можно сказать и относительно карельской бани. Культ бани был тесно связан и с культом воды и земли, и с культом первопредков, и с культом огня и растительности.
У русских, например, на Вологодчине, бани тоже располагались или у воды, или на огороде рядом с колодцем и гораздо реже – на заднем плане, вдали от воды[61].
Как считала Р. Ф. Никольская, «в пользу древности такого вида постройки, как баня, свидетельствует…и то, что ее считали священным местом»[62]. На это указывает множество факторов. Баню следовало топить только засветло, до захода солнца. Это запрещено было делать в воскресенье и в праздники. Строго был регламентирован процесс мытья в бане. В ней нельзя было делать никакую грязную работу, даже стирать белье. В то же время именно в банном локусе проводили множество ритуалов. Человек находился здесь в самые переломные, лиминальные периоды своей жизни. Здесь проходил родильный обряд.
Во время свадьбы топили сначала невестину и женихову баню, а потом баню для новобрачных. Во время поминальных обрядов сюда приглашали помыться умерших предков. Ее топили перед началом крупных дел с целью не только физического, но и духовного очищения: перед тем как идти на охоту, перед весенним выпуском скота. В бане следовало помыться и очиститься от всех грязных помыслов перед дальней дорогой. В бане и перед тем, как идти туда мыться, просили прощения, если совершили какой-то греховный поступок, даже если просто подумали о ком-то плохо. Она являлась местом лечения множества недугов. Баня была населена духами-хозяевами, которым поклонялись и почитали. Более того, «культ хозяев бани» был «одной из форм культа предков»[63]. Не случайно, придя из бани, всегда рекомендовалось ополоснуть руки и лицо водой из умывальника. Так же поступали и по возвращении с кладбища: умывались и прикладывали руку к печи, чтобы устранить все возможные болезни (это в первую очередь могильное зло kalman viha и нос могилы kalman nenä), которые могли «пристать» tarttuu к человеку, если он чем-то прогневал умерших предков.
Согласно Н. Харузину, развитие построек финских племен шло от шалаша kota и землянки moakuoppa к наземному срубу. Баня считается самой примитивной постройкой, она – прообраз древнего жилища. Найденные археологами в Карелии остатки жилищ XII века имеют много общего с современными банными постройками[64]. Именно от нее исследователи ведут историю развития карельского дома, да и всей крестьянской усадьбы карела, которая включает в себя дом, хлев, амбар, баню и ригу. Исходной формой жилища у финно-угорских народов Севера являлся четырехугольный «первобытный сруб, обращенный в баню»[65]. В финской провинции Хяме еще в XVIII веке баня и дом были единым пространством[66]. Благодаря экстенсивной подсечно-огневой форме земледелия шло быстрое освоение огромных таежных пространств, и на стадии перехода к оседлому образу жизни в качестве временного жилища карелами стала использоваться «срубная постройка с простейшим очагом-каменкой»[67]. Для ее возведения требовалось немного и времени, и сил, и материала. Такие промысловые избушки (они так и назывались kalasauna рыбацкая баня или meccukyly лесная баня) карельские рыбаки и охотники строили вплоть до второй половины XX века.
Восточным славянам двухкамерное жилище было известно уже с X века, но «в крестьянских постройках Карелии сени появились не ранее XVI–XVII вв.»[68]. Как пишет Р. Ф. Никольская, у карелов в XVI веке существовали избы-«хоромы», крестьянские усадьбы, где «во дворе хором: изба и с сеньми, и с клетью, и с подклетом, да сенник на двух подклетах, да мыльня»[69].
Самой примитивной постройкой у карелов считается однокамерная баня-землянка с односкатной крышей[70]. Половина сруба (всего было восемь-десять венцов) была врыта в землю, на уровне земли было маленькое окошечко. В такой землянке был утоптанный земляной пол (его во время мытья покрывали соломой) и часто только печь, без полок и лавок.
Обширный материал о карельской бане собрал финский исследователь Самули Паулахарью. В течение 1907–1908 годов он объездил финляндскую Северную и Южную Карелию (Pohjos– ja Itä-Karjala), фиксировал рассказы и делал подробные зарисовки, начиная от самых древних банных построек[71]. В своей книге он также использовал материалы из Беломорской и юго-западной Карелии, хранящиеся в Фольклорном архиве Финского литературного общества. Основное внимание ученый уделил архитектуре и внутреннему убранству карельской бани. Р. Ф. Никольская указывала, что самой примитивной банной постройкой конца XIX – начала XX века у карелов была баня-землянка[72]. Хотя, безусловно, в это время карелами ставились уже и гораздо более комфортабельные бани. С. Паулахарью пишет о том же: карелы старинные банные сооружения, сохранившиеся и используемые еще в начале XX века, называли moakuoppasauna (углубленная в землю баня, баня-землянка). «Sillä kylpemättä ei karjalainen voi olla, ei senkään vertaa kuin muu suomalainen» – «Без паренья в такой бане карел не может жить, совсем не так, как другие финны». Когда-то таким было и жилище, и хлев, и кузня[73]. Такая банька была совсем маленькой и невысокой: если человек стоял посередине пола, руки доставали до стен[74].
Описывая севернокарельскую баньку, углубленную в землю, С. Паулахарью указывает, что в нее вела дверь высотой не больше метра, шириной около шестидесяти сантиметров. В ширину, длину и высоту баня была не больше двух метров. Стены земляные, только в передней стене сверху, над дверью, было положено три-четыре бревна, на трех остальных – по бревну. Сверху баня была засыпана землей, отчего «летом превращалась в зеленую лужайку». Каменка всегда была в углу рядом с дверью, чаще всего справа от нее. Она имела внушительные размеры – метр в длину, метр в ширину и семьдесят сантиметров в высоту. Каменка сложена из больших плоских камней linttikivistä без использования глины. Сверху обычно укладывались белые круглые камни помельче. Считалось, что с них лучше и быстрее стекает вода, и пар получается горячее и «вкуснее» magei, makea. Нижние камни обычно укладывались лежа друг на друга. Начиная с середины каменки, когда заканчивали делать устье печи и над ним укладывали один из самых крупных плоских камней, камни начинали укладывать стоя, заостренным концом кверху. Так каменка приобретала аккуратную полукруглую форму. Правильный подбор камней для каменки был очень важен. Чаще всего рекомендовались именно белые камни valgei kivi, так как черные и серые камни испускали угар. Самыми крепкими считались синеватые камни, которые не раскалываются от перемежающегося воздействия огня и воды. Между печью и задней стеной располагались полки на четырех столбах, врытых в землю. Они были двухуровневыми, первые стояли на высоте полуметра от земли, вторые – восьмидесяти пяти сантиметров. Маленьким окошком для выхода дыма служило отверстие в двери. В такой бане, пишет С. Паулахарью, прекрасный горячий пар. Именно такой тип бани был сначала и первым жилищем[75].
Есть подобные описания земляных бань, существовавших еще в начале X века. Например, арабский путешественник Ибн-Руст увидел на Руси особые строения для паренья, углубленные в землю. Он писал: «В их стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к которой приделывает деревянную остроконечную крышу наподобие христианской церкви, а на крышу накладывает землю. В такие погреба они переселяются всем семейством, взяв дров и камней, разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же камни раскаляются до высшей степени, их обливают водой, отчего распространяется пар, нагревая жилье до того, что снимают даже одежду»[76].
По данным археологов, до XIII века у восточных славян все дома были углублены в землю. Углубленные в землю бани сохранились до второй половины XIX века, это «реликт наиболее древнего славянского жилища»[77].
Следующим типом карельской бани являлась курная баня, или баня по-черному, уже возведенная из бревен над землей
Со второй половины XIX века в Карелии получила распространение двухкамерная баня с маленьким предбанничком, kylysincco, sencoine (букв.: банные сени). Сначала это мог быть просто небольшой навес перед входом. Такая банная конструкция с навесом сохранялась в Средней Карелии вплоть до середины XX века[78]. У русских, как пишет А. А. Желтов, предбанник появился только в XX веке, до этого раздевались на улице[79]. Как указывает В. П. Орфинский, «в Карелии однокамерные бани без предбанников преобладали на севере, а двухкамерные, с предбанниками, – на юге республики»[80]. Такое несоответствие структуры построек природно-климатическим условиям края он объясняет «заторможенностью развития крестьянских построек на севере»[81]. Архитектор пишет, что еще в конце шестидесятых годов XX века на севере края (например, в д. Кизрека Лоухского района) сохранялись «примитивные четырехстенные бани без предбанников, перекрытые плоской земляной крышей по сплошному бревенчатому накату. Раздевались в них снаружи и через низкую дверь попадали в мыльное помещение»[82]. При этом «в юго-западной Карелии новые бани в большинстве случаев имеют дощатые предбанники, характерные для переходного периода от однокамерных к двухкамерным, в то время как в относительно старых постройках преобладают срубные предбанники, в том числе в составе срубов-пятистенков. Более того, в поздних дощатых предбанниках прослеживается большая архаизация, чем в относительно ранних: в банях после 1960-х гг. такие предбанники выполнялись, как правило, целиком каркасно-обшивными, а в более ранних постройках в большинстве случаев имели основание из выпусков бревен боковых стен помещения»[83].
В предбанничке была небольшая лавка, на которой оставляли одежду. Ее могли вешать и на гвозди, вбитые в стены vuarnat. Иногда даже в первой трети двадцатого века в предбаннике не было двери, зимой его заносило снегом, но раздевались, несмотря на холод, здесь.
Курная баня у карелов строилась прямо на земле, иногда для опоры под углы укладывали четыре камня, которые северные карелы так и называли nurkkakivet угловые камни. Иногда для утепления пазы между бревнами заделывали мхом, в двадцатом веке это делалось обязательно. Высота бань могла быть различной, от двух до трех с половиной метров, внутри – от полутора до двух с половиной метров. Основное место в бане, прямо у двери, слева или (чаще) справа, занимала печь-каменка, сложенная из валунов или природных булыжников различного размера, но определенного качества. Устье каменки (или топливник-ниша[84]) было обращено к боковой стене[85]. Ее раскаленные верхние камни (или чаще разогретые в топке) использовали для нагрева воды: их специальными большими (бучильными) клещами или банной лопатой опускали в деревянную кадку с холодной водой, а затем снова укладывали на каменку. Когда эти камни, служащие для нагрева воды, впервые укладывали в (на) построенную каменку, на них делали крест концом обожженной лучины[86]. Процесс нагрева воды камнями у карелов был широко распространен. Э. Леннрот описывал, что в тридцатые годы XIX века карелы в избе в печь клали камни, которыми потом нагревали пойло для коров. Посетив карелов, проживавших на берегах Свири, финский исследователь писал: «Во всем крае я нигде не видел железных котлов. Пищу готовят в глиняных горшках, которые ставятся в печь. Остальное готовится следующим образом: нагретые в очаге камни опускают в посуду с водой и держат там до тех пор, пока вода не закипит»[87].
Чугунный котел kylykattil, установленный посреди каменки и вмурованный в нее, появился достаточно поздно, только в XX веке, в банях с предбанником. Топились бани по-черному повсеместно тоже вплоть до середины XX века. Первые белые бани начинают появляться с конца шестидесятых-начала семидесятых годов. В Сегозерье, да и в других районах Карелии, курные бани встречались и до 80-х годов. Считалось, что в них «пар легче и воздух сухой»[88]. Для выхода дыма в потолке или в стене прямо под потолком делалось отверстие (волоковое окошко) куlynreppänä, закрывавшееся деревянной заслонкой. Процесс приготовления бани занимал достаточно продолжительное время, до трех-пяти часов. Баню сначала топили, открыв двери и окошко. Затем проветривали, обмывали стены или опахивали их мокрым веником, все закрывали и баню час-полтора настаивали. Только потом шли мыться.
Пространство от каменки до задней стенки занимал полок, поднимались на него по двум-трем ступенькам. Как писал в тридцатых годах XIX века Э. Леннрот, в Лоухском районе у карелов «в бане полок намного ниже, чем в финских банях, на полтора-два локтя[89] от земли»[90]. Лавки располагались напротив печи и полков, иногда они были сделаны и вдоль задней стены, напротив очень низенькой двери. Потолок был сделан из цельных или половинчатых бревен или из толстых плах (это боковые части бревен) с земляной насыпкой. Банные полки kylynlautaiset в старину стояли на четырех высоких круглых чурбанах, а лавки kylynlaučat – на двух низких[91]. Пол kylynlate сначала был земляной, позже – дощатый, сделанный или с уклоном, или из досок, которые для стока воды неплотно прилегали друг к другу. Настлан пол был по лагам, лежащим прямо на грунте[92]. Иногда в одном углу пола было сделано отверстие, в которое стекала вода. Согласно другим сведениям, северные карелы считали, что пол надо настелить плотно, чтобы в бане было тепло; а вот доски в стенах могут быть пригнаны слабее hatarat, чтобы происходил воздухообмен[93]. В некоторых банях были сделаны под потолком специальные полки или протянуты только жерди orret, которые располагались от стены к каменке или от двери к противоположной стене.
Конструкция покрытия бани эволюционировала от плоской крыши, засыпанной землей, к односкатной, а от нее – к двускатной. Покрытие сначала было «совмещенным. Затем над мыльным помещением стал устраиваться утепленный потолок сначала из бревенчатого наката, а позднее – из пластин»[94].
П. Виртаранта, объездив в 1957-58 годах деревни тверских карелов, описывает баню следующим образом. Она топится по-черному, имеет маленький предбанничек с небольшой лавкой. В самой бане два маленьких окошечка: одно на боковой, второе – на передней стене. Щели в стенах замазаны глиной (здесь следует отметить, что у северных и южных карелов в бане было только одно окошко на боковой стене, а стены были проконопачены мхом и никогда не замазывались глиной – И.Л.). В потолке, реже в стене – волоковое окошко. Каменка сделана из серых камней, которые, в отличие от красных и зеленых, не раскалываются. Сверху – особые круглые серые камни, найденные на полях, которые так и назывались löylykivet (камни для пара)[95].
Собирать камни для банной печи рекомендовалось с утра. Нельзя было брать мокрый камень, на котором лежит роса hikikivi.
Для строительства каменки в Ругозере и в других местах рекомендовалось использовать речные камни. Утилитарное объяснение состояло в том, что они дольше не крошатся[96]. Но, возможно, существовало и более архаичное объяснение: культ огня и духов-хозяев бани, основным местом пребывания которых была каменка, соединялись с культом праматери воды. Укладывая в каменку водный камень, человек как бы обращался за покровительством к мудрой матери-хозяйке воды Vedhen emä, прося смирить обжигающий пыл огня. Вспомним, как начинают трещать раскаленные камни и брызгаться вода, когда ее льют на горячую банную каменку. Согласно древнему мифологическому мировоззрению карелы считали, что камень, лежащий в воде или на берегу, является эманацией самого духа-хозяина воды. Например, чтобы обезопасить себя во время купания или переправы лошадей через реку, заходя в воду, карелы брали камень из воды, бросали его на берег и произносили: «Veinižändy – moal, ristikanzu – vedeh!» – «Хозяин воды – на землю, человек (крещеный) – в воду!» А выходя из озера, тот же самый камень снова бросали в воду, произнося обратную вербальную формулу: «Veinižändy – vedeh, ristikanzu – moal!» – «Хозяин воды – в воду, человек (крещеный) – на землю!»
О постоянной связи и соперничестве божества огня и воды рассказывается в мордовском мифе о рождении ребенка (а у карелов в старину именно баня была основным местом появления на свет детей). Богиня огня Толава пригласила в гости Ведяву, божество воды. Но во время пира каждая из них хвалила себя и хулила другую. В результате божество огня зашипело, запылало, а Ведява стала брызгаться. Испугавшись Ведяву, Толава спряталась за камень. Она поет и танцует в отсутствии Ведявы, но помнит ее строгий наказ: не жечь бедных и не доводить их до слез[97].
С каменкой связан и ряд запретов. Например, в Сямозерье запрещали сжигать в банной печи щепки, оставшиеся после того, как заострили колья для любых хозяйственных нужд[98]. Карелы-людики говорили, что в печь нельзя класть черно-синие (сланцевые) камни hikikivi: «se kivi on vedenitkija» – «этот камень водой плачет». Считалось, что такие камни испускают горький пар и делают баню угарной[99]. Карелы также полагали, что, если недоброжелательный человек отнесет плохой камень в чужую баню, в той бане будет горький пар до тех пор, пока не сделают новую каменку из новых камней[100].
Грели воду в специальном банном корыте, сделанном из цельного куска дерева. Оно чаще всего стояло у левой боковой стены на двух колодах или скамье. Иногда это корыто было разделено на две части, для холодной и горячей воды. Когда все дрова сгорали до углей, в устье каменки укладывали специальные камни. Они раскалялись, их кочергой вытаскивали из печи, брали специальными большими щипцами и опускали в холодную воду. Тверские карелы при этом произносили:
Kivyt pellosta, vedyt meressä! Älkää toratkoo, olkaa hyvästi! Puuastijaa älkää rikkoko! Камушек с поля, водица из моря! Не деритесь, будьте по-хорошему! Деревянную утварь не портите![101]Утилитарная функция заговора была одна: чтобы раскаленные камни не прожгли дно корыта. Но с мифологической точки зрения эта вербальная формула наглядно демонстрирует народные представления о том, что в бане должны мирно уживаться все стихии, часто враждующие между собой: земляная, водная, огненная и воздушная.
Банная утварь вся была деревянной и зачастую выдолбленной из цельного куска дерева. Деревянные ведра могли быть с одной деревянной ручкой сбоку, позже – с металлической, продеваемой в оба ведерных ушка. Банной утварью, как и банным веником, нельзя было пользоваться в доме. Она принадлежала только сакрализованному пространству бани и тем самым сакрализовывалась сама. Это подчеркивается и в языковом плане: все многочисленные названия утвари начинаются со слова «баня, банный» kyly. Кочерга называлась kylykoukku. Специальной банной лопатой kylylabjaine доставали из печи раскаленные камни и опускали их в воду для ее нагрева. Емкости, в которых мылись, южные карелы называли kylykalju, kylymal’l’y. В Рыпушкалице емкость для воды без ушек называли kylyleska. Русским заимствованием является название банной шайки kylysaikku. Банный ковш в Суйстамо – kylyкаррате, у других ливвиков и северных карелов – kylyliuhu, а чаще всего – kylykauhu. Иногда его делали из капа, нароста на стволе дерева, выскабливая его внутри. Ковш, которым бросали воду на каменку, мог быть с длинной ручкой. Банное корыто kylykartta представляло собой емкость, выдолбленную из цельного куска дерева и разделенную на две части для холодной и горячей воды. Kylyallas – так тунгудские карелы называли выдолбленную из цельного куска дерева емкость для холодной воды в бане, в которую помещалось несколько ушатов kylykorvo воды. Банный котел kylykattil был рассчитан на ушат или пол-ушата воды. Позже долбленой утвари появились банные бочки kylypučči. Чугунный котел kylypata, заменивший деревянный, стоял сбоку от каменки на полу, в нем грели воду камнями. Он сужался кверху, чтобы дольше сохранялось тепло. Kylykippaine – так в Суйстамо называли маленькое банное ведерко. Воду для мытья карелы часто наливали в деревянные ведра kylyrengi[102].
Металлические ведра у карелов появились в первой половине XX века, при этом деревянные шайки или лоханки продолжали сохраняться еще дольше. Металлические ведра kylyrengit, как и тазы kylytoazat, очень долго, вплоть до сороковых годов XX века, были признаком зажиточности. Карелы рассказывали: «Kylytoazu on korvienkel, vaskine kui juodu, pappiloiz on kylys toazad, meil pidäy rengizes pestäkseh» – «Банный таз с ушками, медный, как миска; у попов в бане тазы, а нам приходится в ведерках мыться»[103].
Освещалась баня с конца первой половины XX века керосиновыми лампами и фонарями, а до этого – березовыми лучинами päre и коптилками. Лучина на специальной высокой металлической подставке стояла между каменкой и банными полками для паренья, угольки от нее падали в деревянную лоханку с водой.
Процесс строительства бани у карелов также сопровождался различными ритуальными оберегами. Считалось, что баню нельзя строить в том месте, где течет водяная жила vezisuoni on, vezi juoksua: иначе дух-хозяин не сможет обжиться-«остановиться» в бане haltia ei azetu[104]. Этим еще раз подчеркивается взаимосвязь духов-хозяев бани и воды: вода будет постоянно течь, как бы прогоняя, унося с собой и банных хозяев.
Есть сведения, что карелы-людики заготавливали бревна для бани в лесу между двух озер[105]. Чаще всего это была сосна: «Männystä kaikki kylyt ollaa» – «Из сосны все бани»[106]. Как пишет С. Паулахарью, хозяева-строители уже с самого первого этапа строительства соблюдали как физическую, так и духовную чистоту. Старались, чтобы в это время в дом и к месту, на котором начинали ставить баню, не приходили люди со злобным нравом, с дурными мыслями, чтобы у приходящих не было кожных болезней, например, чесотки. Часто в качестве оберега во время строительства использовали мышьяк markkuli. Его клали под первый венец, когда начинали строительство, затем бросали щепотку на готовую печь и сверху в дверные петли, а также прятали в маленькие щели в стенах. Оберегом служила и ртуть elävänhobjä. Её прятали в основании печи в какой-нибудь посудинке или в птичьем пере, заделав это так глубоко, чтобы оно не сгорело от жара. Иногда ртуть клали в дверь ukshavon päähän или заделывали в порог, заткнув отверстие сучком. Иногда в потолок над каменкой клали металлический шлак rauvankuonoo, в щели на стенах заделывали ароматическую смолу или ладан. В районе Иломантси под каменкой закапывали лошадиный череп. Все это делалось с целью обезопасить всех, кто будет париться в бане, от различных напастей и болезней. Для того чтобы в бане не было угара и пар был хороший, на только что сложенную каменку сразу же мочился маленький мальчик так, чтобы струя «описала коромысло» kusetettih korennon поверх печи[107].
По другим сведениям, когда первый раз топили построенную баню, угли в каменке поправляли палкой, которой убили змею обязательно до первого кукования кукушки. Считалось, тогда в бане не будет копоти [108].
Иногда во время начала строительства бани под нижнее бревно в трех местах клали деготь tervu, «чтобы баня была чистой»[109]. Обеззараживающие и дезинфицирующие свойства березового дегтя признаны и современной медициной.
Когда первый раз шли мыться в построенную баню, облизывали запотевшую дверную щель и затем сплевывали через левое плечо назад[110]. Обязательно приносили подарок банным духам. В первую очередь это было березовое полено[111]. Данный обычай еще раз подчеркивает, что баня являлась прообразом древнего жилища. Старые карелы и сегодня в новый дом приходят с березовым поленом и квашней.
Интересный материал о бане по-черному был записан нами во время фольклорно-этнографической экспедиции на территорию пряжинских и святозерских людиков в июне 2015 года. Местные старожилы рассказали, что еще в первой половине XX века большинство бань стояло прямо в озере, на камнях. В одних случаях это были четыре больших камня – по одному под каждым углом бани. В других под каждым углом стояло по три камня поменьше, они устанавливались друг на друга. Иногда одна стена бани полностью стояла на огромном валуне, а вторая – на сваях в воде или на берегу Прямо под полом плескалась вода. В баню попадали по специальным мосткам telat, сделанным из широких плах. У северных карелов, например, в д. Венехъярви такие бани тоже были еще в конце XIX века. На одной из старых фотографий видно, что передняя стена бани стоит на берегу, а задняя – на двух камнях прямо в озере[112]. В XXI веке рассказчики объясняли причину строительства бани прямо в озере тем, что очень близко было приносить воду и удобно купаться и ополаскиваться, спускаясь или прыгая прямо с камней в воду. С мифологической точки зрения тем самым могла подчеркиваться тесная связь хозяев бани и духов предков, находящихся в этом локусе, с хозяевами воды. Есть сведения, зафиксированные в Сямозерье, что в старину, если баня хотя бы одним концом стояла в воде, во время начала ее строительства следовало попросить разрешения построить баню не только у хозяев земли, но и у хозяев воды. И тем, и другим в благодарность приносили жертвоприношения, небольшие дары: зерно, красные тряпицы, немного вина, монетки. Согласно сведениям К. К. Логинова, если баня ставилась в озере на столбах, то на восходе солнца хозяин в пояс кланялся на все четыре стороны и обращался к воде и ее хозяевам[113]. «Далее могла следовать специальная просьба к водяному, чтобы он не посылал льдины на берег, которыми весной могло бы разрушить строение. В этом случае в воду могли бросить нечетное число медных монет»[114].
В послевоенное время бани начали все чаще строить на земле, а не в воде. Объяснялось это требованиями санитарно-эпидемиологических станций, чьи нормы постепенно ужесточались, и если еще в семидесятые годы приусадебные бани разрешалось ставить буквально в нескольких метрах от воды, сейчас это расстояние увеличено до нескольких десятков метров.
Печь и полки для паренья в банях, стоявших на воде, находились, по одним сведениям, слева от двери, по другим – справа. На противоположной стене напротив печи было небольшое окошко, а напротив полок вдоль стены располагались лавки. Дверь предбанника и окошко в бане часто выходили на запад и на берег, а не на озеро.
Согласно собранным нами сведениям южные карелы, людики и ливвики, строили баню, как и избу, из сосны. При этом выбиралась не мяндовая, а рудовая сосна. Она была легкая, с большой сердцевиной и маленьким количеством заболони. Деревья выбирали поздней осенью, когда уже подмораживало, по звуку, который раздавался от удара по стволу специальной березовой колотушкой. Их валили, срубали сучья и, по рассказам отдельных информантов, на зиму оставляли в воде. Весной эти бревна вылавливали. Их древесина становилась очень плотной, прочной и, самое главное, была плохо подвержена горению. Она только тлела, что было особенно актуально для банной постройки, в которой температурные значения были очень высокими. Пол и потолок в таких банях были сделаны из сосновых плах. Каменка была полукруглой формы, состояла из больших камней. Они должны были быть темными, синеватыми, тяжелыми, чтобы не рассыпались от жара в песок. Их часто доставали из воды. Сверху для получения хорошего пара клали серые и белые камни. Долго сохранялась открытая топка в каменке, дверца в ней появилась в середине XX века. Чугунный котел стоял в середине каменки, иногда он был прикреплен и к потолку.
В старину у карелов далеко не в каждой крестьянской усадьбе была баня. Например, уже в XX веке в одной из сямозерских деревень на двадцать пять изб было только пять бань: «Vuatsiz on 25 taloidu, 5 kylyö»[115]. При этом надо учитывать, что в каждом доме жили чаще всего как минимум три поколения и несколько семей: родители, взрослые сыновья приводили жен, у них рождались дети. Таким образом, в бане одновременно мылось по многу человек, подчас без различия полов и родственной принадлежности. Вместе нельзя было мыться только куму и куме[116]. У тихвинских карелов «очень древний обычай совместного мытья в бане всех членов семьи соблюдался в ряде старообрядческих деревень до 1950-х гг.»[117]. Карелы-людики тоже рассказывали, что до середины XX века все соседи, и мужчины, и женщины, могли мыться вместе. Однако Э. Леннрот, путешествуя в 1828 году по территории Саво и примыкавшей к ней Карелии, писал, что «Рюс заблуждается, утверждая, что мужчины и женщины парятся вместе. Я нигде не встречал такого. Мужчины всегда парятся первыми, а женщины – после них»[118]. Возможно, Э. Леннрот имеет в виду только ритуал паренья, все-таки отрицать обычай совместного мытья разных полов нельзя.
Повсеместно у карелов было принято приглашать в баню одиноких людей и всех соседей. Каждый приглашенный должен был прочитать заговор, благодаря за приготовленную баню тех, «кто ее срубил, стены мхом проконопатил, каменку сложил, дров наколол, прорубь прорубил, воду наносил, баню истопил, пол подмел, веник приготовил, пару поддал»[119].
Подобные обычаи были и у других финно-угорских народов, и у русских. Как отмечают эстонские исследователи, в одних деревнях води в 1942 бани рядом с каждой избой, в других – одна на два-три двора[120].
Таким образом, карельская баня на протяжении последних столетий проделала достаточно большой путь в своем развитии от маленькой землянки с костровищем посередине до многокамерной постройки, иногда даже с террасой для отдыха и бассейном для плавания в зимнее время. Претерпевали трансформацию и этикет, и различные банные ритуалы, которые будут рассмотрены в следующих главах.
Этикет банного ритуала карелов
Банный ритуал карелов был строго регламентирован и включал в себя множество табу.
Карелы соблюдали правило, что всем людям надо помыться в три очереди, «в три пара» kolmeh löylyh. «На четвертый пар» уже приходили духи-хозяева бани, которых карелы почитали и боялись прогневать.
Топили баню чаще всего девушки или женщины[121]. В домах побогаче это делала прислужница piika. Пока топилась баня, женщины вязали[122]. Возможно, это делалось не случайно: именно в баню в сакральный период Святок приходили узнавать свою судьбу на предстоящий год. Вязание и прядение связано с удлинением жизненного цикла. В мифологиях многих народов «нить жизни» прядут особые духи, у карелов этим занималось древнее божество Кегри[123].
Летом баню по-черному начинали топить часа в три, зимой – еще раньше, иногда прямо с утра, чтобы всем успеть помыться до захода солнца. После того как баня протопилась, ее продолжительное время проветривали, чтобы ушел дым.
Топили баню чаще всего березовыми дровами, они давали и самый лучший пар, и больше всего тепла. Ольха также годилась для получения хорошего пара, но баня получалась не такой горячей. По некоторым сведениям, сосновые дрова и любые смолянистые не использовали, так как считалось, что они придавали бане горечь. Хотя есть и иные мнения, зафиксированные, например, у святозерских людиков. В Приладожской Карелии и в Сямозерье банными дровами kylypuu называли дрова, приготовленные именно из невысоких засохших на корню сосенок[124]. Об использовании сосновых дров писал и Э. Леннрот[125]. Для растопки часто использовали дрова с пожарищ.
Пока баня топилась, на воронцы и стены расстилали и развешивали рабочую одежду: жар и дым выгонял из них вшей[126].
Особо оговаривается, что в баню нельзя приносить воду накануне или поздно вечером. Иначе прогневаются духи-хозяева и воды, и бани: в таком случае во время мытья так запутаются волосы, что их придется выстричь[127]. Волосы, как известно, в представлениях многих народов были средоточием жизненной силы и энергии, поэтому, возможно, на них и был направлен гнев банных хозяев[128].
После того как баню натопили и проветрили, ее хорошенько мыли, в том числе смывая (или смахивая мокрым веником) сажу со стен над лавками и полками.
По одним сведениям, первыми шли мыться девушки, затем женщины с детьми, а после них мужчины[129]. Но чаще всего все-таки первыми в баню ходили мужчины. В теплое время года они шли в баню босиком, в нижнем белье. Если были вши, то белье, вывернув наизнанку, вытряхивали над горячей каменкой: «только треск стоит»[130].
В небольших семьях и мужчины, и женщины, и дети ходили в баню все вместе. Об этом говорили наши информанты, а также писал С. Паулахарью в своих путевых заметках по Карелии в 1907–1908 годах. Это отмечали и русские собиратели народных обычаев на территории Карелии: «С малых лет дети учатся не стесняться, на посиделках, гуляниях они присутствуют и видят все; в банях, куда ходят все – свои, чужие, мужчины, женщины, девушки, парни – они там же. Все они видят, все они знают и сами делаются такими же»[131]. Та же самая картина была и Финляндии. Финский исследователь Т. Вуорела отмечал, что в Тампере все мылись вместе еще в 1890 годах, а в городках поменьше – вплоть до двадцатых годов XX века, и «банный нудизм saunanudizmi» никого не удивлял[132]. О совместном мытье в бане соседей разных полов, особенно пожилого возраста, вплоть до середины XX века вспоминали и пряжинские людики во время фольклорно-этнографической экспедиции 2015 года.
По некоторым сведениям, заходя в баню, надо обязательно наступить на банный порог[133], чего ни в коем случае нельзя делать в избе, кроме случаев, когда проводят ритуалы исцеления (например, лечат поясницу).
Зайдя в баню, смачивали голову прохладной водой, затем распаривали веник в горячей воде (иногда он был уже приготовлен заранее), а потом на каменке, на которую бросали пар. Летом могли сразу начинать париться свежесорванным молодым веником, смочив его перед этим в озере. На полках иногда могла лежать солома или свежее сено.
При этом в бане не столько мылись, так как нагреть с помощью камней большое количество воды было сложно, сколько парились. Паренье было особым ритуалом, особенно подолгу парились мужики постарше, младшие ждали своей очереди на нижних лавках. Пар любили погорячей. Веник, по мере его подсыхания от горячего пара, окунали в воду. Парились по нескольку раз, в перерывах отдыхая в сенях или купаясь.
Регулярное прогревание и паренье, в результате которого открывались поры и выделялись шлаки, глубокое насыщение кожи и всего организма влагой – все это способствовало не только очищению, но и омоложению организма. Купание в прохладной и даже в холодной воде его закаливало.
Веник карелы делали из березовых веток с гладкими, блестящими листьями, у которых был острый кончик. Лист даже пробовали языком: он должен был быть скользким, ярко– или темноокрашенным и без горечи. Такие березы растут на сухих пригорках, в бору[134]. Иногда говорится, что лист должен быть шершавым, как бы с крохотными бугорочками: он очень хорошо держится на ветке и не опадает во время паренья. Карелы говорили, что такие листья имеют частые зазубрины и дрожат на длинных березовых ветвях, как листья осины, даже в самую безветренную погоду[135]. Ливвики называли такие березы vastalehtikoivu, сегозерские карелы – ruuhmikaskoivu, северные карелы и финны – rauvuskoivu. Говорилось, что на них «такой хороший, звенящий лист on moine hyvä, helizii lehti». Такие березы росли не везде. Чаще встречались другие виды: pihkakoivu, juomiskoivu, lusina, hikikoivu; их ветки использовались только в качестве корма для скотины[136]. Для банных веников ни в коем случае не ломали ветки с берез с пушистыми и мягкими листьями. Категорически запрещалось рвать ветки для веника с деревьев, стоящих на болоте. Согласно древнему мировосприятию карелов болото считалось «иномирным» пространством, чуждым и враждебным человеку. В некоторых лечебных заговорах и свадебных причитаниях этот локус называют самым нижним, самым близким подземному миру мертвых Манале-Туонеле. Ветки для веников рвали только с того дерева, которое росло отдельно, чтобы «вода с другого дерева не капала сверху»: иначе у парящихся не будет здоровья[137]. На зиму веники заготавливали строго в определенный период летних Святок Viändöin aigu, с Иванова до Петрова дня, когда вся природа достигала пика своего расцвета[138]. Заготовленные на зиму веники перевязывали тонким березовым прутиком или лыком (тверские карелы), затем прикрепляли два веника вместе и попарно развешивали сушиться на чердаках дома, в сараях или в кладовых.
Некоторые информанты говорили, что старые веники нельзя забирать из бани – их сжигали в банной каменке. Считалось, что «если использованный веник попадет в руки плохого человека, то он может причинить вред всем, кто пользовался этим веником»[139]. Но все-таки чаще всего банные веники, как говорили в Вокнаволоке, после использования в бане ополаскивали в озере и потом забирали в избу для подметания полов[140]. Исключением были веники, которыми парились девушки. В Сямозерье их в течение всего года собирали, а потом в Ивановскую ночь относили на росстань, поджигали и прыгали через этот костер[141]. Таким образом девушки поднимали свою лемби, то есть честь, славу и сексуальную привлекательность в глазах противоположного пола.
Интересно, что ижемские коми в Иванов день делали новый березовый веник и парились им в бане. Но они обязательно относили его на речку и «выкидывали в воду этот веник, чтоб вода унесла болезни»[142].
Иногда карелы в бане в лечебных целях использовали крапивные веники, а также и можжевеловые, сорванные с молодых кустов, иголки у которых длинные и мягкие.
В бане использовали специальную утварь, которой нельзя было пользоваться в иных целях. Например, ведрами, которыми носили воду в баню, нельзя было приносить воду в дом. Для мытья использовали особые банные корыта kylykartta, выдолбленные из цельного куска дерева. Часто они были разделены на две части: в одной была холодная вода, в другой – горячая[143]. Делались такие корыта, а иногда и ушаты, из осины. Их не сразу ошкуривали, чтобы они быстро не растрескались. Воду нагревали в бочках-колодах, бросая в них раскаленные камни[144].
По некоторым сведениям, в бане должно было быть четное количество тазов. Возможно, здесь прослеживается связь с культом предков. Вспомним, что в наши дни четное количество цветов приносят только умершим.
Мыла у карелов не было. Иногда его покупали для девушек. Еще в послевоенное время, в конце первой половины XX века, приятно пахнущий мыльный брусочек очень высоко ценился. Карелы называли его duuhumuilu мыло-духи или душистое мыло. Обычно для мытья головы в бане использовали разведенный щелок. Это водный отвар березовой золы. Для его приготовления собирали золу, оставшуюся поле горения только березовых поленьев, заливали ее водой и этот чугун ставили на целый день в печь. Затем отвар остужали и процеживали. Получалась прозрачная жидкость желтоватого цвета. Перед мытьем или стиркой щелок разводили в необходимых пропорциях водой.
Мыли волосы и специальным отваром, приготовленным из pakkuli. Это особый гриб-трутовик, нарост на стволе березы. Для этого грибы-наросты закладывали в чугунок, заливали водой и целый день томили в печи – готовили отвар pakkuli poruu keitettih[145].
Мытье головы со щелоком, полоскание отваром трав способствовали росту и густоте волос, давали стойкий косметический эффект.
У финнов во время процесса приготовления мыла в домашних условиях существовал строгий запрет на произношение этого слова «saippu». Табуированное слово заменялось другими, например, lähretys. При этом все делалось в тайне, чтобы никто из соседей не знал, то есть сам процесс приготовления мыла даже в конце XIX века был сакрализован[146].
Мылись карелы тоже с помощью koivupakkuli. После того как этот гриб-трутовик целый день парили в печи, он становился достаточно мягким[147]. Поэтому в бане терлись им как мочалкой. Позже появились мочалки из рогожи.
Как пишет И. К. Инха, карелы в бане не торопились, подолгу сидели и разговаривали. После бани карелы очень любили купаться. Они начинали купальный сезон ранней весной, когда в озере появлялись первые полыньи. Многие зимой купались в снегу или обтирались им[148].
В 1913 году современник писал про ухтинских карелов: «В зимнее время часто можно встретить кореляков, идущих из бани в адамовом костюме, хотя бывает довольно большой мороз»[149]. А с весны по осень дети и мужчины постарше всегда шли из бани домой обнаженными, прикрываясь спереди свернутым бельем[150]. Иногда летом они сидели на улице, ждали, когда тело остудится и подсохнет, потом надевали нижнюю рубашку В старину полотенцем после бани карелы не пользовались.
Карелы обычно умывались утром и вечером перед молитвой. И обязательно умывались, придя из бани: «иначе будет грех». «Kylyn jället pidäy pestä eäreh» – «Банные следы надо смыть»[151]. Зайдя в избу, ополаскивали лицо и руки, кланялись перед образами и благодарили за баню: «Jumalalle kiitos, sain hyvin peseytyä!» – «Слава Господу, хорошо помылся!» Женщина, придя из бани, ополаскивала грудь, прежде чем дать ее ребенку. Более того, если в баню сводили больного или умирающего, его следовало полностью вымыть чистой водой в избе[152]. Таким образом смывались следы присутствия в иномирном пространстве и происходило приобщение к домашнему очагу и духам-хозяевам дома.
Затем садились ужинать. На столе обычно стояла каша с молоком, хлеб и свежая или соленая рыба.
Вот как в конце XIX века описывал банный процесс у южных карелов Н. Ф. Лесков: «Ходить в баню для кореляков величайшее удовольствие. В летние дни бани топятся ежедневно; и все, пришедшие с работы, „валом валят” в них помыть свое грешное тело и распарить кости. Бани кореляков величиною не более как в квадратную сажень или полторы… Каменка занимает почти половину, по стенам узкие скамьи, и подле каменки высокий полок. И представьте себе, что в этой тесноте помещается человек двадцать-тридцать обоего пола: здесь и мужики, и бабы, парни и девушки, и маленькие дети; все хлещут себя вениками, все парятся до полузабытья. Совместное хождение в баню обоих полов не ведет, однако, к случаям прелюбодеяния. Совершить прелюбодеяние в бане, по мнению кореляков, один из самых страшных грехов и наказывается очень строго. Напарившись до изнеможения, все бросаются в озеро или реку – остыть в холодной воде; после холодной ванны, снова начинается паренье еще с большим ожесточением; потом опять купанье и снова паренье, и так чередуется несколько раз. Зимой же, после паренья, выбегают на улицу, сидят на снегу, окачиваются холодною водою из проруби… Такие резкие переходы от жару к холоду и от холоду к жару приучают кореляков безвредно переносить всевозможные перемены температуры и застраховывают их от заболеваний простудою»[153].
Купаясь после бани, карелы считали, что они вторгаются во владения хозяев воды, проникают в чуждое, иномирное пространство. Для того чтобы такое проникновение было безопасным, старики-людики советовали подросткам есть заплесневелый хлеб: «Если будешь есть заплесневелый хлеб, будешь хорошим пловцом. Чем больше будешь есть такого хлеба, тем лучше будешь плавать»[154]. С мифологической точки зрения этот совет объясним. Чужой, иной мир духов зеркальноподобен своему, человеческому. В карельской мифологической прозе говорится, что, когда у нас, в мире человека, темно, у них – светло, когда у нас идет дождь, у них – солнечно, если у нас холодно, у них – тепло. То же самое происходит и с едой: то, что в мире людей кажется опавшей листвой, мхом или даже калом, в мире духов – пряники и конфеты. Есть даже поговорка: «Плесень – это хлеб дьявола». Как известно, в фольклоре именно через еду, угощение происходит приобщение к иному миру, миру духов[155]. Именно поэтому и в сказках, и в былинках герой или героиня, попав в чужой мир, имеют больше шансов вернуться домой, если они не притронулись к предлагаемым яствам. В случае же с поеданием заплесневелого хлеба хозяева воды vein izändy da vein emändy как бы видели в пловце, вторгнувшемся в их пространство, своего.
Карелы, помывшись в бане, после себя обязательно оставляли чистую воду, чтобы могли помыться духи-хозяева бани. Считалось, что они приходят «на четвертый пар». Веник должен был лежать на лавке, а не под нею, чтобы банные духи не обиделись.
Карелы очень любили ритуал посещения бани. У них даже есть специальный глагол, обозначающий банный процесс, – kylytellä, то есть ходить в баню. Зимой топили баню два-три раза в неделю, традиционно по субботам, а иногда и по вторникам и четвергам. Эти два дня так и назывались kylypäivät банные дни. Некоторые информаторы вместо четверга называют среду[156], но это, скорее, исключение из правил. У карелов есть даже пословица: «Kylytöi suovattu da piiratoi pyhäpäivy ei maksa nimitä»[157] – «Суббота без бани да воскресенье без пирогов ничего не стоят». Во время летней страды (пожога, сенокос, жатва, молотьба) могли ходить в баню практически ежедневно, кроме воскресенья. Но всегда обязательно соблюдали одно условие: вернуться из бани до захода солнца. После этого наступало время париться духу-хозяину бани.
Особые временные отрезки, в которые баню топить было запрещено, так и назывались: kylytöi aigu время без бани. Это, например, страстная неделя перед Пасхой, по-карельски strasnoi nedäli страшная неделя: «Kylytöi aigu nygöi on, kallehed päivät on, ei kylyy lämmitetä» – «Безбанное сейчас время, драгоценные сейчас дни, не топят баню»[158]. Эта традиция сформировалась под влиянием православия. Если обратиться к карельским духовным стихам, то можно обратить внимание на то, что три дня в неделю, в которые обычно запрещалось топить баню, – среда, пятница и воскресенье – сакрализованы. Это обусловлено христианскими воззрениями. Согласно Новому Завету, в среду Христос был предан Иудой, в пятницу распят на кресте, а в воскресенье восстал из мертвых.
Согласно мордовской традиции, в отличие от карельской, на страстной неделе в баню ходили трижды. В среду следовало поскорее раздеться и облиться холодной водой. В пятницу, начиная париться, каждый призывал духов умерших, для которых приносил воду и веник. В субботу баню топили девушки, а парились все. В Великий четверг мордва проводила особое моление, в котором обращались к банному божеству Баняве с просьбой о здоровье[159].
Таким образом, процесс посещения бани у карелов был ритуализирован и табуирован. При этом, если человек соблюдал все правила банного этикета, посещение бани обеспечивало его здоровьем и покровительством духов в дальнейшей повседневной жизни.
Функции карельской бани в обрядах жизненного цикла
С точки зрения современного человека главной лежащей на поверхности функцией бани является утилитарная, гигиеническая. После тяжелого трудового дня, проведенного зимой в холодном лесу, а весной, летом и осенью на лугу, в поле или риге, крестьянину требовалось смыть пот и грязь, летом удалить зуд от укусов насекомых, зимой согреться. Массаж веником помогал натруженному телу расслабиться и отдохнуть. То есть в бане происходило физическое очищение тела.
Но фольклорно-этнографические материалы показывают, что в старину для карела не менее важны были иные функции бани, способствующие очищению не столько тела, сколько души. Не случайно в Новом Завете в «Послании к ефесянам» баня – это очищение словом и Святым Духом, сравниваемое с наружным омовением, которое было хорошо известно евреям: «Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова».[160]В «Послании к Титу» апостол Павел говорит, что Бог «спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего»[161].
В дохристианские времена у русских баня была тем сакральным местом, где отправлялся культ домашних духов и культ предков-родоначальников[162]. Как пишет Н. А. Криничная, «баня осмыслялась как некое сакральное пространство (благожелательное и вредоносное), где совершается таинство перехода к важным этапам жизненного цикла.
Здесь властвует идея круговорота, стирающая грани между жизнью и смертью, бытием и небытием, реальным и потусторонним мирами… профанным и сакральным временем, между прошлым, настоящим и будущим»[163]. Для карела также баня вплоть до середины XX века в первую очередь была неким семейным святилищем, в котором проводились многочисленные ритуалы, связанные с переходными периодами в жизни человека: с рождением, свадьбой и погребально-поминальной обрядностью. Баня, как указывалось выше, была одной из ранних форм жилища, и в ее духах-хозяевах карелы «видели покровителей семьи, и культ их в известной мере можно рассматривать как одну из ранних форм культа предков»[164]. При этом следует сказать, что, по мнению карела, вредоносное влияние бани и ее хозяев встречалось только в единственном случае: когда человек сам нарушал пространственно-временные границы, различные табу и правила банного этикета.
Функции карельской бани и их особенности можно наглядно выявить, исследуя различные ритуалы, проводимые в этом локусе.
Баня в родильной обрядности
Бане в родильной обрядности карелы отводили совершенно особое место. Рожать в избе запрещалось категорически. Как говорили в Вокна-волоке: «Ne vet reähkeä varattih» – «Они ведь греха боялись»[165]. В родильных заговорах прямо указывается, что роды изначально проходили в бане[166]. Баня была, во-первых, местом обитания предков, на чью помощь рассчитывали в переходный период, во-вторых, изолированным от чужих взглядов помещением и, в-третьих, местом, где была рядом теплая вода и очищающая сила огня, стихиям которых карелы поклонялись.
Сегозерские карелы рожали в бане или в хлеву, а иногда в трудных случаях – в подполье, тоже локусе обитания предков[167]. Д. А. Золотарев, описывая экспедицию к кестеньгским карелам, замечал: «Роды обыкновенно проходят не в избе, а в хлеве или в бане в совершенно антигигиеничной обстановке»[168]. Об этом же свидетельствует и финская традиция: «Роды никогда не проходили в избе и при домочадцах, а только в бане и, реже, в хлеву»[169]. Правда, по мнению Р. Ф. Никольской, сведения о проведении родов в бане «относятся к более поздним представлениям»[170]. С этим вряд ли можно согласиться. Скорее всего, место родов из бани в хлев постепенно переместилось, в том числе и под влиянием христианства.
Например, беременная Марьятта в эпических песнях и в «Калевале», вынужденная покинуть родной дом, просит пустить ее в баню, чтобы родить младенца. Но все прогоняют ее, не веря в зачатие от «волоса» или «бруснички».
Уроженка Лоухского района В. П. Федотова вспоминала, что мать родила ее в бане в июне 1934 года. И, хотя Федосья была совсем юной и любимой невесткой, свекр-старовер, строго соблюдавший древние уставы, две недели не разрешал ей вернуться в избу, пока она полностью не очистится. Все эти две недели ей еду приносили прямо в баню.
А. С. Степанова[171] рассказывала, что ее в августе 1930 года мать тоже втайне от всех родила в бане. И первую неделю они провели именно в этом локусе. Александра Степановна до шести лет жила в родном Шомбозере и помнила, как роженицы по нескольку дней жили в бане. Туда им приносили обычную еду и даже особое ритуальное блюдо с выпечкой – hammas (зуб) для ребенка и матери.
Как пишет С. Паулахарью, у финляндских карелов роженица могла находиться в бане от двух-трех дней до трех недель. В некоторых банях (например, в районе Суйстамо) даже было из досок сделано специальное спальное место makuulava. Оно располагалось или в дверном углу, или напротив полков[172].
В рассказах о повитухах также можно найти подтверждение того, что роды часто проходили в бане. Так о Матрене Фоминой, родившейся в 1808 году в д. Лонгозеро, а после замужества жившей в д. Войница, говорится, что она была «известная повивальная бабка. Одна роженица оставалась еще в бане, как она шла уже к другой»[173].
Правда, есть рассказы, в которых говорится, что в бане рожать запрещалось, да и согласно биографическим рассказам в первой трети XX века карельская крестьянка тайно от всех чаще всего рожала в хлеву[174]. С мифологической точи зрения «обычай рожать в хлеву когда-то был связан, вероятно, с элементами продуцирующей магии»[175]. Возможно, существовала и чисто утилитарная причина: хлев был самым укромным и в то же время всегда достаточно теплым (в отличие от бани) местом крестьянской усадьбы. В ней хлев был соединен с избой, находился под одной крышей с ней. Здесь можно усмотреть и влияние православной церкви. Она, во-первых, всеми силами пыталась искоренить все языческие культы, а во-вторых, согласно Новому Завету, сам Христос родился в яслях.
Северные карелы считали, что, если даже роды прошли не в бане, ребенка ни в коем случае нельзя мыть на том месте. Первое омовение и новорожденного, и матери должно происходить только в бане[176]. Существует множество рассказов, как женщина во время летней страды рожала в поле или на лугу, но после этого сразу вместе с ребенком шла в баню[177].
Семейно-родовые коллективы стремились поддерживать единение с миром реальным и ирреальным, что позволяло живущим всегда рассчитывать на покровительство умерших[178]. Как пишет В. А. Липинская, «баня была выбрана местом проведения родов именно потому, что там скорее можно было ожидать присутствия умерших предков… При этом духу-баннику отводилась роль посредника между двумя мирами. А в самой бане, согласно народным представлениям, можно усмотреть как бы некое вместилище душ, откуда они появляются и куда со временем уходят»[179]. Не случайно карелы, заходя в баню, не здороваются в обыденном смысле с присутствующими там людьми, как не здороваются друг с другом и во время похорон – здесь совершенно иной приветственный ритуал[180].
Есть множество свидетельств, что баня в культурах многих народов на определенном историческом отрезке считалась «грязным» местом. Например, «человек, посетивший баню, считавшуюся «поганой» (нечистой), не мог идти в тот же день в церковь»[181]. Выйдя из бани, необходимо умыться, банная вода считалась грязной. На Брянщине «банная посуда считалась поганой. Ее не использовали нигде, кроме бани, и лишь при крайней необходимости вносили в дом, при этом предварительно обмывали святой водой»; в бане не здоровались[182]. В Западной и Центральной Европе «наибольшего развития строительство бань достигло в XIII–XVI веках, а с XVII века оно постепенно стало приходить в упадок»[183], была полностью забыта культура римских терм. Например, в Венгрии, Чехии и Словакии бани были под запретом, потому что католическая церковь говорила, что частое омовение смывает с человека святость причастия и крещения. Священнослужители даже во время эпидемий средневековья запрещали бани (красные домики), говоря, что заражение чумой и холерой происходит через кожу в бане[184].
Как пишет В. А. Липинская, после принятия в X веке Русью христианства постепенно «предметы нового культа заняли почетное место в жилище… в святом углу. Сонму прежних языческих божеств и духов предоставила свою площадь отделившаяся от жилья баня»[185]. Именно этим объясняется двойственное отношение к бане: с одной стороны, это прообраз старинного жилья, с другой стороны, обитель поганой, то есть языческой, нечисти. Поэтому паренье в бане – это «уход из пространства христианского мира, а древние духи не всегда милостивы»[186]. Поэтому и хозяин бани kylyn izändy может запарить до смерти, если нарушишь локально-временные рамки; и, зайдя в избу, следует ополоснуться водой из рукомойника.
Крещение карелов началось в 1227 году. При этом на протяжении нескольких столетий священники писали, насколько тяжело приживается здесь христианская вера[187]. Карелы же, считая баню сакральным локусом, в своем миропонимании даже в XX веке уравнивали ее с церковью. В северной Карелии говорили: «Sauna on niinkun kirkko, kun siellä ollahan alasti» – «Баня – это как церковь, в ней все обнажены»[188]. Но, конечно же, это была не церковь в христианском понимании, а некий сакральный локус, место обитания душ предков и банных духов и проведения многочисленных ритуалов.
Баня для карелов, по сравнению с избой, была «иномирным» пространством. Поэтому, придя после бани в избу, следовало обязательно ополоснуть руки и лицо водой из рукомойника, вода в котором считалась по-домашнему чистой. После мытья в бане часто ополаскивались в озере, а еще лучше, если водоем был проточный. Домашнюю одежду было запрещено заносить в саму баню, ее оставляли в предбаннике. Вероятно, все банные предметы, согласно народным представлениям, «загрязнялись», так как в бане не только жили покровительствующие предки и добрый хозяин бани, но к нему могли приходить помыться и попариться и нечистые духи, например, хозяин леса. Возможно, старые карелки еще в середине XX века чувствовали несовместимость христианских догм (их олицетворял крест на груди) и древнего поклонения культу предков (и более позднего, развившегося из первого, культа духов-хозяев бани), поэтому они снимали и оставляли в предбаннике нательный крест. Обычный банный веник без листьев карелы использовали для подметания полов в избе. Но прежде, чем занести в дом, его следовало прополоскать в озере. Об этом говорили, например, в Вокнаволоке[189].
И в то же время по подавляющему большинству свидетельств баню карелы считали самым чистым местом во всех отношениях, именно поэтому в ней нельзя было стирать, заниматься сексом. И эта чистота ощущалась даже не столько в физическом (баня топилась по-черному, и все в ней, кроме лавок, полка и пола, было покрыто копотью), сколько в моральном, духовно-нравственном плане. В бане, особенно зимой, могло собираться по полдеревни чужих людей обоих полов, и никто не замечал обнаженности ни своей, ни соседа. Это состояние напоминает библейский рай до того, как Ева сорвала запретный плод и дала его попробовать Адаму, после чего они впервые почувствовали стыд из-за собственной наготы. По свидетельствам финских исследователей, в районе Тампере и Хельсинки вместе мылись представители обоих полов даже в первой трети XX века[190].
Как отмечает А. К. Байбурин на русском материале, с помощью разного рода «инверсий обыденных норм» и различных табу роженица постепенно как бы отделяется от своего мира и приближается к «иному». Происходит нарастание признаков «чужести», вплоть до отхода к «смертному» состоянию. Окончательная изоляция роженицы от остальных людей чаще всего «манифестируется пространственным перемещением». Маргинальное положение бани на грани «своего» и «чужого» пространства «согласуется с маргинальным состоянием роженицы (между своим и чужим, между жизнью и смертью) и с посреднической ролью повитухи, осуществляющей связь между этими сферами»[191]. Карельский материал подтверждает эту точку зрения. Роженица, уходя в баню, прощается с окружающим миром, как бы умирает и переходит в иной мир, под защиту духов предков.
Повитухой в карельской деревне была пожилая женщина, часто одинокая старушка, иногда в этой роли могла выступать и свекровь. Карелы называли повитуху n’äbaboabo (букв.: пуповая бабушка), а иногда и kylyboabo (букв.: банная бабушка). Но второе название чаще давалось старушкам, которые парили и лечили младенцев от различных детских болезней. Повитуха (по некоторым сведениям, и сама роженица), если успевала в холодное время года, топила баню заранее. Если нет, приводила туда женщину сразу после родов, которые могли произойти и в лесу, и в поле, и в хлеву, так как женщины скрывали срок беременности и работали до самого последнего момента. Считалось, что чем меньше людей знает о сроке родов, тем они легче пройдут и не будет никаких осложнений ни для роженицы, ни для ребенка.
В целом существовало множество запретов, связанных с беременностью. Некоторые из них касались поведения в бане. Например, беременной женщине нельзя бросать пар. Нельзя мыться на земле (полу), можно только на лавках, иначе роды будут тяжелыми. После бани запрещалось вытирать волосы, тогда ребенок родится румяный и здоровый[192].
Есть сведения, что дрова для родильной бани требовались особые, но более конкретных данных об этом получить не удалось.
В Приладожье говорили, что, «если бы мать знала, как сделать хорошую баню для ребеночка, она бы и прялку сожгла бы и истопила бы баню, если бы иначе нужных дров не добыла»[193].
Лежала роженица на полу или на лавке, на соломе, накрытой тряпьем. Если хотели, чтобы родился мальчик, сверху постилали мужское белье или рубашку. Под постелью с краю лежали ножницы для стрижки овец. На ночь она с ребенком поднималась на полок, где было теплее. Роженица оставалась в бане не менее трех суток, а чаще – дольше. А так как человек после захода солнца не имел права находиться там, и ночь считалась временем для мытья не только самого духа-хозяина бани, но и других духов, в том числе и леса, – повитуха совершала обряд оберегания. Она обходила сначала место роженицы, затем всю баню вокруг, держа в руках железный предмет (например, топор или косу), огонь (горящие лучины) и нередко икону Девы Марии, Которая считалась помощницей рожениц. При этом n’äbaboabo читала заговор, замыкая тем самым и вербальный круг:
Hospodi, plahoslovi! Spoassu ta hyvä Pohorocca olkah yöllä ympärillä päivällä peän peällä, varomah, varjelomah, vassen kohti vassuksie, kohte kaikkie kovie[194]. Господи, благослови! Спас да хорошая Богородица пусть будут ночью вокруг, днем – над головой, охранять, оберегать, от всего встречного, от всего опасного.Затем повитуха ставила топор перед порогом лезвием вверх [195] или острием в сторону двери. Иногда на все трое суток в бане оставалась и повитуха, так как есть сведения, что роженице, несмотря на все предпринятые усилия, угрожали различные опасности, в первую очередь со стороны злых духов[196]. Именно поэтому ее нельзя было оставлять в бане одну на ночь.
Обряд оберегания совершала и сама роженица. Так, С. Паулахарью следующим образом описывает ритуал у северных карелов. Отправляясь в баню в сопровождении повитухи, женщина под мышкой правой руки несла не начатый свежеиспеченный каравай хлеба. Повитуха, стоя за порогом внутри бани, давала откусить хлеб роженице, которая стояла по другую сторону порога вне бани. В это время повитуха читала заговор, приветствуя пар:
Löylyni, Jumalan luoma, hiki vanhan Väinämöisen, sala nuoren Joukahaisen, elä, löyly, luokseni tule, lämpöni lähellä käy!… Mäne simoina sisällä, mennä vacah vajuo, kipehillä voiteluksi, vammoilla valivesiksi, pahoilla parentimiksi. Парок, Божье творенье, пот старого Вяйнямёйнена, секрет молодого Ёукахайнена, Не проникай, пар, в кости, теплом вокруг обходи!… Медом проникни вовнутрь, пролейся в живот, чтобы больное смазать, травмы излечить, плохое исцелить.Затем она обходила по кругу сначала саму баню, а затем внутри бани то место, куда предстояло лечь роженице[197].
Иногда, особенно, если хотели, чтобы родился мальчик, женщине, идущей в баню рожать, давали в руку сковородник. Одна из рассказчиц из д. Покровское (Kumsarvi) Медвежьегорского района вспоминала: «Siizma käd’ee annetaa da… Se poiga ku pid’anou suaha, ni siizma käd’ee. Dan’iin iče matkuat siizman kera sen kylyy. Miula annettii raukka käd’ee se siizma. Ко on huigie, huigie matata… Stobi pojan suaz’in» – «Сковородник в руку дают да… Это когда сына надо родить, то сковородник в руку. Да и идешь сама в баню со сковородником в руке. Мне дали в руку этот сковородник. Как стыдно-то, стыдно идти… Чтобы сына родила»[198]. Во многих семьях хотели, чтобы родился мальчик. Сын был и помощником, и продолжателем рода, и главной опорой для родителей в старости. Поэтому было много примет, связанных с этим. Например, под кровать клали топор или что-то из лошадиной упряжи. Пока жена рожала в бане, муж стоял с дугой на шее, на голове – мохнатая (меховая) шапка, на руках – рукавицы. В Сортавале рассказывали случай, когда муж все время родов держался за плуг и приговаривал: «Сына, сына!»[199].
Чтобы роды прошли легко и чтобы «открыть все ходы для ребенка», роженице сразу же развязывали все узлы на одежде, снимали пояс, распускали волосы.
Если роды затягивались, существовало множество способов помочь роженице. Ее клали на порог или опускали в подполье (в бане оно тоже иногда было kylynkarzina), проводили ритуальные действия, связанные с печным локусом, то есть обращались за помощью к спасам-прародителям и добрым духам – именно с их пребыванием ассоциируются эти места. Имитируя выход ребенка и как бы открывая женские родовые пути, воду пропускали через различные отверстия: печную трубу, змеиную кожу, ружейный ствол, через три дверные ручки, сквозь отверстия в прялке и скамье. Лили воду через углы и ножки стола, а также через umpipuu. Это природный магический предмет, очень часто используемый в знахарской и колдовской практике. Он представляет собой кусочек древесины с отверстием посередине.
Проводили такие обряды и с банной каменкой. Для этого в ней делали отверстие между верхними камнями и устанавливали в него веник верхушками веток кверху. При этом веник должен быть развязан. Воду трижды попускали через него, читая заговоры. Этой водой обливали роженицу, а затем давали выпить ее[200].
Во время продолжительных родов женщину парили в бане, а знахарь находился снаружи и бил топором по задней стене бани, имитируя раскрытие женских родовых путей и призывая:
Pilvet repesi pirtin päällä, Taivas rakosi tallin päällä, Putosi puhas omena [201]. Чтобы тучи разорвались над домом, Небо раскрылось над конюшней, Чтобы развязалось чистое яблочко.Существовало множество магических средств и заговоров для снятия родовых болей synnytystuskat. На севере Карелии в д. Кимасозеро сначала приносили воду, взятую из трех источников, в одну чашу, сделанную из нароста на стволе дерева pahka astie. Ее брали из родника, речного порога и озера, при этом произносили заговор, в котором подчеркивалось, что «вода – старшая из мазей, пена – старшая из рос, Бог – из заговаривающих». Затем в эту воду опускали рыбу, которую достали из брюха более крупной рыбы и зажарили до появления нагара на углях, эти угольки и сажу с трех потолочных перекладин kolmesta lakeistorvesta nokea. Все это размешивали иконой с изображением Девы Марии и читали слова заклинания, обращаясь к ней за помощью:
Neitsyt Maarie emoni, Rakas äiti armollinen, Sie olet palveri parahin, Sauna vaimoista vakavin, Tules tänne tarvitahan, Lähimmäksi lääkäriksi; Tule tuskaisen tuville, Hätähisen huuteloille. Мать-Дева Мария, Благословенная любимая мать, Ты – лучшая прислужница, Из банных дев самая спокойная. Приди сюда, здесь тебя ждут, Самым ближним целителем Родовые боли снимать, На зовы нуждающейся.Деву просили принести мед в берестяных туесках, «чтобы половиной его смазать роженицу, половину дать ей выпить». Прочитав заговор, женщину поили принесенной водой и безымянным пальцем левой руки мазали поясницу[202].
В южнокарельском варианте заговора подчеркивалось, что баня натоплена тайно, поэтому и Дева Мария Neitsyt Maaria етопеп входит в нее незаметно, чтобы даже дверь не скрипнула:
Tules saunahan saloa Ilman uksen ulvomatta, Saranan sanelematta, Maakunnan mainitsematta. Приходи в баню тайно, Чтобы дверь не скрипнула, Петля не визгнула, Родня не узнала.Просили, чтобы Она смазала роженицу «безымянным пальцем, золотыми ручками» – «sormella nimettömällä, kätysillä kultasilla». Далее в заговоре образно описывалось раскрытие родовых путей:
Avoa vesinen veräjä, Potkoa verinen portti, Avoa lihanen aitta, Lipas kulta liikuttele Luuhisen lukon takoa!… Pääs[tä maalle matkamiestä, Ilmoille inehmon lasta, Pienisormista pihalle![203] Открой водные двери, Распахни кровяные ворота, Раскрой мясную кладовую, Открой золотой сундук, Закрытый на костяной замок!… Пусти выходящего на землю, В мир – ребенка женщины, Маленького пальчика – на улицу!Некоторые рассказчики, например, в д. Покровское, подчеркивают, что сразу после рождения ребенка следовало обязательно заткнуть окошко в бане: «Yksi oli zakona: ku suau lapsen, ikkuna t’ypct’ää, olgii da hoz midä hoz ripakko panna, hursista vet ei pandu, piälTä hurstie pala pannaa, da siid’ä hän vain viruu» – «Один был закон: когда родит ребенка, окно затыкают, солому да хоть что, хоть тряпки кладут. Простыню ведь не постилали, сверху кусок холстины положат, да вот там она и лежит» [204].
По другим сведениям, женщину первые три дня после родов просто приводят в баню помыть-попарить. При этом она в карман кладет ножницы или складной ножик, а в руки берет сковородник. Парят ее там одним и тем же веником, который в результате приобретает магическую силу и используется в банных обрядах для женщин, которые долго не могут забеременеть[205].
В единичных рассказах, например, в Сегозерье, говорится, что ребенка первый раз относили в баню помыть и попарить не ранее, чем через неделю после родов[206].
Сразу же после родов матери в первую очередь приносили в баню девять кусков хлеба. Её кормили ими над кальсонами мужа. Её руки при этом должны быть убраны за спину[207].
В первый же день, когда роженица находится в бане, а иногда и заранее, для нее шьется отдельный карман типа четырехугольного мешка, который крепится к поясу под верхним платьем. В нем лежат взятый из печи кусочек обожженного камня, щучьи зубы, одна-три крошки хлеба, три или девять иголок без ушек, кремень, кусочек трута, «чтобы не пристали ни порча, ни колдовство, ни от ветра, ни от воды, ни дурной глаз, ни кару»[208]. После первой же бани роженица поверх рубашки повязывала себя куском частой сети из рыбацкого садка и носила эту повязку шесть недель (число сакральное и в родильных, и в похоронных обрядах). Рыболовная сеть повязывалась не случайно. Она в качестве «секретного пояса» использовалась и молодоженами. Именно обилие узелков делало ее магическим предметом, оберегом для людей, находящихся в наиболее опасном, лиминальном состоянии и подверженных влиянию злых сил[209].
Шесть послеродовых недель женщина считалась чрезвычайно восприимчивой к порче и другим вредоносным воздействиям со стороны недоброжелателей и злых сил. И в то же время она сама могла причинить вред окружающим. Поэтому она не может ходить на кладбище, в церковь, в гости. Происходит постоянный процесс омовения-очищения в бане. Из дому она выходит только с каким-нибудь оберегом (ножницы, нож, сковородник, то есть или железные предметы, или связанные с огнем). Ее одежду и пеленки ребенка нельзя было полоскать в озере, сушили их только в бане. Шесть недель женщине нельзя было спать в одной постели с мужем[210]. С. Паулахарью пишет, что после этого срока женщина приходила в сени часовни, туда к ней выходил священник, он читал особую молитву и заводил роженицу в саму часовню. После этого женщина считалась очищенной. Если священника в деревне не было, женщина клала к образам кусочек хлеба и делала тысячу поклонов, читая молитву. После этого съедала хлебец и уже могла спокойно со всеми контактировать[211]. Такой же ритуал очищения женщины через «взятую у священника чистую молитву» и молебен описывает у людиков П. Вирттаранта[212].
Шесть недель после родов женщине не разрешали есть из общей посуды, у нее была своя миска. После истечения этого срока она в очередной раз специально ходила в баню, часто со знахаркой. Затем уже в доме в кадильницу на горящие угли клали ладан, кадили вокруг женщины со словами заговоров и молитв, и лишь после этих обрядов ей разрешалось садиться за общий стол[213]. Ю. Ю. Сурхаско усматривал в этом влияние русских старообрядцев, считавших женщину нечистой, но причину проведения у карелов родов в бане видел в ином.
Согласно теории перехода А. ван Геннепа[214], в течение шести недель во время переходных периодов (рождение, свадьба, смерть), во время лиминальных, то есть пороговых состояний, душа человека находится на грани миров. Именно поэтому ей угрожают самые различные опасности (и нечистые духи, и сглаз, и порча, и колдовство), а значит, в этот временной отрезок ей требуется особая поддержка. Самым безопасным местом проживания матери (у которой в этой кризисной ситуации отсутствовал дух-хранитель) и ребенка (который еще не приобрел духа-хранителя, это происходит в момент крещения-имянаречения) являлась баня. Именно в ней, согласно верованиям карелов, жили духи-хозяева, покровительствовавшие семье и роду[215]. Давая впервые ребенку грудь, мать приобщала ребенка к своему роду и произносила: «Этим питался твой род, твои предки и достославная родня, это и ты ешь!»[216]. Неслучайно рядом с роженицей была повитуха. Она не только помогала во время родов, но несла в себе и сакральную функцию: n’ababuabo, согласно карельским верованиям, была связующим звеном между рожденным человечком и миром духов-первопредков. Говорили, что когда боабо перешагивает через порог дома, «pohjommaiset multihirret lekahtau» – «самые нижние лежащие на земле венцы содрогаются».
Шестинедельный период фигурировал и в обрядах-оберегах, связанных с ребенком. Шесть недель зыбку занавешивали, чтобы никто из чужих не видел ребенка. Все это время его заворачивали в станушку женской сорочки или в старую отцовскую рубаху. При этом свивальником служила плетеная лента, которой привязывали к прялке шерсть или лен. Сегозерские карелы подчеркивали, что все эти шесть недель (или вплоть до крестин) ребенка с матерью каждый день водили в баню[217]. Через шесть недель после родов мать ребенка мыла руки повитухе с мылом и солью и вытирала их белым полотенцем. Вообще n’ababuabo пользовалась особым почетом. В качестве подарка ей обязательно давали рукавицы kindahat (предмет сакральный, используемый во многих обрядах), сорочку или платье (кто побогаче). Считалось, что если о повитухе забудут, и она станет чужим человеком, то даже «самые нижние венцы содрогнутся в избе» – «kaikki multihirret liikahtau talossa»[218].
Особым оберегом для ребенка от порчи и дурного глаза являлся банный веник, которым повитуха парила мать первые три раза. В обрубленный голик такого веника засовывали отпавшую пуповину ребенка, заворачивали все в тряпицу и узелок этот брали всегда с собой, когда носили младенца в баню или с уже подросшим ребенком ездили в гости[219]. Есть сведения, что такой узелок девочка брала с собой, когда ездила в адьво (ритуал праздничной гостьбы девушек у родных в других деревнях). Этот же узелок постоянно держали под подушкой в колыбели или под колыбелью ребенка как защиту от нечистой силы и сглаза. Иногда этот оберег делали из маленького веничка, которым первые три раза парили ребенка. Для этого шили маленькую четырехугольную подушечку и в нее вместе с голичком укладывали крест и медвежий коготь[220].
Основную часть отрезанной пуповины свекровь засовывала в сакральные места в доме, которые были связаны с культом предков: пуповину девочки – в щель балки под печью или за верхнюю притолоку входной двери, под основание печи в подвале, а пуповину мальчика – под порог[221]. Если ребенок был очень слабый, и родственники боялись, что он умрет, своеобразный обряд крещения прямо в бане могла провести повитуха. Во время таких «крестин» на шею ребенку вместе с крестиком вешали и медвежий зуб[222]. Последний являлся одним из главных языческих амулетов-оберегов. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, зубы считались средоточием жизненной силы. А во-вторых, медведя карелы считали своим первопредком. Ему был посвящен особый праздник: убитому медведю устраивали пышные похороны, мясо его не ели, само слово «медведь» «kondii» было табуировано, особенно в летний период и в зимние Святки[223].
По сведениям из Олонецкого района, еще одним языческим амулетом был маленький кусочек коровьей кожи, на котором ножом был вырезан особый магический знак карелов viisikandaine пятиконечник. Его тоже прямо в бане вешали на шею младенцу[224]. Это было изображение пятиконечной звезды, которое особенно южные карелы-ливви-ки использовали во множестве случаев. Его рисовали чем-то острым на последних заборах, находящихся у леса, чтобы оттуда не пришел в деревню хозяин леса. С этой же целью его можно было вырезать прямо на земле, на крайней меже. Пятиконечник делали на каблуке левого сапога или рисовали углем на левой пятке, чтобы не заблудиться в лесу. В таком случае, если даже перейдешь через дорогу нечистой силы, как говорят карелы, karun dorogas через дорогу черта, нечистый не сможет затмить разум человека и забрать в иной мир. В Суоярви такой оберег рисовали на колыбели, чтобы к ребенку не пристала ночная плакальщица yönitkettäjäine. Если хозяйка земли плохо относилась к скотине, пятиконечник рисовали на кусочке лошадиной кожи и прибивали его к стене конюшни. Иногда хозяйка земли moanemändy вместе с духами-хозяевами дома koinizändät da koinemändät начинала тревожить жителей, сниться им по ночам, пугать внезапным стуком. В таких случаях пятиконечную звезду вырезали на окнах, дверях, рядом с трубой, то есть на всех местах, через которые могла проникнуть нечистая сила. Считалось, что после этого все успокоится в доме. Для обеспечения хорошего улова знающие люди старались даже берестяные поплавки на сетях сделать в виде пятиконечной звезды.
Считалось, что опасности подстерегают ребенка и до появления первого зуба. Под подушкой или матрацем у него всегда лежал какой-либо железный острый предмет. Беззубого ребенка никогда не оставляли одного. В крайнем случае, под зыбку клали березовый веник, которым подметали пол, а до этого парились в бане. Об этом рассказывали повсеместно, в том числе и в д. Юккогуба[225]. Такой же веник оставляли в люльке, когда брали из нее ребенка. Делалось это с целью предотвратить подмену младенца осиновым поленом, что, согласно верованиям, постоянно пытался сделать черт karu[226]. Обязательно следовало откликнуться и пожелать здоровья, если ребенок чихнул в зыбке.
Был полностью освящен и сакрализован и весь процесс мытья и паренья матери и ребенка в бане.
Тверские карелы, среди которых особенно широко были распространены староверческие устои, рассказывали, что мать после родов до сорока дней считалась нечистой. Все это время ей нельзя было самой бросать пар в бане и даже мыть собственного ребенка. «Постоянно, что кто чистый, так только им давали ребенка мыть и парить». После родов повитуха несла ребенка в баню, роженица шла следом со сковородником в руках: «чтобы его не сглазили». Пока повивальная бабка мыла и парила ребенка, мать, не раздеваясь, сидела в углу. Затем кто-нибудь приходил за младенцем: «нужно, чтобы и берущий чистым был, тогда лишь и ребенок будет здоровым (чистым) и счастливым… А матери сорок дней не дают ребенка мыть, и всегда она моется только после всех, потому что она нечистая, она обособленная от других. Всегда и сиди в углу, жди последний пар и последнюю воду, что останется. А потом уже, когда сорок дней пройдет, роженица уже очистится, она уже будет наравне с остальными, и она будет сама своего ребенка парить, мыть»[227].
Омовение роженицы сопровождалось заговорами, которые постоянно нашептывала повитуха. Вода от такого мытья обладала магической силой и способствовала деторождению. Ее хранили и потом использовали при лечении бесплодия у других женщин.
В Суйстамо младенцу сразу после родов обтирали все тело последом, чтобы кожный зуд не пристал. Затем лежащего на полках ребенка обводили последом вокруг, чтобы обезопасить от всех болезней, в том числе и банных. Лицо ребенка обтирали последом, чтобы он был румяным[228].
Ребенка сразу после рождения повитуха также мыла особой водой, которую нельзя было греть на прямом огне. В нее добавляли магические вещества и предметы, служившие оберегами: серу и пепел, три серебряные монетки, три шляпки от железных гвоздей, три ячменных зерна[229]. Эту воду можно было использовать три раза. Сера и пепел обеспечивали покровительство духов-первопредков, все остальное было залогом долгой здоровой жизни. Примечательно, что карелы на первый план ставили не длительность жизни, а здоровье. Когда повитуха парила новорожденного, она трижды произносила: «Mi tervehytty, segi igeä!» – «Сколько здоровья, столько и жизни!» Серебряные монетки употребляли в обрядах для живых людей, в отличие от медных, которые клали в гроб или бросали в могилу, выкупая землю для покойника у матери-земли кормилицы moaemä syöttäizeni. Шляпки от гвоздей оставались от специальной обувки, которую делали для покойника: подошву в такой обуви прибивали гвоздями без шляпок, чтобы покойный ее скорее «выносил» и благополучно добрался до мира мертвых. Ячменные зерна предрекали удачу и счастье в жизни. Эта магия у карелов была построена и на игре слов, их фонетическом созвучии: ozru – ячмень, oza – счастье, удача.
Есть сведения, в соответствии с которыми младенца, чтобы уберечь от сглаза, нужно было вымыть прямо на месте рождения. При этом в воду опускали серебряную монету «для белизны тела», ртуть, чтобы как ртутные шарики «нельзя поймать пальцами руки, так и болезни не пристали бы к младенцу». К этому добавляли еще ржаной муки, «взятой три раза обязательно указательным и большим пальцами – для полноты тела». Этой водой новорожденного обязательно мыли три раза, иногда даже в течение одних суток, а затем ее выливали «в чистое место». Во время мытья n’ababoabo нашептывала заговор: «Вода праведная! Вымой, выбели и очисти чистую душу младенца. С моей руки пусть выйдет он так же чист, как вышел из матери, и пусть таким чистым будет на всю свою жизнь!»[230]
Сегозерские карелы также использовали для первого омовения ребенка воду, приготовленную особым способом. В чугун укладывали ольховые ветки, заливали водой, принесенной из проточного источника, и все это парили в печи, пока вода не становилась красно-бурой, похожей на кровь. Этой сакральной водой мыли младенца[231].
Ребенка повитуха укладывала себе на колени животом вниз. Парила крохотным веничком, специально заранее изготовленным. Его делали во время летних Святок. При этом отламывали верхушечки верхних веточек у молоденьких березок, растущих на сухих пригорках. Если веничек для новорожденного не был приготовлен заранее летом, отламывали верхушки уже из готового веника для взрослых. Вода, приготовленная магическим способом, стекала из горсти повитухи по локтю на спину ребенку. Вся эта процедура сопровождалась соответствующими заговорами. В них в первую очередь обращались к пару, который «сотворен Богом», – это «пот старого Вяйнямёйнена… мазь от болей». Пар, по верованиям карелов, был главным в бане, он оживотворен, это ее олицетворение, ее дух, ее дыхание. Самое главное в бане, чтобы был хороший «медовый» пар. Поэтому повитуха в помощники себе призывала именно пар:
Kylyl löyly kylvettämäh, Vassal löyly valvottamah, Puu on puhtahuokse, Päivä on valkevuokse, Ihalakse ilman linnun Tämän kylyn kylvehyössä, Vassal lehev vaipuvuossa[232]. В бане пар парит, Веником пар нагоняет, Дерево – для чистоты, Солнце – для белизны, Для радости воздушной птицы После того, как в этой бане попарили, Лиственным веником похлестали.После этого повитуха переходила к знахарским действиям. Боабо слегка руками обжимала головку ребенка, чтобы она стала «гладкой и круглой». Затем «меряла» его («pidäy meärätä lapsut» – «надо измерить ребеночка»), стремясь растянуть его так, чтобы указательный пальчик правой ручки через спину дотянулся до левой пяточки, а левой – до правой. Если сразу это не удавалось, она массажировала младенца и постепенно добивалась нужной гибкости и подвижности суставов.
В то время, когда повитуха парила ребенка, она в заговоре рассказывала о происхождении целительного веничка: она «встала рано утром, пошла на северо-восток. Там была золотая тропинка, в начале золотой тропинки росла золотая рощица». Именно золотыми листочками, сорванными в этой роще, она «парила-исцеляла» младенца[233].
С. Паулахарью несколько иначе описывает магические действия, которые совершала в бане севернокарельская повитуха с новорожденным. Приведем подробно это описание. Сразу же, приняв ребенка на руки, она произносила:
Elä kuren ijät, harmoan harakan ijät! Kasva pinonpitouks, hoasian korkeuvoks! Poikie ison sijälla, lasta vanhemman jälillä! Живи век журавлиный, век седой сороки! Вырасти длиной с поленницу, Высотой с сосну! Сыновья – на место отцов, Дети – вслед за стариками!После этого обмывали и слегка парили мать. Повитуха готовила банную воду kylpyvettä, брала три пригоршни воды, выливала их сначала на голову матери и произносила: «Vesi puhas, Jumalan luona pesömäh, puhastamah!» – «Вода чистая, Божье творенье – мыть, очищать!» Затем она трижды окунала веник в приготовленную воду и трижды хлестала по спине мать, обращаясь с заговорной формулой к пару:
Löylyni, Jumalan luoma, hiki vanhan Väinämöisen, sala nuoren Joukahaisen, elä, löyly, luokseni tule, lämpöni lähellä käy! Mie olen, raukka, roajanaini, vierona, vianalani. Mäne simoina sisällä, mennä vacah vajuo, kipehillä voitehiksi, vammoilla valivesiksi, pahoilla parentimiksi. Puun löyly, kivosen lämmin monest on hyvästä tehty, usiasta siunoailtu, havupuista hakkoailtu, puhki lautojen lioista, puhki lattial lioista, puhki kiukuon kivistä, puhki saunan sammalista. Yks on loukko ikkunassa, toini reikä reppänässä, kolmas olkohot ovessa. Mäne tuulen tuuviteltavaks, vilun ilman vietäväks, ahavan ajeltavaksi Парочек, Божье творенье, пот старого Вяйнямёйнена, секрет молодого Ёукахайнена, не войди, пар, до костей, теплом вокруг обойди! Я теперь за работой, Лежащая, болящая. Медом проникни вовнутрь, прямо в живот зайди, мазью для болей, для травм – водой пролейся, для плохого – улучшением. Пар от дерева, тепло от камня, из многого хорошего сделан, много раз благословлен, из хвойных деревьев добыт, прошел через грязь на полках, прошел через грязь на полу, проник через камни каменки, проник через банный мох. Одно отверстие в окне, другое – в волоковом окошке, третье – в двери. Уйди, чтобы ветер тебя укачивал, Чтобы холодный воздух уносил, Чтобы холодный ветер прогонял!Затем мыли и парили новорожденного.
Воду для первого мытья нельзя было кипятить на сильном огне, следовало нагревать медленно, чтобы ребенок рос добрым. В нее добавляли три пятикопеечных серебряных монетки (для богатства), три шляпки от железных гвоздей (чтобы ребенок стал бережливым), три ячменных зерна (чтобы рос крепким и здоровым) и три кусочка собачьего кала, взятые с трех разных мест (от сглаза и всех напастей). Повитуха укладывала ребеночка на свои колени, трижды набирала пригоршню воды и лила ее так, чтобы она стекала с локтя на спинку ребенка. При этом она произносила: «Lapši ylähäks, vesi alahaks, pyhä Pohorocca peän peälä! Ребенок – вверх, вода – вниз, Святая Богородица – над головой!»
Иногда говорится, что женщине, моющей ребенка, надо обмакнуть кончик среднего (третьего) пальца руки в воду и положить его в рот[234].
Специальный веничек для паренья ребенка lapsenvasta нельзя было перевязывать искривленным прутиком (ei saa väännetyllä vitsalla sitoa). Повитуха трижды веничком кропила водой спинку ребенка и читала заговор:
Vasta selän peällä, Pyhä Pohorocca peän peällä, vassan lehti vasvistamah, koivun lehti kossuttamah. Neicut Moarie emoni, rakas äiti armollini, tuo hiemall hikie, kanna kauhall väkie, polveh puuttumatointa, jotta jalka jaksais kävvä, polvi polkie kykenis luillah lutelomah, suonillah soutelomah, jaloillah japsamah — ihon alaccomah, varsin voattehittomah. Веник – над спиной, Святая Богородица – над головой, лист веника – хлестать, березовый лист – касаться. Мать Дева Мария, любимая мать драгоценная, принеси в рукаве пот, принеси, в ковше силу, чтобы на колени не опускался, чтобы нога могла ходить, колено – сгибаться, чтобы кости крепли, кровь по венам бежала, нога шествовала — под кожу, под раздетого.Этой водой мыли ребенка трижды, оставляя при этом немного в корыте и каждый раз добавляя новой воды. После третьего раза воду выливали под банный пол. Воду, которой мыли ребенка, всегда выливали под пол, чтобы никто не мог ее затоптать.
Если в семье случалось такое, что дети вскоре после рождения умирали, то в бане их мыли в корыте, в котором до этого держали деготь.
Некоторые мыли ребенка свежим коровьим молоком rieskamaito, чтобы он рос смирным и добродушным.
Затем повитуха слегка сжимала и выправляла головку ребенка (и это делалось в течение шести месяцев в каждой бане), чтобы закрылось темечко (иначе ребенок долго не будет говорить) и чтобы головка стала «tasani ja pyörie niinkun nyplä… se on siitä kaunis» – «круглой и ровненькой, как пуговица… только такая красива». Затем младенца легонько массажировали и растягивали määrättih, чтобы достичь необходимой гибкости суставов. После этого выправляли животик vatsa on kohoteltava, чтобы пупок и все внутренние органы расположились правильно.
После этого ребенка продевали через горловину рубашки, расстеленной на полу, приговаривая: «Uusi uuveks, voate vanhaks, lapsi terveheks» – «Новое – новым, одежда – стареть, ребенок – расти здоровым». Ребенку не шили ни пеленки, ни одежду из нового полотна, чтобы он в будущем носил одежду бережно. Ребенка заворачивали в непостиранную отцовскую рубашку, чтобы у него был хороший характер и он был похож на отца. Заворачивая, в качестве оберега клали ножницы для стрижки овец и образок Богородицы, Девы Марии.
Согласно народному мировоззрению следовало сразу четко разграничить гендерную принадлежность новорожденных. Спеленатого мальчика следовало обвязать поясом отца, которым он подпоясывал нижнюю рубашку paitavyö, чтобы сын рос мужественным во всех смыслах. Карелы говорили: «Millä vyöl on iso vyötty, sil on poikakin ka-paloity» – «Каким поясом отец подпоясан, таким и сын спеленат». Над слабенькими и несмелыми мальчиками даже подшучивали: «Eipä siima piekana miehen vyöllä vyytetty» – «Тебя что ли не подпоясывали мужским поясом». Девочку обвязывали лентой от прялки kuozalirihma или лентой для волос hivusrihma, чтобы она стала похожей на мать.
Затем, как пишет С. Паулахарью, с ребенком проводили определенные обрядовые действия, чтобы он был послушен матери. Как говорили карелы, suulassutettih: мать трижды левой пяткой прижимала ротик ребенка. Чтобы ребенок следовал слову матери, его трижды оборачивали вокруг материнской ноги. После этого спеленатого младенца укладывали рядом с матерью и трижды обводили их зажженным lapintorvella (это три лучины, отколотые с боковой стороны полена, установленные на пастуший рожок), топором, косой и иконой Богородицы. Всё это одновременно держали в руках. При этом читали заговор:
Aijan rautasen rakennan, teräksisen panen seipähät varomah, varjelomah vassen kohti vassuksie, kohti kaikkie kovie. Neičyt Moarie emoni, rakas äiti armollini, sie olet vanhin vaimoloista, ennustaja ensimäini, varo kaikki vahinkoista, varo ta i varjele! Tule huonon hoitajaksi, viallisen voitjaksi! Строю железный забор, ставлю острые колья для острастки, для охраны от всех встречных, от всего жестокого. Мать Дева Мария, любимая мать благословенная, ты – старшая из жен, первая из помощниц, сбереги от всех бед, сбереги и сохрани! Приходи на помощь немощному, все злое побеждать.Образок, топор и косу убирали под подушку, в материнское изголовье, чтобы никакая злая сила не причинила вреда.
После этого мать совершала ритуальные действия, оберегающие ребенка от сглаза. Трижды правой рукой она пропускала сквозь пальцы детские волосики, как бы приподымая их вверх. Затем брызгала из груди молоком на щечки младенца. Верили: тогда ребенок будет расти красивым и будет всем нравиться, и в то же время тем самым обеспечивали защиту от завистливых взглядов. Карелы на месте рождения ребенка никому не показывали, так как были уверены, что если его сглазят здесь, то его уже никто не вылечит. Верили также, что ребенок будет похож на того человека, который первым его увидит (имелись в виду чужие люди).
Во время родов и в первые дни после рождения ребенка нельзя шуметь, даже разговаривали шепотом, чтобы ребенок рос спокойным. В доме нельзя было чесать шерсть, прясть, вязать, плести из лозы. Это осложняло родовой процесс. С мифологической точки зрения все действия, связанные с нитками, ассоциировались с прядением жизненной нити, нити судьбы. Это было прерогативой высших сил, духов, поэтому человек не имел права в этот лиминальный для роженицы и ребенка временной промежуток прикасаться к нити. Способствовали легким родам следующие действия: распарывать и рвать старую одежду, распускать вязаные вещи, ломать сучья и старые деревянные предметы о колено, чтобы щепки разлетались. В баню не пускали мужчин, чтобы не осложнить родовой процесс.
Когда ребенка спеленали, прямо в бане обращались к хозяйке земли maanhaltia, чтобы она приняла и благословила его:
Terveh, moa, terveh manner, terveh piha, terveh pelto, terveh tervehyttäjällä, tälläkin tulokkahalla! Akka manteren alani, poika pellon pohjimmaini, suo maillas matelijii… Ijäkseh isännäksi, elinajakseh emännäksi![235] Здравствуй, земля, здравствуй, равнина здравствуй, улица, здравствуй, поле, здоровья – здоровающейся и сюда пришедшему! Баба, под землей [живущая], парень, под полем [живущий], болото, из земель самое нижнее… На всю жизнь – хозяином, на все время – хозяйкой!После этого мать кормила ребенка. Давая грудь, она произносила: «Tätä on syönnyn sukus, syntys, ta helie heimokunta, tätä rupie siekin syömäh» – «Это ели твои прародители, твои предки, весь достославный род, это и ты ешь». Так она приобщала новорожденного к своему роду, тем самым обеспечивая ему покровительство предков.
После всех проведенных ритуалов мать с ребенком засыпали. Если роды прошли благополучно, ложилась спать и повитуха. Так они были в бане не менее трех суток, и роженица ни на секунду не оставалась одна, чтобы ничто плохое к ней не пристало. Если повитухе требовалось уйти, на ее место приходил кто-нибудь из родственников женского пола. С. Паулахарью пишет, что в Бойнице спустя трое суток после родов к банной двери kylyn ovelta приходил священник, чтобы благословить роженицу[236]. Как говорили карелы, «antaa malitun» «дать молитву», которая воспринималась ими как очередная заговорная формула-оберег.
У карелов-ливвиков после не менее чем трехдневного пребывания в бане повитуха шла в избу и спрашивала у отца (по некоторым сведениям, у свекра и свекрови): «Voibi go tuvva uuzi hengi perttih?» – «Можно ли принести новую душу в дом?» Получив разрешение, повитуха шла в баню за роженицей. Ребенка приносили из бани в продолговатой березовой корзине, ставили ее на порог (согласно верованиям, место пребывания духов-предков), и мать трижды перешагивала корзину с лежащим в ней ребенком туда-обратно. После этого корзину ставили на печь или на стол, чтобы духи, хозяин и хозяйка дома koinizändy da koinemändy, приняли новорожденного[237].
С. Паулахарью вариант севернокарельской традиции описывает следующим образом. Повитуха, неся трехдневного ребенка в небольшой корзине vakka, приводила мать, шедшую за ней, в избу и спрашивала у свекра, свекрови и у всех взрослых, кто жил в избе (но только не у отца ребенка!): «Meillä on teällä perehen liseä. Sopiuko tänne? Suvaicooko vanhemmat?» – «У нас здесь прибавление в семье. Нужно ли оно тут? Любо ли старшим?» Получив согласие, повитуха приносила ребенка на руки свекрови, мать кланялась ей в ноги и спрашивала, будет ли она нянчить и приглядывать за ребенком «как за своим». С тем же вопросом она подходила к свекру и ко всем взрослым членам большой патриархальной семьи[238]. После этого ребенок переходил из банного пространства в локус родной избы и считался принятым в свой род.
Тверские карелы, после того как свекровь соглашалась приглядывать за внуком, приносили ей в подарок специальную веревку три-четыре аршина[239] длиной, чтобы бабушка могла ногой качать колыбель[240].
В последующем ребенка мать или повитуха носят в баню отдельно от других ежедневно до шести недель. Пока топят баню и парят ребеночка, постоянно обращаются за помощью и покровительством к Деве Марии. Просят, чтобы Она «saussuta simainen sauna, lämmitä medinen kyly medisillä halgosilla» – «разожгла медвяную сауну, натопила медовую баню медовыми дровами», принесла «медовый веник из медового леса» – «medi vasta medisestä metsäsestä», а воду – «из ближайшего родника в чистейших ведерках». Парок должен быть теплым, чтобы не обжечь ребенка, а даровать ему крепкое, «подобное железу» здоровье[241].
Моют ребенка обязательно в отдельной посудине, предназначенной только для него. Есть сведения, что воду иногда даже нагревали дома. Чтобы ребенок крепко спал, банный ритуал каждый раз завершали следующей процедурой. Боабо брала ребенка за ноги, быстро переворачивала его в воздухе так, чтобы его пяточки коснулись банной матицы, и произносила при этом: «Magoa ku moaticcuparzi, älä tiijä ni tulijoa, ni menejoa» – «Спи, как матица, не знай ни приходящего, ни уходящего»[242].
В другой заговорной формуле, произносимой в бане, говорят, чтобы ребенок спал спокойно: «как матица, как водная коряга». Как известно, в мифологических рассказах матица связана с обитанием духов-хозяев дома. В эпических песнях Вяйнямёйнен плавает по воде, являющейся некоей первоматерией, «водной корягой».
Спокойный ребенок был спасением для матери, которой через совсем короткий промежуток времени после родов приходилось приступать ко всем своим обычным делам. Поэтому было множество ритуальных действий, способствовавших тому, чтобы ребенок хорошо спал и рос спокойным. Многие из них проводились в бане сразу после родов. К примеру, мать левой пяткой легонечко наступала на ротик ребенка и трижды прижимала его. Воду после первого мытья ребенка надо было незаметно вылить в тихое место, где никто не ходит, «и закопать, как труп»[243].
Тверские карелы так описывают процесс мытья младенца: «Повитуха берет его с благословением и молитвой, свои и молитвы есть, когда ребенка парят. И затем сначала берет веник и веником трижды крестит ребенка, а потом начинает парить. А потом парит, моет, а под конец льет через свой локоть, воду пускает ребенку на головку, чтобы с локтя текло ему на голову и с головки лилось, с локтя вода стекает на всего ребенка. А затем возьмет, пососет темечко, волосики на темечке, и сплюнет в сторону, чтобы ничто не пристало, чтобы ребенок был чистый, чистенький и беленький, чтобы никакая порча не пристала, ничей сглаз не пристал, и чтобы он стал как небесный камушек. А затем она берет чистую материнскую рубаху и вытирает ребенка передом подола, и говорит: как эту рубаху никто не видел при носке, так и этого младенца пусть никто не увидит при попытке сглазить, и пусть так будет всегда»[244].
В баню родственники и соседи приносили и первый гостинец, который назывался kylyhammas банный зуб[245]. Зубы, согласно верованиям, обеспечивают определенную защиту от нечистых духов. Они своеобразный показатель духовной силы человека и возможности пользоваться сакральными знаниями и способностями. Часто в качестве kylyhammas приносили выпечку. В старину это были овсянники, которые еще называли oza juodu блюдо счастья (или удачи, судьбы). Но ни в коем случае это не мог быть рыбник, который считался поминальным блюдом и мог предвещать смерть младенца[246].
В качестве сравнения укажем, что баня как место родов встречается у многих финно-угорских народов. Так, в мордовской мифологии божество Банява покровительствует матери и ребенку, уберегая их и от людского сглаза, и от нечистой силы. После трех дней, перед выходом роженицы из бани, Баняве приносят кашу и устраивают в честь нее моленья[247]. Возможно, в приношении карелами в баню kylyhammas для ребенка сохранились отголоски и кормления банных духов, бытовавшее ранее, но не зафиксированное письменными источниками.
Таким образом, во-первых, ритуал омовения и паренья в бане обеспечивал новорожденному облик, силу, статус и судьбу[248]. Во-вторых, проживание роженицы с ребенком в бане служило не только обереганием обоих от злых сил в опасный лиминальный период, но самое главное – приобщало нового члена семьи к роду, к семейному культу хозяина и хозяйки бани и культу первопредков[249]. В-третьих, баня была самым чистым и спокойным местом в крестьянской усадьбе, поэтому проведение в ней родов было целесообразно и с утилитарной точки зрения.
В банных родильных ритуалах воедино связывалось рациональное и иррациональное. Повитуха в бане массировала живот роженицы, поворачивая плод и верно направляя его движение. После родов она правила живот массажем, возвращая на место внутренние органы. Как пишет В. А. Липинская, ежедневное прогревание улучшало отделение молока, это подтверждается как народными наблюдениями, так и современной медициной[250].
В бане происходило как физическое очищение, укрепление здоровья и роженицы, и ребенка, так и духовное очищение от грехов родовой нечистоты. Этому с народной точки зрения способствовали как многочисленные заговоры, сопровождавшие весь банный родильный обряд, так и христианские очистительные молитвы, произносимые уже после выхода женщины с младенцем из бани, из иного мира, в мир людей.
Роль бани в свадебном обряде
Большое значение бане отводилось и во время другого переходного периода в жизненном цикле человека. В свадебном обряде посещением бани отмечали переход из одного социально-биологического состояния в другое.
В поморской свадьбе сохранилась специальная ритуальная выпечка, которая особым образом подчеркивает, насколько важную роль играла баня и в свадебном обряде. Она так и называлась – баенник. Это был ржаной хлеб, в верхней корке которого делалось неглубокое круглое пять-семь сантиметров в диаметре отверстие для зерен ячменя и дольки чеснока, разрезанной пополам (для предохранения молодых «от чирьев, дремоты и домашних неурядиц»), и капельки ртути (оберег от порчи колдуна). Баенников было два: один со стороны невесты, другой – жениха. Каждый зашивался в ситец или платок обязательно белого цвета и брался молодыми в церковь к венчанию. Женщины-поморки считали, что без баенников ни в коем случае нельзя выходить из родительского дома к венцу, потому что именно в них заключена «вся сила судьбы новобрачных, вся их будущая совместная жизнь». После венчания баенники приносили в дом мужа, ставили их на стол, где они и хранились в течение трех суток. После этого хлеба расшивались из оболочки и съедались новобрачными и их домочадцами. А обшивку как оберег от сглаза и болезней мать хранила до рождения первенца, а потом накрывала ею ребенка во время сна[251].
Свадебный ритуал карелов включал в себя три вида бани: невестину, женихову и для новобрачных. Каждую из них топили со своей целью, но в основе всех трех лежал тот же культ предков и почитание банных духов-хозяев. Иногда обстоятельства складывались так, что через неделю после свадьбы вместо бани для новобрачных приходилось приглашать колдуна-знахаря, который готовил специальную ритуальную баню для того, чтобы юноша смог достойно перейти в социально-биологический статус мужчины.
Девичья (невестина) баня
Свадебная баня невесты, или девичья баня neiskyly, являлась кульминацией свадьбы у многих народов: коми, мордвы, карелов и у русских, проживающих на северо-западе России.
Согласно мордовской свадебной традиции невеста жила в своей бане три дня. Туда ей приносили ритуальную кашу, здесь она гадала о характере будущего мужа, здесь же происходила замена девичьего головного убора на головной убор замужней женщины. Считалось, что невеста хоронит, оставляет божеству бани Баняве свое девичество[252].
Финские исследователи считают, что все финно-угорские народы заимствовали этот ритуал у русских[253].
У девичьей бани выделяется несколько основных функций. Это баня прощания с девичьей «волей». В причитаниях невесты неоднократно подчеркивается, что она идет в баню не мыться и не париться, а «с белой волюшкой расстаться»[254]. Финский исследователь И. Вахрос отмечал функции очищения, приобретения плодовитости, а также отчуждения (в результате отлучения невесты от статуса девушки) от своих родовых духов-покровителей[255]. Здесь же происходит прощание с духами-хозяевами бани, отлучение выдаваемой замуж девушки и от их покровительства. Эта баня была последней в ее родном доме, после свадебного обряда она больше не имела права заходить в нее[256].
Не случайно ряд магических обрядов, подчеркивающих существование культа предков и являющихся как бы логическим продолжением ритуала прощальной невестиной бани, в XIX веке совершался и на кладбище. Накануне собственно свадьбы (выданья) невеста посещала могилы покойных родственников, прощалась с мудрыми «сюндюзет»-прародителями-помощниками и брала благословение «в новую жизнь»[257]. В первой половине XX века этот обряд утратил свой архаический смысл и исполнялся, если только невеста была сиротой[258]. На кладбище в XIX веке проходил и обряд оберегания невесты и жениха, в процессе которого происходило отлучение девушки от родной земли и рода и приобщение к роду жениха. Патьвашка, произнося заговоры, левым башмаком невесты зачерпывал воду с берега и на кладбище давал трижды испить ее сначала невесте, потом жениху[259]. И в Новом Завете Иисус говорит: «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут два одной плотью»[260]. В Приладожской Карелии вечером накануне свадьбы невеста крошила на подоконник хлеб, затем приоткрывала окно (окно в похоронно-поминальном ритуале – один из путей прихода-ухода душ умерших родственников на поминки), лила квас, чтобы крошки упали наружу. При этом она просила «сюндюзет» прийти «попить кваску» и благословить ее счастливой долей в доме мужа: «Не знаю, смогу ли вас пригласить туда, будет ли там такая волюшка»[261]. Как известно, в бане невеста прощается именно со своей волей, со своим биосоциальным статусом девушки. Разлука же с родным домом и родной баней мыслилась как вечная, ибо возврат туда был уже невозможен.
Культ предсвадебной девичьей бани был особенно развит у южных карелов. У ливвиков и людиков именно банные причитания занимают чуть ли не главное место в свадебном обряде[262].
Обилие причитаний и грустных лирических песен, особенно во время обряда свадебной бани, позволило исследователям назвать девичью баню слезливой и соотнести ее с погребальным культом (невеста прощается и со своей волей, и со старой жизнью, и с прародителями). В Сегозерье говорили, что в бане не просто причитывают, а оплакивают саму баню virzitetaa kylyy[263].
Как пишет Ю. Ю. Сурхаско, ритуал девичьей (невестиной) бани включал в себя несколько обрядовых действий: приготовление бани, сборы невесты в баню, путь в баню, мытье и путь из бани[264]. При этом весь процесс был строго регламентирован, предписывалось до малейших деталей соблюдать все наказы и табу.
Обряд neiskyly[265] устраивался или под вечер накануне свадьбы, или утром перед приездом жениха за невестой. Чаще всего это происходило в субботу[266]. Перед баней невесте с плачами расплетали косу и затем накидывали на голову платок[267]. Запрещалось притрагиваться к волосам невесты вдовам, сиротам и обездоленным людям, чтобы не спроецировать такую же жизнь и для выдаваемой замуж девушки. Невеста через плачею (чаще всего это специально приглашенная плакальщица, но иногда это мать или тетя), причитывая, просит, чаще всего подруг (девушек), истопить «последнюю баню»: «d’älgimäizet sotkakylyzet» – «последние баенки нырка», «jällindostarnoit kaunehet kanakylyzet» – «самые последние красивые баенки курицы», «dostal’noit valdu kylyizet» – «последние вольные баенки»[268]. Во время ухтинской свадьбы в причитании своя, родная баня четко противопоставляется чужой, неродной бане будущего мужа: «Ennen olis pitän, lehvojaiseni, hienoin leik-kuurauvoin lemmen nuoret lehtoliemenyöt leikkualTa, ennen kuin lemmen omattomih lehvomaisih varoin levittelettä» – «Лучше бы моя [меня] в бане парившая [мать] тонким режущим железом обрезала бы мои молоденькие вольные волоконца/первошерстки [волосы], чем распускать их для ухода к неродным в бане пареным [в семью мужа, к чужим]»[269].
При этом она требует «крепко караулить» ее, особенно не подпускать к ней представителей рода жениха. Они могут предпринять попытки похитить окно[270] или дверь бани (это, с одной стороны, мифологические пути в иной мир и «канал связи»[271] с ним, а с другой – символы дефлорации)[272]. Окно играет особую роль и в похоронном обряде. На окно, под которым лежит покойник, кладут блюдо с пирогами, чтобы все умершие родственники могли прийти на угощение. Туда же ставится каша с холодной водой, чтобы душа умершего, выходя из тела, могла омыться в «холодной водушке»[273].
С дверью, с порогом и притолокой связаны и представления о сохранении и поднятии лемби. Н. А. Лавонен считает, что «через дверь могли унести лемби». Именно поэтому в одной из карельских загадок на ее движение оглядывается весь народ[274]. В некоторых случаях эманацией любви и доброй славы, удачи, счастья, судьбы, доли (lembi означает все это) являлась дверь. Именно поэтому во время свадебных банных ритуалов невестина сторона, один род, охранял дверь бани, а род жениха – старался похитить. С другой стороны, дверь была оберегом, некоей границей, которая стояла на пути нечистых духов. Если она закрыта, это было гарантией благополучия в доме, а если открывалась, все смотрели (весь «народ», в том числе и первопредки-сюндюзет под порогом), не проскользнул ли в дом нежеланный «гость» с целью похитить любовь-славу-удачу-судьбу не только девушки, но и всего рода.
В то же время, по мнению исследователей, и дверь, и окно являются частью генитальной символики, их кража ассоциируется с дефлорацией[275]. Поэтому их утрата была недопустима в девичьей бане.
Для невестиной бани все требовалось особое, наполненное религиозно-магическим смыслом. Весь процесс подготовки бани сопровождался песнями, которые пели подруги невесты.
Дрова брались часто трех сакральных видов. Это были «легкие» дрова: обязательно ольха[276], «ласковое, мягкое деревце»[277] (Крошнозеро), липа (Сямозеро, Олонец) и клен (Сегозерье); так как березовые дрова, согласно карельским причитаниям, сулят «жестокосердие, беспокойство», еловые – суковатые, «кручину приносящие», сосновые – неровные, «печальные», осиновые – «будет заморозками прихваченная жизнь, бранчливая», ивовые – «тоску наводящие»[278]. Но в реальности иногда это были рябина, береза, засыхающая сосна. Использовались и деревья, наполненные особой энергетикой, связанные с культом огня и воды: поваленные бурей или грозой, сломанные молнией, сухие колосники из риги, «веселые плавуны», принесенные водой. При этом изначально дрова нельзя было рубить и колоть топором и «острыми орудиями», их ломали «мирскими руками да с веселыми песенками»[279]. Эти традиционные установки особенно хорошо сохранились в свадебных причитаниях. Баня, натопленная такими дровами, продуцировала счастливую жизнь в новом роду и доброго, любящего мужа.
Иногда в причитаниях упоминаются совершенно экзотические породы деревьев, например, кипарис. В далекой древности, возможно, такие дрова и использовались, так как климат был иным, и древесные породы, свойственные современным южным областям, могли произрастать и на данной территории (например, дубы, очень часто встречающиеся в карельских эпических песнях). Но, скорее всего, здесь сказывается влияние славянской традиции и православия. Сакрализация кипариса связана с тем, что, по народным русским поверьям, именно из этого дерева был вырезан крест, на котором распяли Христа. Об этом говорится во многих духовных стихах, записанных на разных территориях, в том числе и в Карелии. Например, действие стиха «Сон Богородицы» происходит у «святого дерева кипариса»:
Спала я ночись, ночевала Во городе я, у Удеи, У этого чудного креста, У этого у древа кипарична[280].Или:
Кипарис древо всем древам мати. Почему ж д’она всем древам мати? Распят был на ней сам Иисус Христос[281].Сегодня воспоминания об экзотических породах деревьев в свадебных причитаниях и песнях лишь подчеркивают, что дрова для невестиной бани требуются особые, наполненные сакральным смыслом.
Однозначно запрещалось топить осиной, елью, можжевельником, иногда и твердой березой. Такие дрова, согласно народному мировоззрению, связаны с миром мертвых Туонелой-Маналой и болезнями, они могли навлечь на будущую жизнь горе, злость, кручину, недуги и различные несчастья.
Существует множество различных вариантов банных причитаний. В одних невеста устами плачеи просит топить баню не осиновыми, не березовыми, а сосновыми mändyzillä дровами, чтобы муж был мягкосердечным[282]. В другом плаче говорится, что баня топится даже не дровами, а цветами: «Этими цветочками аленькими, этими цветочками аленькими топите баню, баеночку девичью последнюю». До этого девушка спрашивала, «выбросили ли из печи все головешки»[283]. Это, конечно, исключительно образное описание дров, с одной стороны, продуцирующих счастливое замужество, а с другой, являющихся символом умирания-сжигания девичьей воли. Иногда в ответ девушки причитывали:
Lämmitimmä lämbimät kylylöylyizet. Emma lämmitellyh huabazilla halgoizilla, Ei lieniz havanskoit päiväizet, Emma lämmitellyh koivuzilla halgoizilla, Ei lieniz kovavaccaine, Emma lämmitellyh leppäzilla halgoizilla, Ei lieniz lauhakka päiväine. Lämmitimmä duboovoloista doskaizista, Stobi lieniz siun kohtaa ylen hyvä[284]. Натопили мы самый теплый банный парочек. Не топили мы осиновыми дровишечками, Чтобы не был муж хвастливым (заносчивым), Не топили мы березовыми дровишечками, Чтобы не был он жестокосердным, Не топили мы ольховыми дровишечками, Чтобы не был мягкотелым (забитым). Натопили мы дубовыми дощечками, Чтобы был очень добр по отношению к тебе.В некоторых причитаниях оговаривается локус, на котором должны произрастать нужные деревья. Это сухие, «веселые» пригорки. Указывается и необходимый количественный показатель: «на трех девяти Васильевских пригорках». В Сегозерье говорили, что для того, чтобы жизнь была веселой, а муж – добрым, веники надо «выбрать на горе-горушке да на молодых порослях» – «gora goraldi da veza vezaldi vallita»[285]. Горы и возвышенности – это пограничные территории между человеческим и иным миром или места проживания божеств в мифологиях многих народов мира.
Вода у карелов, как уже указывалось, была олицетворением жизни и чистоты. Поэтому с целью обеспечения здоровья и жизнеспособности в новом роду особые требования предъявлялись и к воде, необходимой для невестиной бани. Ее брали из бурлящего источника: порога или течения реки. Вода обязательно должна быть чистой и проточной.
Иногда указываются ключи («самородные колодцы с веселой водицей»). Порой это дождевая вода, собранная во время грозы. Иногда требуется сходить за водой за «девять морей», где есть родники с медным, серебряным и золотым черпаками, и только из последнего можно взять воду[286]. В севернокарельских плачах для умывания невесты дома, сразу после прихода из бани, просят принести «из-под корней елей вытекающие, сквозь горы протекающие, журчащие водицы»[287]. Здесь вода соединяет два мира: нижний – Туонелу-Маналу первопредков и верхний – божеств-небожителей. Она несет для невесты благословение из обоих миров. В некоторых причитаниях встречается «предостережение ни в коем случае не брать воду и дрова в том месте, где их могут взять представители рода жениха»[288]. Этим, безусловно, подчеркивается, что последняя для невесты баня должна быть абсолютно «родной». Ведь она являлась неким семейным святилищем, родовой культовой постройкой, все в ней сконцентрировано вокруг почитания первопредков-сюндюзет, которые являются помощниками в мире человека.
Веник для невестиной бани тоже готовился особый. Чаще всего его делали заранее, во время летних Святок, желательно даже в Иванову ночь – один из самых сакральных временных отрезков в году. Требовалось ломать веточки, а не рубить «топориками и не резать острым орудием». При этом брать по одной с дерева, причем с его средней части. Объяснялось это тем, что верхние веточки «дождь побивает», на нижних – «поганые птички сидят», а на средних – «золотые кукушечки»[289]. Деревья должны были расти на сухих пригорках и «в самых милых ольшаниках». Веник в основном был березовый, но в него входили и веточки ольхи, и цветы. Иногда его называли lempivasta веник лемби[290]. Он был одним из самых сильных средств повышения славутности у подруг, которые парили невесту в бане. Удивительны по красоте метафорические замены слова веник в свадебных причитаниях: «с самых ласковых/благодатных ольховых зарослей (ольшаников) лиственные венички», «с пригорка на пригорок выбранные кудёрушки», «купельные венички, с островов холмистых горок принесенные», «шёлковые венички с бахромой, в славных боровых лесах выбранные», «на красивых высоких пригорках выбранные венички», «на золотых березках взятые средние веточки», «золотые веточки, на золотых веточках золотые листики»[291]. В заменах подчеркивается сакральность и самих пород деревьев, и мест их произрастания. В цветоописании используется единственная краска – золотая, ассоциирующаяся в мифологии с солнцем, богатством, богами и раем [292].
Поэтому каждая девушка в бане старалась первой завладеть этим магическим предметом. В современном свадебном обряде lempivästä заменен букетом, который невеста бросает за спину в толпу подруг, а поймавшая его девушка, считается, скорее остальных выйдет замуж. Иногда невеста сама отдавала свой веник незамужней сестре или подруге, чтобы ускорить их замужество. Выйдя из бани, «девушки забрасывали веник на крышу или, развязав, подбрасывали прутья вверх, чтобы “поднять свою лемби”»[293].
Когда баня была готова, кто-либо из натопивших ее бросал воду на каменку и произносил заговор, в котором изгонял из бани угар:
Pois, kacku, kylystä, Löyly sijah Ja rist’kansa kylpemäh! Вон, угар, из бани, Пар – на место И крещеная – париться!Благословив таким образом баню, шли в избу и приглашали невесту:
Kyly on valmis, Rist’kansa kylpemäh![294] Баня готова, Крещеная – париться!После этого к ней обращались с банным причитанием, приглашая ее пойти в баню[295]. Чаще всего это делала одна из подруг[296]. При этом, например, в Юккогубе, все девушки обнимали невесту и вместе с ней плакали[297].
Перед уходом в баню от имени невесты причитывали матери. В плаче девушки рефреном звучит мысль, что она последний раз моется в родной бане. Она спрашивает, сумела ли мать «vuahen jauholoista vallan asetelluot vuahtimuilaset varussellun?… valkiet varsisopaset varussellun vallan viimesistä vaklokylysistä vuaticceutuo vaivojen näkömättömih vuali-mih varoin?» – «из пенного порошочка приготовленное пенное мыльце припасти?… приготовила ли белые одежды, чтобы в светлой баенке в последние разочки переодеться перед уходом к [чужим] выпестованным, страданий не ведавшим?» Поэтому невеста просит у матери «полного прощения перед уходом в позднюю баенку уточки-морянки»[298]. Невеста не случайно просит принести белые одежды, они символизируют смерть и похороны. Именно это поразило Э. Леннрота во время его путешествия к карелам в 1828 году: «Внимание мое привлекла похоронная процессия. Все несшие гроб были одеты в белое: на них были длинные белые кафтаны из сермяги, перехваченные в талии поясами»[299]. Когда-то карелы и умершего обряжали в белые одежды. Во время фольклорно-этнографической экспедиции в 2015 году Т. X. Гончарова (родилась в д. Колатсельга) сообщила, что раньше карелы-ливвики (в том числе ее мама и бабушка, известная сказительница П. Г. Иванова) готовили одежду, в которой их похоронят, заранее; при этом они платье очень долго держали в воде, стекающей с крыши potokan oal, чтобы платье стало белоснежным.
Далее невеста, причитывая, просит у родителей прощения за невзначай причиненные обиды и просит благословить ее перед уходом в баню[300]. Все это напоминает ритуал причащения перед смертью. В данном случае невеста прощается с девичеством и со старой вольной жизнью и как бы умирает в бане для своего рода.
Родители и крестная в большом углу молились и кланялись «спасам-сюндюйзет». Иногда это продолжалось все время, пока дочь была в бане. Они благодарили их за покровительство в девичестве и просили не оставлять без помощи и в будущем. Syndyizet (прародители, первопредки) и spoassaizet (спасы, спасители) – понятия в карельской мифологии часто синонимичные. С течением времени в карельских верованиях вторые (так как связаны с христианством) все больше приходили на смену первым (гораздо более архаичным). И в то же время, так как spoassaizet употребляется только во множественном числе, это, безусловно, не Спаситель Иисус и не православные святые, а именно древние помощники-покровители.
В некоторых случаях, пока дочь была в бане, мать ходила в поле за домом, кланялась на все стороны света и, обращаясь ко всем духам-хозяевам, просила простить дочь, если та «какой грех сотворила». Затем она шла на берег реки, чтобы и хозяева воды даровали дочери прощение[301]. А так как проточная вода реки считалась у карелов каналом общения с потусторонним миром мертвых, мать посылала весточку и просьбу о благословении дочери и умершим прародителям.
Иногда после прозвучавшего приглашения в баню происходил обряд расплетания косы. Ленты невеста или дарила незамужним сестрам и подругам, или шесть недель (срок сакральный для души) носила их на левой руке[302]. Это был ритуал оберегания во время лиминального периода, когда с родными духами-покровителями молодая уже простилась (и в бане, и в доме), а родовые покровители мужа еще «присматриваются», еще не приняли ее под свою сень. По верованиям карелов считалось, что жена принята полностью в роду мужа, когда она носила будущего ребенка. У людиков ленту невеста отдавала девушкам, топившим баню. Они сжигали ее, приговаривая: «Гори вольная волюшка»[303].
Невесту вели под руки в баню подруги с причитальщицей. Иногда эту роль выполняла крестная мать. Временная смерть в бане пугает невесту. Она просит в плаче: «Пусть верховные могучие спасы немедленно разнесут в поздний час истопленную огневую избушку»[304]. «Огненная баня» – это место сжигания не только сказочной ведьмы Сюоятар, являющейся эманацией зла и враждебного рода. Это и локус, в котором проходит испытание жених в эпических песнях. Невеста должна символично пройти через этот сакральный огонь бани, окончательно проститься с «волюшкой»-«имечком», чтобы быть готовой к переходу в новый статус, в новый род, что уже будет происходить в послесвадебной бане для новобрачных. Воля в плачах не случайно ассоциируется не только с волосами, но и с именем. В Северной Карелии девушка, выйдя из бани, сидит на стуле, ей расчесывают волосы, а она причитывает: «Hoti kaunehen hyväsen kamuaikkunoijen piällisiksi karjalintusiksi kajon ylentelisin kajon nuoret kananimyseni. Anna kaunehilla ilmoilla siätelijä kantajaiseni karjalintusien karjasista kacahtelis miun kajon nuorikkaisie kananimysieni» – «Не оставить ли мне над оконными косяками своего красивого хорошего в образе стайных (?) птиц (птиц в стае?) молоденькие имечки курочки [девичью волю]? Пусть бы моя, на красивый свет создавшая [меня] выносившая [мать] в стае птиц любовалась моим молоденьким имечком курочки [девичьей волей]»[305].
Считалось, что «девичья воля», «имечко», во время мытья в бане улетает в образе птиц. Особенно популярен данный мотив в южнокарельских плачах. В реальной жизни после замужества менялось и имя девушки. Если до этого она была Fedotan Anni (Анна Федота), то есть дочерью Федота, то теперь она становилась Iivanan Anni (Анна Ивана), то есть женой Ивана.
Описание пути в баню в причитаниях наполнено религиозно-магическим смыслом (и совершенно иначе будет описан путь из бани). Ярко светит солнце, ступеньки домашнего крыльца обиты казанской медью, оно с золотыми и медными перилами, с двух сторон стоят золотые или медные столбы, на них золотые кукушечки-ласточки-соловьи. Дорожка к бане устлана «алым бархатом», кругом расцветают «сады Троицына дня», цветут «цветы Иванова дня», блестят «ламбушки золотыми рыбками»[306]. Здесь сакрализуется все: и время, и локус, и все расцвечивается яркой цветописью.
Это описание похоже на дорогу в баню, по которой в последний раз в сказках ведут злую ведьму Сюоятар, посягнувшую на древние семейно-родовые устои и обманом желавшую выдать замуж в знатный род свою дочь. Но её ведут для того, чтобы сжечь окончательно и тем самым спасти «невинно-гонимую», часто уже принятую в род мужа[307]. В невестиной же бане происходит не реальное сжигание, а ритуальное прощание-умирание. Не случайно саму последнюю девичью баню в банных причитаниях называют «tulikyly» «огненная баня», а невеста просит приготовить для нее «белые, ни разу не надеванные одежды, сшитые так, что и швов не видно». Новая, белая, с легко наметанным швом одежда – это одежда, в которую обряжали покойных. А у дома мать встречает ее с блюдом киселя, которое было обязательно на похоронах и поминках. В банных причитаниях подчеркивается, что невеста надевает после банного ритуала особую одежду, связанную с сакральными временными промежутками: «сшитую на Пасху», «обновленную на Троицу» или «в Иванов день»[308].
В бане невеста, причитывая, часто обращалась к спасушкам-прародителям. Например: «Voikah tunnon yliset tuuvehet spuassuset tunnon te-räväiseh kaksien tuuvehien hyväsieni tunnon myöhäset tulitupaset tuhansina tulikypenyisinä tuprahutella ympäri tuuvehie ilmasie. /Voikah/ kiiras synty kiran teräväiseh kivikipakkaiset kirvotella kiirahan hyväseni kisojen kirvot-telupaikkasih, kun ei kieroseni kiran puuvuttu» – «Пусть высшие ласковые спасушки вмиг развеют по ласковому свету тысячами огненных искорок позднюю жаркую баенку (букв.: избушку) моих двоих ласковых хороших [родителей]. Пусть ясные прародители вмиг развалят каменную печку в бане моего ясного хорошего [отца], [в месте] где я расстаюсь с порушкой игр/бесед и мои обидушки не поубавились»[309].
В южнокарельских причитаниях есть и ритуализированное описание внутреннего убранства бани[310]. В бане приготовлены медные, серебряные и золотые полочки и вешалки, на которые на шесть недель надо оставить свою «волю», чтобы «чужие» не могли ее тронуть. Иногда говорится, что в бане сделано три окошечка, символизирующие путь в иной мир, через которые эта «воля» может улететь.
В баню с невестой заходила какая-нибудь пожилая родственница или причитальщица itkettäjä, иногда повивальная бабка n’ababoabo, или крестная ristimoamo, или знахарка tietäjä, tiedoiniekku, а в некоторых случаях и несколько подруг. Остальные девушки оставались в предбаннике или на улице и пели карельские и русские протяжные песни[311]. По сведениям Н. Ф. Лескова, жених или кто-нибудь из шаферов приносил девушкам угощение, крендели, конфеты или даже вино, «.. хотя нужно заметить, что в карельском крае редкая из женщин пьет вино»[312].
Процесс мытья был наполнен магическим смыслом. Подруги моют невесту, чтобы «jättei vualimissa vaivaloin sanojen kerällä alettais vallan silmitellä» – «в доме жениха не начали обидными словами ругать и смотреть»[313]. Причитальщица просила девушек отбелить невесту «до белизны белых лебедей». С одной стороны, эта птица упоминается как символ чистоты и белизны. Не случайно, когда женщина стирала или полоскала белье на озере, проходящие мимо произносили: «Jumal abuh joucenie!» – «Бог в помощь лебедей!» Или: «Joucenie sinul sovan pezijäl!» – «Лебедей тебе, белье стирающая!»[314] С другой стороны, уместно вспомнить, что лебедь была птицей почитаемой, которую карелы запрещали убивать[315]. Северные карелы считали лебедей святыми птицами pyhä lintu, говорили, что они похожи на ангелов, а произошли от людей[316].
В бане знахарка натирала тело невесты солью со словами наговора: «Kui nämmä suolat kävytäh minun ymbäri, muga anda Pekko minus ymbäri, kuni kuud, kuni paid, siks ilmast igäd. Kuni minun higi hibjah kuivau, muga hänen hengi minuh kuivagah» – «Как эта соль вокруг меня ходит, так пусть будет такой-то около меня – во все дни, месяцы, всю здешнюю жизнь. Как пот на моем теле сохнет, так пусть и душа (имя) по мне сохнет». Затем эту соль бережно собирали, приносили из бани домой и во время свадьбы пекли пироги, которые были предназначены только для жениха[317]. Таким образом знахарка как бы «припекала» жениха к невесте на всю оставшуюся жизнь.
После мытья невеста под дымовым отверстием вставала на сковороду, и ее обливали водой или даже молоком. Эту жидкость сохраняли и затем также добавляли в тесто для пирогов или в другие кушанья, приготовленные для жениха и его родни[318]. В этом обряде нельзя видеть только средство привораживания жениха. Согласно верованиям девственность невесты обладает «огромной живительной оплодотворяющей силой», которая обеспечивает плодовитостью и богатством всех, кто к ней прикоснется[319]. Суть обряда и в том, чтобы проститься с родовыми духами и в то же время в последний раз попросить их о поддержке. Не случайно невеста стоит на сковороде – магическом предмете, связанном с культом домашнего очага, огня и домашних духов. Обряд совершается под дымоволоком. Это был канал связи с духами-покровителями. Во время любых гаданий (дома ли, в бане ли) всегда открывают трубу, функции которой ранее выполняло дымоволоковое окошко. Это был и путь для прихода душ покойных на поминки. В то же время есть и другое объяснение данного обряда: «Сковорода в качестве железного предмета считалась оберегом от всего злого и должна была предохранять жениха и невесту от «порчи», которую знахари и злые люди могли подбросить на пол»[320]. По той же причине одежда молодых не должна была соприкасаться с порогом в дверях[321].
Пока невеста мылась в бане, подруги пели в предбаннике kylyn– senčois. Как пишет Н. Ф. Лесков, «поются те самые песни, которые распеваются за танцами и на беседах», то есть лирические и танцевальные песни как на карельском, так и на русском языке. В том числе это могли быть и частушки на любовную тематику. Жених или кто-то из его друзей приносил в баню для подружек крендели и конфеты[322].
В предбаннике невеста, причитывая, благодарит тех, кто приготовил «ylen hyvää kyly-pertizet… ylen vesselät kyly-pertizet» – «очень хорошие банные избушки… очень веселые банные избушки» и «не совершил измены»[323]. Примечательно, что невеста называет баню избой pertizet. Она благодарит подруг за то, что они остались верны ей и «не совершили изменушки». Приготовив «последнюю веселую баньку» перед уходом в неведомый чужой дом, они дали возможность невесте проститься с беззаботной «веселой жизнью» в доме «милого, ласкового отца».
Девушка простилась в бане с родными духами-покровителями, поэтому она, выйдя из бани, всем своим видом и причитаниями в гиперболизированной форме подчеркивает свою обессиленность. Она прощается с окружающим ее родным пространством, кланяясь на все стороны света. Сохранились сведения, что на севере Карелии иногда за ней к бане подъезжал на лошади жених. У него на руках обязательно должны быть рукавицы kindahat (магический предмет, оберег от порчи), так как он пришел в баню чужого рода, на чужую территорию. Затем он на лошади довозил невесту до дома. Как известно, лошадь в мифологических представлениях – одно из животных, связующих человеческий и «иной» мир.
В Калевале на обратном пути из бани плачея от имени невесты жаловалась на усталость и просила брата запрячь лошадь, чтобы привести ее домой. Лошадь не подают, но брат приносит стул, который передвигается с места на место и на который невеста присаживается, плача и жалуясь на голод, для утоления чего подается поднос с кренделями[324].
Здесь же, выйдя из бани, невеста впервые принимала угощение, которое преподносит жених, приехавший в сопровождении десяти-двадцати родственников забирать ее[325]. Таким образом, сразу же после невестиной бани происходило ее первое приобщение к роду жениха. Как известно, попробовав еду, предназначенную для представителей иного мира (в данном случае, рода), человек сам приобщается к этому миру (роду)[326]. В Сегозерье печеньем и конфетами жених угощал и всех, кто был с невестой в бане, тем самым «выкупая» ее. Дверь бани ему открывали только после того, как был получен выкуп. Жених забирал невесту, и они ехали к ней в дом[327].
Тверские карелы рассказывали, что пока невеста в бане и когда выходит из нее, «народ поет около бани, приносят туда тарелку хлеба, кормят народ»[328].
На севере Карелии жених с патьвашкой приносил гостинцы вечером после бани и, кланяясь, передавал их невесте. Но она только дотрагивалась до них рукой, а брал их отец невесты. Она в плаче упрекала отца: ведь чужие дары были предназначены для «изничтожения девичьего имени». Она называет это угощение: «kananimysien kavottukostint-saiset» – «гостинчики для потери имени курочки»[329].
По дороге из бани девушка еще раз кланяется «банным дорожечкам», колодцу, воротам, крыльцу, сеням, то есть всем локусам, являющимся сакральными обителями тех духов-хозяев, которые помогали ей в прежней жизни и с которыми она простилась в бане. Сделать это она просит разрешения у матери: «Vieläkö, itvojaiseni, innon entisie isvoo-lintasie myöten isvontelikset, kuita innon vähäsillä innon ylenentä äijälläni iloten innon kualelin.
Nyt vain innon olovaisien itkuvetysieni kerällä innon kualelen» – «Еще ли, моя [меня] взрастившая, по-прежнему позволишь пройтись по двору, где за короткое время возрастания с радостью хаживала? Теперь же с обильными водицами [со слезами] прохожу»[330].
Подойдя к крыльцу, невеста спрашивает разрешения войти в некогда родной отцовский дом. Она обнаруживает, что порог стал «на три венца выше» и ей трудно через него перешагнуть[331]. В карельских заклинаниях порог связан с потусторонним миром, с древними захоронениями. На порог клали блюдо для душ покойников, прибывших на свадьбу[332]. Порог – и граница между двумя мирами живых и мертвых и место пребывания духов[333]. Духи под порогом охраняют дом от проникновения в него чужих.
Примечательно, что в избе (или на крыльце) невеста со слезами просит брата (или мать) принести воды в рукомойник (чтобы ополоснуться после бани), полотенце и зажечь свечу[334].
Таким образом, вслед за И. Вахросом[335], У. С. Конккой, Ю. Ю. Сурхаско и А. С. Степановой можно сделать вывод, что невестина баня, помимо очищающего значения и обеспечения плодовитости в будущем браке, прежде всего, являлась обрядом прощания со своим родом и семейными духами-покровителями. Немаловажным было и стремление на ритуальном уровне обеспечить переход «из половозрастной группы девушек в группу замужних женщин»[336].
По мнению некоторых ученых, хождение невесты в баню является пережитком древнего обряда бракосочетания с духом бани. Е. Г. Катаров расценивал мытье в бане невесты как пережиток обряда свадьбы с банником, которому невеста отдавала свою девственность[337]. Дух бани здесь является одновременно и тотемом рода и духом воды, обеспечивающим невесте чадородие. Древние греки также полагали, что обряд бракосочетания с духом воды обеспечивает невесте плодовитость, а у многих народов детей, рожденных до обрядового общения невесты с тотемом, убивали. О. Магнус писал, что в XVI веке невестина баня была общепринятой у народов европейского Севера, и после нее девушки ужинали и спали с невестой, «как бы оберегая ее до самой свадьбы, так как ее девичество было пожертвовано небесам»[338]. Ф. В. Плесовский, исследуя фольклорно-этнографический материал коми, также обнаружил связь свадебной бани с обрядом женских инициации. Он считал, что именно в бане происходило «обрядовое общение девушки с тотемом, после чего она получала право на брак»[339].
Карельский материал, имеющийся в нашем распоряжении, прямо не подтверждает эту точку зрения. Хотя опосредованно он может свидетельствовать об этом, и связь духа-хозяина карельской бани с хозяевами воды, безусловно, присутствует. А. С. Степанова также пишет, что даже материал карельских банных причитаний сохранил меньше данных, подтверждающих версию «…воссоединения девушки с духом-хозяином бани, пожертвования девичества для обеспечения плодовитости, хотя нет оснований и для ее опровержения»[340]. В карельской невестиной бане neiskyly, как и в русской, с невестой происходит обрядовая метаморфоза, а в самом обряде проступают рудименты древних верований, связанных с семейно-родовым культом, культом предков.
О том, что в невестиной бане стремились быть понятыми различными духами-хозяевами haldia, говорит традиция присутствия плакальщицы и практически беспрестанного причитывания. Причеть, как известно, – это сакральный язык общения человека с духами. В причитаниях подчеркивалась трагичность всего происходящего. Считалось, что именно в этой последней девичьей бане девушка-антилас, постоянно причитывая (чаще устами причитальщицы), утрачивает защиту родовых духов-покровителей, тем самым отторгается от своего рода, расстается с девичеством и девичьей волей.
Таким образом, девичья свадебная баня имела важное религиозно-магическое значение, являясь одним из переломных моментов свадьбы.
Женихова баня
И. Вахрос считал, что ритуал жениховой бани восходит к девичьей бане и представляет собой более позднее явление[341]. И, хотя сведений о ней сохранилось гораздо меньше, есть основания считать, что она была распространена на всей территории проживания карелов, так как ее описания есть и в севернокарельских, и в южнокарельских эпических песнях, посвященных сюжету сватовства. Этот обряд также был известен у вепсов, води и ижоров.
У жениховой бани функции были несколько иные, нежели у невестиной. Четкого термина, обозначающего баню жениха, у карелов не зафиксировано. Условно ее можно назвать sulhaizen kyly[342]. И если поведение невесты в бане даже в начале XX века было строго регламентировано многочисленными ритуальными действиями, то обычай устраивать обрядовую баню для жениха накануне поездки за невестой в это время уже был сравнительно мало распространен. Поэтому сведений о ней практически не сохранилось. Хотя изначально обрядовая женихова баня имела не меньшее значение, так как когда-то путь за невестой был долог и опасен, поэтому мать готовила сына особым образом, заручаясь в бане поддержкой духов-покровителей своего рода.
Ю. Ю. Сурхаско выделял в обряде жениховой бани два момента[343]. Это, во-первых, была одна из мер предохранения жениха от порчи перед поездкой за невестой в чужой род. Для этого с ним в баню в северной Карелии ходил специально приглашенный с этой целью свадебный колдун патьвашка, где он и совершал некие магические действия. Во-вторых, эта баня носила «посвятительный характер», в ней жених из парня переходил в статус мужчины. Об этом говорит существование и у северных, и у южных карелов особых свадебных «банных песен» kyly-virzi, связанных именно с жениховой баней. Их пели парни, пока жених один или с патьвашкой находился в бане. Жениху советуют «бросить глупость на дерюги, ребячество на краю полка, младенчество на прутьях веника»[344]. Или:
Heitä lapsuus lautsan päähä huimus hurstin helman alle pennusaika penkin päähän[345]. Скинь ребячество на лавку, бесшабашность под покрывало, младенчество на край скамьи.Этот мотив прощания с детством проходит через все банные песни как Северной, так и Южной Карелии.
Здесь уместно отметить, что в эпических песнях, описывающих поездку героя на пирушку в Пяйвелу, то есть в Дневную страну или Страну солнца, мать предупреждает сына о трех грозящих ему смертельных опасностях. Первое испытание – это змей, лежащий на перекрестке трех дорог; второе – огненный порог, на котором стоит огненное возвышение, на нем растет огненная береза, а на ее вершине сидит «огненный орел, ночи напролет зубы точащий, а дни напролет когти оттачивающий»; а третье, самое опасное, – огненная баня[346]:
Tuloopa tuline sauna, Saunass’ on tuline salpa, Lemmenkäizen peän varalla. Повстречаешь огненную баню, В бане – огненный столб Для головы Лемминкяйнена.В результате герой все преодолевает и оказывается на пиру[347].
Возможно, данная песня сохранила отголоски испытаний во время возрастной инициации, которую проходили парни и в бане, после чего переходили в новый статус и получали возможность жениться и участвовать во взрослых мероприятиях, в том числе и пирах. Так, есть сведения, что в карельских деревнях еще в конце XIX века до женитьбы спиртное парням не наливали, даже пиво, которое и было едва ли не единственным хмельным напитком у карелов во время пиршества, в том числе и свадебного.
Финский исследователь У. Харва на основе банных песен (например, «Мир ждал новолуния», мотивы которой совпадают с эпической песней «Состязание в сватовстве») попытался реконструировать обряд жениховой бани[348]. Ю. Ю. Сурхаско считал, что картина у него получилась слишком гиперболизированной.
В отечественной фольклористике реконструкцию обряда сделала А. С. Степанова[349]. Она опиралась на южнокарельскую руну «Сватовство в Хийтоле». Если, к сожалению, сведений мало и иного пути для восстановления ритуала нет, тогда такая попытка имеет право на существование. Остановимся кратко на основных этапах обряда.
С просьбой истопить баню эпический герой обращается к матери, реже – сестре. Баня должна быть «тайной», как и множество ритуальных бань, то есть она должна быть натоплена втайне от всех. Такую баню топили только тогда, когда она имела особую ритуальную функцию и в ней обязательно прибегали к каким-либо видам магии. Это, видимо, присутствовало и в данном обряде, так как в баню с женихом обязательно шел свадебный колдун. В то же время говорится, что баня должна быть «без стен и потолков». Если это синоним к «тайной» бане, то это может означать, во-первых, ее невидимость для чужих глаз, а во-вторых, некую ее аморфность и проницаемость абсолютно для всех духов-хозяев «иного мира», к помощи которых и прибегает патьвашка, осуществляя обряд оберега. Женихова баня в Юшкозере характеризовалась такими эпитетами, как utuinen воздушная, хрупкая, simainen медовая, огненная (искристая) kynäinen[350]. В одном из святозерских сюжетов кузнец Илмаллине просит мать натопить баню «огненную, горячую, вгоняющую в пот» – «palavasti, hiilavasti, higevästi»[351]. Иногда женихова баня, как и невестина, называется «слезной баней». В Реболах просили: «lämmitä о kyynelkyly» – «истопи слезную баню»[352]. В некоторых эпических песнях подчеркивается, что это не простая баня, это некий рубеж в жизни молодого человека. Она завершает один период и начинает новый жизненный этап. Это напоминает о вероятности проведения в бане инициационных обрядов молодежи:
Tämä on ky ly ensimäinen, Tämä on kyly jälgimäinen[353]. Эта баня первая, Эта баня последняя.Дрова, как следует из различных вариантов южнокарельской руны «Сватовство в Хийтоле» и севернокарельской «Состязание в сватовстве», должны быть ольховые, дубовые, березовые, нельзя использовать хвойные смолистые деревья. Они, в отличие от девичьей бани, могут быть осиновыми, мелко наколотыми и даже щепочками: «Halkosilla hienosilla, Pienillä pilastehilla»[354]. В некоторых вариантах песен дрова могут быть пригнаны водой и разбиты молнией. Дрова для жениховой бани готовил брат:
Iivana, villo veljyeni, Pilkko halgo pikkuseksi Paljahalla kallivolla, Kirvehe kiveen koskematta, Kasahiebran kallivoh koskematta![355] Иван, братец родной, Наколи дрова мелко На голой скале, Чтобы топор камня не коснулся, До скалы не дотронулся!Вода для жениховой бани требуется проточная, из «сверкающего», незамерзающего родника. Ее приносит мать или сестра:
Kanna vettä läiköttele Hyissä helmoin, jäässä polvin, Herasista heittimistä, Läikkyvistä lähtimistä, Ku talvet sulana seiso, Herasena herhotteli. Kanna vettä läiköttele, Hyissä helmoin, jäissä polvin, Kolmin koivusin korennoin. Notkui vaarat noustessasi, Mätji vaarat männessäsi[356]. Принеси воду, добудь, Замочив подол, коленями во льду, Из журчащих ключей, Сверкающих источников, Которые зимами не замерзают, Водами весело журчат. Принеси воду, добудь, Замочив подол, коленями во льду, Тремя березовыми коромыслами. Чтобы горы не поднялись, Чтобы опасность миновала.Жених просит хорошенько распарить веник, чтобы он стал «мягким и шелковым».
В эпических песнях подробно описывается тщательность обмывания жениха. Но если чистоту невесты в девичьей бане уподобляли лебединой белизне, то, говоря о женихе, употребляют иные сравнения: «вымою голову до подобия льняной кудели, шею до белизны куриного яйца» [357]. В одном из севернокарельских вариантов, испытавших влияние сказочного сюжета, дева Иро готовит баню сразу трем братьям: Ильмолинену Il’l’mollini, Среднему Keskikertakani и Звездочке Сюндю Synnyntähtini. Они просят:
Iro neiti, impi neiti, Lämmitä kyly läikähytä, Pesen piät kuin pellavaspivot, Läpi lännän läikettäisse, Läpi pilven pilkettäisse, Läpi kuun kuumottaisse![358] Иро-дева, дева-девственница, Растопи-ка ты мне баню, Вымою голову, как льняную кудель, Чтобы до запада блистала, Через тучи поблескивала, Лунный свет затмевала!Или южнокарельский вариант из Святозера:
Kylbe, poiga, kylläzesti, Vala vette valdaizesti, Peze piähyd pelvaz-pivoks, Silmäized-ku siiru kabuks, Kaglaine-ku kanan munaks, Muitsi rungu lumi tukuks[359]. Парься, сын, вдосталь, Воды лей вдоволь, Вымой головушку до цвета льняной кудели Глазки – как куски синего камня, Шейку – как куриное яйцо, Остальное тело – как снежный сугроб.Для этого используется щелок (в эпических песнях он назван медовым simaine), и только в более поздних вариантах свадебных песен – мыло. Это, несомненно, свидетельствует о такой важной функции жениховой бани, как очистительная.
Олонецкие карелы, когда мыли жениха в бане, пели:
Pinossas on pienet ballot, pilko puikot puhtahaiset, lämmitä o kyynelkyly, saussuta simainje sauna, loai simaista pomo, simoten poijas peätä pessä![360] В поленнице мелкие дрова, Чистые, мелко нарубленные щепки, Натопи слезную баню, Наполненную медовым дымом, Приготовь медовый щелок, Медового парня голову вымыть!Свадебный колдун в жениховой бане проделывал ритуалы, связанные с обереганием любовной силы жениха, его лемби, способности достойно продолжить свой род.
В свадебных рунах много внимания уделено приготовлению одежды для жениха. Белье должно быть льняным, белоснежно отбеленным «в разной пене» и таким тонким, чтобы рубаху можно было продеть сквозь кольцо. Оно должно быть соткано и сшито матерью в девичестве[361]. Верхняя одежда – дорогой, добротной. Юноша просит принести «tuhanzis rublis tuluppaizen, sadois rublis kaglustaizen…Suas rubl’as suapkaizet!» – «за тысячи рублей тулупчик, за сотни рублей воротничок… За сто рублей шапочки!»[362]. Она должна быть «отцом в женихах ношеной», то есть одеяние жениха должно быть не просто богатым, но и родовым, принадлежащим не одному поколению. Эти сведения относятся и к реальной жизни: сыновья часто были на своей свадьбе в свадебной (венчальной) одежде отца, а дочери – матери. Это в первую очередь относится к красиво вышитым мужской рубашке и женской сорочке, а также к шапке и венчальному кольцу. Все это передавалось из поколения в поколение [363].
Ритуальная свадебная одежда в эпических песнях описывается следующим образом:
Annabo, maamoi, pelvoipaidaine, yhtes kuiduizes kuvottu, iččez neiččoisaigoine. Annabo pelvoikaadiizet, iččez neidoiaiguzet. Annabo šamšoi šaapkane, taatan brihastand’ aiguine, anna šulkkukušakkaine, taatan brihastand aiguine[364]. Дай-ка, матушка, льняную рубашечку, Из одного волоконца сотканную во время твоего девичества. Дай-ка льняные кальсончики времен твоего девичества. Дай-ка замшевую шапочку, в которой отец холостым гулял, Дай шелковый кушачок, Который отец холостым носил.В некоторых наиболее архаичных вариантах эпических песен указываются детали, которые подчеркивают магическое значение одежды жениха, ее сакральность. Она, безусловно, выполняла роль оберега. Во-первых, надевается весь сакральный набор: золотой пояс, мохнатая шапка, пестрые рукавицы. Более того, все это связано детьми лапландцев – представителей этого народа карелы считали одними из самых сильных колдунов. Жених просит принести «сапоги из коровьей кожи на каблуках» – «kengäd kandakaized, lehmän nahkaz leikotud» и шубу, на которой «тысяча пуговиц, сотни петель» – «tuhal nybläl nyblitetyn, sadal lapal lapotetun»[365]. Обычно в мифологических рассказах карелы говорили о большом количестве блестящих пуговиц в одежде могущественных духов-хозяев иномирного «лесного царства». А узелки-петельки на одежде и поясах считались оберегами.
Пока жених мылся в бане, его друзья за дверью, на улице или в сенях пели именно такие песни, в которых описывается процесс приготовления бани и сакральная одежда. В этих банных песнях подчеркивалось, насколько опасен путь за невестой. Поэтому жениху и его брату советовалось взять в качестве проводников рыжую лису, белого зайца, белую лебедь[366]. Как и в случае с невестиной баней, подчеркивалось, что даже порог отцовского дома становился выше, а временное расставание с отцовским домом наполнено грустью и для жениха[367].
Малая сохранность сведений о ритуальной бане жениха, возможно, объясняется тем, что ему, в отличие от невесты, не требовалось навсегда прощаться с духами-первопредками и отлучаться от их покровительства. Он посвящался в новый биосоциальный статус и только кратковременно отлучался из своего рода на время поездки за невестой, а она покидала его навсегда, становясь на этот лиминальный период особенно уязвимой со стороны злых сил.
Баня новобрачных
Следующей ритуальной баней в жизненном цикле человека являлась баня для новобрачных[368]. Это третья, обязательная баня в продолжительном свадебном обряде.
Изначально ей придавалась не только очистительная, но и посвятительная функция, особенно важная для молодой жены. Сакральная суть бани новобрачных состояла в том, что в ней происходило приобщение невесты к родовому коллективу мужа и обретение покровительства духов-первопредков его рода.
После возвращения из невестиной бани девушка почти двое суток оставалась без защиты духов-покровителей и была очень уязвима, подвержена любому воздействию сглаза, колдовства, нечистой силы в пороговый, переходный для нее период из девичьего статуса в женский. В этот период ее особенно оберегали. Она ни на секунду не оставалась одна. Сидела, лежала на шубе и укрывалась ею. Часто лицо было полностью укрыто платком, а на руки надеты рукавицы. В кармане или специальном нагрудном мешочке у нее всегда были обереги (коготь медведя, лапка землеройки и т. п.). Это продолжалось вплоть до следующей бани, бани новобрачных.
Этот вид бани в карельской деревне сохранился практически до конца XX века. Правда, основные ритуалы уже были забыты. Сохранилась только ее очистительная роль.
Утром свекровь совершала обряд бужения молодых и спрашивала, нужно ли истопить баню. Новобрачный отвечал утвердительно только в том случае, если половой акт состоялся и произошел реальный (а не только ритуально произведенный в невестиной и в жениховой банях) переход юноши в статус мужчины, а девушки – в статус женщины. Если молодой муж не просил натопить баню в утро после первой брачной ночи, ждали еще два дня. Если же и в третье утро просьбы натопить баню не было, это значило, что у новобрачных возникли проблемы и следует приготовить другую ритуальную баню, в которой будет восстановлена потенция молодого мужа.
Если же в первое (второе или третье) утро звучала просьба натопить баню, это значило, что у молодых все в порядке. Баню топили чаще всего родственники жениха (в Сегозерье брат) или даже патьвашка. По некоторым источникам, например, в Масельге, это делалось три утра подряд[369]. При этом истопник должен был охранять баню, чтобы кто-нибудь не выкрал дверь, иначе молодой муж должен был выкупить ее. По мнению исследователей, дверь и окна банных построек входят в систему генитальной символики, их кража (ломание), особенно во время свадебного обряда, соотносится с дефлорацией[370]. Возможно, здесь есть связь и с более древними элементамами охранительной магии, связанной с почитанием предков. Не случайно дверь в карельских загадках называется lemmen lehti лист любви или удачи[371].
В баню шли после завтрака, к которому теща три утра подряд приносила блины – блюдо, в карельских верованиях связанное с культом предков. В данном случае они, вероятно, служили неким оберегом для молодой жены в пока еще чужом для ее роду. Она в ритуальном смысле еще оставалась в беззащитном состоянии. Это подчеркивается тем, что в баню ее вели свои родственники-провожатые myödäizet, и там они караулили ее, чтобы никто не украл молодую, в первую очередь нечистая сила[372].
С другой стороны, именно с помощью блина молодой муж демонстрировал, сохранила ли невеста целомудрие до брака или нет[373]. В последнем случае зять брал с тарелки верхний блин, складывал его вчетверо и, откусив получившийся уголок, разворачивал снова[374].
В Карельской Масельге молодых сразу же, как только они проснутся, вели в баню. Их даже в избу до бани не пускали (новобрачных часто укладывали спать в боковой комнатушке bokkupertti, вход в которую был в сенях). В течение трех дней каждое утро они должны были ходить в баню[375].
После приглашения в баню молодая одаривала истопника. В качестве подарка она давала ему полотенце kylypaikku или рубашку[376]. Кроме того, у южных карелов она должна была «выкупить баню»: кто-нибудь со стороны родственников мужа запирался в ней и, только получив от молодухи подарок, отпирал дверь. В древности данный обряд, скорее всего, имел более глубокое наполнение: женщина «выкупала» у духов разрешение войти в святилище новой семьи. Более того, она должна была оставить на банной лавке или на полке подарок (чаще всего рубаху) духу или хозяйке бани kylyn haldia, kylyn emändä, чтобы та приняла ее под свое покровительство в качестве нового члена семьи[377]. Позже эта рубаха стала восприниматься как подарок свекрови. Иногда в качестве подарка духу-хозяину бани молодая повязывала полотенце на банный ковшик.
Подарки, которые дарили сама невеста или ее родственники матери и отцу жениха в первый послесвадебный день, так и назывались куlylahjat банные подарки или tervehtyslahjat приветственные подарки [378]. Дарили их перед посещением бани новобрачных, а чаще – прямо в ней. Свекрови преподносили kylyräccin банную сорочку (считалось, что на ней должна быть самая высокая вышивка), а свекру – kylypaidu банную рубашку. Мужу в первой бане молодая жена дарила банное полотенце kylypaikku и рубашку, которой она перед этим вытерла свой пот. Считалось, что таким образом их пот смешается и тем самым они навсегда прилепятся друг ко другу, а их взаимная любовь укрепится.
Чаще молодые шли в баню пешком в сопровождении гостей с невестиной стороны (которые охраняли ее). Во главе процессии был патъ-вашка. Его присутствие подчеркивает особую важность ритуала, его сакрально-магическую наполненность. В Сямозерье в качестве колдуна, оберегавшего невесту до выдачи ее жениху, могла выступать причитальщица ollalline. В Южной Карелии она водила новобрачных в послесвадебную баню. Главным для патьвашки было уберечь молодых в бане и по пути к ней от сглаза, порчи и иных неприятностей. Шествие, как пишет Ю. Ю. Сурхаско, сопровождалось «шумовым концертом»: стрельбой, стуком в печные заслонки, пением, криками. Все это, на наш взгляд, выполняло функции оберега от нечистой силы. О стены и дверной косяк бани разбивались бутылки и молочные горшки. По некоторым сведениям, именно дружка разбивает пустую бутылку о верхний косяк бани в то время, когда молодые моются после брачной ночи[379], как бы оповещая первопредков о состоявшейся дефлорации (переходе девушки в статус женщины) и появлении нового члена рода. Именно за верхнюю дверную притолоку родной бани (или дома) прятали пуповину новорожденной девочки, стремясь поднять и сохранить на высоком уровне лемби девочки с целью удачного замужества. Исходя из этого, можно найти объяснение пословице: «Ennen gu lähet sulhaziksi, kaco omah kamajah» – «Прежде чем поедешь свататься, посмотри на свою дверную притолоку»[380], то есть обратись за покровительством к первопредкам, попроси и их благословения.
Есть сведения, что посуду после брачной ночи били только в том случае, если невеста сохранила невинность до выхода замуж. Ю. Ю. Сурхаско считал, что соотнесение битья горшков с публичным освидетельствованием невинности молодухи до свадьбы – это более позднее объяснение. Истоки этого обычая он связывал с охранительной и продуцирующей магией, гораздо более древней, чем эротическая символика. В качестве подтвержения он приводил обычай, в котором можно также усмотреть традицию кормления домашних духов и первопредков. На печь бросали горшок с кашей, а по количеству черепков судили о количестве детей в семье[381].
Интересен обычай разборки банной каменки. По некоторым сведениям, в Сямозерье послесвадебную баню топили soajanaizet родственницы жениха из его свадебной свиты, а провожатые невесты myödaizet разбирали каменку. «Придут молодые в баню, а печь сломана. Ставят провожатым бутылку, тогда соберут обратно печь. Еще дверь снимали, прятали дверь, ее выкупить тоже надо было». В Южной Карелии был широко распространен обряд ломания печи в избе на третий день после свадьбы. «Войдя к зятю в дом, теща и тесть прямо шли к печи, открывали заслонку и, взяв лучины, грозили сломать печь. Зять просил не ломать, поскольку у него с женой все благополучно. После этого устраивалось угощение»[382]. Разборка банной каменки соотносится и с ломанием печи в календарной обрядности, что встречалось в Сямозерье и западнее, у финнов. Эта традиция была отмечена на день Кегри, на второй день Рождества и во время Святок. Обычай состоял в том, что мужчина (иногда их было несколько) входил в дом и спрашивал: «В доме ли Рождество, в доме ли Стефан или сломаю печь?», при этом засовывал в печь принесенную с собой палку или жердь, после чего следовало приглашение хозяина выпить рюмку[383]. В связи с этим можно вспомнить и обряд разборки банной каменки, и кражу банных дверей молодежью во время ритуальных святочных бесчинств.
Заходя в баню, молодая должна была tervehtiä kyly (поздороваться с баней). Она приветствовала: «Terveh, löyly, terveh, lämmin, ota tuttavakse Anni ristikanzu» – «Здравствуй, пар, здравствуй, тепло, прими в знакомые Анну крещеную»[384].
Раздевались и одевались молодые в самой бане, а не в предбаннике, как обычно, чтобы даже к их одежде никто не мог прикоснуться. Кто-то из провожатых охранял их не только в предбаннике, но иногда и в самой бане (чаще это была мать жениха или крестная невесты), помогая им мыться или одеваться. Есть сведения, что в Сегозерье баней новобрачных занимались только родные невесты[385].
Мылись молодые одной водой, парились одним веником, что способствовало укреплению их любви. Их лемби (она у каждого во время свадебного обряда находится на максимуме своего развития) в это время смешивалась, от этого она вдвойне укреплялась и как бы становилась общей. Многие из ритуалов были направлены на укрепление взаимной любви между женихом и невестой. Они по просьбе колдуна правой ногой вставали на сковороду, а он чертил вокруг них круг (иногда своим свадебным ольховым посохом kozicendusauva); мать невесты в это время причитывала за дверью[386]. Сковорода в качестве оберега применялась во многих карельских обрядах. Ее магический статус обеспечивался несколькими составляющими: формой – в виде круга, материалом – железо, а также связью с культом огня. Ступая правой (то есть правильной) ногой, пара начинала путь в новую жизнь и в новый для невесты род мужа; охраняло дочь на этом пути и материнское причитание.
В Сямозерье рассказывали, что «когда молодые ходят в баню, то с ними причитальщица, которая причитывала на свадьбе, она там что-то ворожит… чтоб муж любил жену да жена мужа, чтобы хорошо жили»[387].
Карелы-ливвики рассказывали, что в бане, истопленной на следующее утро после свадьбы, мать жениха стирала кальсоны сына и сорочку невестки в одном тазу, затем плескала эту воду на каменку. По народным представлениям, таким образом она «pastuttau heidy toine toizenke» – «припекает их друг к другу». После этого мать хлестала и парила их распаренным пучком льна, чтобы характер молодых стал мягче.
После этого новобрачный надевал рубашку, подаренную молодой женой. Для укрепления взаимной любви и более крепкого привораживания жениха к себе невеста в девичьей бане сначала надевала эту рубашку на себя, чтобы она пропиталась ее потом, а он затем смешался бы с потом молодого мужа.
Возвращение из бани также сопровождалось и шумом и стрельбой. А в Сегозерье даже разжигали костры или зажигали факелы, которые выполняли роль оберега и играли очистительную роль. Иногда огонь зажигался от углей домашнего очага, что также служило приобщением невесты к новому дому.
В Сегозерье стрелкам из ружья преподносили подарки. Первоначально это было полотенце, а позже – бутылка водки. Одаривали и истопников бани. В этом районе дары молодухи родне мужа раздавали именно после бани новобрачных. Подарки оставались традиционными: женщинам – рубашки, сарафаны, сорочки (с семидесятых годов XX века – кусок ткани, а не готовые изделия), платки; мужчинам – полотенца, рубахи, пояса. Больше всех подарков получала свекровь, но каждому родственнику мужа, даже малым детям, надо было что-нибудь подарить[388].
После бани молодых катали на лошадях, украшенных полотенцами и лентами. Первые (как и в похоронном обряде) символизировали канал, путь, связующий два мира – мир людей и мир духов. А ленты ассоциировались с дорогой невесты из отцовского дома в дом мужа.
В поморских деревнях баню для молодых супругов готовят на четвертый день. В ней они «должны смыть свой первый грех, а равно и свадебные колдовства». Молодожены до этой бани даже не выходят на улицу «из-за боязни заболеть от “дурного глаза”, от “стрел” и прочих свадебных “напускных” болезней»[389].
Завершался обряд бани для новобрачных еще одним важным ритуалом: в баню шли (иногда их везли на лошадях) родители жениха. Там их мыли родственники невесты и помогали свекрови надеть нижнюю рубашку (kylyrättsina – банная сорочка) и повойник, а свекру – рубашку (kylypaita – банная рубашка) и пояс, подаренные молодой. Пояс и повойник – это круговые обереги от нечистой силы. Их тоже катали на лошадях, затем на руках вносили в избу, где молодые вытирали их лица полотенцем, подаренным невесткой, и спрашивали, довольны ли они.
Возможно, изначально родители новобрачных посещали баню с целью узнать, принята ли молодая духами-хозяевами бани и духами-первопредками в их род, понравились ли ее подарки и она сама. Исполнена ли, таким образом, основная функция бани для новобрачных.
Интересный обряд «бани для свекрови» был зафиксирован в д. Кондопоге в 1872 году. Он достаточно широко был распространен в русской свадьбе. Автор статьи, захотевший остаться неизвестным, проезжая по деревне, заметил, что у дома жениха толпится много народа, хотя свадьба закончилась несколько дней назад. Оказалось, все ждут, «когда свекровь поведут в баню, а это бывает не тотчас после свадьбы, а часто через неделю и более. Вот уже наверное узнали, что в такое-то время будет свекровина баня. Многие женщины села, а большею частью близкие, родные свекрови, приносят заранее в баню хвойных прутьев и веников, которые из них, смотря по обстоятельствам, и будут употреблять в дело. Наступит час – молодая ведет свекровь свою в баню, а за нею толпы женщин идут с песнями. Здесь, как мне рассказывали, молодая моет свою свекровь, а лишь только начнет готовиться ее парить, как женщины, присутствующие в бане, поднимают хвойные прутья, намереваясь ими попарить счастливую свекровь. Тогда молодая невестка, желая защитить свою новую мать от такой парки, начинает потчевать женщин кренделями или другим чем и просить их, чтобы они преложили гнев свой на милость и попарили бы ее матушку новыми выпаренными веничками. Когда свекровь выходит из бани, молодая подает ей рубашку, сарафан, чулки и башмаки, приготовленные ею заранее в подарок свекрови. Когда свекровь при помощи молодой оденется в новые подарки, тогда невестка, поклонившись в ноги свекрови, начинает просить присутствующих при этом женщин, чтобы они похвалили ее матушку, на что хор женщин отвечает дружно: «хороша». При этих криках, смешанных с песнями, молодая ведет под руку свою свекровь в дом, а женщины, потолковав еще около дому свекрови, тоже начинают расходиться по домам»[390].
В мордовском (как и в вепсском) свадебном ритуале также проводили особую баню невестки, в которой она парила свекровь и даже других родственников мужа[391].
Таким образом, в бане для новобрачных проходил ритуал перехода молодой жены в новый для нее род мужа, закреплялись семейные узы, которые в народной ментальности карелов считались нерушимыми.
Ритуальная послесвадебная мужская баня
Стоит упомянуть еще об одной ритуальной бане карелов, во время которой поднимали мужскую потенцию. Этот обряд проводили в экстренных случаях в конце первой послесвадебной недели. К этому времени появлялись свидетельства об утрате или о слабости лемби[392] молодого мужа, что свидетельствовало, согласно народным представлениям, о том, что во время свадебного обряда на него была наведена порча. Сделать это могли деревенские колдуны или по просьбе односельчан, или по требованию менее удачного соперника жениха, или по инициативе самих колдунов, если их не пригласили на свадьбу или должным образом там не уважили.
Утром после первой брачной ночи родственники спрашивали молодых, надо ли истопить баню. Если проходило несколько дней, а молодые баню так и не заказывали, это свидетельствовало о том, что половой контакт не состоялся, то есть о половом бессилии молодожена. А следовательно, и знакомить молодую жену с духами-первопредками, и приобщать ее к новому роду, что и происходило в первой традиционной послесвадебной бане новобрачных, пока нельзя.
Карелы говорили в этом случае, что парня pinoh pantih положили в поленницу, то есть кто-то навел порчу. Объяснить однозначно, почему болезнь носила такое название, сложно. В единичных текстах упоминается, что порчу (по всей видимости, какие-либо заговоренные предметы) колдун убирал именно в поленницу дров. В Лоухском районе, когда снимали с парня порчу, говорили, что lempi pinosta otettih лемпи из поленницы сняли (то есть расколдовали)[393]. Стоит вспомнить, что полено фигурировало во многих обрядах. Невеста, отказав сватам, приносила его с поленницы и бросала с порога в большой угол, призывая вместо одного девять женихов. В зимние Святки девушки не глядя вытаскивали полено из поленницы и гадали по его сучковатости или гладкости, каким будет муж. В быличках в полено (чаще всего осиновое) превращается ребенок, подмененный нечистой силой, то есть лешим, лембоем или чертом. В карельской сказке, наоборот, старуха качает в колыбели ольховую чурку, которая вдруг становится прекрасным здоровым мальчиком. Согласно фольклорным текстам и древнему мировоззрению многих народов, первочеловек образовался в том числе и из фитоморфных природных элементов. Например, в карельских эпических песнях Вяйнямёйнен плавает в водной первостихии «чуркой еловой, бревном сосновым»[394]. В одном из свадебных заговоров патьвашка обращается и к нечистой силе и просит сделать из ольхи чурку, ребенка из щепок[395].
У карелов есть и такая поговорка: «Pino suuri, hallot pienet» – «Поленница большая, дрова мелкие»[396].
Когда жениха, перед тем как он поедет за невестой, парят в жениховой бане, произносят:
Pinossas on pienet hallot, pilko puikot puhtahaiset, lämmitä o kyynelkyly, saussuta simainje sauna… В поленнице мелкие дрова, Чистенькие наколотые щепки, Натопи-ка слезную баню, Растопи-ка медовую сауну…Понятие, аналогичное карельскому panna pinoh, т. е. положить в поленницу, встречается и у вепсов. И. Ю. Винокурова видит связь названия недуга с русским выражением «лежать, как бревно», то есть мужчина не способен двигаться, скован, как полено в поленнице [397].
Навести порчу на молодого мужа мог обиженный чем-нибудь патьвашка или какой-нибудь другой колдун по чьей-либо просьбе (например, соперника жениха). В д. Покровское Медвежьегорского района рассказывали, что с целью испортить первую брачную ночь, чтобы она оказалась неудачной, безрезультативной, недруги клали под порог дома банный веник, чтобы молодые прошли по нему[398].
Сведения о лечебной бане, которую топили в таких случаях, минимальны. Известно, что «знахарь до трех раз водил новобрачного в баню, парил веником, обливал заговоренной водой, давал ему пить эту, как теперь сказали бы, активированную воду, а главное – заговорами и всем своим поведением помогал пациенту избавиться от мнительности и страха»[399]. Но нельзя сводить весь процесс только к психотерапии. На наш взгляд, причины исцеления, согласно народному мировоззрению, следует искать гораздо глубже, в мифологических воззрениях карелов.
Ритуальную баню топили различными сучками и деталями небольших санок-волокуш ahkivon portilla, а также сосновыми дровами. Воду брали, произнося особый заговор. В баню шли молодые в сопровождении знахаря. Некие действия проводили только над мужчиной, жена просто стояла рядом. Один из способов исцеления был такой: в полу находили и отсчитывали трижды по девять сучков, скоблили их или отрезали ножом кусочки, заваривали их крутым кипятком и давали выпить этот настой. Во время обряда применяли особое веретено, сделанное из сосны, им «освобождали, лечили» – «piässettih» молодого мужа[400].
В Лоухском районе в д. Софпорог рассказывали, что, когда наведена порча (pinoh pantih – положили в поленницу) и мужская лемби упала, надо эту «лемпи из поленницы взять». Для этого патьвашка приносил воду из глухой ламбы, в которую не впадают и из которой не вытекают никакие ручьи и реки. Затем в бане проводил особый магический обряд исцеления от полового бессилия и поднятия мужской лемби pinosta otettih, то есть «снимал из поленницы», расколдовывал[401].
На севере Карелии в д. Муеярви, когда мужская сила «положена в поленницу», знахарь брал медвежий череп, лил сквозь него воду, произнося заговор:
Yheksän orihin suonet, karhun suonet kymmennet, peät’ on pystys pitämäs, selkäsuonta seisottamas. Девять жил жеребца, десятая жила медведя, пусть голова стоймя держится, спинная жила стоит.Затем «больной» эту воду выпивал и, как говорит рассказчик, «kun sitten vettä juodaan, kyllä luonto nousee» – «как только воду выпьет, сразу природа воспрянет»[402].
В мифологических рассказах говорится, что, если молодые сходились против воли родителей, колдуны незаметно подкладывали в подушки голову змеи, чтобы молодые постоянно ругались между собой. В Сямозерье «была старуха, которая насылала половое бессилие.
А если отнести ей муки или чего еще, то потом в бане парит, отпускает, лечит, что сама наворожила»[403].
Существует много фольклорных рассказов, свидетельствующих о том, что в неудачах первой брачной ночи часто был виноват не только молодой муж. Невеста из чувства стыдливости иногда даже не позволяла ему приблизиться к ней и так и спала одетая. В таких случаях молодых в баню водила крестная ristimoamo, раздевала их, они ложились на полки, и она парила их одним веником. Рассказчица, вспоминая молодость, говорит: «Oli vielä huigei! Hän tuli vielä kylyh da meidä hoivi vassalla, yhellä vassalla hoivi!» – «Было еще и стыдно! Она пришла еще и в баню да нас отхлестала веником, одним веником отхлестала!»[404].
В приложение данной работы включен яркий рассказ о том, как жениха во время свадьбы pinoh pantih положили в поленницу. Он записан автором исследования в 2015 году и свидетельствует о том, что данная магическая практика была распространена среди карелов-ливвиков и во второй половине XX века.
Баня и похоронно-поминальная обрядность
Баня в поминальной обрядности карелов имела большое значение. Как считает И. Вахрос, ритуал приготовления бани для умерших у русских – один из древнейших, он возник задолго до XI века[405].
Для душ родных предков в определенные дни устраивались трапезы и в избах, и в банях. Например, в Пермской губернии в середине XIX века накануне родительского дня на Фоминой неделе специально для умерших протапливали баню, в которой никто из живых в тот день не мылся[406]. В «Слове об идолах» ев. Григорий, разоблачая древние языческие обычаи, писал: «Мнят себя христианами, а погански дела творят и пеплом посреди мовницы сыплют. Оставляют мертвым молоко, масло, яйца и все необходимое бесам на печь льют. Для мытья им чехлы и убрусы у мовницы вешают»[407].
Культ предков был широко распространен у карелов и сохранялся вплоть до последних десятилетий XX века[408]. В это же время из активного бытования стала уходить похоронная причеть, являющаяся традиционным языком общения с жителями страны мертвых Маналы-Туонелы. Причитание сопровождало похоронный обряд, в нем постоянно обращались к «спасам-предкам» и «спасам-прародителям», утешали умершего тем, что у порога в иной мир его встретят «белые прародители с восковыми свечечками»[409]. Синкретизм христианских и дохристианских верований прослеживается как в фольклорных текстах, так и в молитвенных, когда карелы обращаются и к Богу и православным святым, и к своим прародителям, которых они называют syndyizet сюндюшки и spoassaizet спасушки[410]. Культ предков основывался на вере в единство семейно-родовой общности, куда входят и живые, и умершие сородичи. На протяжении всей жизни карел сохранял прочную связь с прародителями, что было ему необходимо для получения от них помощи и покровительства. Покойных родственников приглашали чаще наведываться домой, им устраивали почетные приемы с баней и ритуальным угощением и торжественные проводы со двора[411].
В карельском похоронном обряде роль бани была выражена не столь ярко, как в поминальном[412]. Но ее основные функции сохранялись. Во-первых, гроб с телом после выноса из дома несли к бане и ненадолго останавливались там, чтобы покойный мог проститься с ней[413]. В похоронных причитаниях говорилось, чтобы он простился с духами-хозяевами бани и с сюндюзет. Не случайно, вынося гроб, в избе также останавливались в сакральных местах обитания духов – у печи и на пороге. Иногда говорится, что гроб в таких локусах следует трижды немного приподнять и опустить.
Во-вторых, в похоронном обряде баня играла и очистительно-охранительную функцию. Пока основная процессия была на кладбище, те, кто оставались дома, топили баню. Иногда это делалось и рано утром, до ухода на кладбище. Возвратившись с похорон, хозяева сразу (реже после поминального стола) шли в баню, мылись и парились, чтобы освободиться от холода мира мертвых, очиститься от вредоносных сил калмы (kalma – могила, kalmannenä – могильный нос), которая могла пристать к человеку на кладбище. После бани пили чай (информатор из д. Юккогуба подчеркивает, что в старину больших поминок карелы не устраивали, провожающих угощали только на кладбище) и ложились спать[414].
Особая роль отводилась бане в поминальной обрядности. Во время поминок покойных родственников поздно вечером ждали в баню и на приготовленное в избе угощение, а провожали их следующим утром.
Первым наиболее важным отрезком со дня смерти был шестинедельный kuuzinedälihizet (в русской традиции сороковой день, сорочины). Считалось, что в эту ночь покойный последний раз в образе невидимой птицы или бабочки näkömättömä lintu tai liipukkaine в сопровождении трех ангелов kolme anhelia придет в свой дом, свою баню попрощаться со своими родственниками. Если баня будет в меру горячая, веник мягкий, а поминальный стол kallis murkina богато накрыт, покойный будет доволен и уйдет, смеясь, в иной мир Туонелы-Маналы. Если же его что-то во время прощания не устроит, а стол будет пуст, он уйдет, «плача кровавыми слезами» – «verisiä kyyneleitä itkien». Поэтому перед шестинедельными поминками мыли всю избу, готовили угощение, затем шли в баню. После нее одевались в лучшие одежды и начинали накрывать стол (на это время покойный приглашался в баню). На поминальный обед kallis murkina (в старину его проводили в полночь) северные карелы приглашали всех родственников и вдов, для покойного было отведено место во главе стола под образами[415]. Баню для умерших накануне сорокового дня устраивали и вепсы[416], и руссские на северо-западе[417].
У карелов было еще несколько поминальных дней, во время которых накрывали стол, а накануне топили баню: через год, в день смерти, а также в поминальные дни для всех умерших. Особенно выделялась Радуница Roadencu. Карелы называли ее Пасхой мертвых: «Tossargen on Ruadincat jälles Äijiäpäiviä, pokoiniekin Äijypäivy» – «Во вторник после Пасхи Радуница – это Пасха покойников»[418].
В Суйстамо накануне Егория осеннего Syysjurrinny топили баню для покойников, готовили им угощение. Сам хозяин с непокрытой головой вечером накануне Юрьева дня встречал в темном дворе умерших жителей дома, а на другое утро провожал их до края поля, время от времени выливая на землю вино[419]. Примечательно, что хозяин провожает покойных предков только до края поля. Вспаханная земля считалась безопасной, но это был рубеж, за которым начинались владения «иного мира», например, духов-хозяев леса.
Особо была ритуализирована поминальная обрядность во время празднования дня Кегри.
День Кегри Kegrin päivy, отмечавшийся 1–2 ноября или в первую субботу ноября (сведений о нем сохранилось очень мало), знаменовал собой окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это был праздник урожая и завершения пастбищного сезона. В некоторых районах этот временной отрезок называют jakoaika время раздела[420]. По сути, его можно трактовать как древний Новый год. Не случайно в старинных заговорах и ритуальных святочных песнях образ Кегри играет такую же роль, как, видимо, стадиально более поздний южнокарельский святочный персонаж Сюндю.
К этому времени заканчивался летний цикл и начинался зимний, была завершена полевая страда, наступал период женских работ: обработка льна и шерсти, прядение и вязание. Все немногочисленные данные, собранные об этом празднике, свидетельствуют, что его центральным персонажем было некое божество (или мифологическое существо) Кегри[421].
Сохранились сведения, что еще в конце XIX века карело-финское население Восточной Финляндии центральное место в этот праздник отводило обрядам, связанным с одним из самых архаичных культов – с культом мертвых.[422] В древности, по-видимому, именно он наряду с жертвоприношением составлял основу праздника, уступив позднее первенство ряженью, в котором в XX веке уже забывалась связь с тотемистическими представлениями, а приоритет отдавался развлекательной стороне.
Накануне дня Кегри для покойных предков, на время возвращающихся с того света, топили баню, приносили воду и веник, чтобы они попарились и помылись. А в избе в это время готовили праздничное угощение. Через некоторое время в баню шли хозяева, а первопредки и умершие родственники syndyzet, согласно древним верованиям, приходили в дом и начинали пировать. Затем хозяева, вернувшиеся из бани, стелили постель для ночлега покойных и сами садились на их место за стол[423]. Все это должно было обеспечить в будущем году хороший урожай, благополучие в доме, а особенно – успех в животноводстве[424]. Карелы также поминали почивших родителей и считали Кегри своим духом-покровителем. Праздник этот выпадал на первую субботу ноября перед Дмитриевым днем и считался поминальной субботой[425]. В XX веке карелы ходили на кладбище, чтобы навестить прародителей и заручиться их покровительством. Там оставляли им угощение. Чаще всего это были рыбники, позже яйца (считалось, одним яйцом как средоточием жизненной энергии можно накормить сорок покойников); запрещалось брать изделия из картофеля (карелы считали его творением нечистого и называли karun tyrä – кила черта или половой орган черта). Одним из старинных поминальных угощений было толокно. В Суйстамо говорили: «Кегри придет, надо бы толокняной муки достать» – «Kegri tulou, pidäis talkkunajauhuo suaha»[426]. Тверские карелы, по свидетельству летописи 1869 года, в субботу «в день Кегри» варят много толокна, постятся до полудня, а затем, «помолившись, садятся за стол и с этим толокном поминают усопших родных»[427]. Имеются сведения, что во время праздничного пира «покойники иногда присутствовали через представителей, т. е. ряженых и маскированных посетителей и нищих, или в виде человекообразного чучела»[428].
В Контиолахти в 1907 году рассказывали быличку о Кегри и хозяине, вернувшемся из бани: «Когда-то в старину жители Тимоваары поклонялись и Кегри. В день Кегри женщины перед уходом в баню собрали еду на стол, все самое хорошее, что было в доме, и пригласили Кегри покушать: «Поешь, пока мы в бане!» В это время чужой мужик-«каналья» пришел и съел все самое вкусное, а потом запустил свиней, чтобы те доели остатки, и закрыл дверь. Хозяин пришел из сауны, слушает за дверью и говорит: «Кегри еще ест, раз так рот чавкает!» – «Olivat ne Timovaaran asukkaat ennen vanhaan Keyriäki palvellet. Keyrinä olivat näet kylpemään lähtiessä kantaneet ruokaa pöytään, kaikenlaista hyvyyttä, mitä talosta olija sitten käskeneet Keyriä syömään, jotta “syykät nyt kylpyaikan!” Olipa kerran sitten muuan mieskanalja mennyt ja pistellyt suuhunsa paraan hyvän ja sitten laskenut siat loppuja korjamaan ja pannut oven kiini. Väki oli saunasta tullut ja kuunellut oven takana ja sanonut, jotta “Keuri on vielä nuivalla, koska niin suu matsaa!”»[429].
К середине XX века под влиянием христианства празднование дня Кегри было забыто полностью. Но поминальная обрядность[430] сохранилась как mustinsuovattu поминальная суббота: «Mustinsuovattu on jälgimäine suovattu Pokrovua vaste sygyzyl… Minä päivänä on Kekri, ni siitä ensimäini suovatta tuaksipäin on muissinsuovatta» – «Поминальная суббота – это последняя суббота перед Покровом, осенью. В какой день Кегри, а первая суббота назад и есть поминальная суббота»[431]. Было четко расписано, как проводить дни всей поминальной недели. В среду и пятницу нельзя было ничего стирать, мыть, иначе «на том свете дорогим покойникам придется пить эту грязную воду». Женщины вязали, пряли, шили, мужчины вязали сети. Во вторник и четверг ходили в баню[432].
Таким образом, и в похоронно-поминальной обрядности подчеркивается сакральность банного локуса для карела. Главной функцией бани была не столько очистительная, сколько функция поддержания культа предков и духов-хозяев бани.
Баня в обрядах гадания
Баня являлась и местом для проведения мантических ритуалов. Все они были строго регламентированы и состояли из трех этапов: подготовка к гаданиям, сам процесс гадания и толкование увиденного или услышанного. Следует отметить, что в старину это мероприятие ни в коей мере не было развлекательным. Старшее поколение требовало от молодежи подходить к этому ответственно. Одно из основных условий, которое требовалось строго соблюдать в день гадания, – все время бодрствования должно быть проведено в тишине, покое, без смеха, ругани и крика, чтобы и самой настроиться на серьезный лад и не рассердить духов, от которых ждали ответа на волнующие вопросы. Так как в этих обрядах участвовала чаще всего молодежь и в основном девушки, целью гаданий было узнать будущую судьбу и в первую очередь своего суженого. Маркеры могли быть визуальными, акустическими и предсказаниями по жребию. В мантических ритуалах использовались различные бытовые предметы, имеющие символическое значение в традиционной культуре. В обрядах, которые проводились на перекрестке дорог, у проруби, на невспаханном или засеянном зерновыми поле, общение или виртуальный вход в иномирное пространство духов-предсказателей чаще происходили через посредника, который произносил определенные заговорные формулы и имел при себе предметы-обереги, обладающие, согласно народным представлениям, магической силой. Они часто были металлическими и были связаны с покровительственной стихией огня и дома. Но примечательно, что в сакральном локусе бани ни посредник, ни магические обереги были не нужны.
Хотя, с другой стороны, банный локус считался одним из самых опасных для таких действий, так как вход в него в ночное время был запрещен для человека. В некоторых рассказах подчеркивается, что осмеливались прийти сюда только парни.
В обрядах гадания строго соблюдались и темпоральные границы. Только в определенные сакральные временные промежутки, в «пороговое» время суток и года (полночь или раннее утро, еще до рассвета; зимние и летние Святки), молодежь шла в баню узнать свою судьбу.
В бане судьбу гадающих предопределял баенник, хотя его роль, по мнению Н. А. Криничной, была опосредованной, завуалированной[433]. Это подтверждается тем, что, согласно материалам, собранным в XIX веке у повенецких карелов, прежде чем в бане смотреться в зеркало с целью увидеть суженого, необходимо разломать банную каменку[434], то есть потревожить духа-хозяина бани. Гаданий, связанных с банным локусом, особенно много было у тверских карелов.
О будущей жизни можно было узнать, просунув руку в банное окошко. Как известно, в доме «через окно осуществляется символическая связь с миром мертвых»[435]. Реже во время гаданий засовывали руку в банную каменку. Последнее считалось гораздо более опасным. Если в ответ хватали мохнатой лапой (рукой) – год будет удачным или жених богатым. Если голой или холодной – жди бедного жениха, болезней или даже смерти[436]. Когда в подобных гаданиях участвовали несколько девушек, такие поочередные действия в какой-то степени напоминали жребий.
Этому сюжету посвящено много антибыличек. Они возникали, когда вера в банных духов-хозяев уже утрачивалась и парни подшучивали над подругами и друзьями, разыгрывая и пугая их именно таким образом. В таких случаях они выступали в роли демонических существ, к которым апеллируют гадающие. Вот как об этом рассказывали тверские карелы: «Во время Святок обычно ворожили, ворожили и по баням ходили. Пойдут, в бане мусор подметут и на улицу берут и там ворожат, что слышится… Сестра Пелагея рассказывала, что девушки пошли в баню, а парни узнали, что пойдут в баню туда ворожить и из окошка руку высовывать, кому что даст, голую руку или что. А там удалые парни. Одной так с тулупом и дал: о-о-о, у меня будет богатый жених, шерстистая. И вторая руку высунула: и у меня будет богатый, мохнатая, с полой тулупа вот так руку щупает. Третья высунула, у третьей схватили, а она караул стала кричать, все испугались, побежали, а девушке еле руку отпустили. И девушка испугалась»[437].
Здесь можно провести параллель с былинками о похищении ребенка в бане и женитьбе парня на «банной девушке», которые восходят к ритуалам инициации. Некоторые исследователи считают, что подобные мифологические рассказы «не только описывают определенные способы узнавания судьбы», но и «задают определенные стереотипы поведения неженатой молодежи во время ворожбы и посиделочных игр»[438].
В Тверской Карелии описан обряд гадания, который начинался в бане и был связан с акустическими маркерами. Девушки «идут в баню, баню подметают, а мусор тот берут и ссыпают под стреху. Ногами встают на него, слушают, откуда слышится. В какую сторону замуж выйду, оттуда и начнут говорить или петь. В какую сторону я замуж вышла, с той стороны и парень пел, на мусоре стояла, так и насвистывал. Я так и сказала, что куда я замуж выйду, оттуда пусть и запоют»[439].
Иногда в бане южные карелы слушали предсказания Сюндю[440], а северные – Крещенской бабы[441]. В первом персонаже нашли отражение отголоски культа первопредков, а во втором – культа духов воды. В почитании хозяев бани, как считается, соединились оба эти культа. Для этого следовало встать или под дверью бани, или на то место рядом с баней, где палили свиную тушу.
Мифологические рассказы о подобных гаданиях были распространены у карелов-ливвиков[442]. Ефим Попов записал в Сямозерье в тридцатые годы XX века такую былинку: «На Святки Synnynmoanaigu ходят слушать Сюндю под дверью бани, где палили тушу свиньи. Только туда надо идти – надо иметь сердце, как камень. Там, когда слушают, то из бани разговаривают со слушающим и расскажут ему, что с ним в будущем случится. Только когда с ним разговариваешь, надо помнить первое (сказанное) слово и сказать его последним. Кто помнит то слово, с которого завел разговор, тот сможет уйти прочь, а если не сможешь сказать, то там и останешься (пропадешь)»[443].
Процесс такого гадания в бане мыслится как переход границы, разделяющей мир мертвых и живых. Сюндю приходит в мир человека, и, если тот не соблюдает все установленные табу и условия, он будет уведен в мир Маналы (Туонелы). Главное условие благополучного возвращения домой: защитный вербальный круг должен быть замкнут. Обращение за предсказанием к Сюндю здесь мыслится как обращение к первопредкам. В одном из карельских заговоров поднятия лемби, записанном в п. Тунгозеро, говорится, что одно из самых сакральных мест в бане, полки, сделаны pyhä synty святым предком:
Puhastelen pulmuistani, Pesettelen peipostani Näillä luovuila lauvoila, Pyhän synnyn siätämilla[444] Я начищаю пуночку, Намываю зябличка На этих гладких полках, Созданных святым предком,Сами полки являются локусом пребывания как банных духов, так и первопредков, выступающих в быличке в роли предсказателя, а в заговоре – в роли целителя.
В качестве акустического предсказателя во время зимних Святок часто выступала собачка мифологического персонажа Сюндю synnyn koiraine[445]. Ее чаще всего слушали на перекрестках дорог, иногда на сметенном мусоре. Причем мусор собирали, подметая пол в избе поперек половиц или от двери к красному углу, что в обычные дни делать запрещалось. В начале обряда следовало обратиться к собачке:
Tulin omuani ozua opittelomah Haukuz, haukkuz, koirazeni, Hyvässä talossa Paksun paccahan juuressa. Haukkuz, haukkuz, koirazeni, Sano miulani pravda, Kunne pain mie miehellä mänen[446]. Пришла свою судьбу узнать. Полай, полай, собачка, Из хорошего дома От основания толстого столба. Полай, полай, собачка, Скажи мне правду, В какую сторону я замуж выйду.Иногда, например, в Сегозерье, подчеркивалось, что данную заговорную формулу следовало произнести трижды[447]. Приход жениха в предстоящем году предвещал или лай собачки, или песня, или звон свадебных бубенцов.
В Тверской Карелии описан следующий акустический обряд гадания, который начинался в бане: «Идут в баню, баню подметают, а мусор тот берут и ссыпают под стреху. Ногами встают на него, слушают, откуда слышится. В какую сторону замуж выйду, оттуда и начнут говорить или петь. В какую сторону я замуж вышла, с той стороны и парень пел, на мусоре стояла, так и насвистывал. Я так и сказала, что куда я замуж выйду, оттуда пусть и запоют»[448].
Сегозерские карелы рассказывали, что в пятницу накануне Рождества надо было прийти в баню, раздеться догола, сесть на лосиную шкуру, повернутую шерстью кверху, и слушать предсказания Сюндю. Считалось, откуда будет лаять собачка Сюндю Synnyn koiraine, оттуда и приедут женихи[449].
В Северной Карелии святочный период был связан с появлением Крещенской бабы. Ее представляли в образе неприятной на вид взлохмаченной женщины, которая накануне Рождества поднимается из проруби и выходит на землю. В «риге она молотит зерновые, в хлеву гладит коров, в кладовых крышкой ларя гремит, в бане неслышно передвигается и тихонько парится, а в избе под столом хоронится». Крещенскую бабу северные карелы считали главной предсказательницей будущего. Чаще всего ходили гадать к проруби, где она и живет, или на перекресток. Но, сидя под столом, спрятавшись за концами скатерти, можно было услышать, что будет с домочадцами. Стук в риге или кладовой предвещал голодный год, в хлеву – падеж скота. Если, подойдя к банной двери, слышали оханье и стоны в бане, это было плохим предзнаменованием, например, грядущей болезни[450].
Были распространены и гадания с зеркалами. Особенно много таких рассказов записано в Тверской Карелии: «Svätka-aigah kävymä z’ir’aloh kaccomah. Män’imä kylyh, slozima z’irkalot, nägyw kaksitoista z’irkaluo sielä. Kaksi z’irkaluo vassakkeh, i lampua nägyw ves’ma äijä. I rubein mie kaccomah z’ikaloloih. Tulou briha. Valgie, ves’ma briha soma. Pinzakko olgupäillä. I z’irkaloh tulou edähädä, nagol’e i peityTdäy z’irkalon tagah, tuas tulou, tuas peityTdäu, što tuttava on, n’iin ei ozuttuace. A ol’i hiän milma vanhembi. Mie yl’en en hänenkena i paissun, en mie voinun i tunnustua hända. A konza tukiin miehellä, n’in siioin mie jo i keksiin, što hiän ol’i z’irkaloloissa» – «Во время Святок мы ходили в зеркало смотреть. Шли в баню, устанавливали зеркала, виделось двенадцать зеркал там. Два зеркала напротив друг друга, и ламп виделось очень много. И стала я смотреть в зеркала. Идет парень. Светлый, очень парень красивый. Пиджак на плече. И в зеркала идет вдали, все прячется за зеркало, опять идет, опять прячется, что знакомый, так не показывается. А был он меня старше. Я очень с ним и не говорила, не могла я узнать его. А когда оказалась замужем, так тогда я уже и догадалась, что он был в зеркалах» [451].
Участвовали в гаданиях с зеркалами чаще всего девушки, но иногда ходили узнавать свое будущее и парни. Причем, как видно из рассказа, будущие события во время гаданий не всем виделись и слышались одинаково отчетливо и ярко, только некоторым участникам это удавалось особенно хорошо и правдиво: «Вот кому слышится, кому не слышится. Вот кому что»[452]. «Парень ходил гадать, на службу ему надо было идти…
В зеркало ходили смотреть, так сидит в очень хорошем картузе писарь за столом, ему это и привиделось. Пришел домой и говорит: ну такой если картуз будет на службе, так будет очень красивый картуз. И писарем был на службе. Ему очень хорошо слышалось всегда. Слышалось и виделось»[453].
Во время некоторых обрядов гадания прямо говорится, что в баню может прийти черт. В Сортавале рассказывали, что «в ночь накануне Нового года идут одни в баню. С собой берут свечу, зеркала, Библию и Псалтырь. Свечу ставят на окно, рядом зеркало и книги по обе стороны. В полночь с шумом приходит черт piru. В зеркале видно его изображение. Зеркало надо повернуть другой стороной, прежде чем черт сможет его схватить. У черта можно все спрашивать. Нельзя бояться и оглядываться назад»[454].
Достаточно широко практиковали гадания на мусоре, в том числе и банном. В мифологических рассказах о Сюндю говорится, что так, стоя на мусоре, слушают именно его предсказания. Тверские карелы использовали банный мусор, а ливвики, людики и северные карелы чаще всего стояли на мусоре, принесенном в переднике из избы.
Тверские карелы рассказывали: «Во время Святок гадают, гадают. Идут в баню, баню подметают, а мусор тот берут, приносят, под стреху кладут. Ногами становятся на него и слушают, в какой стороне говорит. В какой стороне замужем буду, в той стороне и будут разговаривать и петь… В какой стороне я замужем, с той стороны парень пел, на мусоре стояла я так, и насвистывал. Я так и сказала, что в какой стороне я буду, там и пойте»[455].
В некоторых мантических ритуалах в качестве магических атрибутов выступают банный веник и сметенный мусор. В деревнях карелов-людиков девушка вставала рано утром, мочила в озере веник, которым она пользовалась в обычной бане, подметала всю избу, мусор собирала в передник, шла на перекресток и высыпала его там. Через некоторое время смотрели, кто первым наступит на этот мусор. Если видели мужской след – к скорому замужеству, если след был лошадиный – ее увезут из дома, увидеть след собаки было менее желательно, он означал, что девушку будут ругать[456].
В Приладожской Карелии в обряде гадания использовали камень из банной каменки. «Sv’atkoin välil azetettih riehtilan piäle kylys otettu kivi, riehtilah valettih vetty da pelvaspivo pandih kiven piäle palamah. Sen jälles pandih raudupada kumalleh niilöin piäle. Ku vezi piästi porahtajan iänen, tuli riidelii anoppi; ku ei puan ualpäi kuulunuh nimidä iändy, tuli hyvä anoppi»[457] – «В Святки на сковороду клали взятый из бани камень, в сковороду наливали воду, а сверху на камне поджигали пучок льняного волокна. Потом поверх всего этого устанавливали перевернутый вверх дном чугунок. Если вода издавала звук, как при бурлении, то свекровь будет сварливая; если из-под чугунка ничего не было слышно, свекровь будет хорошая».
Многие мантические обряды были связаны с водой и проводились в бане или с использованием банных предметов, в первую очередь веника. Веник в карельских былинках является эманацией духа-хозяина бани, а в карельских загадках прослеживается его связь с водной стихией. Про использованный для паренья, а затем ополоснутый в озере и принесенный в избу для подметания пола веник загадывали следующую загадку: «Vetehisen akka pirtissä, vaatteet kaikki paikkoissa» – «Жена водяного в избе, одежда вся в заплатах[458] [одежда во всех местах – Л.И.]». В этой связи становится понятным использование веника в ритуалах гадания: веник связан с потусторонним миром и поэтому может передавать некие знаки-предсказания. Например, во время летних Святок, «попарившись в бане, бросали веник в озеро: если пойдет на дно, тогда умереть в этом году, а если не утонет, тогда выйти замуж или другое что хорошее будет»[459]. После ритуала поднятия лемби девушки забрасывали лемби-веник на крышу бани и смотрели, в какую сторону будет показывать его комель. Оттуда в наступающем году и женихов ждали[460]. В Куркиёки так же гадали девушки в ночь на Рождество[461].
Часто в обрядах гадания использовали и цветочный веник, причем цветы для него можно было собирать только после Иванова дня. До этого траве надо было дать «вырасти в покое, тогда она наберет полную силу в Иванову ночь»[462], то есть приобретет магические свойства. Именно поэтому веники для поднятия лемби, составленные из березовых веток, стеблей ржи, тимофеевки, иван-чая и других цветов, делали именно в сакральный промежуток летних Святок. И. Ф. Лесков следующим образом описывал обряд, проводимый в южной Карелии: «Накануне Иванова дня девушки собирают цветы и делают из них веники (это делают и некоторые парни), парятся в бане и бросают в воду: у которой утонет, той не быть скоро замужем или она скоро умрет в этот год, а у которой уплывет далеко и не затонет – ту скоро возьмут замуж или она не умрет в этот год»[463].
Таким образом, баня, являясь, с одной стороны, самым тихим, укромным местом, с другой – локусом сакральным, иномирным, полностью подходила для проведения различных ритуалов гадания, во время которых молодые люди (чаще всего) узнавали свое будущее. Порой в мантических ритуалах использовались лишь атрибуты, связанные с банным пространством (веник, мусор). Следует подчеркнуть, что любые обряды гаданий критиковались и запрещались священнослужителями, так как были связаны с древними языческими представлениями народа. Осуждались и гадающие, так как «гадания следовало проводить без нательного креста и пояса, с распущенными волосами, притом во время святочных гаданий девицы не молились»[464].
Баня в любовно-магической ритуальности
Баня поднятия лемби
Понятие лемби (севернокарельский вариант – лемпи) и связанный с этим понятием мифоритуальный комплекс обрядов – это самобытное явление карельской традиционной культуры. Карельский термин lembi (lempi) частично соотносится с русским – славутность, но понятие это более объемное, включающее в себя комплекс представлений. Обряды, связанные с понятием лемби, а чаще всего это поднятие лемби (lemmennosto), были наполнены глубоким мифологическим подтекстом и являлись одними из важнейших ритуалов жизненного цикла человека. В соответствии с народными представлениями карелов, лемби – это не только сексуальная привлекательность, не только особая магическая сила, способность очаровывать как можно большее количество представителей противоположного пола. Это и внешняя, и внутренняя красота молодых (в первую очередь) людей, синтез нравственных и физических достоинств, некая изюминка, говоря современным языком, позитивный имидж человека. Это очень ёмкое понятие, включающее в себя и честь, и обаяние, и домовитость, и счастье, и добрую славу, и удачу, и внешнюю привлекательность – то, что в наши дни подразумевают под словами «харизма» и «сексапильность»[465].
На основании имеющихся фольклорно-этнографических источников можно утверждать, что, вопреки устоявшемуся мнению о связи лемби только с биосоциальным статусом девушек, изначально lembi имело непосредственное отношение и к юношам. Лишь с конца XIX в. гендерная сфера применения обрядов поднятия лемби сузилась. Они стали проводиться только для девушек и с того момента, когда они начинали активно посещать беседы и праздники, и только до замужества.
Девушка, имеющая высокую лемби, балансирует на грани. С одной стороны, она целомудренна, с другой – имеет необычную сексуальную притягательность и особую власть над представителями противоположного пола, умеет управлять ими.
Свадьба – это пик обладания лемби как невестой, так и женихом. Именно в этот лиминальный период невеста делится своей лемби с подругами (они моются одной водой с невестой, парятся одним веником, пытаются первой отрезать кусочек щепки от лавки, на которой сидит невеста и т. п.).
Считалось, что после свадьбы слишком большая лемби и не нужна. Сохранились примеры описания обрядов, когда замужним женщинам, которые были неверны своим мужьям, даже «роняли» лемби (sorrettih lembi). По народным представлениям, именно слишком пылкая и высокая лемби была причиной супружеских измен. В то же время без необходимой меры лемби невозможен счастливый брак и продолжение рода. Например, с молодыми мужьями (у которых вследствие порчи или сглаза лемби упала, и поэтому на протяжении нескольких первых ночей они оказывались бессильны на брачном ложе) проводили обряды по поднятию их лемби.
Обряды по поднятию лемби у молодежи (в первую очередь у девушек) были широко распространены среди карелов до первой трети XX века. Самыми действенными и распространенными были ритуалы, проводимые в бане. Они имеют под собой очень древнюю основу, восходящую к культам солнца, огня и растительности. Они объединялись под особым названием lemmennostokyly – баня поднятия лемби. Баню с целью поднятия лемби топили специально и чаще всего для определенной, единственной девушки. Делалось это в пиковый период расцвета природы, во время летних Святок, чаще накануне Иванова дня. В некоторых случаях рекомендовалось проделать ритуал трижды в течение святочной недели. Соотнесенность летних празднеств с огнем и водой объясняет проведение магических любовных ритуалов в бане, где водная и огненная стихии взаимодействуют друг с другом.
Этот сакральный летний период от Иванова до Петрова дня назывался летними Святками или Viändöi, Viändöin aigu. Солнце и растительность в это время находились в зените своего развития. Именно поэтому магические ритуалы поднятия лемби проводились в это сакральное время: молодым людям и в первую очередь девушкам поднимали привлекательность в глазах противоположного пола для того, чтобы они удачно вступили в брак, что и будет залогом дальнейшего продолжения рода.
Если во время зимнего святочного периода (Synnyn aigu на юге Карелии и Vierissän keski на севере) на землю приходил особый праздничный дух Сюндю Syndy или Крещенская баба Virissän akka, то во время летних Святок появлялся особый дух-властитель этого сакрального временного промежутка – Viändöi. Практически никаких сведений о нем не сохранилось. Но в заговорах поднятия лемби иногда обращаются именно к нему. Причем это делается одновременно с обращением к православным святым, которые постепенно все-таки приходили на смену Viändöi, например, к Святому Ивану Pyhä Iivan. Так же, как на смену архаичным зимним персонажам карелов Сюндю и Крещенской бабе пришел Дед Мороз, прототипом которого считается католический Святой Николай. Хотя большинство карельских заговорных текстов демонстрируют именно синкретизм языческих и христианских верований в народном мировосприятии.
В связи с этим приведем один из обрядов поднятия лемби, в котором обращаются к духу-хозяину летних Святок pyhä viändöi syöttäi святому вияндёй-кормильцу. В ночь на Иванов день молодежь шла на перекресток трех дорог и разжигала там костер. В качестве дров использовались разные ненужные предметы, в том числе и банные веники, особенно те, которыми перед этим поднимали лемби в бане. Молодые люди разводили огонь и прыгали через этот костер. При этом произносили особые заговорные формулы. Например, сямозерские карелы говорили:
Kuin täs tuli levieu, muga minun lembi levikkäh! Как здесь огонь разгорается, Так и моя лемби пусть распространяется!Или:
Pyhä Iivan, pyhä viändöi syöttäi, kuin tämä savu yläh nouzou, muga miun lembi yläh nouskah![466] Святой Иван, святой вияндёй-кормилец, Как этот дым вверх поднимается, Так и моя лемби пусть вверх поднимается!Заговор демонстрирует единую систему представлений – это и культ огня и растительности, и поклонение православным святым.
Иногда «исполнение банного обряда поднятия лемби… приурочивалось к местному храмовому празднику, во время которого происходили игрища молодежи»[467].
Приготовление бани для поднятия лемби lemmennostokyly в некоторых случаях имело профилактическую цель. Тогда ее устраивали просто для подкрепления девичьей славутности, для увеличения количества поклонников и партнеров по танцам. В такой ситуации в бане могло присутствовать одновременно и несколько девушек.
Но обряд lemmennostokyly проводили и как самое сильное средство для тех, кому грозила горькая участь остаться в старых девах. В такую баню обязательно нужно было идти втайне от всех[468].
Ходила девушка в эту баню практически всегда со знахаркой или со знахарем. Сейчас очень сложно определить гендерную прнадлежность карельского колдуна-знахаря. По-карельски его название tiedoiniekku звучит одинаково как по отношению к женскому, так и мужскому полу. Однозначно можно сказать, что знахарями, носителями сакральных знаний, как и сказочниками и рунопевцами, изначально были мужчины. Женщины в этом смысле на первый план стали выходить только в XX веке. Есть единичные записи из Южной Карелии, в которых говорится, что девушка шла в ритуальную баню одна и парила себя сама[469].
Ритуал подкреплялся заклинаниями, именно поэтому нужен был человек, чье слово имело магическую силу. Сакральному слову здесь, как и в любом обряде в древности, придавалось огромное значение. В карельских рунах герой (чаще всего это Вяйнямёйнен) при помощи слова из яйца творит землю, небесные светила и формирует земной рельеф. Слово и «напевание» участвуют и в изготовлении первопредметов (лодки, кантеле). Слово в заговорах равнозначно по своей силе Творцу, это некая эманация Бога (ер. библейское: «В начале было Слово и Слово Было у Бога, и Слово было Бог»), Слово было своеобразным кодом, открывающим вход в мифологическое пространство и включающим механизмы его действия. Ритуальная заговорная формула подкреплялась верой человека. Согласно мнению В. Н. Топорова, древнее ритуальное «слово одновременно было мыслестроительно и действенно»[470]. Заклинания сопровождали весь обряд поднятия лемби. Их произносили, когда носили воду и дрова, ломали веники, парили и мыли в бане – вплоть до самых последних ритуальных действий.
Все, что использовалось в бане для поднятия лемби: и дрова, и вода, и веник – обладало магической силой. Во-первых, очищало от любого «зла», порчи, сглаза, а во-вторых, наделяло девушку продуцирующей силой, усиливая ее притягательность (в том числе и сексуальную).
Пол в бане устилали цветами и ржаными колосьями, принесенными с полей тех семей, где были неженатые парни[471].
Дрова, принесенные для проведения ритуала поднятия лемби в бане, назывались lembihallot – лемби-дрова, или любовные дрова. Для их приготовления использовали совершенно особую древесину: разбитые молнией деревья (культ огня и верховного божества Укко), колосники риги (самые верхние перекладины, на которых сушат снопы). Иногда для растопки откалывали или строгали щепочки от самого дальнего (верхнего) бревна риги, произнося при этом: «Как это последнее бревно ждали (чтобы закончить строительство. – Л. И.), пусть так и меня, Анну, ждут (например, на бесёду. – Л. И.)»[472]. Одной из самых сильных считалась баня, растопленная тремя брусами-лавами от трех борон и сошниками от лесной сохи, служащими для обработки подсеки[473]. Такие предметы, с помощью которых повышали плодородие матушки-земли, способствовали, по народным представлениям, передаче этого качества (чадородия) и девушке[474].
В одном из рассказов говорится, что дрова для ритуальной бани надо взять в ночь перед Ивановым днем с «трех девяти трехствольных сосен» (это девять сосен, у которых из одного корня растет по три ствола), причем только со среднего ствола. Потом взять ветки с девяти берез и сделать из них веник. Из трех родников и трех порогов взять воды и в бане вымыться ею. Остатки воды отнести обратно в пороги и родники, откуда вода была взята[475].
Иногда баню топили специально собранными трижды-девятью сосновыми шишками[476].
Воду (она называлась lembivezi – лемби-вода) для lemmennostokyly тоже готовили особую. Нужно было собрать дождевую воду во время грозы или принести из бурной, порожистой речки. Пригодной считалась также вода из родника, который иногда называли lemmenlähte родник любви, или особого ключа silmylähte. Когда брали воду, обязательно произносили заговор. Заговорные тексты могли быть разными, например: «Не беру есть, Не беру пить, Беру для лемби. В потоке Святого Егория, Для крещеной Анны»[477]. Обливаться рекомендовалось водой, пропущенной через oravanpesä (букв.: – беличье гнездо; по всей видимости, это какое-то растение). Иногда это делали не только в бане, но и под водостоком дома во время восхода солнца[478]. Особые свойства приобретала и вода, взятая «из трех порогов и трех родников». При этом всю воду, оставшуюся после мытья, следовало также «отнести обратно в пороги и родники, откуда вода была взята»[479].
Родник, ключевая вода и обязательное обращение за помощью к духам воды во время обряда поднятия лемби очень часто фигурируют у приладожских карел. Набирая воду, они произносили: «Беру бутыль чистой воды, кувшин воды цвета золота, которой зябличка вымою, крылатую птичку очищу»[480]. Судя по некоторым заговорам, древнекарельское божество любви Лемпи [481] было, вероятно, связано с водой:
Nouse, neitonen, norosta, Hienohelma hettehestä, Riisu pois riihirievut, Keskivaattehet karista, Pane päälle lempipaita Lempiä lekuttamah! Nouse, lempi, liehumah, Kunnia, kupajamah, Kääte kuu, palate päivä, Niinkuin miehen nuoren mieli![482] Вставай, дева, из низины, Тонкоподолая из родника, Сними рабочее тряпье из риги, Стряхни лесные одежды, Надень лемби-рубашку, Чтобы лемби шевелить! Поднимайся, лемби, развеваться, Слава, кровь пускать, Поверни(?) месяц, разожги солнце, Как и думу молодого мужчины!Особое внимание уделяли приготовлению веника, который называли lembivastu (лемби-веник, или любовный веник). Чаще всего его ломали накануне Иванова дня, потому что веник для lemmennostokyly обязательно должен быть свежим. Делать его могли и сама девушка, и мать, и знахарка. Подчеркивалось, что ветки для веника необходимо рвать с особых пород деревьев, чаще всего с наиболее сакральных – березы, ольхи и рябины[483]. В состав лемби-веника иногда входили не только ветки деревьев, но и разнообразные полевые цветы, травы и колосья зерновых.
Особое внимание уделялось локусам, на которых росли деревья, и количеству веток в венике: их должно было быть двадцать семь (то есть девять, умноженное на три; магическая сила цифры девять, согласно народным представлениям, увеличивалась в три раза). Ломали ветки на березе, стоящей рядом с муравейником или прямо в муравейнике[484], или по дороге к муравейнику, когда шли прятать в нем мыло, чтобы оно превратилось в магический предмет lembimuilu, поднимающий лемби[485].
Ветки и цветы собирали также на девяти пригорках, холмах, произнося при этом: «Этот цветок красив, я еще краше. Как это дерево ветер качает, Пусть меня так лемпи укачивает»[486]. У приладожских карел были такие слова: «Я делаю магический веник, Распушаю лемби-веник, Деревья красные, земли синие, Листья цвета лемби!»[487].
Советовали рвать ветки и с деревьев, растущих вдоль дороги с правой стороны, которые касались лиц людей, проходящих мимо[488]. Правая сторона (в отличие от левой и северной) считалась у карелов местом пребывания добрых духов-покровителей, а все остальные детали подчеркивали стремление девушки быть в центре внимания, «на пути» всех парней, не оставаться незамеченной. Олонецкие карелы рекомендовали наломать ветки с девяти различных пород деревьев, растущих вдоль по течению реки.
Иногда искали две березы, растущие с одного корня: с них надо было сорвать девять веток и добавить колосья ржи[489]. Считалось, что девушка, которую парили таким веником, никогда не будет одинока, у нее всегда будет пара, будут женихи.
Рекомендовалось также идти на перекресток трех дорог. На этом сакральном локусе, обеспечивавшем знающему человеку в определенные временные промежутки проникновение в иной мир или общение с духами, традиционно проводилось множество самых разнообразных обрядов. Иногда надо было сходить на три перекрестка и на каждом наломать по девять вершинок берез. К ним следовало добавить девять ржаных колосьев и столько же веток цветущего иван-чая – и магический веник был готов[490].
Материалом для изготовления веника могли служить и сросшиеся в пучок мелкие веточки березы, которые по-карельски назывались tuulenkopra горсть ветра или tuulenpesä гнездо ветра[491]. По народным представлениям, использование такого веника вело к тому, что слава о девушке «с ветром» будет распространяться по всей округе, по всему миру. Сам ветер карелы одухотворяли, считая, что он обладает магической силой, считая, что он способен переносить и насылать на человека и доброе, и злое, вплоть до смертельных болезней и сумасшествия.
Поднимали лемби и с помощью веника, которым сразу после родов парилась женщина, особенно если она родила первым мальчика. Девушке следовало пойти вместе с ней в баню, там роженица хлестала своим веником девушку, которая во время ритуала обязана была стоять[492]. Иногда парить себя таким веником могла и сама девушка.
Запрещалось париться веником, сделанным из веток, на которых куковала кукушка (у таких листьев одна сторона коричневатая)[493].
Во многих текстах рекомендуется перевязывать веник красной нитью. Красный цвет в заговорах – это олицетворение жизненных сил, огня, а в данном случае и любовной страсти.
Зайдя в баню, веник продевали через (под) дверную ручку[494]. Девушку парили такими вениками и обязательно произносили заговор. Иногда он был достаточно невинный: «Поднимайся, лемби, развевайся, Чтобы о славе слышали За девять морей, За половину десятого». Затем крестились, повернувшись на северо-восток: «Как северо-восточная сторона известна, Так и обо мне, Анне, еще больше слышали бы. Дева Похъёлы красива, Я еще краше. Церковный род пусть весь хвалит, Весь народ пусть смотрит. Свой народ пусть радуется За крещеную Анну»[495].
Но и здесь были заклинания с ярко выраженным эротическим характером: «Встань, игральная кость, стой, кузнец, Поднимайся, kokko жеребца, На груди этой девицы, На зад этого зяблика. Сколько листьев, столько лемби, Сколько сережек, столько х…»[496]. Или:
Mi lehtie, se lembie, Mi varbua, se kozie, Mi varbua, se kyrbiä. Nato kyllä kyndämää, Kaikkie aizoi katkomaa[497]. Сколько листьев, столько лемби, Сколько веток, столько женихов. Сколько веток, столько пенисов Наталью пахать, Все оглобли ломать.Еще один вариант: «Сколько есть неженатых мужчин – все девушку брать! Сколько есть женатых героев – девушку хвалить!»[498].
Аналогичные заговорные формулы были записаны нами несколько лет назад в д. Зашеек Лоухского района.
Лемби-веник был предметом магическим, поэтому его нельзя было просто выбрасывать. Поскольку он обладал всей полнотой лемби, его следовало или уничтожить, или убрать в недоступное для всех место. Таким веником запрещалось подметать пол. Утилизация лемби-веника являлась частью обряда. Чаще всего его уничтожали (или убирали в укромное место) сразу после проведения lemmennostokyly. Иногда это делалось в Петров день[499]. Существовало несколько вариантов утилизации. В одних случаях использованный веник убирали за верхнюю дверную притолоку в бане или забрасывали на крышу бани. В других его можно было сжечь на перекрестке. Пока костер горит, произносили: «Как огонь поднимается, так пусть и лемби поднимается. Как дым распространяется по воздуху, пусть так и лемби распространяется по миру. Пусть ее [имярек] ищут»[500]. В некоторых текстах говорится, что нужно было не только сжечь веник, но и золу, оставшуюся от сожженного веника, развеять вдоль дороги: «Как этот огонь горел, так и моя лемби пусть сверкает. Как этот веник рассыпался, так пусть моя лемби распространяется»[501]. В некоторых рассказах подчеркивается, что сжечь его надо «на костре из ольховых дров на росстанях трех дорог утром в Иванов день, возвращаясь домой с ивановского костра»[502]. Иногда веник
бросали в озеро или реку[503], жертвуя его духам-хозяевам воды. Чаще всего веник рекомендовалось отнести в муравейник. Иногда уточнялось, что он должен находиться за (!) изгородью на стороне леса или у обочины дороги по правую руку, то есть в «иномирном», но благосклонном к человеку (справа!) пространстве. Веник развязывали и втыкали в муравейник верхушками кверху[504]. При этом произносили: «Как муравьи в муравейнике кишат, так и парни пусть вокруг Анны вьются»[505].
Иногда рекомендовалось после проведения банного ритуала унести веник обратно в лес и «вместе с кусочком мыла, коровьего масла, с полотенцем, с старинной серебряной монетой, солью, пясточкою ржаной муки и иногда с лентой с косы» спрятать его в ржаном поле так, чтобы его не нашли подруги, которые вместе с находкой могут перенять и лемби. Все это заворачивалось в холщовую материю, укладывалось в берестяную коробку и лежало в поле в течение летних Святок. В последний вечер девушка так же незаметно забирала это сокровище, наполнившееся сакральной силой, и прятала в каком-нибудь укромном месте в избе, чаще всего в сундуке. Собираясь на праздничное гуляние или на посиделки, девушка умывалась с этим мылом, утиралась полотенцем, намазывала волосы маслом и вплетала в косу ленту – и могла «быть уверенной, что не останется “некко”, т. е. незамеченной парнями»[506].
Часто рекомендовалось забросить веник на крышу бани[507]. Подчеркивалось, что никто не должен наступить ни на сам веник, ни на то место, где он спрятан, иначе им воспользуются недоброжелатели и уронят лемби[508].
Иногда лемби-веник становился ритуальным предметом во время обряда гадания. Веник забрасывали на крышу бани и смотрели, в какую сторону указывает его комель. Оттуда и ждали жениха[509]. Во время зимних Святок в девичьих гаданиях использовался и веник, которым парились в самой обычной бане. Следовало встать рано утром, намочить веник в озере, подмести весь дом, мусор собрать в передник и отнести его на перекресток. Далее смотрели, кто первый наступит на это место. Если парень – к скорому замужеству, если собака – девушку будут ругать, если лошадь – она уедет из дома[510].
Часто подчеркивается, что этот лемби-веник следует убрать так, чтобы он никому не попал в руки. Если, к примеру, недоброжелатель положит его под камень или сожжет, лемби парившейся девушки непоправимо упадет[511]. С такой же целью любовный веник относили в подстилку свиньям и топтали его сверху. Считалось, что этот сглаз rike будет держаться до тех пор, пока не очистят девушку puhdistetaan и не поднимут ее лемби[512].
Всегда подчеркивается, что во время проведения любовного ритуала в бане все волоковые окошки или труба обязательно должны быть открыты, чтобы был «открыт» и путь для распростанения девичей лемби и заговорных слов, произносимых знахарем.
В бане девушку не только хлестали веником, но и проводили иные ритуальные действия, особенно если ей грозило остаться в старых девах. Чтобы очистить девушку от воздействия злых духов, от вероятной порчи или сглаза, ее продевали сквозь рябиновый обруч[513]. Здесь сакральны и сама рябина, и круг-обруч, сделанный из нее[514]. Продевание сквозь рябиновый обруч с целью очищения производили не только в бане, но, например, рядом с родником[515].
В Сямозерье в особых случаях («Pidävhäi tytöl lembi loadie järilleh libo voimatus on» – «Надо ведь девушке снова лемби сделать или болезнь есть») знахарка брала воду из бурной, порожистой реки со словами, что «берет ее из иорданской реки, из святого потока [для Маши] крещеной; беру не пить, беру не есть, а беру для лемби крещеной» – «Otan vetty joven Jordanas, Pyhänniemen pyördies [Masai] risfikanzal; en ota syvvä, en ota juvva, otan risfikanzal lemmekse». Затем сжигала в бане части трех старых борон и сох, которыми обрабатывали пожогу в лесу. После этого она открывала в бане и трубу, и волоковое окно, и дверь. С одной стороны, с помощью этих символических действий как бы открывался вход для всех покровителей, духов-хозяев (и воды, и дома), а с другой – выход для распространения по миру девичьей лемби. Девушка мылась и парилась. Знахарка складывала крест-накрест три головешки (оберег и обращение к культу огня), ставила девушку и обливала принесенной из реки водой. При этом читали заговор:
Kippu kiirehil tylikybenil, К’ei voidas ristikanzal Bessuuzennoit, bessääzennöit Maata ni istuo, Syvvä ni juvva, Aioin piettäs [Masoa] ristikanzoa Duumil hyvil, ajatuksil parembil; Kai mengäh nämät duumat, ajatukset Pogostois pogostois, Linnois da linnois, Herrois da herroih, Pappilois da pappiloih, Saarilois da saariloih, Brihas da brihan korvah; Kui tämä astivu moan murendav, Nenga ristikanzas täs Rikkiet da rikotekset murendakkah; Kui adru kivet, kannat kaivav, Moan liikuttav, Nenga ristikanzas Rikkiet, rikotekset Kai kaivakkah eäreh; Mendähäs pohjaizil puolil, Tulemattomil dorogoil, Tiedämättömäl tiel[516]. Как спешат быстрые огненные искры, Так и крещеные Бессуженые, безряженые Не могли бы ни спать, ни сидеть, Ни есть, ни пить, Всегда бы о (Маше) крещеной Думали хорошо, вспоминали добром; Пусть все эти думы, молва эта Идет от погоста к погосту, От города к городу, От господ к господам, От попов к попам, От острова к острову, От парней к парням (из уха в ухо); Как эта борона землю разбивает, Так бы и среди крещеных этих Разбивались порчи и сглазы; Как соха пни и камни корчует, Землю рыхлит, Так и от крещеных Все порчи и сглазы Выкапывало бы прочь; Пусть уходят на северную сторону, На безвозвратные пути, Незнаемые дороги.В некоторых архивных записях говорится, что баню обязательно надо истопить «дымную, горькую» kargei. В ней произносили: «Поднимайся, лемби, развевайся, О славе пусть услышат После того, как в этой бане помылась, Дымом бани обкурилась»[517].
Главной целью банного обряда поднятия лемби было добиться того, чтобы девушка вышла замуж. Поэтому после замужества lemmennostokyly уже ни при каких обстоятельствах не топили. Об этом говорят многие информанты: «Баня поднятия лемби только для девушек, а не для женщин». Последней такой баней в жизни девушки можно (но только с некоторой долей условности!) считать невестину баню во время свадебного обряда, о которой мы писали выше. Там невеста, во-первых, делится своей лемби с подругами. Они моются одной водой, парятся одним специально подготовленным веником, получают этот веник в дар от невесты и обязательно развязывают, рассыпают его, подчеркивая прощание невесты с девичьей волей. Во-вторых, в этой ритуальной бане невеста закрепляет свою лемби-любовь уже с одним конкретным парнем, будущим мужем. Она надевает на себя рубашку, которую подарит жениху. А на воде, которой она обливалась, испекут свадебные пироги и сварят кофе для будущего мужа. Таким образом, во время свадебной бани невесты лемби находится на самом пике своего развития.
Ю. Ю. Сурхаско сопоставлял карельскую баню поднятия лемби с особой инициальной обрядовой баней у финнов-саво, которую устраивали для девочки, достигшей двенадцатилетнего возраста. Он согласен с Ю. Луккариненом, который писал, что «в этом обряде сохранилась память о древнем языческом ритуале, которым девушку посвящали в совершеннолетие»[518]. Таким образом, девочка становилась девушкой, и в ее жизни наступал новый этап постепенной подготовки к замужеству.
А. П. Конкка тоже считает, что «обряды поднятия лемпи, вероятнее всего, имеют отношение к возрастной инициации. Переходный период инициации характерен, как известно, тем, что у человека отсутствует дух-хранитель, и он становится уязвим со стороны… Все поведение людей в такие переходные периоды, помимо оберегающих действий, направлено на восстановление статуса – получение или создание нового духа-хранителя, сотворение новой жизненной силы. Поднятие лемпи сопоставимо как раз с подобными магическими приемами»[519].
Известны и более простые обряды поднятия лемби, которые тоже проводили в бане, обращаясь к помощи усопших старейшин рода. Например, в субботу вечером, когда девушка готовила баню уже для омовения всей семьи (девушка всегда стремилась помыться первой), она расчесывала волосы на банном пороге (место наиболее сакральное, так как под ним покоятся первопредки рода), собирала приставшие к порогу волосы и затем парилась. В воскресенье утром эти волосы девушка сжигала в печи, произнося: «Niin minun lempi liehukoon, niin minun auvo astukoon, niin kunniani kuulukoon, kuin tämä savu ilmassa!» – «Пусть так моя лемпи развевается, пусть так мои мысли разносятся, так слава слышится, как этот дым по воздуху!» [520]
Накануне большого праздника (Пасхи или Троицы) знахарка парила девушку в бане с таким заговором:
Nouse, lempi, liehumah, Kunnivoni, kuulumah, Auvoni, astumah Yheksän meren ylici, Meri puolen kymmenici! Sikäli kunnivoni kuuluoh, Auvoni astuoh, Kuni tämä Jumalan luoma pruasniekka kuuluu! Kacottas miehet mielellä hyvällä, Naiset kaikki naurusuulla, Pojat kaccois miuh kuin sorah, Muih kuin korah[521]. Поднимайся, лемби, развеваться, Слава обо мне – слышаться, Честь – продвигаться Через девять морей, Через половину десятого! Туда слава обо мне пусть доносится, Честь продвигается, Пока об этом Божьем празднике слышат! Пусть мужчины смотрят с добрыми мыслями, Все женщины – с улыбающимися ртами! Парни пусть смотрят на меня, как на зарю, а на других, как на горе.В другом тексте говорилось, чтобы лемби слышалась до королей, достигала господ, развевалась до шести церковных родов, до восьми городов, затмевала собой золото и серебро, чтобы женщины улыбались, мужчины помышляли доброе, а парни на коленях вертелись перед этой девушкой[522].
Существовал интересный способ предугадать, выйдет ли девушка в этом году замуж. Во время летних Святок рвут веник на трех сухих пригорках, перевязывают его красной шерстяной нитью (и цвет, и состав нити – эманация энергии, они продуцируют долгую, счастливую жизнь). Вечером накануне Иванова дня топят баню. Обрывают все листья с веника, сжигают их под волоковым окошком, произнося: «Так моя лемпи пусть поднимается, как этот дым». Затем девушка «парится» этим голиком, идет на берег озера с ведром, в котором в воду опущены образок Богородицы, серебряное колечко и серебряная монетка, и обливается этой водой. Если что-то из этих предметов потеряется, она выйдет замуж в этом году[523].
Если девушку не приглашали танцевать на бесёдах, ни разу не приезжали сватать, проводили обряд поднятия лемби, в котором отразились элементы почитания матери-земли, хозяйки воды и банных хозяев, первопредков. Следовало отрезать кусок дерна с трех сторон, с четвертой оставить неповрежденным; приподнять его и посредине сделать четырехугольное отверстие; сходить за ключевой водой, оставив роднику в благодарность жертву: деньги или кусочек олова; воду трижды пропустить через отверстие в дерновом лоскуте: два раза по движению солнца, один – против. После этого топили баню дровами, приготовленными из расщепленных молнией деревьев (при этом надо было быть очень бойкой, расторопной). С трех берез, растущих на сухом месте, рвали веник (притом только с южной стороны дерева), по девять веток с каждой. Этим веником знахарка парила, произнося:
Lähes, lempi, liehumah, Auvoni, astumah! Niin miun lempeni loitokkali kuulukkoh, Kun Tuarin[524] kuuluvat rahat! Начинай, лемпи, развеваться, честь моя продвигаться! Пусть моя лемпи так далеко будет слышна, Как знаменитые деньги царя!Когда брали воду, закручивали ее посудиной так, чтобы она крутилась по солнцу, при этом нужно было зачерпнуть трижды по девять раз. Это максимальное количество требовалось в самых сложных случаях. По сообщению информанта, именно столько раз потребовалось, чтобы выдать замуж сорока– четырехлетнюю девушку. В воду опускали три серебряных монеты (рубль, полтинник и пятнадцать копеек) и обливали девушку на перекрестке трех дорог[525].
В некоторых обрядах поднятия лемби проявляются признаки шаманства, когда знахарка находится в состоянии особой экзальтации. Она топит баню дровами, приготовленными из трех деревьев, сломанных во время грозы (гроза по-карельски называется именем древнего верховного божества-громовержца Укко – ukkone). Воду берут, стекающую со стрехи во время грозы, а если не окажется такой грозовой воды Укко ukonvezi, ее приносят из самого бурного порога. Девушку парят в бане и поливают этой водой. Затем прыгают (скачут) в экстазе, произнося:
Neitsyt Muarie emoni, Rakas äiti armollini! Tules tänne tarvitessa, Hätähistä huutuassa! Jos ollet joven takana, Joutuos joven takoa Tätä piätä piästämäh! Ukko ylini, Vuari vanha taivahaini, Piäses tänne piästäjäksi, Kerkie kerittäjiksi! Nousis lempi liehumah, Auvinkoh astumah Neijon kuulusan kojista, Tulis’ viejät veräjillä, Ottajat ovilla, Tulis’ tuojat tuonnempuata, Niin kaukuu, kuin kaukana rahat kuleksiu![526] Мать-дева Мария, Любимая матушка единственная! Приди-ка, здесь ты нужна, в беде тебя кличут! Если ты за рекой, приди из-за реки, Чтобы эту голову освободить! Верховный Укко, Старый небесный дед, Приди сюда освободителем, Поторопись развязывающим! Чтобы поднялась лемби развеваться, Честь продвигаться, Из дома известной (славной) девушки. Чтобы пришли отводящие к калиткам, Забирающие к дверям. Чтобы пришли приносящие оттуда (издалека), Так далеко, Как далеко деньги слышны!К Деве Марии в обрядах поднятия лемби обращаются очень часто. Могут просить помощи у Укко, у верховного бога, у Иисуса и у духов-хозяев воды.
Записано достаточно много разнообразных заклинательных текстов. В некоторых из них ярко выражены солярные мотивы, связанные с солнцем, луной, звездами, с устройством мироздания. Например:
Nouse, lempi, liehumah, Kunnivo, kuulumah, Auvo, astumah. Kuun yli, alta taivon, Taivon tähtijen tasatsi, Otavoijen olkapäitsi, Seitsemen sepän pajatsi, Kaheksatsi kammaritsi! [527] Вставай, лемпи, развеваться, Слава, слышаться, Честь, продвигаться. Выше луны, в поднебесье, До небесных звезд, До плеч Большой Медведицы, До седьмой кузницы кузнеца, До восьмой комнаты!В некоторых заговорах перечисляются самые разные сакральные локусы. В одном из текстов даже замужество представляется особой страной Miehola, в которую отправляется невеста. При этом высказывается пожелание, чтобы брак длился до самой смерти, до того момента, когда женщине уже будет предстоять путь в Туонелу, в мир мертвых:
Nousoo tällä neitosella Vielä lempi liehumah, Nousoo avo astumah, Kunnivo kuulumah; Tämä neito mieholah, Mieholasta Tuonelah. Kun ei ole tännempänä, Niin tulkoo tuonnempoo, Tulkah venehellä vettä Eli telikällä tietä myöten, Suksella mäkie myöten! Kuuluu suolta ruosan roimeh, Rannasta rejen ratsina: Tuloo sulhaset suvesta, Kosjoväki koillisesta. Vielä tästä neitosesta Juopi suku suuret sarkat, Heimokunta hempeet pikarit[528]. Поднимется у этой девушки Еще лемпи развеваться, Поднимется честь продвигаться, Слава слышаться; Эту девушку замуж, из Замужества – в Туонелу. Если нет с этой стороны, приходите с той. Пусть приходят на лодке по воде, Или на телеге по дороге, На лыжах – по горам! Слышится на болоте скрежет, На берегу – телеги поскрипывание: Идут женихи с юга, Сваты – с северо-востока. Еще в честь этой девушки Выпьет род большие чарки, Родня – сладкие рюмки.Когда произносили данный заговор, следовало воду принести в баню из ключа или бурлящего порога. Топить баню рекомендовали щепками, настроганными от старого пня, или молодой порослью, поднявшейся у этого пня: «puiden kyljissä kasvaneita puunliioilla elipoikapuilla sekä kes-unkannoista veistetyillä kotkauksilla»[529].
В заговоре, записанном в Сортавале, можно обнаружить переплетение солярно-огненно-водных мотивов:
Nouse, lempi, liehumahan, Kunnia, kupajamahan Piian p– p– päälle, Lapsen lantehille; Nouse ilman nostamatta, Käy ilman käskemättä, Kiihu ilman kiihumatta! Kun et käy, niin mie käsken, Kun et nouse, niin mie nostan. Tuleepi miehet Turusta, Yli kuuen kirkkokunnan, Yli kappelin kaheksan. Nouse, lempi, lehteestä, Hieno-helma, hetteestä Miestä viemähän vihille, Kasvata kulmakarvat kultaset, Hopeiset kai hiukset, Läpihitte kuu kumottamahan, Läpihitte päivä paistamahan, Läpi moan, läpi manosen, Läpi reppänän yheksän! Iski tulta ilman Ukko, Välähytti Väinämöinen Kolmella kokon sulalla, Kirjavalla keärmehellä, Tuo poltti polvet pojilta, Rikko rinnat tyttäriltä[530]. Вставай, лемпи, развеваться, Слава распространяться На……девушки, На бедра ребенка; Поднимайся даже без поднимания, Продвигайся без повеления, Кипи без кипячения! Если не будешь продвигаться, то я велю, Если не поднимешься, то я подниму. Придут мужчины из Турку, Из-за шести церковных приходов, Через восемь часовенных. Поднимайся, лемпи, из ключа, Тонкоподолая – из родника Мужчину отводить к венцу, Вырасти золотые брови, Серебряные волосы, Чтобы блестящий месяц светил, Сверкающее солнце сияло, Через земли, сквозь пространство, Через девять окон! Ударил молнией небесный Укко, Вспыхнул Вяйнямёйнен Тремя орлиными перьями, Пестрой змеей, Обжег колени парням, Испортил груди девушкам.В Иванов день можно было опустить в муравейник, стоящий на развилке дорог, пустую бутылку с привязанной к горлышку лентой и воткнуть веник, сделанный по дороге к муравейнику. Накануне Петрова дня эти предметы забирали. По количеству муравьиной кислоты в бутылке и по степени выцветания ленты судили о времени наступления замужества. Получившимся лемби-веником парились в бане в Петрову ночь [531].
Известен и такой вариант обряда. В нем рекомендовалось положить три серебряные монеты в медный таз с водой, поставить его на огонь и частично выкипятить из него воду. Затем устанавливали две железные косы лезвиями навстречу друг к другу, и девушка трижды проходила под ними. При этом знахарка, поднимающая лемби, держала таз над ее головой, капала воду и произносила:
Nouse, lempi, liehumah, Nouse, auvo, astumah Kolmessa kokon sulassa, Kuuvessa kukon sulassa, Seitsemessä kalan evässä, Joukeniella neitsyöllä, Kuulusaksi kunnivoksi, Auvoksi astumah, Lemmeksi liehumah! Miun on kullat kuulusimmat, Miun on vaset vaikeimmat, Tuattoni Turusta tuomat, Velleni Savosta suamat[532]. Вставай, лемпи, развеваться, Вставай, честь, продвигаться В трех орлиных перьях, В шести петушиных перьях, В семи рыбьих плавниках, У Евгении девушки Чтобы слава была знаменита, Чтобы честь продвигалась, Лемби развевалась! Мое золото самое знаменитое, Моя медь самая властная, Батюшкой из Туру принесенная, Братцем из Саво добытая.Иногда девушка в ночь на Иванов день сначала парилась в бане особым лемби-веником, затем, обнаженная, каталась по ржаному полю, а после этого прятала свой веник и мыло в берестяной коробочке в том месте, где рожь на поле оставалась не помятой. Делать это надо было в строжайшей тайне и тщательно, чтобы никто ничего не нашел. Иначе вся лемби перейдет девушке, обнаружившей спрятанные предметы. Некоторые занимались такими поисками специально, чтобы обладать удвоенной лемби. Веник и мыло должны были пролежать на поле до Петрова дня. Утром все это девушка забирала, веник сжигала, а мыло убирала за образа и умывалась им только перед беседами. В Ведлозере рассказывали о девушке, сакральные предметы которой кто-то украл. Если раньше во время одного праздника ее водили гулять pitkykizah пятнадцать парней, то после этого случая лемби упала настолько, что количество поклонников сократилось до двух-трех[533].
Для поднятия лемби девушки рвали соцветия ржи, сушили их и брали с собой, идя на беседу, или умывались водой, в которую были положены соцветия. Девушки плели венки из колосьев и цветов и бросали в озеро или реку (к культу растительности добавлялся культ воды), загадывая: если венок уплывет далеко – к скорому замужеству; если остановится у берега – сватов в этом году не жди, да еще и болезни могут прийти; если утонет – к смерти. Ночью или под утро перед Ивановым днем девушки купались в озере. Парни при этом часто прятали их одежду[534]. После этого девушки, например, в Сегозерье, шли в баню поодиночке или все вместе и парились веником из цветов[535].
Считалось, если в ночь перед Ивановым днем выбежать из бани и пробежать нагой через межи нескольких ржаных полей, то на девятом встретишь жениха (или невесту). В Приладожье рассказывали, что, если девушка придет из бани обнаженной в дом к тому, кто ее парил, у нее поднимется лемби. Но, как говорила рассказчица, «это не все девушки осмеливались сделать»[536].
В д. Хиетаярви в конце XIX века записан следующий обряд поднятия лемби. Тесьму для девичей косы привязывают к языку церковного колокола, бьют в него, держась за тесьму, и произносят: «Будь так же моя лемпи знаменита, как знаменит церковный колокол!» После этого обливают колокол и этой водой моют в бане голову девушки и расчесывают волосы. Все это проделывается трижды вечером в четверг на три новолуния. Воду от мытья кропят веником, которым парили девушку в бане, на стены дома, где живут молодые мужчины. При этом произносят заговорную формулу: «Mikä urpia, se kaluja, Mi lehtiä, se lempeä!» – «Сколько почек, столько пенисов, Сколько листьев, столько лемпи!»[537]
У северных карелов, в Вокнаволоке, бытовал следующий обряд, который применялся в особо тяжелых случаях. В земле вырезали лоскут дерна с трех сторон, четвертую оставляли нетронутой, чтобы лоскут открывался, как дверца. В этом лоскуте вырезали четырехугольное отверстие. Затем из ключа приносили воду, оставив при этом в качестве оплаты хозяйке воды монету или кусочек олова. Взятую воду пропускали через отверстие в земляном лоскуте: два раза по солнцу, один против солнца. После этого топили баню сломанными грозой деревьями. Рассказчица указывает, что все это следует делать быстро: «olla pitäy ylen topakkana» – «надо быть очень проворной». Ветки для веника рвали с трех молодых березок, растущих на трех сухих пригорках. С каждого деревца брали по девять веток и только с южной стороны. Этим веником парили в бане и читали следующий заговор:
Lähes, lempi, liehumah, Auvoni, astumah! Niin miun lempeni loitokkal’i kuulukkoh, Kun Tuarin[538] kuuluvat rahat! Иди-ка, лемпи, развеваться, Честь, продвигаться! Пусть моя лемпи будет слышаться так далеко, Как знаменитые царские деньги!Затем девушку на перекрестке трех дорог обливали особой водой. Ее следовало взять с берега того дома, в котором живут молодые парни. При этом следовало посудиной закрутить воду так, чтобы она вращалась по солнцу, и, пока она вращается, успеть зачерпнуть воды три, девять или трижды девять раз. Воду брали только пока она крутится, и двадцать семь зачерпываний были предельным количеством. В нее опускали три серебряные монеты: рубль, полтинник и пятнадцать копеек. Рассказчица говорит, что так она делала для одной сорокалетней девушки, и та вышла замуж[539].
В других случаях рекомендовалось натопить баню дровами, приготовленными из разбитых грозой деревьев. Воду принести дождевую, которая во время грозы стекла со стрехи. Если таковой не окажется, взять ее из бурного порога. В бане знахарь прыгал в исступлении, хлестал девушку веником, поливал приготовленной водой и читал заговор:
Neitsyt Muarie emoni, Rakas äiti armollini! Tules tänne tarvitessa, Hätähistä huutuassa! Jos ollet joven takana, Joutuos joven takoa Tätä piätä piästämäh! Ukko ylini, vuari vanha taivahaini, Piäses tänne piästäjäksi, Kerkie kerittäj iksi! Nousis lempi liehumah, Auvinkoh astumah Neijon kuulusan kojista, Tulis’ viejät veräjillä, Ottajat ovilla, Tulis’ tuojat tuonnempuata, Niin kaukuu, kuin kaukana rahat kuleksiu![540] Мать Дева Мария, Любимая мать, бесценная! Приходи, здесь тебя ждут, В беде призывают! Если ты за рекой, Приди из-за реки Эту голову освобождать! Укко всевышний, Старик небесный, Приходи сюда освобождающим, Прибудь развязывающим! Встань, лемби, развеваться, Честь продвигаться Девичья слава распространяться, Чтобы пришли отводящие к дверям, Забирающие ко входу, Чтобы прибыли приводящие издали, Из той дали, До которой деньги доходят!Иногда обряд поднятия лемби проводился в избе, но с использованием сакрального банного предмета – лемби-веника. Например, в Поросозере, девушка сначала парилась им в бане, затем приносила его домой и сушила на печи. Мать на следующее утро брала этот веник, срезала ножом щепку с первого порога в избе, произнося: «Беру эту щепку, чтобы об Анне, невинной душе, рабе Божьей, все говорили!» Со второго порога, в сенях, срубала топором: «Эту щепку беру, чтобы ее хвалили!» С третьего порога срезала щепку косой: «С третьего порога, с крыльца, срезаю, чтобы ее сватали!» Затем эти щепки мать крошила топором у печи, звала дочь, срезала у нее концы ленты и еще раз разрубала их вместе с щепками. Дочь вставала лицом на северо-восток, мать бросала щепу с лентами в печь и произносила: «Как эти щепки горят в печи, так пусть пусть и по Анне, невинной душе, рабе Божьей, все горят!» Затем мать трижды крутила над головой дочери банным лемби-веником и бросала его в печь: «Как только эта печь истопится, веник в ней сгорит, как дым от этого веника будет рапространяться по миру, так пусть и слава о чести Анны, невинной души, рабы Божьей, будет распространяться по свету. Как горячо этот веник горит, так горячо и парни пусть по Анне горят!»[541].
Поднимали в бане лемби и парням. Но такие ритуалы вышли из употребления раньше. Про мужскую часть информанты чаще всего говорили, что «парням лемби поднимать не надо, она у них и так большая (высокая)» или «poijan on lembi nossettu kaikella aigua» – «лемби парня поднята в любое время»[542]. Именно поэтому сведений о поднятии лемби юношам сохранилось гораздо меньше. Но такие обряды проводились. В одном из рассказов говорится, что знахарь топил специально баню, делал из соломы обруч, к которому подвешивал берестяные лапти, стоптанные башмаки и женский подъюбник. Затем это сооружение надевалось на шею парню. Его ставили задом к банной двери oven pain pyllyllensä и выстреливали из лука[543].
Таким образом, сложнейшие ритуалы поднятия лемби проводятся на самых сакральных локусах и в первую очередь банном, где возможно контактирование с представителями иных миров. Даже если обряд иногда начинался в иных местах, заканчивался он чаще всего именно в бане. Эта ритуальная баня получила специальное название lemmennos-tokyly. Здесь девушка (реже – юноша) имела шанс очиститься от всего дурного (наветов, сглаза) и получить от первопредков и различных духов-хозяев (бани, воды, земли, огня) покровительство и продуцирующую силу любви, поднять свою лемпи. Особенно ярко ритуальная баня поднятия лемби подчеркивает культы воды, растительности и огня, которые практиковали карелы.
Другие виды любовно-магических ритуалов в бане
Проводили в бане и любовно-магические ритуалы, когда хотели насильно свести девушку и парня. Например, в Сортавале надо было сначала намыть девушку в бане и сохранить эту воду. Затем, когда шел мыться парень, бросали эту воду на каменку для пара, и парень влюблялся в девушку. В другом варианте банщику надо было взять черной рукавицей три камня сверху с банной каменки, и в то время, когда парень и девушка моются в бане, банщику надо трижды обвести ими баню вокруг. А потом бросить эти камни снова на каменку[544].
В бане освобождали и от приворотов. Например, безответно влюбленная девушка вытирала пот со своего лица и тела рубашкой парня, которого хотела влюбить в себя. Считалось, что после того, как он наденет эту рубашку и вспотеет, его пот смешается с потом девушки, и он влюбится в нее. В таком случае существовал следующий способ спасти молодого человека от пагубной страсти. Знахарь топил баню поваленными ветром деревьями. Воду приносил из того места, в котором ручей раздваивается, и парил в бане, читая заговор. В нем говорилось, что «пришла баба из Турьялы, женщина из холодной деревни» – «Tuli akka turjalasta, Mutso kylmästä kylästä». Она принесла полную каменку дров для остуды, ими натопили холодную баню, парня обмыли холодной водой и напарили березовым веником, в котором есть и ветки «с сотней развилок», сорванные с большого дуба, доросшего до неба. В заговоре также говорится, что таким образом остужают лемби-влечение парня именно к данной девушке, «чтобы они не знали друг друга и вместе не сошлись» – «jottei tunne toinen toista, Eikä yhtehen yritä». Парня обливали принесенной водой. Веник знахарь топил в озере, «чтобы его не коснулся ветер». А остатки воды, которой мыли парня, выливали в тот колодец, из которого девушка брала воду для питья и еды[545].
Был и такой способ отворота. С могил, которые находились рядом с церковью, приносили три камня в баню. Когда баня была готова, эти камни опускали в приготовленную воду. Эту воду прятали. Когда в баню входила влюбленная девушка, эту воду внезапно выливали на нее, говоря: «Niin sie tule kylmäksi siitä… (nimi), kuin kylmät on nämä kalman kivet!» – «Так и ты замерзни к… (называлось имя парня), как холодны эти могильные камни!» Камни после этого относили на то же место, откуда их взяли[546].
Если же парень любил девушку, а она собралась замуж за другого, следовало обратиться к колдуну. Он приносил землю с кладбища и сыпал ее под порог бани девушки. После этого девушка уже не могла быть счастлива с другим. И более того, «так она получала в бане кладбищенские болезни kalmanvihat»[547].
Использовали в бане и различные виды присушек. Например, «если девушка хотела добыть жениха, она в бане держала кусочек сахара подмышкой и затем давала его желаемому»[548].
Существовали и способы избавления представителей обоих полов от болезненного любовного влечения, от лемпи-болезни. Для магии отсушивания брали на кладбище три камня из обкладки могилы, растапливали баню и клали эти камни в отдельную посуду с водой. «В бане без предупреждения обливали парня или девушку, которых хотели отсушить, этой водой и говорили: ’’Стань таким же холодным (имя), как холодны эти могильные камни!” После чего камни относят обратно на кладбище»[549]. Таким образом, используя магию подобия, с помощью предметов из могильного локуса остужают болезненный любовный пыл, убивают лемпи-болезнь.
Могли в бане изгонять лишнюю лемпи и из жены, которая была неверной мужу[550]. Здесь лемпи тоже является некой болезненной, ненужной страстью.
Таким образом, в бане не только поднимали лемби молодым людям, но при необходимости и снижали ее. Баня являлась также местом проведения приворотно-отворотных ритуалов любовной магии карелов.
Хозяйственные и иные виды обрядов, проводившиеся в бане
Несмотря на то что карелы соблюдали в бане особую чистоту, как физическую, так и духовную, и запрещали, например, стирать в ней белье, сохранились сведения, что баню использовали и в хозяйственной деятельности[551]. Следует отметить, что эти действия также по большей части были ритуализированы и в той или иной мере были связаны с магией или различными верованиями.
При этом следует отметить, что в старину карелы многие небольшие избушки, предназначенные для совершенно разных целей, называли двусоставным словом, вторая часть которого на юге была kyty, а на севере – sauna, то есть «баня» или, точнее, «избушка». Первая часть слова конкретизировала, с какой целью построена та или иная избушка-банька. Той традиционной баней в современном понимании этого слова она не являлась. Например, широко известны такие строения, как kalasauna рыбацкая избушка и meccusauna, meccukyty избушка для охотников, в которых рыбаки и охотники ночевали, когда уходили на свой промысел на несколько дней или даже недель. Их строили на берегах водоемов и в лесу еще в середине XX века. Практически не сохранилось сведений о таких маленьких постройках приладожских карелов (возможно, они были распространены и на остальной территории Карелии), как mallassauna (солодовня, в которой готовили солод и варили солодовый напиток, пиво) и pyykkisauna (помещение, в котором стирали белье) [552].
В бане карелы сушили и коптили рыболовецкие сети. Для этой цели, например, в д. Тухкала Лоухского района специально топили особенно дымную баню: например, в огонь клали пропитанные дегтем тряпки[553]. Развешенные в ней сети приобретали более темный цвет и особенный запах, который, как считали карелы, особенно нравится хозяину воды. В знак благодарности хозяин воды vein izändy открывал свои кладовые и давал обильный улов рыбы.
Выполняла баня и санитарную функцию. Как уже говорилось, пока топилась курная баня, в ней развешивали на стенах или расстилали на воронцах рабочую одежду, чтобы с помощью дыма и жара избавиться от вшей.
Иногда баня выполняла функции риги. В ней были сделаны специальные жерди, на которые помещалось до пятидесяти снопов льна. Их сушили и затем обрабатывали. Например, в бане мыли лен и коноплю. Не случайно в эпических песнях о сватовстве голову жениха в жениховой бане намывают до белизны льна, что считалось пределом чистоты. Иногда баня является даже синонимическим параллелизмом к другой хозяйственной постройке крестьянской усадьбы – риге [554].
В некоторых банях стоял каменный жернов, которым мололи зерновые культуры.
В юго-западной Финляндии (Kitee, Nurmes) карелы в бане сушили выращенный табак. Для этого баню топили ольховыми дровами, отчего табак приобретал особо приятный аромат[555]. Курение, как известно, порицалось православной церковью. В связи с этим снова возникает вопрос о ритуальной чистоте-нечистоте банного пространства.
В бане готовили и солод для пива – напитка, который считался «живым» и «животворящим», дарящим людям веселье[556]. В одном из мифологических рассказов, записанном в Кеми, говорится, что карелы в бане делали кирпичи для строительства печи в избе[557].
Связана баня и со скотоводческими ритуалами. Сохранились сведения, что северные карелы лечили в бане корову, на которую напал медведь. Чаще всего он ей повреждал вымя[558].
Сакральность банного пространства распространялась и на все, что было с ней связано. Многие банные предметы использовались во время гаданий и других ритуально-магичесих практик. Например, когда корова впервые отелилась, и хозяйка шла первый раз ее доить, следовало сначала зайти в баню и взять три камня от банной каменки. Для того чтобы во время доения корова стояла спокойно, хозяйка трижды прижимала этими камнями каждую ногу коровы, произнося заговор: «Kui kylypäcci seizoo, muga sinä seizo! Älä nimidä varoo» – «Как банная каменка стоит, так и ты стой. Ничего не бойся!»[559].
В Приладожье иногда зимой в предбаннике могли готовить щелок для стирки и мытья в бане. Для этого грели воду раскаленными камнями и несколько раз пропускали ее через сверток с древесной золой. Летом это делали на улице рядом с баней. Вплоть до середины XX века карелы в бане белье не стирали, боясь прогневать духов-хозяев, хотя воду для стирки могли греть и здесь.
Иногда баню в качестве временного жилища использовали на два-три дня зимой, когда во время особенно сильных морозов вымораживали домашних насекомых kylmätettihprusakkoi da lutikkoi. Есть сведения, что иногда в баню отправляли попросившися заночевать путников. Но все-таки в ночное время этот локус считался опасным для человека, по этому поводу даже рассказываются былички, в которых говорится, что банный дух пугает или выгоняет заночевавших там путников.
В традиционном быту карелов баня использовалась не только как хозяйственная постройка, но и как место игровых и ритуально-магических практик молодежи.
Во время Святок баня являлась одним из локусов проведения так называемых ритуальных «святочных бесчинств». Считалось, что чем больше хозяева ругают молодых людей за нанесенный вред, тем выше поднимается их лемби. В Южной Карелии «Svätkoin aigah kävelläh bri-hat tyttötaloloih kylyn päccilöi murendelemas, kylyn ikkunoi, riihen ahtostu sordamas, tervupuccii vahniman kylän tytön pihah vedämäs. Hevon regilöi da muidu brujii vedelläh pitkin kyliä izändän tiedämätä, da ylen äijy muidu piendy pahua kävelläh nuoret brihat ruadama. Da kävelläh monet tytötgi ni-idy samoi pahoi ruadamas[560]» – «В Святки парни ломают печки и окна в банях тех домов, где живут девушки. Роняют посады в ригах, а во двор самой старой девы в деревне приводят бочку со смолой. Сани и прочую лошадиную упряжь тайком от хозяина таскают по деревне и совершают много других мелких проказ. То же самое проделывают и многие девушки».
Есть сведения, что в бане иногда проводили беседы, во время которых парни знакомились с девушками. В какой-то мере их можно считать частью предсвадебных ритуалов. Не случайно у карел встречались браки «уводом», когда девушка прямо с праздничного гуляния могла уйти в дом любимого[561]. Поэтому, возможно, в проведении бесед в бане можно усмотреть отголоски банной инициации. И в то же время именно обрядовая игровая культура (беседы, гадания) выявляет гибкость народного мышления в оценке ритуально «чистого» и «нечистого». По свидетельствам современников, молодежные игры, беседы kizat в XIX веке считались занятием греховным, поэтому хозяева неохотно разрешали проводить их как в избе, в которой стояли православные иконы, так и в бане – локусе, связанном с более древними, языческими, культами. Во многих фольклорных рассказах молодежь прогонялась из этих локусов. Э. Леннрот, описывая беседу в Ругозере, сообщает: «Игрище едва не закончилось печально. Явилась хозяйка с кочергой: «Что за разбойники ворвались в дом?» Оказывается, муж без ее ведома разрешил играть в доме»[562].
Слово bes ’odat – это достаточно позднее заимствование XIX века, прямая калька с русского. Традиционные карельские названия – это общекарельское kizat, то есть игрища, и южнокарельское ildukecoit – вечерние прядения. Девушки во время молодежных гуляний не только играли, пели и плясали, но и часто приходили с каким-то рукоделием: пряли, вязали, вышивали. Возможно, это имело не только бытовое, но и символическое значение. Во время молодежных гуляний предопределялась будущая судьба молодых людей, ведь они проводились не столько с развлекательной целью, сколько со стремлением найти вторую половину и перейти в новый социально-биологический статус. Не случайно с нитью, с ее прядением, вязанием в мифологиях многих народов связаны духи-хозяева судьбы: они прядут нить человеческой жизни. А на бесёдах девушки как бы символично пряли нить собственной судьбы.
Особенно много сведений о проведении бесед в бане записано в Сегозерье. Подчеркивается, что такая традиция была распространена до того, как начали проводить вечеринки в избах. В Карельской Масельге рассказывали: «Беседы были когда где, когда в риге, когда в бане. Это уже позже стали беседы в домах проводить»[563]. «Беседы устраивали в ригах, банях, кроме субботы и воскресенья. Брали с собой вязание, рукодельничали и танцевали. Приходили не только молодые, но и старухи»[564]. Баня была местом проведения будничных бесед, на которые собиралась только местная молодежь. А праздничные беседы проходили в более просторном помещении – ригачах. «Кроме праздников приходских, игрища в деревнях бывают по воскресеньям, а зимою почти в каждый вечер холостые с девицами собираются на беседу в какую-нибудь избу или в ригу, или даже в баню»[565]. «Раньше вечеринки проводили в бане, а лишь в праздники – в ригачах. Чью баню истопят, в ту и идут. Сидели на полках, на печке бани, тут, в бане, и плясали. На две пары кадриль плясали… А иногда в баню не пускали. Успеешь лишь зайти, как хозяин идет и с бранью выгоняет: «Убирайтесь вон, лишь печи ломать ходите!» Тогда мы идем в другую баню. Ламп же в то время не было, лучина горела, одна сгорит, другую зажигаем. Девушки приносили лучины, парни не носили. Вот жили!»[566]. Они были ответственны за другое: «Помещение раньше еще приготовляется парнями, топят его, если нет скамей, устраивают их или наносят с домов»[567].
Русские исследователи также считают посиделки в бане архаическим явлением, встречающимся в двадцатых-тридцатых годах XX века только в самых глухих уголках. При этом «молодежные развлечения в бане были органично связаны с хозяйственными работами, традиционно проводившимися в этой постройке»[568].
Карельские девушки на свои посиделки собирались и в баньке для солодоварения mallassauna, и в специальной баньке для стирки руукkisauna. Они там пекли блины lättyjä на банной каменке, рукодельничали (пряли, вязали), пели песни. Туда же приходили и парни. После вечеринки они провожали девушек домой[569].
Традиция проведения молодежных игр в банном локусе подкрепляется мифологическими рассказами, в которых говорится, что хозяин бани при определенных условиях может научить смельчака виртуозно играть на музыкальных инструментах. То есть у хозяев бани, согласно народным представлениям, есть свои музыкальные пристрастия.
Посещение бани, то есть ритуальное очищение, было обязательно перед крупными делами, которые впервые начинались в данном сезоне. Карелы с утра топили баню и шли туда, взяв с собой желательно новую рубашку. Они просили прощения за невзначай сотворенные проступки и грехи у духов-хозяев бани, у первопредков. Таким образом они очищались и физически, и духовно. Затем они обращались к ним за помощью и благословением в предстоящем деле. Это делали весной перед первым севом. Перед первым выпуском скота на пастбище в баню ходил и пастух, и хозяйки домашних животных. Мылись и парились, когда начинали сенокос. Охотники обязательно шли в баню перед зимними промыслами, когда уходили в лес на несколько дней.
Перед дальней дорогой также мылись в бане и получали благословение предков, например, перед отправлением в рекруты. Гостей с дороги тоже всегда приглашали сначала в баню, а потом угощали всем, что было в доме. При этом баню топили специально для прибывшего гостя. Тем самым путника знакомили с предками и как бы временно приобщали к своему роду. Об этом пишут многие из тех, кто путешествовал по Карелии: «Поздно вечером я пришел в Понкалахти. Хозяева дома сразу же спросили, не хочу ли я попариться. Я думал, что баня уже истоплена, и немало удивился, узнав, что топить ее начали специально для меня. Здесь повсюду такой гостепреимный народ. Всегда предложат поесть, попариться в бане»[570]. Этот народный обычай широко отразился в сказочных сюжетах, в которых хозяйка лесной избушки (русская Баба Яга, карельская Сюоятар) сначала моет-парит героя или героиню в бане, а затем приглашает к столу.
В бане проходил ритуал передачи сакральных знаний от старого знахаря молодому. Обычно это случалось, когда первый чувствовал приближение смерти, в таком случае было необходимо «отдать» всю свою мудрость другому, оставить в этом мире, иначе знахаря ожидала мучительная смерть, путь с этим ему в «иной мир» был закрыт. Или когда знахарь терял зубы. Считалось, что колдовство и лечебные ритуалы действенны только в том случае, когда во рту есть хотя бы один зуб. Во время таких обрядов «ученик» сидел на полках в шапке и рукавицах, а опытный знахарь хлестал его веником и читал специальные заговоры.
Если некому было передать свои магические знания, знахарь брал банный веник, отламывал от него ветки и в полученный комель читал свои заговоры. Затем этот обрубок веника он убирал под неподвижный камень или закапывал в землю[571]. У русских тоже был похожий обряд: знахарь наговаривал слова заговора на истрепанный веник и отправял его по реке[572].
Здесь следует сказать несколько слов, как колдуны и знахари в XIX веке относились к своему ремеслу и сакральным знаниям. Интересны наблюдения финских собирателей, работавших в XIX веке в Северной Карелии, о том, что карельские рунопевцы иногда ночью уходили исполнять эпические песни в баню, древний сакральный локус, место локализации и передачи магических знаний, которые часто переходили из поколения в поколение именно в одном роду Это говорилось, например, о колдуне-знахаре из Ухты Николае Кирилове[573].Так поступали они не случайно. Дело в том, что исполнение рун, особенно заклинательных, многие сказители, испытавшие влияние христианских проповедников, считали занятием греховным в глазах церкви. Вот что написано о Степане Мартышкине из деревни Коллеля: «Боясь греха, Степан сначала отказывался исполнять песни, но потом передумал и спел так хорошо, что собиратель всем своим существом был охвачен содержанием старых рун»[574]. К «некой семидесятилетней женщине»-староверке из Минозера финские исследователи приезжали несколько раз, она им пела, но «не разрешила записать ни имени, ни фамилии. Она боялась, что если узнают православные, так ей будет грех»[575]. Восьмидесятиоднолетний Патринен Тимофей из Ладвозера, родившийся в самом начале XIX века, «бросил заниматься пустой болтовней, то есть пением, поскольку в книге написано, что от этого будет грех. Рассказывал, что его дедушка Родион Пименович и сам Пимен были известные колдуны и певцы. Так, например, Пимен однажды заставил водяного встать на камень и просить прощения у одного человека, потому что мучил его»[576].
Баня как локус, в котором проходила передача сакральных знаний колдуном, а также различные молодежные игровые, ритуально-магические и лечебные практики, с церковной точки зрения являлась, безусловно, нечистым, поганым (то есть языческим) местом. Хотя и об отношении духовенства к этому локусу нельзя говорить однозначно. Приходские священники, зачастую выходцы из крестьянской суеверной среды, сами порой принимали участие в магических действах, особенно связанных с народной медициной.
Обряды народного цедительства в бане
В данной главе будут рассмотрены только те ритуалы лечения болезней, которые частично или полностью проводились в бане[577]. Наряду с этим следует указать, что эти же недуги могли лечить и в других локусах и иным способом [578].
В народной медицине исследователи выделяют приемы рациональные и иррациональные. Первые основаны на накопленном в течение веков опыте, вторые определяются религиозными представлениями народа. В цели данной работы не входит изучение таких лечебных средств, как мануальная терапия и массаж, фитотерапия, то есть различных мазей, отваров и настоек, приготовленных из трав, – все это карелы тоже применяли, в том числе и в бане.
Коротко отметим ряд рациональных приемов в народной медицине. Тихвинские карелы, например, для лечения нарывов прикладывали листья мать-и-мачехи. Или делали специальный пластырь: кипятили живицу, постное масло и воск от свечи, прикладывали к нарыву и обматывали тряпочкой. Выводили бородавки, обвязав их смоченной в сулеме ниточкой. Венериным башмачком лечили лихорадку. Ягоду жимолости (карелы называли ее ukonpuu, то есть дерево Укко), смочив в постном масле, клали на больной зуб, и боль проходила. Простуду зимой лечили листьями и соцветиями малины, которые особенным способом вялились и сушились в печи. Для лечения туберкулеза пили особый отвар из внутреннего свиного жира, сливочного масла и вина. От желудочных болей спасала настойка калгана или отвар чаги и ромашки. Как крепящее средство использовали сушеные ягоды черники и черемухи. Изъеденные язвами ноги лечили еловой мезгой, прикладывая ее на ночь, или обвязывали их нестираными шерстяными нитками. При обноготнице использовали живицу, деготь, тертую картошку. Муравьиным спиртом или муравьиным маслом натирали ноги, когда тянет вены или появляются судороги[579]. Все эти средства признаны и современной медициной и частично имеют реальный лечебный эффект.
Интересные записи встречаются в отчетах по анкетированию, которые проводили чаще всего священнослужители по заданию Русского географического общества в последние десятилетия XIX века. В одном из таких отчетов о медицинских снадобьях, применяемых карелами, сообщается: «Из домашних лекарственных снадобьев более известны крепкая водка и купоросное масло на больные зубы, трава свиробой, растущая на лугах, ее завариваютъ и пьют с медом от простудного кашля и боли въ горле, также трава Богородицкая – годная к тому же. Сенную выпаренную труху употребляют от боли и колотья в боках. При запорах на низ и многих других болезнях причины приписывают случаю, т. е. это пришло от воды, ветра, лесу и пр., и в сих болезнях лечатся более заговорами или шепотами; таковые заговоры различны и произносятся на карельском языке. На ознобленные части тела привязывают в тряпке весьма крепко вареную землю, иные мажут лебединым и лисьим салом; обожженные места мажут коноплянным маслом, засыпают березовым порошком (между берестою и деревом находится кора, которую сушат и толкут мелко в ступе.) Сим лекарствам простолюдины приписывают действительную силу; полезное действие вареной земли, сала и березового порошка я частию испытал сам»[580].
Но баня в карельской народной медицине занимала совершенно особое место. Не случайно один из древнейших лечебных заговоров, произносимый в бане (такие заклинания карелы называли kylvetyssanat – банные слова, или слова для паренья), начинается так:
Miten silloin lauletahan, Kuin silloin kujerretahan, Kuin tuloovi liika tunti, Eriskummani elämä? Männähän saloa saunahan: Lyös löyly, lähätäs lämmin läpi kuumista kivistä, Läpi saunan sammalista Kivillä kivuttomilla, Puilla nuurumattomilla! Nyt on liijan liikeaika, Pois pahan pakenoaika. Заговор какой поется, Говорят слова какие, Если час придет тяжелый, Жизнь нелегкая настанет? В баню тут идут украдкой: Пар ударь, дохни, горячий, Через камень раскаленный, Через мох меж бревен бани, Боль неведома каменьям, Бревнам муки незнакомы! Тут и злу убраться время, Прочь убраться лихоманке[581].Финский проповедник М. Агрикола, первым собравший и зафиксировавший самые древние сведения о карельских и финских божествах, в 1544 году писал, что сауна также рекомендуется в качестве лечебного средства[582]. Однако «указом шведского правительства, под властью которого финны пребывали с 1150 по 1809 год, из-за распространения глазных, эпидемических и кожных болезней, потребления большого количества дерева и опасности возникновения пожаров сауна была запрещена» и начала возрождаться только в начале XIX века[583].
Проблема пожароопасности бань, топившихся по-черному, существовала и в Олонецкой губернии в XIX веке. В газете «Олонецкие губернские ведомости» в 1870 году было опубликовано письмо губернского врача Шдорберга «О способах и мерах уменьшения случаев пожара в банях», в котором, с одной стороны, ставится вопрос о назревших проблемах, а с другой – еще раз подчеркивается огромное значение бани в жизни карела. Доктор писал: «Мне кажется, что местный нрав жителей иметь баню при каждом доме есть главная причина частого появления пожаров… баню топят по два раза в неделю, дров не жалеют, пар любят и печь накаливают добела; баня деревянная, сухая, и долго ли тут при малейшей неосторожности вспыхнуть пожару»[584]. Несомненно, эта проблема существовала. Но, во-первых, карелы специально готовили древесину для строительства бани, всю зиму вымачивая ее в озере или реке, поэтому даже в случае возгорания баня не вспыхивала сразу, а долго тлела. А во вторых, согласно народному менталитету, сакральный локус, связанный с духами-первопредками, не мог навредить людям. Достаточно вспомнить бытовавшую у карелов пословицу: «Kyly kyleä ei polta» – «Баня деревню не сожжет».
В своем письме губернский врач указывал и на другие проблемные места крестьянских курных бань. Он говорил о несоответствии бани гигиеническим требованиям и о том, что «кроме пожара баня есть еще источник другого зла, более страшного… умереть в бане от угара». Далее доктор приводил несколько примеров, как чиновники, прибывшие в деревню, едва не умирали от отравления в бане угарным газом. Здесь следует отметить, во-первых, непривычность городского организма к народному банному ритуалу, а во-вторых, несоблюдение правил приготовления бани. Она должна «выстояться» и продолжительное время проветриться для удаления ядовитых газов и получения хорошего пара. Во время проветривания на камни бросали кипяток, выпускали «дурной пар». Пар кратковременно менял давление воздуха внутри парилки и выносил наружу избыток летучих бактерицидных веществ, раздражающих глаза и дыхание. После этого баня уже меньше «горчила», хотя, по мнению карелов, именно эта небольшая горчинка придавала пару своеобразие и пикантный вкус, это был «вкусный пар magei löyly». Обязательно следовало каждый раз обметать осевшую сажу со стен и потолка. А Шдорберг, делая вывод, рекомендовал вместо дворовых курных бань строить общественные.
Но в целом преимущества курной бани, в которой сочетается не только действие воды и горячего воздуха, но и дыма, имеющего бактерицидные свойства, непереоценимы. Она, правильно приготовленная, считается самой полезной из всех видов бань. Древесина бани по-черному заметно коптится, чернеет, так как березовые дрова, которыми она топится, имеют в своем составе деготь, содержащий сложный комплекс углеводородов и фитонцидов. Это в результате приводит к тому, что атмосфера бани по-черному имеет резко выраженный бактерицидный характер. Считается, что в средневековье эпидемия чумы, которая бушевала в Европе и унесла с собой треть ее населения, остановилась на границах ареала традиционного строительства курных бань. Люди, парясь в таких банях, постоянно дезинфицировали кожные покровы и дыхательные пути. Именно стерильность пространства является одним из объяснений проведения в бане и родильных обрядов, и огромного количества лечебных ритуалов.
Лечение в карельской влажно-паровой бане было комплексным[585]. Свою роль играли горячая вода вместе с горячим паром и воздухом и следовавшее после этого закаливание холодом. К этому присоединялись приемы мануальной и фитотерапии, простейшая акупунктура. Широко использовались и полезные свойства дерева: человек прогревался в деревянном помещении, мылся в деревянной посуде, стоял на полу, застеленном соломой, парился веником, сделанным из веток целебных пород деревьев, в который могли вплетаться цветы и травы. Отовсюду выделялись целебные вещества и фитонциды, угнетающие болезнетворные бактерии. Дубильные вещества из веника через раскрытые поры проникали в кожу. Банный пол, приступок перед полками и скамейки, а затем сами полки – это было трехуровневое регулирование банной температуры. Нагревание воды раскаленными камнями и бросание воды на каменку обеспечивали также необходимый температурный режим и повышенную влажность, что особенно благотворно сказывалось во время простудных и легочных заболеваний. В бане карел массировал себя не только веником, но терся березовыми наростами koivupakkuli – все это улучшало кровообращение. Пар и все в бане было пропитано дымком. Терапевтическое значение влажно-паровой бани, которая обеспечивала не только прогревание организма, но и повышенное потоотделение, способствуещее выделению токсинов, отмечали многие известные русские врачи (П. И. Страхов, Н. Знаменский, Е. Остужев)[586]. Об этом писал и В. М. Боголюбов[587].
Но немаловажное, если, согласно народному мировоззрению, не первостепенное значение имело психотерапевтическое воздействие заговорным словом и магическими приемами. Весь обряд лечения в бане карелы сопровождали заговорами. П. Флоренский считал, что вербальный код наполнен звуковой энергией и в этом одно из объяснений целительного эффекта заклинаний. Он писал, что «слово матично и слово мистично», его можно рассматривать «как некоторый индивидуум, как некоторый организм», в нем есть «некоторая минимальная энергия физического порядка»[588]. Философ А. Ф. Лосев называл слово «невидимым, воздушным организмом, наделенным магической силой»[589]. И карелы, безусловно, верили в силу слова, особенно формульного и сопровождающего магический ритуал. Не случайно многие финские собиратели XIX века подчеркивают, что очень сложно было уговорить колдунов-знахарей-рунопевцев (практически всегда это соединялось в одном лице) исполнить руны-заклинания. Объяснения этому было два. Во-первых, они боялись потерять свою магическую силу и способности, а во-вторых, сказывалось церковное влияние, и поэтому исполнение рун считалось греховным занятием. А уж если колдуны соглашались на это, они всегда «оставляли последние слова из руны себе, то есть не выговаривали их, чтобы сила колдовства не перешла» слушающему[590]. О Хяннинен Марфе из Минозера собиратели говорили, что она «прекрасная сказительница рун и лекарь-колдунья», но «все же колдовства своего она не показывала, боясь, что она потеряет свою силу»[591].
Более того, «боязнь встречи с банником создавала чувство напряженности и мобилизовала защитные силы организма»[592].
В нашей работе впервые основное внимание будет уделено лечебным ритуалам, связанным с древними мифологическими воззрениями карелов, почитанием духов-хозяев различных природных стихий и объектов.
В. А. Липинская, анализируя гигиенические и лечебные приемы, используемые в бане русскими, пишет, что в них можно усмотреть «следы культа сил природы (культа растительности, огня, воды и других стихий, позднее сменившегося языческими представлениями о духах, затем христианским мировоззрением). Ослабевая со временем, следы древних культов сохранились в суевериях и символах»[593]. То же самое присходило и в карельской традиции. В качестве символов стихии огня карелы используют при лечении пепел, угли, дым, а одушевление природы явственно звучит в заговорных формулах. Очистительная роль воды, ее обожествление ярко проявлялись во время купания в летние и зимние Святки. Культ растительности на пике своего развития присутствует в банной любовной магии, в основе которой лежат охранительные и продуцирующие обряды.
Карелы олицетворяли саму болезнь и считали, что недуг «пристает» к человеку tarttuu ristikanzah. Причину болезни они видели в нарушении взаимооотношений человека с духами-хозяевами различных стихий и построек. Считалось, что они-то чаще всего и насылали болезни, хотя иногда это приписывалось и колдунам.
Прогневаться за нарушение человеком каких-либо табу или пространственно-временных границ могли хозяева любого локуса. Если это были кладбищенские духи, тогда пристанет калма или нос калмы kalmannenä, если хозяева леса – лесной нос mecännenä, если воды – нос воды veinnenä. Перевод слова nenä как «нос» следует считать условным. В карельском языке эта лексема означает и «остриё», и «конец», то есть болезнь как бы вонзается, вторгается своим «остриём, жалом, стрелой» в человека. Причем симтоматика всех этих недугов часто совпадала, в любом случае могли появиться головокружение, тошнота, рвота, головная боль или ломота в спине. Могла обидеться и мать-земля moaemä, тогда в человека проникала такая болезнь, как moahine (земляная). В этом случае появлялись различные кожные высыпания.
Согласно архаичной ментальности локус-источник болезни и локус-целитель часто полностью совпадали. Именно поэтому, чтобы исцелиться, следовало идти просить прощения именно на то место, где пристала болезнь, и просить прощения у тех духов-хозяев, которых прогневал.
Одним из таких локусов и была баня. Ее универсальность состоит в том, что здесь исцеляли множество заболеваний, от самых простых, простудных, до гораздо более серьезных. Объяснений этому может быть несколько. Это и утилитарная причина: здесь можно было прогреть человека, провести гигиенические процедуры, сделать массаж, использовать различные мази, натирания, травы. Но главным в лечении было другое. В основе лежали древние мифологические воззрения, в соответствии с которыми болезнь воспринималась как некое живое существо. Она приходила, если ее насылали колдуны или человек прогневал духов-хозяев. То есть истоки болезни, согласно верованиям карелов, лежали не столько в физической, сколько в духовной сфере. Следовательно, надо было заговорить недуг, испросить прощения у разгневанных духов, пригласить более сильных мифологических существ и с их помощью изгнать его. Именно поэтому во время процесса лечения необходим был заговор как средство заключить договор и с духами, и с болезнью. Он, согласно архаичному менталитету, был гораздо важнее любых мазей, натираний и трав. Второе место по важности после заговора занимали различные магические предметы и вещества, наполненные глубоким сакральным смыслом. Это и специальный узел osmonsolmu, и особым образом сросшиеся ветви с отверстием внутри umpipuu, и наросты на стволе дерева, и пучки сросшихся мелких веточек tuulenpesä, и пятиконечник, который рисовался чаще всего на земле viisikantaine, а также олово, ртуть, серябряные монеты, красные или белые тряпицы или ленты, заговоренная соль и так далее.
С мифологической точки зрения именно в банном локусе мог произойти контакт (физический или духовный) со множеством духов. Во-первых, это хозяева бани и духи предков. Во-вторых, баня являлась соединением трех могущественных стихий: воды, земли и огня. Лечили здесь и болезни, насланные хозяевами леса и ветра. Именно поэтому, чтобы не прогневать духов-хозяев, в бане следовало строго соблюдать все правила банного этикета и не нарушать установленные табу.
Совершенно особое место в процессе лечения болезней карелы отводили знахарю-колдуну tiedoiniekku, tietäjä[594]. Карельское название можно перевести как «знающий», то есть это человек, обладающий особыми сакральными знаниями, имеющий магические предметы. Есть сведения, что знахарем считался человек, обладающий, по сравнению с колдуном, меньшим количеством магических знаний и способностей. В простых случаях обращались к знахарю, а в сложных – «к более важным лицам, колдунам, которые говорят с нечистой силой» и у которых есть «черный посох»[595]. В связи с тем, что в карельском языке нет категории рода, сейчас практически невозможно определить гендерную принадлежность колдуна. Но уверенно можно сказать, что раньше эту функцию чаще всего выполняли мужчины зрелого и более старшего возраста. Необходимым считалось наличие крепких зубов во рту. Так, об известном колдуне Хиитонен Минна из Хиетозера говорили, что он родился в 1833 году с волосами и зубами. По этому признаку все в деревне сразу поняли, что он будет «знающим человеком», и с восемнадцати лет он «по совету матери» начал заниматься колдовством и лечением[596]. Финские собиратели подчеркивали, что, например, Константин Федоров из Ухты был колдуном «не формально, а сам искренне верил в силу слова, в колдовство… Костя жил, окруженный полностью духовным миром. Он никогда не опускал сети в воду, пока не договорился с девой Велламо, силки не ставил и не шел на охоту на медведя в лес, пока не уговорил хозяев леса»[597].
Опытные знахари не только заранее знали диагноз, но предвидели даже исход болезни. Об известной знахарке из крохотной деревушки Уаюлакша (в 1900 году в ней было шесть-семь домов) на западном берегу озера Куйто, родившейся в Войнице, говорили, что «Дарья уже ночью видела во сне, придут за ней утром или нет. А также видела, чем больной страдает, чтобы знать, как лечить. Видела и то, сумеет она помочь или нет. Если же нет, то отказывалась сразу. Она многих вылечила. Лечила от всевозможных болезней и проклятий, делала различные лекарства»[598].
Знахарство часто передавалось из поколения в поколение в своем же роду. Например, Кананайнен Степан из д. Кананайне, родившийся в 1804 году, часть рун выучил от матери (она была из Керети), а она, в свою очередь, – от отца. Многое из колдовства и знахарства Степан еще подростком перенял и от знаменитого знатока заклинаний Петра Куйволайнена, примерно 1730 года рождения[599].
У каждого сильного колдуна был большой набор своих колдовских предметов, которые он не только никому не давал, но даже и не показывал. Они могли передаться только по наследству вместе с сакральными знаниями, когда старый колдун, во-первых, терял свою силу из-за преклонного возраста (выпадали волосы и зубы), а во-вторых, хотел спокойно уйти из жизни и не мучиться перед смертью (о мучительной кончине людей, занимающихся знахарством и колдовской практикой, записано множество фольклорных рассказов). Коллекцию магических атрибутов повезло увидеть финскому собирателю Кастрену у Василия Киэлевяйнена в Войнице. Михаил Ремшу из Вокнаволока на рубеже XIX–XX века «отказался от веры в старое и уступил предметы колдовства» Фольклорному архиву Финского литературного общества. «Предметы колдовства весили два килограмма и содержали десятки различных сверточков, таких, как белка-летяга, головы птиц, перья, зубы медведя и щуки и так далее». Михаилу они достались от колдуна Федора Каско, примерно 1790 года рождения, который их «добыл из Финляндии, из Уллавы»[600].
Финские собиратели подчеркивали, что многие колдуны жили на добытое своим ремеслом. Доход был разным. Знаменитые колдуны-мужчины, которые практически всегда были и сватами-патьвашками на свадьбах, получали больше. Например, про Оутокку из Карбасозера сообщали, что он, «видный колдун, опытный в своем деле, имел приличный доход от колдовства». Женщины-знахарки, лечившие детей, довольствовались меньшим: «Бывает, что часто в доме нуждаются в колдунах. Где давали хлебом, где мучки немножко». При этом знахари всегда подчеркивали, что «только плату не надо большую брать, а то заклинание потеряет свою силу»[601].
Все лечебные ритуалы обязательно сопровождались произнесением заклинаний. Как говорил знахарь Олоф Лесонен из Карбасозера, «городская мазь не помогает, а, наоборот, вредит», а заговоры «действуют даже лучше, чем лекарство, и не видно»[602]. Наиболее древние сохранившиеся образцы заговоров очень длинные. Они всегда начинаются с поиска причин болезни, часто присутствует мотив происхождения недуга или предмета, являющегося его причиной или источником. Необходимой частью заклинания было обращение знахаря к различным помощникам и затем проклятие болезни и безвозвратное отправление ее в Похъёлу-Маналу-Туонелу – мифические страны, которые ассоциировались с вечной тьмой и могильным холодом. Женской прерогативой было исполнение роли повитухи в родильном обряде и лечение детских болезней. В XIX веке свой знахарь был практически в каждой карельской деревне, но имелся и особо могущественный колдун, известный по всей округе.
Знахарство стало особенно сильно преследоваться в послереволюционное время, начиная с двадцатых годов XX века (хотя эта практика и раньше не одобрялась официальными властями, особенно православной церковью). В результате этот институт был практически уничтожен к последней трети XX века. Сохранились знания только у отдельных старушек, которые чаще всего практиковали лечение детских болезней и скотоводческие ритуалы.
Как писал один из русских собирателей в восьмидесятых годах XIX века о «народных суевериях и предрассудках в Мяндусельгской волости Повенецкого уезда»: «Простуда у здешних крестьян, с малолетства привыкших к суровому климату, случается редко. Благодаря теплой избе и бане, где колдун парит больного по три вечера, проходит скоро, сама собою, между тем выздоровление приписывается колдуну»[603].
Н. Камкин, описывая быт и верования карелов, проживавших в Архангельской губернии в семидесятые годы XIX века, замечал, что не только множество «различных духов властвует над карелом. Судьба его находится еще, кроме того, во власти чародев, колдунов, которых таки довольно в карельском крае… Лечение во всех болезнях… состоит в том, что больного парят и растирают в жарко натопленной бане, причем знахарь поит его наговоренною водой… Нет сомнения, что существованию среди карелов веры в подобное лечение немало способствует и то, что в карельском крае нет почти до сих пор и помина о медицинской помощи»[604].
Финский исследователь и фотограф И. К. Инха, в конце XIX и в начале XX века много пушествовавший по беломорской Карелии, писал, что баня для карела – первая помощница во всех болезнях: «se on karjalaisen ensimäinen apu kaikissa taudeissa». Здесь лечили и самых тяжелых больных, например, пастуха, на которого напал медведь, убив нескольких коров и лошадь[605]. Когда «черт вселяется в человека» – «kun karu tarttuu ihmiseen», тогда больного парили, призывая на помощь Деву Марию Moarie emoinen neidi[606].
В одной из статей, опубликованных в «Олонецких губернских ведомостях», автор пишет, что карелы Олонецкого уезда «суевериям, предрассудкам и разного рода заговорам… отчасти преданы… существуют здесь заговоры от укушения змеи, от большого излияния крови при порезах и ушибах; есть свои приметы и суеверные обычаи при крещении младенца, при бракосочетании, похоронах». Далее он отмечал, насколько трудно фиксировать эти верования, так как «все эти суеверия свершаются тайно, невидимо» для постороннего человека. Высказывая отрицательную оценку всему «греховному и достойному порицания», автор между тем высказывал сожаление, что «народ наш не сохранил никаких письменных памятников древности, да и теперь… не ведет у себя никаких записей… как будто бы другая жизнь наша не представляет ничего интересного и замечательного»[607].
В 1924 году профессор Д.А. Золотарев, описывая свою поездку к кестеньгским карелам, пишет: «Картофель, хлеб с примесью мякины, соломы, сосновой коры, как лакомство – репа, сушеная рыба, уха, а при удаче и в праздник – пирог-рыбник и молоко – вот наиболее обычная и употребительная пища. Многие забыли о настоящем чае, уже несколько лет не пробовали сахара. И при всем этом население сохраняет пока свое природное неистощимое здоровье. Почти никогда не болеют, говорила старая акушерка-фельдшерица. А если заболеет, пойдет в баню, и все как рукой снимет»[608].
Вот как рассказывал местный житель об известном колдуне из Кондуш. Он лечил «всяких. Ну вот кого умом крянуло, – это уж его, значит, дело; от пьянства тоже; да и разную там хворь» – «Ну и что же, вылечивает?» – «Как же! Вот одного мужика лечил (не в уме тоже был), так сказал, что вылечу, да долго не проживет. Оно так и вышло. Сводил, значит, в баню, попарил там его. Больно уж он в бане-то бесновался! Это бесы с него выходили; четыре мужика держали. Ну и принесли домой, он Богу душу отдал. Другого тоже сумасшедшего лечил (с больницы его взяли для такого случая), теперь, говорят, полегчало». – «Так он и других лечил?» спрашиваю. – «Да, сводит перво-наперво в баню, попарит там, наговорной воды даст и сам все «в свою книгу читает»[609].
Как пишет автор статей о повенецких карелах, «народ чуждается врачей, чаще обращается к знахарю с крестом или поясом, по которым он разгадывает, откуда или отчего пришла болезнь, с глазу, с ветру или с доброй воли и дает наставление, как прощаться по ночам [здесь подразумевается: просить прощения в ночное время, после заката, у духов, наславших болезнь – И. Л.], наговаривает на соль или воду, а иногда знахарь и сам топит ночью баню и парит в ней больного»[610].
Один из учителей Олонецкого уезда писал в 1873 году, что «предрассудки и поверья, переходящие от поколения к поколению, не ослабевают и не вытесняются из массы народа, а остаются и действуют до сего времени в полной силе… лежит человек в горячке: «бес мучит»; подвержен человек падучей болезни – это значит: «злой человек испортил». Все эти болезни лечит какой-нибудь пресловутый знахарь. Случись что-либо у крестьянина, и тут-то пожива знахарю, так как корел начинает с поклонами упрашивать знахаря, чтобы он пошептал на соль или наговорил на воду, принесенную из невидимого колодезя». Автор статьи мечтал о том, что «знахарство с его нашептываними и обрядами… сгибнет как вешний снег, да и поделом. К тому же времени старые знахари умрут, а новые не народятся, да и молодое поколение пообразуется, благодаря открытию училищ, так как молодому поколению при каждом удобном случае объясняется вся бесполезность веры в знахарство»[611].
В последние десятилетия XX века записано множество рассказов, в которых отмечается, что вплоть до тридцатых-сороковых годов карелы обращались к врачам только в самых остренных ситуациях. И это не случайно. Во-первых, «в 1887 г. в карельских уездах Олонецкой губернии имелось всего 8 врачей, в Кемском уезде врачей вообще не было. К концу XIX в. на территории края работало 23 врача, а в начале XX в. их насчитывалось около 30»[612]. А во-вторых, как отмечал Э. Леннрот, сам врач по образованию, пытавшийся во время своих путешествий по Карелии помогать заболевшим местным жителям, «они неохотно идут на контакт». Карелы убеждены в том, что «болезни их возникли не естественным путем, поэтому они редко соглашаются лечиться обычным способом»[613]. Но, даже приняв от доктора лекарство, они приглашали знахаря и, получив исцеление, благодарили именно его, считая, что помогли именно магические ритуалы и заговоры.
Больным в подавляющем большинстве случаев помогали знахари tiedoiniekat. В XIX веке это были чаще всего мужчины, позже этим стали больше заниматься женщины старшего возраста staruuhat. Конец этой традиционной практике (как сейчас говорят, нетрадиционной медицине) положили репрессии, последовавшие в тридцатые годы, хотя в карельской деревне на протяжении всего XX века жили бабушки-знахарки, к которым обращались во время разных болезней[614]. Репрессивная практика в отношении народных верований в разное время проводилась во многих странах. В странах Скандинавии, например, церковь в течение XVI–XVII веков занималась «охотой за ведьмами». В XVII веке за колдовство в Финляндии было приговорено к смерти около шестидесяти человек. В судебных архивах сохранилось много дел, свидетельствующих о том, что за исполнение не только заклинаний, но и эпических рун привлекали к суду как за колдовство[615]. Э. Леннрот отмечал, что финны и многие карелы, проживавшие на приграничной территории, и в XIX веке отказывались петь руны, боясь наказания[616].
Возрождение заговорной традиции, которое охватило в конце XX – начале XXI века русскоязычное население на фоне интереса к различным магическим практикам, карелов коснулось гораздо меньше, так как практически ушел из живого повседневного бытования сам карельский язык. Эта древняя традиция карелов (как медицинская практика, включающая в себя и мануальную и фитотерапию, и заговорные формулы), в основе которой лежат мифологические архетипы, на сегодняшний день является неизученной. Делаются только первые попытки рассмотреть ее[617].
Процесс лечения любых болезней, широко практиковавшийся в карельской деревне вплоть до начала XX века, был неразрывно связан с древними мифологическими воззрениями. В их основе лежала вера в духов-хозяев различных стихий: земли, воды, огня, ветра, леса и т. д. В лечебных заговорах отражено и поклонение древним карельским божествам, о которых в своем трактате XVI века писал христианский проповедник М. Агрикола. На образную систему заклинаний оказало влияние и православие. На помощь для излечения недугов из христианского пантеона чаще всего приглашается Дева Мария neicyt Moarie, или Святая Богородица Pyhä Bohorodccu, а также и Иисус. Иногда появляются образы и православных святых, в основном Николая Pyhä Miikul и Георгия Pyhä Jyrkki, пришедших на смену древним языческим божествам.
Синкретичным можно считать такой образ, как Jumal (jumal) Бог (божество). В нем, безусловно, есть языческие истоки, это название древнего божества. Это слово у карелов часто является синонимом и к слову «икона». Они часто используют его во множественном числе jumalat боги, подразумевая под ним и всех древних духов и божеств, которым они поклонялись. Именно так они называли изображения богов (или иконы), стоявшие на столбах у дорог или в каких-либо почитаемых местах, к подножию которых они приносили камни и иные дары, а проходя мимо, кланялись им. И в то же время на этом образе сказалось влияние православия. В заговорах это всемогущее верховное существо, к которому обращаются в крайних случаях, когда попросили помощи уже у всего пантеона и не получили ее. В таких случаях часто синонимом к нему употребляют слово Luoja Творец. Древним языческим аналогом к нему у карелов можно считать громовержца Ukko (русский Перун, греческий Зевс и т. п.).
В процессе лечения болезней в бане немаловажным было и то, что карелами почиталась сама банная постройка и все ее внутренние локусы: пол, потолок, стены, полки, которые могли быть и целителями, и, в случае нарушения банного этикета, источником болезни для человека. Именно поэтому, заходя в баню, карел незаметно сплевывал, а затем тихо, чтобы никто из присутствующих не услышал, нашептывал:
Kyly kuldaine, löyly mezine, lagi toatto, lava moamo, oččuseiny velli, muud seinäd sizäred, iče minä tammi[618]. Баня золотая, пар медовый, потолок – отец, полки – мать, передняя стена – брат, остальные стены – сестры, сам я – дуб.Это был ритуал поклонения и самой бане, и ее хозяевам. Человек призывал баню отнестись к нему по-родственному. Называя же себя дубом, он имел в виду не столь крепость и мощь этого дерева, сколько уподоблял себя некоему мировому столпу (столбу), с которым в фольклоре часто ассоциируется именно дуб.
Чтобы в бане не пристала порча, произносили, в первую очередь обращаясь к матушке-баньке, а затем – к пару-сестрице:
Phu! Kylyseni, moamoseni, löylyseni, sisarueni! Puhun suulla puhtahalla, Herran hengen hyvällä, Läipöttelen lämpimällä. Eigä ole löylyn löytämistä, Lämpimän lähenömistä. Mänkeä, löylyt, saunan sammalii Tahiga kylyn karsinaa Kibehisen kylvend aijaks! Тьфу! Матушка моя ты, банька, Сладкий пар, моя сестрица! Молвлю чистыми устами, В Божьих помыслах скажу, С теплым чувством прошепчу. Пару не на что сердиться, Жару не за что вредить. В мох меж бревен, пар, проникни Или спрячься под полками, Дай попариться больному! [619]Как пишет С. Паулахарью, карелы считали баню священным местом saunaa pidetään hiukan pyhänä paikkana[620]. Согласно карельским верованиям, почитались и банный пар, и банный жар. Пар – это дыхание живой бани. Карелы так и говорили: «Meijän kylys on ylen hyvä löyly, hyvä hengi» – «В нашей бане очень хороший пар, хороший дух (дыхание)».
Для описания банного пара у карелов существовало множество эпитетов, метафор и сравнений:
Kyly löyly, kivosen lämmin, Hiki vanhan Väinämöisen, Kyynäl’ nuoren Joukahaisen! [621] Банный пар, каменное тепло, Пот старого Вяйнямёйнена, Слеза молодого Йоукахайнена!Это «вкусный хлеб Марии, медовый хлеб Лемминкяйнена» – «Marian mäkiä leipä, Mesileipä Lemminkäisen»[622]. Иногда пар называли «дыханием старого Вяйнямейнена» – «henki vanhan Väinämöisen». Пар «из многого хорошего сделан, многажды благословлен» – «Monista hyvistä tehty, Useasti siunaeltu»[623].
Карелы считали, что именно пар «делает баню баней», «медом входит в тело, болезни лечит, больные места смазывает»[624].
Пар был результатом взаимодействия двух враждующих стихий – огня и воды, которую человек бросал на раскаленную каменку. Как вода превращалась в пар, так и человек обновлял свое состояние в бане. Достаточно вспомнить сказочные сюжеты, бытующие у многих народов, в которых герою рекомендуется прыгнуть в кипящую жидкость, чтобы превратиться в прекрасного молодца. Каменка и ее камни были символом несокрушимой силы, которая выдерживала воздействие стихий воды и огня. А подчинив эти две стихии, человек направлял их мощь на укрепление своего здороья.
Банный пар и жар, с одной стороны, были целительны для человека, с другой, могли явиться источником болезни, если они были излишне горячи и проникали в тело. Поэтому, заходя в баню, карелы в первую очередь приветствовали банный пар и жар, чтобы они не навредили человеку:
Terve löyly, terve lämmin! Ei löylyn löytämistä, lämpöisen lähenemistä. Löyly kiukoe kivihin, lämmin saunan sammalihin! Здравствуй, пар, здравствуй, тепло! Нечего здесь пару искать, Теплу проникать. Пар, уходи в камни, Тепло – в банный мох!Или: «Terveh, löyly, terveh, lämmin. Ei go ole löylyn löytämisty, ei go ole saunan sanomistu» – «Здравствуй, пар, здравствуй, тепло. Нечего тут пару искать, бане говорить» [625].
На пар приглашали бога, чтобы он одарил парящегося здоровьем и покоем:
Tule löylyhyn, jumala, isä ilma lämpönähän, tekemähän terveyttä, rauhoo rakentamahan! Приходи на пар, бог, небесный отец, греться, здоровье творить, покой устраивать!Если кожа была повреждена или ранена чем-то железным, перед тем как идти париться, выдували пар изо рта в дверную петлю и произносили:
Löyly lämpöinen, jumalan luoma, elä mää kippeesee! Пар тепленький, Божье творенье, не входи в рану!Или:
Löylynen lämpöinen älä mäne kippeesen, rauvan hoav’ on jallassai, mäne kiukoe kivvee, savu saunan sammalee siel’ o hyvä ollakseis, paha sieltä tullakseis![626] Тепленький парок, Не входи в больное, в рану от железа на моей ноге, иди в камни каменки, дымом в банный мох, там тебе хорошо находиться, плохо оттуда выходить!Просили, чтобы пар превратился в «прекрасную росу, пчелиную мазь» – «kaunehiksi kastehiks, kimmahiksi voitehiks»[627]. Пчела в карельских лечебных заговорах – один из основных помощников знахаря, приносящий по его просьбе целебные мази для больного. Целительная сила меда и других производных пчелиной деятельности широко признана и современной медициной.
В Олонце укушенная пчелой женщина, заходя в баню, произносила:
Löylyn on kivosen lämmin hiki vanhan Väinämöisen. Mie olen raukka roanahinen, itse kiero kippiehinen. Пар – тепло от камней, пот старого Вяйнямёйнена. Я сейчас раненая, ты сам обойди рануВ чужой бане, помня о том, что плохие мысли являются источником болезни, просили, чтобы они стали подобными меду. Произносили:
Löylyseni, lämpöiseni, tule mesi mielelliseks, Simoseksi, seämelliseks! Парок, тепло, проникни медом в мысли, медовухой – вовнутрь!Лишний пар изгоняли «под банный порог»: «Siu peä lobiskoloi, Kyly kynnyksen alla!»[628].
С целью обезопаситься от излишего жара обращались к нему с заговором, прося защитить и дать «меда мужчине, железную шапку – крещеному» – «anna metty miehel, rauduhattu – ristikanzal». Если же вдруг в бане начинала болеть голова, делали специальную воду от жара räkkivezi. Для этого брали из каменки три уголька, опускали их в воду и произносили: «Беру не есть, беру не пить. Забери жжение огня, забери злобу воды из невинной души крещеного [имя]!» – «Engo ota syvvä, engo ota juvva. Ota tulituskat, ota vezivihat oigies henges ristikanzas [nimi]!»[629].
В Сямозерье, поприветствовав банный пар и банное тепло, боль изгоняли «под камни», жжение – «под столбы», свои мысли – «под нижние венцы» бани. Затем обращались к огню, чтобы он не обжигал своим жаром и не причинил человеку вреда:
Ota, tuli, räkki, Ota, tuli, tusku, Ota, kivi, kivut, Ota, ägei, ägei![630] Возьми, огонь, жар, Забери, огонь, щипание, Возьми, камень, боли, Забери, жар, жжение!Стихия огня и ее хозяйка tulen emäntä почитались карелами, как и все другие природные стихии и их хозяева. Именно поэтому, например, сильным лекарственным средством, обладающим антисептическими и гигроскопическими свойствами, считалась четверговая соль, которую готовили только в Чистый четверг перед Пасхой, особым образом прокаливая ее в печи до черноты. Огонь нельзя было разжигать или подходить к нему с «грязными» мыслями», нельзя было плевать в него. Считалось, что если прогневаешь хозяйку огня, к тебе пристанет особая болезнь огневица tulenlendämy, на лице и губах появяться прыщи. В таком случае в первую очередь следовало попросить прощения у хозяйки огня, а затем мазали прыщи чистой березовой золой или смешивали ее со свежими сливками. Существовал у карелов и такой способ лечения огневицы: зажигали от печи или от банной каменки (в зависимости от того, в каком локусе прогневалась хозяйка огня) три лучинки (иногда их было девять) и брызгали на них водой так, чтобы дым попал на лицо, как бы «съел, слизал» прыщики. Так человек сталкивал стихии воды и огня, которым поклонялся, и тем самым побеждал болезнь.
Когда топили баню для исцеления какой-либо хвори, делали это поздно вечером, перед сном, обязательно втайне от всех. Рекомендуемыми днями были вторник, четверг и суббота.
Дрова тоже требовались особые: поваленные ветром или сломанные во время грозы, а также засохшие пни. Брали всех видов понемногу.
Если топили баню для роженицы и для новорожденного ребенка, использовали щепки от самых верхних бревен риги или колосники, жерди, на которых обычно сушили снопы.
В Поросозере женщина, топившая баню, проветривала ее, закрывала двери и произносила такой заговор:
Phu! Kylyseni, moamoseni, Löylyseni, sisameni! Puhun suulla puhtahalla, Herran hengellä hyvällä, Läipöttelen lämpimällä. Eigä ole löylyn löytämistä, Lämpimän lähenömistä. Mänkeä, löylyt, saunan sammalii Tahiga kylyn karsinaa Kibehisen kylvend aijaks![631] Тьфу! Банька, матушка, Парок, сестрица! Говорю чистыми устами, Хорошим дыханием Господа, Нашептываю теплым [дыханием]. Нечего от пара искать, От приближения тепла. Уходи, пар, в банный мох, В банный подпол, На время, пока больной парится!Зайдя в баню, сплевывали и снова нашептывали эту же заговорную формулу.
Когда топили баню для лечения ребенка от разных детских хворей, для паренья использовали особые веники. Их чаще всего делали из ольхи и рябины[632].
Больного практически всегда обливали (мыли) или поили специально приготовленной водой. Для каждой болезни был свой способ приготовления, но чаще всего использовалась вода проточная, ключевая или из бурлящего порога. Через многие лечебные заговоры рефреном проходят слова:
Vesi on vanhin voitehista, Kosken kuohu kastehista, Jumala puhelijöistä[633]. Вода – старшая из мазей, Пена порога – из рос, Бог – из заговаривающих.Насколько было почтительным отношение к воде во время лечения, говорит и то, что слова заговора постепенно стали пословицей: «Vesi vanhin voitehista, paju – puista, mätäs – maista, tijani – ilman lintusista» – «Вода – главная из мазей, ива – из деревьев, кочка – из суши, синица – из небесных птиц»[634]. Духам-хозяевам воды требовалось обязательно оставить какие-либо дары, чаше всего это были красные тряпицы или нити, олово, серебро, ртуть.
В принесенную воду опускали различные магические предметы с целью усилить ее лечебный эффект. Эти предметы знахарь хранил в специальном берестяном туеске, берег их от постороннего глаза и никому не разрешал к ним прикасаться, чтобы они не потеряли свою магическую силу. Когда в бане происходил процесс передачи сакральных знаний от старого колдуна к молодому, вместе с ними передавался и этот берестяной туесок. Так, рассказывали в Галезере, что однажды старый могущественный колдун из д. Чууниеми Kliimoi пришел к своему родственнику и говорит: «Сват, возьми у меня колдовство и берестяной туесок, в котором колдовские предметы!» Мужчина поблагодарил, но отказался, побоявшись греха[635].
В воде часто растворяли заранее заговоренную соль, которая сама по себе обладала антисептическими свойствами.
Ливвиковская карелка 1856 года рождения говорила, что, готовя соль для того, чтобы уберечь ребенка от сглаза, постоянно произносят заговор «чистыми устами, языком без болей, зубами без злобы», заговаривают «не своими словами, а словами Святого Ивана, сильными заговорами Вяйнямёйнена», думают «не свои думы, а думы Вяйнямёйнена». Заговаривали от
suuren mieron suudeluksih, pahan mieron paginoih, kaiken ilman ajatuksih, mustinverizien, valgeiverizien, ristuverellizien, lyhyttukkien, pitkytukkien, paganhelmoin, verivittuloin. пересудов большого мира, разговоров плохого мира, помыслов всей вселенной, чернокровных, белокровных, с крестами, коротковолосых, длинноволосых, с погаными подолами, Женщин, кровью истекающих[636].Далее в заговоре перичислялись напасти, которые должны приключиться у тех, кто сглазит ребенка:
silmät verenny vuvvettahas, kalvot silmih kazvettahas, kippuloinnu kirvottahas. чтобы глаза кровью вытекли, перепонки на глазах выросли, чтобы болячками осыпались.Знахарка приглашала на помощь «Hiidrei, muidrei maasteri» – «Хиидрей (хитрого), мудрого мастера», просила его принести «воды и меда через девять морей, через половину десятого» – «tuo vetty i metty yheksäs meres ylitsl, puoles merdy kymmenetty», чтобы «омыть и очистить невинного крещеного младенца». Затем она обращалась к «Izoot’ei boabo, savaat’ei boabo, solovetskoi boabo» – «Изотей бабе, саватеевой бабе, соловецкой бабе», которая «омыла месяц, омыла солнце, омыла престол Сына». Подразумевалось, что эта повитуха присутствовала еще во времена творения мира и во время рождения Иисуса и таким образом обладает высшей мудростью и высшими силами. Знахарка просила омыть ее и этого невинного младенца, которого спасают от сглаза в данный момент [637].
У карелов существует много рассказов о том, что болезнь входит в человека в виде змеи mato. Это особенно мучительные состояния, от которых может избавить только очень сильный знахарь. Такие ритуалы всегда проводились в бане. Есть былички, в которых говорится, что болезнь выходит змеей из девушки на время пребывания ее в бане, лежит в ворохе белья, оставленного в предбаннике, и снова вползает в нее, когда она выходит одеваться.
Подробных рассказов о том, как вел себя tiedoiniekku, tietäjä знахарь-колдун во время процесса лечения больного в бане, сохранилось мало. Вот что известно об Игнате Лесонене, родившемся в Суолакше в 1812 году: «Игнат был колдун и лекарь, лечил людей от проклятья… В бане лекарь парил больных веником и приговаривал: «Удалитесь отсюда, лишние!» Колдун поднимает свой характер, вспылится, начинает прыгать, ругаться, рвать у больного одежду, треплет его и поливает водой»[638].
О Евдокиме Лесонене сообщается: «Евдоким был в свое время известнейшим колдуном в Суднозере. Многие приходили к Евдокиму за помощью, он и сам ездил в другие деревни по этому же делу, за что он получал какой-то доход. Однажды, находясь на сенокосе, он вылечил одну войницкую девушку. Этой девушке вдруг представились двое мужчин за рекой, которая была десять сажен шириной. Один из них перешагнул через реку и направился прямо к девушке, которая от этого так перепугалась, что упала в обморок, чуть жива. Тогда позвали Евдокима к девушке. Евдоким пришел, сходил в лес на место приключения, возился с ней, взъерошенный, а потом парил девку в бане. Девушка сразу поправилась, как рукой сняло»[639].
Одна из южнокарельских знахарок объясняла свои целительские способности тем, что заключила договор с лесным царем-медведем, которого карелы считали своим родовым тотемом и первопредком. Она говорила о себе: «моя рука все лечит, я ее давала медоволапому mezikämmenel»[640]. Здесь можно провести параллель с пчелой, которая также играла важную роль в лечебных заговорах карелов. И в то же время очень сильный знахарь-колдун мог пригласить в баню хозяина леса, чтобы тот забрал болезнь.
Все лечение, начиная с того времени, когда знахарь начинал топить баню, приносил особые дрова и воду, готовил соль или жир, весь процесс целительства в бане вплоть до ухода из нее, сопровождался заговорами. Сами заговоры, источник их появления, их использование и передача наследнику – все это было сакрально для карела. В лечебных заговорах очень часто знахарь звал на помощь сначала разнообразных божеств, духов-хозяев и их помощников (пчелу, лису и др.) в зависимости от источника болезни, а затем, в качестве крайней меры, призывал Бога, Иисуса и Деву Марию[641]. То есть влияние православия накладывалось на архаичные истоки заклинательной поэзии. Появление заговоров на земле карелы объясняли особым образом: «Все эти заговоры Иисус оставил, его зовут на помощь». Или: «Святая Богородица Pyhä Bohorodiccu, когда делала землю, она, стоя на высокой горе, сделала всякие заговоры loadi kaikkenmostu tietoivirtty. Кто слышал, тот и научился.
Minä mäen kulmas kuundelin Pyhä Bohorodiccy loidu. Hänen käsky s minun sanas[642]. Я на вершине горы слушала Творение Святой Богородицы. Её повеление в моем слове.Но следует признать, что, несмотря на все подчеркнутые в начале главы благотворные свойства паровой бани, ее санитарное состояние далеко не всегда сответствовало современным гигиеническим нормам. Общеизвестен один из афоризмов Диогена Лаэртского, когда он, зайдя в грязную баню, спросил: «А где мыться тем, кто мылся здесь?» Хотя и здесь многое зависело от хозяев, которым принадлежала приусадебная постройка, а карелы, по свидетельствам путешественников XVIII–XIX веков, были очень чистоплотным народом. Это одно из объяснений того, почему, согласно карельским верованиям, во многих случаях источником болезни считалась сама баня. Но при этом карел винил в этом не физическую грязь, которая могла быть в бане, а себя, считая, что он прогневал банных духов-хозяев своим поведением, брезгливостью или недопустимыми мыслями, за что они и насылали недуг. Это были такие болезни, как kylymoahine (экзема, кожная сыпь, волдыри), kylynnenä, kyty hine, kylypakana (чесотка), kylynvigahine, kylysittu (коньюктивит, трахома)[643]. В основном это кожные заболевания на руках, ногах и лице, которые начинаются с мелкой сыпи, потом могут появляться водянистые и даже гнойные прыщи и волдыри.
У поморов такая болезнь называлась «баенна нецись». Как писал И. М. Дуров, «по суеверному предрассудку поморов она пристает к человеку в бане во время мытья и паренья от баенных нечистот, если моющийся дурно помыслит о таковых. Для того чтобы не пристала баенна нечисть, человек, входя в баню, по убеждению помора, должен перекреститься и произнести Иисусову молитву» [644].
Карелы, например, в д. Чебино в таких случаях так и говорили: «Vieras sitta tuli kylystä» – «Чужая грязь (букв.: кал) пристала в бане». Лечили такую болезнь там же, прижимая больные места поднятыми с полу листиками, приговаривая: «Kus tulit, sinne i mene!» – «Откуда пришла, туда и уходи!»[645].
Сегозерские карелы в бане лечили нарывы, которые, как считалось, kylys tuli (пришли из бани). «Suuret ollah moizet siskat, kahajau kai, ni sanotah: kylys tuli» – «Большие такие шишки, стучит [пульсирует – Л. И.] даже, про такое говорят: из бани пришло». В таких случаях шли в баню, мылись, парились, затем поднимали упавший с веника листик, прикладывали к больному месту, трижды прижимали его painellah и читали заговор. В нем просили прощения у духов-хозяев бани за то, что прогневали их. Затем обращались к болезни, прося уйти ее. После этого листик укладывали на то же самое место, откуда его подняли. И так проделывали с трижды тремя, то есть девятью листиками[646].
Карелы, если «приставало от бани» kylystä heitäytyö (kylystä tarttuu), считали одним из основных виновников недуга банный пар. Поэтому, чтобы зло от пара löylynvihat и банный жар kylyräkki (что, по существу, было одно и то же) не навредили, карел, не переступив еще банный порог, трижды зубами покусывал верхнюю притолоку банной двери, брал зубами в рот сажу и копоть, приставшую к ней, и трижды как бы поскрипывал ею во рту. Открыв дверь в баню, трижды прикрывали ее, выпуская в щель пар, трижды вдыхали банный дым и трижды выдыхали его. Затем сразу же, зайдя в баню, перед каменкой читали такой заговор, одновременно и приветствуя банный пар, и изгоняя его излишний жар:
Terveh, löylyzeni, terveh lämmizeni, löylyt orzih, löylyt parzih, löylyt kylyn sammalih, kivut kivih, pakot paadoroloih, ei minuu Annie koskee. Здравствуй, парочек, здравствуй, тепло, пар – в жерди, пар – в бревна, пар – в банный мох, боль – в камни, болезни – в жаровню, чтобы меня, Анну, не коснулось.Затем плевали на каменку[647].
Тунгудские карелы в таком случае находили piästäjää знахаря-изба-вителя. Он трижды брал сначала щепотку банной земли, затем трижды мусор с пола и трижды осколок камешка из каменки, каждый раз кладя все это на место, с которого взял. И каждый раз, прикладывая это к больному месту, читал заговор (всего девять раз):
Kylynlöyly lämbimäini, mehöväini, hucuväini, ota omas icelläs, anna oma icellän oigiella raballa… [648] Банный пар, самый теплый, медовый, пышащий, возьми свое себе, отдай мне мое, праведной рабе.Ходили лечиться в баню только после захода солнца, когда уже все укладывались спать, по ночам. Землю из трех банных мест прикладывали к каждой болячке по три раза. Как говорит рассказчик, «это был долгий процесс». При этом все время нашептывали заговор, прося прощения за свою вину. После третьего посещения бани обычно начинался процесс подсыхания волдырей или гнойников. Иногда в баню надо было ходить до девяти раз[649].
Для лечения банных болезней использовали такие дезинфицирующие средства, как зола, уголь, деготь, щелок. Золой и дегтем мазали прыщи, волосы промывали дегтярной и щелочной водой. Полезное действие этих веществ подтверждено и современной медициной.
В бане можно было заболеть и от излишнего банного жара. Карелы так и говорили: «Räkki menöy ristikanzah» – «Жар входит в человека». Симптомы болезни могли быть самыми разными: болела голова или зуб, опухала нога. В таком случае брали из дома прокисшее тесто и шли в баню. Там в тесто клали три камешка из каменки и три уголька. Запекали это тесто на горячих камнях, накрывались и дышали этим паром, произнося заговор:
Ota, tuli, tuskas, Kippeläne kibiäs, tuo mettä medeläs kibiellä voiteiks, parannukses. Забери, огонь, жжение, Боль из раны, принеси медовый мед, чтобы больное смазать, вылечить.Эту заговорную формулу читали трижды[650].
Болезнь от банного жара так и называли kylyräkki. Если «нечистый человек» (например, женщина во время менструации) бросал на каменку воду для пара, kylyräkki могла пристать и к любому другому, кто в это время был в бане. Симптомы болезни могли быть разными. От этого могло пропасть молоко у женщины. В таком случае больного в баню приводили два человека, обладающие сакральными знаниями, parantaja и puhuja. Они стояли внутри бани, а больной лежал на улице, положив на банный порог только ноги. На пороге, локусе, связанном с духами предков, лечили многие болезни, например, больную спину. Изгоняя банный жар, знахарки держались скрещенными руками и трижды читали над больным специальный заговор kylynpaganan virzi:
Lämmitin tämän kylyn noil on puil on puhtahil, kadil on kaunehil, halloil on havuttomil. Neičyt moine Moarijoini, kannaz vetty kodjaloil, leuhkettele helmoil. Mingos sinä tuot vetty mezozeh, simoikse sydämeh, pahoil on parembi, kibeil on voidei, sinul on kivii, pakot on poaziloil. T’fui! sylgie! Натопила эту баню чистыми деревьями, красивыми руками, дровами нехвойными. Девица Марьюшка, принеси воды в нижнем белье, доставь в подоле. Ты принесешь медовую воду, она войдет медом вовнутрь, чтобы плохое улучшить, больное смазать, у тебя есть камни, боли – в щели. Тьфу! Плюнуть!После этого больной раздевался, садился oččulavčal на лавку у передней стены. Перед ним стояло ведро с водой, на которую трижды произнесли этот же заговор. Трижды шевелят угли в каменке, каждый раз читая это заклинание. Так же и с веником: трижды льешь на него воду и трижды читаешь заговор. Затем знахарь девять раз бросал воду на каменку и после каждого третьего раза произносил слова. Потом трижды крутил веником вокруг головы, трижды вокруг тела и трижды вокруг ног, при этом три раза произносил заговор. В целом получалось сакральное число: трижды девять, то есть двадцать семь раз1. Таким образом, во время ритуала лечения, знахарь обращался за помощью ко всем природным стихиям, присутствующим в бане: воды, огня, растительности. В заговорном тексте основной помощницей выступает Дева Мария, пришедшая на смену более архаичному образу пчелы.
Особенно было опасно, если банный жар заходил в уже больного человека: «если в рану зайдет жар, надо будет этот жар забрать» – «ku menöy kibieh räkki, tapahtuu räken otto». Тогда звали «Деву Марию боль от жара забирать» – «Neičyt Moarie kibuu räkkeä ottamah». Знахарь брал лучину, обязательно отколотую от боковой части круглого полена selgypäreh. В древних обрядах всегда используется именно круглое полено. Перед каменкой ее расщепляли на трижды девять лучинок. Восемнадцать из них помещали стоя в каменку и зажигали, обращаясь к огню:
Ota, tuli, tuskos, palavane – pakkos, raunivoine – räkkös, sydämel – siimaks. Забери, огонь, жжение, горящее – щипание, крайнее – жар, внутрь – медом.Затем знахарь делал специальную воду от жара räkkivezi. Здесь подразумевался в первую очередь жар заболевшего человека, то есть высокая температура. Знахарь шел к проточному источнику, трижды ведром закручивал по солнцу холодную воду и наговаривал: «Не беру есть, не беру пить, беру боль жара забирать. Не беру воду в долг, беру для жалости». В бане зачерпывал принесенную воду миской, закручивал ее приготовленной лучиной selgypäreh по солнцу и трижды читал заговор, прося воду забрать все виды жара: «Ota perttiräkki, ota päcciräkki, ota syöndöräkki, ota juondoräkki, ota kylyräkki, ota kiviräket» – «Забери жар избы, забери печной жар, забери жар от еды, забери жар от питья, забери банный жар, забери жар камней». Затем с помощью лучинок брали три уголька из каменки и опускали их в воду. Затем отпивали, удерживая во рту, глоток этой воды, а ее остатками промывали больные места – так проделывали трижды, воду каждый раз выплевывая после промывания. Но даже после таких ритуальных действий, как указывал рассказчик, «не все поправляются»[651].
Северные карелы, проживавшие в районе Войницы и Вокнаволока, когда приводили в баню больного, чтобы обезопасить его от вредного воздействия пара, обращались к невидимой «Санерватар, банной девушке (прислужнице)… в паре живущей, тайной девушке» – «Saner-vatar saunan piika… löylyssä asuva, piilten piika». Этот образ достаточно часто появляется в лечебных заговорах. Знахарь трижды бросал воду на каменку и просил Санерватар еще «подбросить пару, принести тепло в горячие камни каменки, пар – в банный мох». В заговоре подчеркивалось, что для выхода угара, лишнего пара и жара есть в бане «три дороги: одна – в дверь, вторая – в окно, третья – в щели между бревнами» – «Kolme on tietä mennäksesi: Yksi ovesta, toinen ikkunasta, Kolmas saunan salvamosta». Просили, чтобы жар не навредил, «не зашел в больные места, не проник в раны!» – «Ellos sie mene kipuihin, Ellos haavoihin hajotko!» А для этого нужно, чтобы он «в банном углу схоронился, в банном мху спрятался». Затем на пар приглашали «Бога, Отца мира (воздуха)» – «Jumala, Isä ilman», чтобы он следил за тем, что пар будет целителен для человека. После этого обращались к «Деве Марии, нашей матушке, милостивой дорогой матери» – «Neitsyt Maria emonen, Rakas äiti armollinen», чтобы она пришла «из-за реки, через девять морей и через половину десятого» и принесла «свежий веник». В руках у девы шесть чаш, а за спиной – седьмая, полные живительных мазей. Мазать ими больного приглашали Творца Luoja, который принесет воду, «данную Святым Духом»; а «медовокрылая simasiipi» (ласточка), пролетев под солнцем, – мед[652]. Мед в качестве мазей карелы использовали очень часто, об этом говорится во многих заговорах. Наряду с ласточкой (птицей, сакральной для карелов) очень часто его приносит пчела – насекомое, к которому карелы тоже относились с большим почтением.
В тот день, когда ходили даже в обычную баню, нельзя было заниматься сексом. Если «нечистая» женщина приходила в баню, то kylypak-апа банная грязь могла пристать и к другим людям. Заболевали глаза и веки. Это могло произойти от собственной мысли konzu iče duumaicou. В таком случае знахарь топил баню щепками от поваленного грозой дерева. Парить больного должен был хозяин бани. В баню надо было идти чистым: вымыть руки, не мочиться перед этим, до этого не спать с мужем. Знахарь приносил воду, взятую из проточного источника со словами заговора. Сам он поднимался на полки, а больной стоял перед каменкой, которая являлась самым сакрализованным банным локусом. Воду знахарь пропускал через камни каменки, тем самым обращаясь за помощью и прощением к духам-хозяевам бани. Этой водой, приобретшей, согласно верованиям, магические свойства, он промывал глаза больного. Затем знахарь усаживал больного на полки и трижды обводил веником вокруг головы, затем трижды вокруг тела и трижды вокруг ног, каждый раз произнося заговор. В конце веник бросали под полки, что в обыденной бане было запрещено делать кагорически[653]. Этим действием, скорее всего, знахарь подчеркивал свою силу и власть над хозяевами бани.
Очень часто карелы, например, в Паданах, считая, что болезнь наслал хозяин бани, не снимали вины и с себя. Они видели источник болезни в собственных «плохих мыслях» – «pahas mieles tuli». «Есть хозяин бани и хозяйка бани. У них прощения просят, если заболеют или если подумают чего плохого. Кланяются: “Хозяева бани, хозяйки бани, старшие бани и младшие бани, и средние – все простите меня, рабу Божью Настю”. Берешь [с земли или полу] листочек от веника, которым парился, и прикладываешь к больному месту: “Как этот листик здесь высох, так и все пусть на мне высохнет. Забери свое”. С какого места взял листик, на то и положить. Трижды такими листочками дотронуться. И перед уходом поклонишься, просишь прощения у хозяина и хозяйки бани: “…moasta taivahaa, taivahasta moaha soa, moozet midä mie duumaicin tiestä, moozet midä ajattelin tiestä. Proastikkoa roadi Hristaa, Hristaa roadi… от земли до неба, от неба до земли, может, я что подумала о вас, может, я что-то помыслила о вас. Простите ради Христа, Христа ради”. И болячки будут засыхать, и пройдет. Это хозяин бани. От плохих мыслей приставало»[654].
С целью обезопасить себя от хворей и от сглаза, особенно если в бане было много чужих людей, карелы-людики, заходя в баню, обращались к духу-хозяину: «Kylykuningas kuldaine, vast sulkuine, hibd vaskine, kaco I vardoiče kaikis vierahis pricinois, pahois duumis i pahois ajateksis!» – «Золотой король бани, веник шелковый, кожа медная, береги и защити от всех чужих плохих помыслов, плохих дум и плохих мыслей»[655].
В 1947 году в Ведлозере была записана быличка, в которой говорится о том, как женщина нарушила банный этикет и хозяева бани наслали за это болезнь. «В Сыссойле у женщины заболела нога. Врач не смог ее вылечить, и она пошла к знахарю. Они пошли вдвоем на кладбище, чтобы узнать причину болезни. На кладбище ответили, что она помочилась на подземных жителей. Немного попало прямо на стол. Если бы все попало на стол, она заболела бы очень сильно. Но раз попало немножко на ребенка, заболела только нога. Знахарь спросил, как вылечить болезнь. Оттуда ответили, что откуда болезнь пришла, там надо и лечить. И женщина вспомнила, что она однажды помочилась в бане и сразу же после этого заболела»[656].
Точно так же, как существовали болезни-носы разных локусов nenät, были болезни-хийси hiisi. Хийси в верованиях карелов – это изначально лесное божество, подобное лесному богу Тапио, которому поклонялись и приносили дары и которое охраняло лес, лесных зверей и птиц и открывало свои кладовые для охотников, находящихся под его покровительством[657]. Но постепенно образ Хийси, в отличие от Тапио, трансформировался в некое злобное мифологическое существо, очень близкое нечистой силе, враждебное по отношению к человеку и насылающее на него болезни. Превратившись в злобного духа, хийси стал олицетворением недугов, названия которых зависят от локуса, в котором они «пристают» к человеку. «Хийси – это то, что пристает к человеку и приносит боль, болезни. Есть лесной хийси metsähiisi, водный хийси vesihiisi, могильный хийси kalmahiisi, огненный хийси tulihiisi, земляной хийси maahiisi, и все они пристают к человеку. Везде есть свое существо oma olento, своя греховная жизнь oma syntis, свои духовные жители oma henkieläjät. Они показываются только перед плохим, в другое время не видны. В лесу человек испугается или ушибется, выругается – тогда пристанет лесной хийси metsänhiisi. Матерный хийси kironhiisi пристанет, когда материшься»[658]. Считалось, что у хийси есть жена «hippahammas, häjyn akka hippahattu»[659].
Если обнаруживалась такая болезнь, как kylyhiisi (это также название и недуга, и злобного банного духа, его наславшего), знахарь приводил больного просить прощения и исцеления в баню. У двери они кланялись, заходили в баню и произносили, одновременно обращаясь и к банным духам-хозяевам, и к водному божеству Ахти: «Золотой король бани, дорогой Ахти бани, прости меня. Если плохо сделал, неверно подумал, в твоем доме находясь». Затем отступали спиной один шаг, снова кланялись и снова произносили тот же заговор. Так проделывали трижды. Знахарь каждый раз чертил крест в отпечатке следа больного. Затем знахарь закрывал дверь бани, и они молча и не оглядываясь назад уходили[660].
Особенно опасными считались струпная хийси rupihiisi (вероятно, оспа) и гнойная хийси paisehiisi (возможно, чума). Карелы считали, что духи-хозяева этих болезней живут за банной каменкой istuu kiukan-perässä. Они «пристают к человеку от грязи в бане», то есть в наказание за то, что человек плохо вымыл баню, или сам нечист, или просто брезглив и допускает мысли о грязи и болезни. (Здесь уместно провести параллель с запретом бань в средневековой Европе, когда баню считали рассадником нечистоты, в том числе и духовной, и источником эпидемий). В результате на коже появляются прыщи, гнойники, фурункулы. Карелы этого хийси называли «хийси, адский ублюдок, тайный сын Вяйнямёйнена» – «hiisi, helvetin äpäre, salapoikka Väinämöisen». Этот самый плохой. Не знают, в какое время он пристанет. Когда его изгоняют в бане, говорят: «Съешь камни, слопай крупную гальку, съешь еще и это здесь!» – «Syö kivet, appaa somerot, syö vielä tämäkin tästä!”» [661].
Карелы считали, что многие болезни могут пристать от земли, такие болезни назывались moahiset (букв.: земляные). Это были чаще всего кожные заболевания, различные виды экземы. Их причины, согласно верованиям карелов, также могли быть разными. Карелы считали, что в любом локусе, будь это природная стихия или возведенная человеком постройка, в земле живет хозяйка земли moaemä. Она главная в своем сообществе, у нее есть и муж, и дети, и весь «обслуживающий персонал». Хозяев земли называли в соответствии с местом их проживания: банной земли хозяева kylymoan izändät, дворовой земли хозяева pihamoan izändät, водной земли хозяева vezimoan izändät, огненной земли хозяева tulimoan izändät, хлевной земли хозяева tanhutmoan izändät и так далее[662]. Каждая хозяйка земли, когда человек ее прогневает, насылала свою земляную болезнь moahine. Симптоматика болезней часто совпадала, поэтому место, в котором человек заболел (а следовательно, и где надо просить прощения pyydeä proskennöä) определяли или обратившись к знахарю, или во сне.
Карелы-ливвики считали, что такую болезнь можно получить в любом локусе. Они говорили: «Земляную можно получить от земли, воды, ветра, леса, дворовой земли, хлевной земли, банной земли» – «Moahistu voibi soaha moas, veis, tuules, mecäs, pihamoas, tanhuun moas, kylymoas. Käid, jallad halgoa»[663]. Очень часто moahine приставала в подполе[664].
От горячего приставала огненная земляная tulimoahine, от умывальника – земляная грязи ligamoahine [665]. Если прогневаешь деву поля pellon tytti, пристанетpellonmoahini полевая земляная, или полевая экзема. В разных мокрых, глинистых и болотистых местах, у колодцев и ключей жила земляная воды «vesimoahine, vesi hiitto Väinön poika, syöviitto Kalevan poika» – «земляная воды, водное зло, сын Вяйно, ненасытный сын Калевы». На сухих местах – сухая земляная «kuivamoahini, akka manteren alani, poikka pellon pohjimmaini» – «сухая экзема, баба подземная, парень самый нижний в поле».
В бане могла пристать земляная бани kylymoahini. Словарь карельского языка также дает одно из значений kylymoahihe не только как болезнь, но и как наименование одного из духов-хозяев бани[666]. Считалось, что она в особые обрядовые моменты может предстать перед человеком в образе рыжеволосой девушки. Ее так и называли: rupi tyttö, ruskie neitti струпная дева, рыжая девушка. И внешний вид (рыжеволосость), и обстоятельства, которые считались причиной болезни, свидетельствуют о том, что это дева огня, дева огненной земли. Она могла наслать болезнь, когда в корыто с водой падал раскаленный камень или если грязными были полки или лавки. Сямозерские карелы считали, что такой недуг может пристать, когда убираешь баню. Соответственно, на тех местах, откуда пришла экзема, и надо было просить прощения у духов[667].
Хозяйка земли moahaldie, живущая в бане, строго охраняла свои пространственно-временные границы и следила за соблюдением банного этикета. Карелы «боялись ночью идти в баню: дух земли схватит и привяжет к полкам»[668]. Если в бане выпустишь газы, moahaldie нашлет болезнь от банного жара, будет болеть голова[669].
Сегозерские карелы считали, что moahine можно лечить в погребе или на месте поленницы. Но самым лучшим локусом считалась баня, так как именно в ней можно было попросить прощения у духов-хозяев различных стихий: у земли, у огня и воды. Следовательно, баня была и самым опасным местом, потому что в ней можно было и прогневать всех этих духов. Экзема чаще всего появлялась на руках или ногах.
Лучшим временем для лечения экзем kuotellah moahizii считались три дня на неделе: воскресенье, вторник и четверг. Баню при этом топили вечером, после захода солнца[670].
«Moahine se on ruskie on da roittaa ku vezibuEkut» – «Земляная – это когда покраснеет да появятся водянистые волдыри». Если это случилось, надо было идти в баню, набрать воды, зажечь лучину. Затем брали щепотку земли (в бане сначала весь пол был земляной, а позже доски не постилали под полками), прикладывали к больному месту и произносили: «Ota muamuahine, ota muamuahine!» – «Забери, земляная земли, забери, земляная земли!» Землю снова высыпали на то же место, откуда ее взяли. – Затем касались больного места огнем: «Ota tulimuahine, ota tulimuahine!» «Забери, огненная земляная, забери огненная земляная!» После этого больное место смачивали водой: «Ota vezimuahine, ota vezimuahine!» – «Забери, земляная воды, забери, земляная воды!» И так проделывали трижды, каждый раз беря землю с нового места и туда же ее высыпая[671].
Банная земля считалась самой чистой, имеющей магические свойства. Именно на нее (а не на пол) выливали воду, которой мыли младенца. Ее сыпали под капусту и репу, чтобы защитить корень растений от вредителей[672].
В районе Колатсельги, чтобы излечить kylymoahine, сначала брали щепотку земли у банной каменки, прижимали ею болячку, произнося: «Огненная земля, банная земля, банная изба чистая, возьми свое, забери хворь» – «Tulimoa, kylymoa, kylypertti puhtahaza, ota omas, vie vigas». Второй раз брали щепоть земли из-под серебряной монеты, которая была засунута под первый венец бани во время ее строительства, когда таким образом выкупали землю у ее духов-хозяев. Третий раз – из-под упавшего листа от банного веника, которым парили больного. И каждый раз землю надо было положить туда же, откуда взяли: рядом с печью, под серебряную монетку, под листик[673].
На юге Карелии, например, в Видлице, болезнь, приставшую в бане, иногда называли visvarupi гнойная оспа. Тогда перед каменкой на земле рисовали три круга складным ножом, из каждого брали по щепотке земли, прикладывая ее к каждому прыщу и каждый раз возвращая землю на место, с которого ее взяли. При этом читали заговор, прося прощения как у хозяев земли, так и духов бани[674].
Хозяевам банной земли следовало оставить жертвоприношение: белые тряпицы в каждый угол бани. Затем взять землю из печи, приложить ее к болячкам и снова положить ее в каменку, обращаясь при этом к хозяевам и хозяйкам земли и прося их «отдать чужое и забрать свое»[675].
В заговоре обращались ко всем подземным жителям:
Maan izändäd, maan emändäd, maan kuldaine kuningas, maan died’oit, maan baabad, maan poijad, maan tyttäred, maan neveskäd, maan bunukad, maan sluugad, maan orjad, prostied luupostis, pomiluikaa bednostis, pahoiz duumis, pahoiz ajateksis![676] Хозяева земли, хозяйки земли, Золотой король земли, деды земли, бабки земли, сыновья земли, дочери земли, невестки земли, внуки земли, слуги земли, рабы земли, простите за глупости, помилуйте за бедности, за плохие думы, за плохие помыслы!Чтобы излечить земляную или moanvihat (букв.: зло земли), знахарь особым образом готовил соль или жир. На них он нашептывал специальный заговор, который так и назывался maan sanat слова земли. При этом различались несколько видов земли и по цвету, и по месту, и по другим признакам: «В земле лечишь земляную. Есть красная земля, белая земля, черная земля, серая земля, пестрая земля, банная земля, жилая земля, земля народа, огненная земля, дорогая мать-земля выносившая» – «Moas opid moahistu. On ruskei moa, valgei moa, mustu moa, harmai moa, kirjavu moa, kyty moa, etoi moa, kanzoi moa, tuli moa, moae-mä kallis kandaazeni» [677]. Заговоренную соль понемногу растворяли в банной воде и мылись или обливались этой водой в трех или девяти банях. Заговоренный жир использовали в качестве мази перед тем пареньем больного или (чаще всего) после того, как его попарили и облили водой.
В бане тоже знахари выделяли несколько видов банной земли, и у каждой из них была своя хозяйка. Например, в Колатсельге считали, что в печи находилась огненная земляная; в воде, которой обливаешься, – водная земляная; в самой земле – «настоящая земляная»[678].
После того, как определили, хозяйка какой земли прогневана, шли просить у нее прощения. Сначала приветствовали хозяев земли, обращаясь к каждому конкретно. Если это была хозяйка банной земли, заговор звучал следующим образом:
Terveh kylymoan izändät, Terveh kylymoan emändät, Terveh kylymoan vallad vanhembat, Terveh kylymoan kuldazet kuningahat, Terveh kylymoan papit, papad’d’at, Terveh kylymoan käskyläizet, kazakat, Terveh kylymoan suured, piened, Terveh kylymoan nuored, vahnad, Terveh kylymoan kaheksan kandah suah, Terveh kylymoan yheksän polveh suoh. Здравствуйте, банной земли хозяева, Здравствуйте, банной земли хозяйки, Здравствуйте, банной земли вольные старцы, Здравствуйте, банной земли золотые короли, Здравствуйте, банной земли попы и попадьи, Здравствуйте, банной земли слуги и прислужники, Здравствуйте, банной земли большие, малые, Здравствуйте, банной земли молодые, старые, Здравствуйте, банной земли жители до восьмого колена, Здравствуйте, банной земли жители до девятого поколенияДалее читали этот же заговор второй раз, вставляя вместо слова terveh здравствуй prostikkoa простите. Иногда можно было просто закончить первую приветственную часть просьбой о прощении, которая свидетельствут о заимствовании из русской православной традиции. Например: «Prostikkoa Nina ristikanzoa! Kristoa roadi gluppo glupostis!» – «Простите крещеную Нину! Христа ради за глупые глупости»[679]. Этот пример наглядно свидетельствует, как на древнюю карельскую заклинательную традицию накладывалась русская православная молитвенная формула. Карелы старшего возраста (особенно женская часть населения) вплоть до первой трети XX века практически не знали русского языка, они не понимали русскую молитву, но она в некоторой степени была близка архаичным заговорам [680]. Особое «плетение словес» создавало сильнейший эмоциональный настрой. Как считают некоторые музыковеды, способ интонирования и ритмические особенности произношения некоторых лечебных заговоров обнаруживают черты сходства с исполнением молитвенных текстов[681]. Это особенно заметно, когда в качестве помощников заговаривающего призываются образы, связанные с христианством, например, Дева Мария[682].
Некоторые знахари насыпали соль в специальную кружку, сделанную из нароста на стволе дерева, которая так и называлась pahkakuppi, или, если по какой-либо причине такого сакрального предмета не было, на деревянную дощечку. Затем подходили к печке и опускались на колени с ее боковой стороны, рядом с печолкой. Соль, читая заговор, помешивали кончиком складного ножа и обязательно по солнцу. Затем соль размешивали в воде. Этой водой мыли больное место, как говорили карелы: pestä maahista мыть земляную. Затем брали чистый веник, приготовленный для бани, и шли «подметать ту землю, где земляная пристала» – «lakaisemaan se maa, missä maahine tarttui». Соленой водой из маленькой посудинки кропили землю и веник и трижды подметали землю. Когда болезнь приставала от лесной земли тессытоап vihat, полностью обливались специально приготовленной соленой водой в лесу[683].
В районе Колатсельги записан еще один способ лечения, ливвики называли этот процесс moahistu opitah. Если у ребенка сыпь и покраснение появились на щечках, знахарка (или бабушка, мать) шла в баню и отрезала ножом (часто перочинным) круглый пласт земли рядом с каменкой. В других случаях можно было отрезать такой пласт, сдвинув большой камень, или в подполе. Этой пластиной прижимали больное место и произносили заговор от земляной moahizen virzi:
Madalad on mavol jallad, moahizel on vie madalembat, anna oma tervehys eäres, ota, moahine, oma icelles eäreh. Короткие ноги у змеи, у земляной еще короче, отдай мое здоровье назад, забери, земляная, свое себе,После этого относили земляной пласт на то самое место, откуда его взяли[684].
В другом варианте заговора следовало конкретизировать, к какой хозяйке земли обращаешься (tuli– kyly-, liga-, vezi-, pihamoahine):
Madalad on mavol jallad, vie madalembat kylymoahizel. Moahistu syömäh, peästäh, pellastamah, Anna-ristikanzoa puhtastamah[685]. Короткие у змеи ноги, еще короче у земляной бани. Земляную есть (грызть), освобождать, лечить, крещёную Анну очищать.Иногда симптомы от moahine были похожи на крапивные ожоги. В таком случае надо было дважды сходить в баню и попариться сухим веником[686].
Порой причины болезни и сам диагноз было очень трудно установить. Тогда говорили, что у человека viantauti болезнь от прегрешения. В Приладожье и Южной Карелии в таком случае больного приводили в баню, и знахарь призывал на помощь «в баню, на пар» сначала Juhanus Jumalan Ивана Божьего:
Tules tänne, tarvitahan, Tervehyttä tekemähän, Rauhutta rakentamahan! Приходи сюда, когда призывают, Здоровье творить, Покой сотворять!Затем с такой же просьбой знахарь обращался к «Укко, верховному богу, небесному отцу Ukko, Ylijumala, Tahi taatto taivahainen». Он просил, чтобы Укко стал его глазами и руками: «Miun silmin nähtyäni, Käsin päällä käytyäni!»
После этого знахарь парил больного и, произнося заговор, обращался к «Хийси, адскому плохому мужу» – «Hiisi, helvettihin, Mies paha», он называл его сатаной saatana. Как следует из заклинательной поэзии и верований, именно его карелы считали хранителем и созидателем всех болезней. Поэтому знахарь требовал, чтобы Хийси убрался прочь вместе с недугом в ад helvettihan и с этого момента не смел беспокоить человека. Заканчивался заговор обращением к Творцу, к природе, что еще раз подчеркивает неразрывное единство природного и божественного в древнем менталитете:
Päästä nyt, Luoja, päästä, luonto, Päästä, päällinen Jumala! Освободи теперь, Творец, освободи, природа, Освободи, верховный Бог!Затем следовало принести особое жертвоприношение природным духам и божествам, чтобы они помогли исцелить больного. Эта жертва, этот дар назывался verka. Для этого из ольхи, дерева, которое считали сакральным вследствие того, что его древесина имела красноватый оттенок, а ольховый отвар был похож на кровь, делали изображение или фигурку человека. Эту фигурку клали на больное место и снова парили больного. Затем отливали из олова крест, брали красную (чаще всего шерстяную) нить и все это вместе с ольховой фигуркой заворачивали в белую тряпицу – это и было жертвоприношение verka. Его относили чаще всего в лес, в особый сакральный локус: к муравейнику, к трехствольной ольхе – и оставляли там[687].
Verka, то есть жертвенный подарок, делали во время очень многих болезней, перед тем как шли просить прощения у духов-хозяев. Например, в Суоярви, если была банная болезнь kylymoahine, в льняную тряпицу заворачивали немного кофе, перевязывали этот сверточек нестиранной ниткой и засовывали его в щель под пол бани. Туда же наливали немного вина и произносили, обращаясь, к хозяйке-матери земли: «Täs siul verhat, prosti minuodani!» – «Вот тебе подарок, прости меня!» Карелы-ливвики, когда просили прощения у лесных хозяев konzu mecäs tarttui, относили красные или красные с черным лоскутки и нестиранные нитки к подножию трехствольной ольхи и засовывали это между стволами. Если человек был разбит параличом langeitauti, знахарь парил его в бане и после этого его грязное нательное белье относил в лес и надевал его на маленькую сосенку, чтобы одновременно и задобрить прогневавшихся лесных хозяев, и передать, а точнее – вернуть им насланную ими болезнь. Это тоже была verka. Если болезнь приставала от воды veis heitäytyy, тоже приносили verka: опускали в воду монетки и лоскутки, сыпали немного муки. В южной Карелии на Покров, когда закончился пастбищный период, пастух приносил verka и хозяевам леса, и хозяевам воды в благодарность за то, что они помогали ему пасти скотину летом. Verka, то есть мелкие монетки, опускали в могилу во время похорон, тем самым покупая землю у хозяев земли, чтобы они не требовали ее оплаты у покойника и он мог спокойно отправиться в дальнейший путь в иной мир Туонелы-Маналы. Покупали землю и когда начинали строить дом или баню, жертвоприношение-verha клали под первый венец.
Verhazen nostaa (то есть поднять verka) означало процесс, во время которого колдун узнавал, откуда пришла болезнь, кто ее наслал. Например, тверские карелы для этого усаживали больного под главную верхнюю балку в избе, трижды закручивали над его головой иголку, висящую на льняной нестираной нити, затем смотрели на его крест и знахарь видел истоки болезни. Иногда для этой цели использовали монетки, положенные в сито: «i sanou mistä on kibu tullun» – «и скажет, откуда болезнь пришла»[688].
Еще одна болезнь была vigahine. Считалось, что она может пристать в любом месте и от многих причин. Если идешь по дороге и наступишь pahan jälkiin (на плохие следы, то есть следы, оставленные нечистой силой). Если плохо скажешь или даже подумаешь о плохом, особенно в сакральных локусах и в сакральное время. Особенно часто это случалось в бане, причем от любой мелочи. Эта болезнь так и называлась kylyn-vigahine. Карелы так и говорили: omassa duumassa tulou от своей думы придет. Например, кто-то обливается водой рядом, брызги попали на человека, и ему стало неприятно, он подумал, что вода могла быть грязной: «и все, болезнь уже пристала к тебе!» После этого следовало самому или со знахарем прийти в баню, принести подарок духам-хозяевам бани и попросить прощения за свои дурные мысли: «Kylyn izändäizet, kylyn emändäizet, gu minä liennen teidy pahal ajatuksel ajatelluh, sanal sa-tatannuh, prostikkoa minuu! Andakkoa minul minun tervehyt, ottakkoa työ omat hyväizet!» – «Хозяева бани, хозяюшки бани, если я о вас плохо подумала, словом обидела, простите меня! Отдайте мне мое здоровье, вы свое хорошее заберите!»
Тверские карелы рассказывали такой случай. Провожали сына Михаила в армию. Сходили вечером в баню, и там к нему tarttui vigahine, заболели зубы, вся челюсть горела. Уже из армии сын написал, что боль такая, что он ничего не может есть: «Не можешь ли, мама, что-нибудь сделать?» Мать сходила в ту же баню, попросила прощения у духов-хозяев бани и отнесла три подарка, чтобы умилостивить их (это были три кусочка ленты: белая, цветная и черная). Оставляя дары, она произнесла: «Ottakaa, kylyn isäntäiset ja emäntäiset, pieni lahjaseni!» – «Примите, хозяева и хозяюшки бани, маленький подарочек!» В следующем письме сын написал, что уже выздоровел[689].
Если болезнь «пристала от воды» veis heittäytyy или veis tarttuu, сначала ходили на то место, где прогневали хозяев воды, и просили у них прощения. Затем ритуал исцеления продолжался в бане. Сегозерские карелы говорили, что «нужно три ночи ходить на берег и кланяться, а также ходить к колодцу и кланяться. Вечером колдун топил баню и мыл и парил больного тремя вениками»[690]. Иногда заболевшие «от воды» ноги мазали дегтем и, если сразу не помогало, парили в бане[691].
Северные карелы брали воду из трех родников, при этом каждый раз немного воды выливали обратно в родник. Зачерпывая воду, читали заговор, в котором обращались к хозяйке воды, прося ее прийти на помощь и забрать насланную болезнь:
Nouse kuomusta, kopea, Herasilmä, hettiestä, Rapakosta, rautahammas, Tämän pulman purkajaksi, Tämän taudin taittajaksi! Viijös viinana vihasi, Oluona omat pahasi, Meenä mielihautehesi! Встань из грязи, надменная, Лупоглазая из ручья, Из лужи железнозубая, Чтобы из этой трудности вывести, От этой болезни вылечить! Забери с вином свою злобу, С пивом свое плохое, С медовухой помысленное!Затем знахарка топила баню и мыла больного этой водой. После этого она лепила из подогретого олова кружок, посередине которого из лент был сделан крест. Его она в качестве жертвоприношения относила в последний родник, из которого брала воду, и туда же выливала остатки воды после омывания больного[692].
Иногда болезнь приставала к человеку в лесу. Ее называли mecännenä лесной нос[693]. Как симптомов болезни, так и способов ее лечения существовало множество. Но практически всегда процесс лечения проходил в двух локусах: лесном и банном. Баню в таком случае чаще всего знахарь топил поваленными грозой деревьями. В легких случаях считалось, что болезнь пройдет после того, когда больного попарят и рассеется весь банный дым и пар[694]. Но если лесное зло mecänvihat сильно досаждали человеку, следовало пойти в лес, предварительно уточнив место, на котором пристала болезнь, раздеться и полностью облиться заговоренной соленой водой. При этом под ногами больного должен лежать нож[695].
Иногда знахарь относил к корням сосны вино, красные тряпицы и яйца, чтобы умилостивить хозяев леса, наславших лесной нос. В одной из быличек рассказывается, как «через неделю Иван пошел посмотреть, что стало с дарами, а уже ничего нет». Затем знахарь делал соленую воду в деревянной плошке, помешивая складным ножом. Затем отводил больного в баню, парил его на полках, давая отпить заговоренной воды. После этого половину оставшейся воды выливал на больного, половину – в окошко. Во время всего процесса лечения знахарь «скрипел зубами, топал ногами и читал заговор, обращенный к лесным духам»[696]. Обычно такое поведение описывается, когда знахарь общался с духами, которые в ментальности карелов ассоциировались с нечистой силой.
Карелы-ливвики, когда распознавали, что болезнь случилась из-за того, что человек прогневал хозяев леса, начинали ее лечение в бане.
Больного парили. Затем знахарь прямо в бане делал изображение человека mieskuva и вместе с больным шел к лесному муравейнику, являвшемуся, согласно древнему менталитету, сакральным локусом, средоточием жизни лесных духов, которые могли представать перед человеком в образе муравья. Брал он с собой ртуть elävy hobju (букв.: живое серебро) и ячменные зерна в берестяном туеске. При этом оговаривалось, что для того, чтобы пойти в чуждое лесное пространство «на разговор с хозяином леса», необходим был еще один посторонний человек, свидетель-отводящий viijä. Придя к муравейнику, знахарь обращался к «всемогущему лесному королю, хозяину всех окрестных гор» и просил заключить «вечный союз». Колдун говорил, что он пришел возвратить долги хозяину леса и принес ему дары: «золото и серебро, вино и пиво» – «kullat i hobjat, viinat i oluot», то есть ртуть и ячменные зерна. Он просил «выпить с вином злобу, с пивом – свое плохое» и с этого момента больше никогда не насылать болезни на человека. Знахарь укладывал старую одежду больного на муравейник или надевал ее на растущую рядом молодую сосенку, здесь же оставлял в туесках капельки ртути и трижды девять, то есть двадцать семь, ячменных зерен. Иногда одежду разрывали и вместе с ртутью и зернами рабрасывали вокруг. После этого знахарь поворачивался спиной к муравейнику, произносил, обращаясь к хозяину леса, что все долги заплачены, и вместе с больным уходил молча, не оглядываясь назад. Считалось, что после этого леший должен простить все ранее нарушенные табу и больной должен исцелиться[697].
Mecännenä (лесной нос) считалась одной из самых опасных болезней, так как лесных духов карел воспринимал как наиболее вредоносных по отношению к человеку и только их на позднем этапе практически полностью ассоциировал с нечистой силой. Именно поэтому во время процесса лечения знахарь всегда делал изображение человека, на которое стремился перевести болезнь и злобу лесных духов. Изображение это могло быть разным. Его часто делали в бане: складывали из лучинок или рисовали углем на спиле дерева. Иногда обряжали в одежду больного небольшую сосенку.
Еще об одном варианте рассказала уроженка д. Колатсельга в 2015 году. Лесной нос можно принести из лесу на руках, поэтому, придя из лесу или с кладбища, необходимо сразу вымыть руки и дотронуться до печки. Можно принести болезнь и на сапогах, особенно если возвращаешься из лесу после захода солнца, что делать было запрещено, уж лучше было заночевать в лесной избушке. А дядя Володя пришел из лесу поздно вечером, да к тому же в тот момент, когда сестра рассказчицы Галя мыла крыльцо, тем самым тоже нарушая временные границы. К ней и пристала mecännenä, принесенная дядей со следами от сапог, которые поздно вечером смыла Галя. У девушки пошла кровь изо рта и из носа. Обратились за помощью к знахарке, бабушке Агеевой Agein ЪоаЪо. Она с помощью камней и воды определила oppi, откуда болезнь: девушка прогневала духа-хозяина леса mecänizändy, поэтому пристал лесной нос mecännenä tarttui. После этого знахарка взяла кочергу, надела на нее старое платье девушки и повязала ее платок, а затем ночью пошла в лес просить прощения у лесных хозяев. Вернувшись оттуда, отправилась в баню, сделала там соль loadi suolat и после этого привела туда Галю, где и завершила процесс изгнания-исцеления болезни.
Многие болезни, как считали карелы, насылаются ветром, их называли нос ветра tuulennenä. Особенно опасными считались смерчи, очень сильные ветра, когда вихрем могло закрутить столб сена или мусора. Именно это природное явление карелы называли острием или носом ветра. Считалось, именно в таком виде перед человеком предстает дух ветра, который чем-то прогневан и готов наслать любую опасную болезнь вплоть до сумасшествия. Во время сильного ветра карелы обращались к «деду ветра, бабе ветра, древней хозяйке ветра» и просили успокоиться, прекратить «работу»[698].
Согласно карельским верованиям, у ветра, как и у любой природной стихии, был свой мир, свое царство, в котором жили «хозяева ветра, хозяйки ветра, белые прародители ветра, золотые короли ветра, сыновья ветра, дочери ветра, прислужники ветра…»- «tuulen izändät, tuulen emändät, tuulen valgiet vahnembat, tuulen kullat kuningahat, tuulen poijat, tuulen tyttäret, tuulen kazakat…»[699]
Сам нос ветра tuulennenä не только был персонифицирован, но и обладал голосом. В одной из сямозерских быличек говорится, что колдун по просьбе женщины отправил по ветру болезнь на ее соперницу. Женщина вовремя увидела приближающийся вихрь и успела спрятать дома, закрыв двери и окна. Из пронесшегося мимо вихря послышался голос: «Хорошо, еще дверь не открыли! Если бы открыли, тогда не только дети, внуки бы попомнили!»[700].
Карелы верили, что такие ветряные вихри (их еще называли törmy) может создавать и очень сильный колдун, насылая через них на человека проклятие. Одна из рассказчиц в Реболах говорила: «Tuulennenä se on… buito työnnös, työnetää… se pyöriu, näit: tuulen nenä matkoau»-«Hoc ветра… это как бы отправленное, отправляют… он крутится, видишь: нос ветра движется». В таком случае следовало отвернуться, встать к нему спиной и левой рукой за спиной показать кукиш. «Stobi ei tubs, sit sellin keändyy tuulennenä» – «Чтобы не пристал, тогда нос ветра развернется [и пойдет в другую сторону – Л. И.]»[701]. Иногда, например, в д. Лахта нам рассказывали, что рекомендовалось лечь на землю и не подниматься, пока вихрь не пройдет мимо[702].
В то же время нельзя было пугаться ветряного вихря, надо встретить его спокойно и быть уверенным в своей силе и защите духов и молитвы. Иначе все, что он впитал в себя: «pahat vintiit, kirot, kaikki noijannuolet, kaikkien pahojen inehmisien pakinat» – «порчу, проклятия, все колдовские стрелы, всех плохих людей разговоры» – может войти в испугавшегося человека и привести к болезни или даже смерти[703].
Вот как во второй половине XIX века И. Камкин описывал одну из болезней, насланных колдуном по ветру: «Стоит только корелу не угодить чем-нибудь колдуну, ему не миновать беды. Колдун непременно напустит на него порчу, то есть небыкновенную, страшную болезнь.
Чаще всего напускается карельскими колдунами порча под названием стрелы или стрельё. Порча эта обнаруживается сильным, мучительным колотьем, стрелянием во всем теле больного. Уверяют, что при натирании больного в бане из тела выходят кусочки стекла, песок и разная шерсть. В этих-то веществах и напускается порча. Чтобы напустить ее, волшебник наполняет названными веществами коровий рог, говорит заклинание и, став по направлению ветра, дует в узкое отверстие рога; положенные вещества тотчас же вылетают и, подхваченные ветром, несутся прямо к лицу, обреченному на болезнь. Болезнь эта такова, что никакие средства не в силах излечить ее, и больной после более или менее продолжительных страданий умирает. Но та же порча стрелы бывает и не столь опасна, когда она напускается не из мести, а просто из удовольствия на какое-нибудь имя; так, например, если она напущена на имя Степана или Ивана, то первый попавшийся на пути Степан или Иван и делаются жертвами напуска. В этом случае она может быть вылечена при помощи знахаря, хотя и тут выходят из тела больного песок, стекла и шерсть… Лечение во всех болезнях (исключая только порезы, лечение которых ограничивается заговором раны и прикладыванием к ней разных снадобий) состоит в том, что больного парят и растирают в жарко натопленной бане, причем знахарь поит его наговоренною водой»[704].
Когда такого больного парили, знахарь подчеркивал, что у него в руках «медовый веник из медового леса» – «metinen vasta metisestä metsäsestä». Он говорил, что изгоняет боль в горячие банные камни, что она уходит в раскаленную каменку вместе с текущей водой, которую бросают на камни, и бесследно сгорает в ней или переходит в камни; остатки недуга вместе с паром уходят в банный мох[705]. То есть, согласно карельским верованиям, сама баня как бы впитывает в себя недуг, исцеляя человека.
Карелы считали, что нельзя сердиться и ругаться, когда поднимается сильный ветер. В одной из быличек рассказывается, как «однажды Анна пошла на поле, чтобы разбросать навоз. Вдруг поднялся сильный ветер, закружил все. Она рассердилась и, выпустив газы, выругалась на него: «Остановись!» Нос ветра tuulennenä обиделся на нее, и у нее заболели колени. Нос ветра пристает, когда ругаешь ветер. Когда поднимается ветер, надо быть осторожной, всегда можно заболеть. Тогда надо просить прощения у ветра»[706].
Если весной на коже появлялись красные прыщи, их причиной считали свежий весенний ветер. Надо было пойти в лес, нарвать сросшиеся пучками маленькие веточки на березе или ольхе. Карелы называли их tuulenpesä гнездо ветра или tuulenkobru горсть ветра. В бане знахарь со словами заговора лил через эти пучки воду на голову больного.
Тверские карелы считали, что ветер может наслать глазные болезни. П. Виртаранта записал такую быличку. «Дуня накануне Покрова срезала с отцом кочаны капусты на поле. На обратном пути отец управлял лошадью, которая везла нагруженную телегу, а она шла рядом. Вдруг отец вскрикнул: “Ой, что-то кольнуло в глаз!” Править лошадью он больше не мог, уступил место дочери. А на следующий день уже и не видел ничего, словно «платок на глаза завязали». Пришлось обращаться к знахарке, которая просила прощения у ветра: «Tuulen isäntäiset, tuuleh emäntäiset, antakaa anteeksi! Miltä häh lieneekin teidät suututanut, millä lienee vihastutanut, niin Jumalan palvelijälle Vasjalle antakaa anteeksi!» – «Хозяева ветра, хозяюшки ветра, даруйте прощение! Если он чем-то вас рассердил, чем-то прогневил, простите Васю, раба Божьего!» И глаза стали видеть!»[707]
В другой быличке рассказывается, что мужчина так ушиб глаз, что ничего им не видел. Пришлось ему идти к колдуну. Тот затопил баню и повел мужика в лес. С собой взял три глиняных кувшина и котелок. Пришли на болото, к роднику. Он установил крест-накрест три специальных ольховых жерди, повесил между ними котелок. На землю между каждой жердью положил по ольховому венику. В котелке согрели воду, собранную во время грозы. Больной полностью разделся, и колдун промыл ему этой водой глаза так, чтобы вода снова стекла в котелок. После этого он сам отнес эту воду в лес, не разрешив больному посмотреть, куда он выльет эту воду. Мужик оделся, и, когда колдун вернулся из леса, они пошли домой, при этом нельзя было оглядываться назад. Баня уже была готова, и колдун стал в ней парить больного, читая при этом заговор:
Necyt Moarie emoni, rakas äiti armollini! Kun jouvuitj oven takana, niin jouvu jo vesta poikki; satut aitojen perillä, kun kuulet hätäsen eänen, pakkohisen parkuossa, hätähisen huutoassa, tuos mulla simani siipi, vasta varjopuolissani, (hyppii ja lyö vastalla) jotta kulmat puhki saisin, läpi riekamet repisin ihosta imehnisraukan, emon tuoman ruumisesta, vaivasesta vartalosta ennen päivän koittamista, auringon ylemistä, jotta saisi sairas moata, heikko henkesä levätä. Мать наша, Дева Мария, дорогая мать милостивая! Если ты оказалась за рекой, то перейди реку; окажешься рядом с амбарами и услышишь голос нуждающегося, от боли стонущего, от хвори голосящего, здесь у меня медовокрылая, веником заслоненная, (прыгает и стегает веником) если бы смог виски рассечь, все вырвать, из кожи человеческой, из тела, матерью выношенного, из больного туловища, пока солнце не взошло, светило не встало, чтобы могла больная уснуть, ослабленная душа отдохнуть.После этого колдун облил холодной водой больного, отнес его одежду на улицу и там вытряхнул ее. Мужик оделся и, как рассказывал потом: «Ja kyllä se auto!» – «Это помогло!»[708].
Во многих карельских былинках рассказывается, что многие хозяева болезней (носы) взаимосвязаны друг с другом. Ливвиковская карелка из д. Колатсельга рассказывала, что нос ветра и лесной нос – братья: «Это братья! Братья! Ветер спрашивает у леса. Лес спрашивает у ветра… Поди знай, что спрашивают!.. Если ветер, то голова болит. А если лес к человеку пристанет, тогда тошнит, аппетита нет, то колет в спину, то в какое место, не дает груди дышать. Тогда уже догадываюсь – лесной нос»[709]. Карелы-людики считали, что если утром встанешь и выйдешь на улицу, не умывшись и не перекрестившись, «niin tuulesta tarttuu metsännenä» – «то от ветра пристанет лесной нос»[710].
Лечили в бане и ячмень koiran nänni (букв.: собачий сосок), гнойное воспаление сальных желез века. В одном из фольклорных текстов рассказывается, что однажды у Мартти образовался такой большой ячмень, что даже глаз не закрывался. Для этого, как говорит рассказчица, «зимой баню натопили в доме», используя при этом ольховые ветки. Принесли ольховый веник, который часто использовался в лечебной бане. Знахарка принесла из реки воды, «заплатив за нее деньги». Чаще всего эту болезнь лечили, видимо, в обычной бане. Да и в данном случае, возможно, под «баней в доме» подразумевается просто баня, принадлежащая данному дому, своя приусадебная баня. Поэтому рассказчица говорит, что знахарка трижды открывала банную дверь не руками, а ножом и произносила заговор, подчеркивая мощь своей магии и собственное всесилие:
Mie tulen tähä kylyhyn, Soamme sammalhuonehesen, Miekalla oven avasin, Säkehellä säilähytin, Miull’ on suussa suuret voimat, Vatsass’ on varat väkevät, Rikkehiä riisumahan, Katehia koatamahan, Vihollista voittamahan. Я захожу в эту баню, В моховое строеньице, Мечом дверь открываю, Огненным распахиваю. У меня во рту огромные силы, В животе сильные обереги, Чтобы сор развеивать, Сглаз уничтожать, Ненависть побеждать.Она вводила в баню больного. Подчеркивается, что из бани выходить нельзя было, пока она не разрешит. Знахарка начинала хлестать больного ольховым веником и произносить лечебный заговор. Рассказчица при этом отметила, что знахарка все делала, призвав на помощь духов, то есть «их силой»: «Haltian voimall roaetaa». Заговор, как множество архаичных наиболее полных вариантов, начинается с мотива происхождения болезни. В данном случае это «Происхождение собаки Koiran synty». Это связано с карельским названием болезни. Если русские уподобили внешний вид глазного нарыва ячменному зерну, то карелы увидели в нем собачий сосок.
Louhi, Pohjolan emäntä, Perin tuulehen makasi, Tuuli teki tiineheksi, Vaivasen vatsan kerällä. Mitä, konna, kohussa kanto? Koirija kohussa kanto. Лоухи, хозяйка Похъелы, Спала задом на ветре, От ветра забеременела, Понесла в больном животе. Что подлая жаба в животе понесла? Собак в животе понесла.Далее знахарка, стремясь напугать болезнь и продемонстрировать свою силу, говорит, что у нее есть «черная собака с шерстью цвета горячего железа», которая «съела сотню мужчин, тысячу мужей». Знахарка грозит скормить болезнь этой собаке: «Vielä sille siunki syötän!», если недуг не уйдет добровольно. Затем в заговоре подробно описывается та мифическая расположенная на горе страна севера Похъела, куда изгоняется болезнь и откуда она родом. Сама болезнь представлена в виде «голодного мужчины», которого на родине ждет прекрасное угощение из «безкостного мяса, безголовой рыбы luuttomoa lihoa, peättomeä kaloa», приготовленное многочисленными плачущими родственниками. В качестве проводника знахарка обещает дать огромную серую лошадь хозяина Хийси, «большую и мясистую suuren ja lihavan», на спине которой помещается целая ламба. Она грозится привязать болезнь к лошади «шелковыми лентами», на ноги надеть лыжи Хийси, а в руки дать «ольховые палки Лемпо», чтобы конь отвез недуг в земли Хийси и Лемпо. Лошадь в мифологиях многих народов выступает в качестве проводника в иной мир духов, который в данном случае располагается на горе и на севере, локусах, типичных для проживания различных карельских хозяев и божеств. Не менее часто в качестве иномирных локусов указывается и остров, болото, другой берег реки, подземное царство. Хийси и Лемпо – это мифологические существа, прошедшие в течение многих веков процесс постепенной трансформации от образа позитивных божеств до злобной, враждебной человеку нечистой силы[711].
Произнеся заговор, знахарка мыла больного речной водой, а ее остатки уносила туда же, откуда ее взяла. В том же месте она топила веник, предварительно развязав его[712].
В народной медицине очень часто действовал принцип: подобное уничтожается подобным, то есть заместительная терапия. В соответствии с этим существовал еще один способ, как избавиться от ячменя, или, как говорили карелы, «собачьего соска». Карелы-ливвики пекли блин, прижимали его к больному глазу, а потом скармливали его собаке[713]. В Енисейской губернии русские ячменым зерном очерчивали ячмень на глазу, затем больной бросал зерно в пламя и выходил на улицу: так стихия огня побеждала стихию растительности[714].
Очень опасными считались болезни, которые насылались во время посещения кладбища. Они так и назывались калма, то есть могила, kalma или могильный нос kalman nenä. Это был некий мифологический персонаж, его называли «kalma, Jumalan luoma» – «калма, Божье творенье». В его силах было как наслать болезнь на провинившегося в чем-то человека, так и забрать ее. Считалось, что очень часто исход таких болезней трагичен для человека. К тому же они иногда могли пристать к человеку не только в кладбищенском, но и в другом, очень опасном для человека локусе, в лесу[715]. Поэтому можно предложить еще один перевод этих терминов как «смертельная болезнь». Э. Леннрот считал, что калма – это дух смерти[716].
Весь процесс исцеления от такой болезни особенно глубоко основывался на мифологических воззрениях. За лечение таких недугов брались только очень сильные колдуны, обладающие особыми знаниями и особой мудростью. К тому же считалось, что у них должны быть особые сакральные предметы, которых в распоряжении обычных знахарей, конечно же, не было. Подготовительный процесс и лечение было очень длительным.
На севере Карелии в конце XIX века Сергей Потафьев в деревне Киисйоки рассказывал слышанное от деда. Карелы считали, что если калма длится очень долго и при этом не наслана каким-либо колдуном, а пристала в лесу, то к ней присоединилось еще и враждебное по отношению к человеку воздействие различных пород деревьев, которые, согласно мифологическим взглядам, воспринимались карелами как живые существа. В таком случае иного способа изгнать болезнь, кроме как в бане, не было. Следовало натопить баню особыми дровами. Для этого шли в лес и собирали сушняк всех видов деревьев, которые растут в данной местности. Плюс к этому обязательно использовались засохшие пни, поваленные грозой и бурей деревья. В веник тоже добавляли свежие ветки от всех пород деревьев. Воду брали из глухой ламбы, ключа и речного порога. В эту воду опускали череп человека, лошади, собаки, кошки, змеи, лягушки, ящерицы, медведя, talvijaisen, глухаря, орла, щуки. Затем добавляли шершня, старый молот из кузницы, которым раньше ковали железо, и камни из порога, которые достали из такой глубины, до которой не доходит солнечный свет. При этом всегда следовало прятать эти камни в такой темноте, чтобы луч солнца не коснулся их и во время хранения. Еще требовались щепки, найденные на месте старой поленницы, при этом подчеркивается, что не должно быть известно, кто их рубил. К этому добавлялись старые, вышедшие из употребления деньги, наросты со стволов всех пород деревьев и нитки, опавшие на пол во время тканья. Затем эту воду со всем содержимым греют на каменке в котелке. При этом колдун tietäjä постоянно помешивает ее старым мечом, «бывшим в сражениях», читая заговоры о происхождении synty всех этих предметов, лежащих в котле. Только после этого в баню приводят больного. Его знахарь в первую очередь обливает холодной водой. Затем рвет и со злостью срывает с него одежду, произнося «в злобе и исступлении» заговор. Он обращается к нечистой силе, черту или сатане perkkele, saatana, прося ее при помощи его рук забрать болезнь, при этом называет больного своим сыном:
Ota, perkele, panosi, Saatana, satahisesi, Minun käsin käytyväni, Hengin huokaeltuvani! En minä yritä yksin Enkä kaksin kaapsahtele. Jos minä yritän yksin, Yheksän yrittänevi, Jos minä kavahan kaksin, Kaheksan kavahtanevi Minun poijan puolellani, Yksinäisen ympärillä. Забери, черт, насланное, Сатана, причиненное, Моими руками излечиваемое Дыханием выдуваемое! Я не один пробую, И не вдвоем скачу. Если я пробую один, Девятеро пусть присоединятся, Если я скачу один, Пусть восемь заскачут На стороне моего сына, Вокруг единственного.Затем знахарь начинает парить больного, призывая на помощь Бога, если для исцеления не хватит его собственных сил:
Kuin ei lie minussa miestä, Ukon pojassa urosta, Tulkohon j oku jumala Tämän päästön päästämähän, Nämä j aksot j aksamahan, Nämä rienat riisumahan, Perkeleet pelottamahan, Syömästä, kaluamasta, Ristittyä rikkomasta, Kastettua kaatamasta! Если не получится из меня мужа, Из сына Укко жеребца, Пусть придет бог От этого недуга освобождать, Эту одежду раздевать, Эту порчу снимать, От черта освобождать, Поедающего, точащего, Крещеного губящего Водой освященного валящего!На наш взгляд, здесь знахарь все-таки обращается к языческому богу jumala, потому что он называет себя сыном Укко. Но в то же время больной назван крещеным, принявшим водное освящение. Хотя водным освящением является не только христианское крещение в воде, но и языческие купания во время летних Святок Veändöin aigu, когда карелы (и многие славянские народы) так смывали с себя свои годовые грехи.
Этот заговор, являвшийся проводником в мир и из мира мертвых manaus ja kyytitys sahoja, произносился несколько раз, все время, пока знахарь парил больного. Затем больного мыли чистой водой, надевали на него чистые одежды и отводили домой, не оглядываясь назад. Таким образом больного колдун как бы выводил из мира мертвых, куда его пыталась затащить смертельная болезнь kalma. Поэтому оглядываться назад нельзя, как и в большинстве обрядов исцеления. Достаточно вспомнить греческий миф об Орфее и Эвридике или ветхозаветный рассказ о Лоте, пытавшемся с помощью Божьих ангелов вывести свою жену и детей из проклятых богом Содома и Гоморры. В этих мифах конец трагичен, так как нарушается табу: Орфей оглядывается, чтобы посмотреть, идет ли за ним любимая, и она снова исчезает в царстве Харона; а жена Лота, оглядываясь, бросает прощальный взгляд на виднеющийся вдали родной город и превращается в соляной столп.
После того как больной ушел домой, колдун относил оставшуюся воду в лес, выливая ее на корни каждого дерева, с которого были взяты сухие ветки на дрова и ветки для веника; затем на кладбище и на место старой поленницы. Последние остатки воды вместе с котелком он выбрасывал в речной порог и там же топил взятые камни. При этом везде оставляют немного серебра или ртути в качестве жертвоприношения духам леса, деревьев, воды и кладбища. Черепа убирают на хранение до следующего раза. Одежду, которую знахарь порвал на больном, топят в речном пороге или сжигают на перекрестке трех дорог. Оставшуюся золу надо было трижды бросить на ветер и сказать еще один заговор:
Mene tuulen tietä myöten, Ahavan reki ratoa Pimeähän Pohjolahan, Tuiman tunturin lajelle, Tuulen tuuviteltavaksi, Vihurin viihyteltäväksi! Siellä on tuuli tuttunasi, Ahava aikasi kuluna[717].Иди по дороге ветра,
За колесами телеги холодного ветра
В темную Похъелу,
На вершину суровой горы,
Чтобы ветер укачивал,
Вихрь развеивал,
Там твой ветер знакомый
Вечный холодный ветер.
Так сожженную болезнь пеплом по ветру отправляли в мрачную северную Похъелу, страну холода и темноты. Символичными параллелями к ней в заговорах выступают Манала (подземный мир) и Тоунела (иной мир) – царства, являющиеся пристанищем мертвых. Только предприняв все эти меры предосторожности, знахарь мог идти домой, зная, что болезнь больше не пристанет даже к тому, кто первым пройдет по этому пепелищу. Карелы верили, что если колдун не отправит болезнь именно по ветру в страну мертвых, а отправит ее по дороге, то она с еще гораздо большей силой набросится на первого, кто пойдет по этой дороге.
От старого Стефана Кананайне в 1888 году в д. Кестеньга записан рассказ о том, как лечили от калмы еще во времена его деда. Если калма пристала от воды и болезнь длится уже три года, это означало, что уже добавились и kiroja проклятие, hevoskalma лошадиная калма, metsän nenä лесной нос и другие. «Niin se ei lähe muuten, kun pitää sauna lämmittää» – «Тогда она иначе не уйдет, надо натопить баню». В качестве дров использовали деревья, разбитые грозой, поваленные ветром и принесенные водой, а также брали на кладбище щепки от старого гроба или надгробия. Эти щепки клали в банную топку первыми. Веник делали из веток с девяти разных пород дерева. Воду брали из водопада, при этом колдуну следовало попросить, чтобы хозяин воды vein haltia (vein väki) пошел ему помогать. Воду брали в таком месте водопада, в котором пена крутится на воде по солнцу. Следовало в эту бурлящую воду, покрытую пеной, наскоблить серебра и произнести:
Ukko kultanen kuninkas, Vein Ahti armollinen, Ahti aaltoen isäntä, Sata hauvan hallitsia, Tule minun turvakseni, Voimaksi vähä väkisen, Siellä on tuuli tuttunasi, Ahava aikasi kuluna. Miehen nuoren miehueksi! En sinua tyhjin taho, Enkä paljolla palkalla, Paha on orja palkattaan, Paha paljon palkan kanssa. Ota nyt kullat kuppihiisi, Hopeat vakkahaasi! Kullalla mie kuikuttelen, Hopealla houkuttelen; Nämä on kullat kuun ikuset, Päivän polviset hopeat[718]. Там твой ветер знакомый Вечный холодный ветер. Укко (дед), золотой король, Водный Ахти милостивый, Ахти, хозяин волн, Сотнями ям правящий, Приходи ко мне на помощь, Чтобы силу мне придать, Молодому мужу – мужество! Я тебя не даром зову, Но и не за большую плату, Плох жеребец бесплатный, Плох и за большую плату. Возьми теперь золото в чашечки, Серебро – в туесочки! Золотом я завлекаю, Серебром заманиваю; Золото это лунных времен, Серебро – солнечного поколения.Далее больного, призвав на помощь водного короля Ахто, парили в бане.
Но все же чаще всего калма или нос калмы приставал к человеку на кладбище. Поэтому существовало множество как различных табу при посещении этого локуса, так и разнообразных оберегов. Идя на кладбище, клали в карман или за пазуху три хлебных крошки, три маленьких камушка или кусочка глины от печи, красную ленту, прикалывали к подолу булавку. Придя на кладбище, следовало перекреститься и попросить прощения у умерших предков вплоть до девятого колена[719]. Бросать землю в могилу можно было только лопатой или какой-нибудь щепочкой, а не голой рукой. Сначала это делали чужие люди, каждый по три раза, и только когда гроб уже не был виден, землю бросали близкие родственники[720]. На кладбище нельзя было смеяться, шуметь, ругаться, ломать или брать что-нибудь домой. Запрещалось есть кладбищенские ягоды. Уходя с кладбища, следовало ополоснуть руки в реке или ручье, а придя домой, приложить их к печи. Тем самым смывали кладбищенскую грязь и холод и вставали под защиту домашних духов.
Лечили в бане и langieva tauti паралич. Иногда считалось, что эту болезнь насылает злобный дух воды Хийси, поэтому второе название болезни было vesihiisi. Сначала знахарь парил больного, затем прямо в бане делал его изображение kuva. После этого колдун шел на порожистую речку, находил порог, вода с которого падала на северную сторону (север ассоциировался с тьмой, холодом, болезнями, злыми духами), и связывал над этим порогом верхушки двух деревьев, растущих на противоположных берегах реки. Считалось, что связывая деревья (чаще это делалось с двух сторон тропинки), колдун «связывает» хозяина леса, а в данном случае – и хозяина воды, так как деревья связывались над лесной речкой. Колдун произносил заговор и выбрасывал изображение больного, являвшееся эманацией болезни, в речной порог. Заговор звучал так:
Vesi kultanen kuninkas, Vesi vanhin velleksie, Kulta kassa on vein emäntä, Kulta kulma on vein emäntä. Missäs teil on nyt vein hiisi? Se vaivaa lankievas tauvis. Вода – золотой король, Вода – старший из братьев, Золотые косы у хозяйки воды, Золотые брови у хозяйки воды. Где у вас сейчас водный хийси? Он мучит этой болезнью.Считалось, что после этого появлялся сам дух – водный хийси vesihiisi, наславший болезнь. Могущественный колдун проклинал этого хийси, отправляя его туда, откуда он явился, в «темную Похъёлу pimeähän Pohjolahan».
Затем, в эту же ночь, следовало вместе с больным пойти на кладбище, раскопать самую свежую могилу и вырвать hohtimilla изо рта покойника глазной зуб torihammas. После этого колдун шел в церковь, причем, как указывает рассказчик, ему не требовался ключ, его заменял вырванный зуб. После этого приходила уже сама болезнь, которая мучила больного, и колдун с помощью заговора проклинал и ее, отправляя «навечно и беззвозвратно в темную Похъелу», «в самые нижние подземные камни» – «maa kivihin perättömihin». В результате всех проведенных манипуляций колдун получал такую силу, что должен был освободить от этой же болезни пятерых человек. И каждый раз ему следовало отнести подарок-жертву в три места: на кладбище могильным духам, в речной порог – водным и на муравейник – духам леса[721].
Образ камня в карельских (как и во многих русских) заговорах появляется не случайно[722]. Он называется последним пристанищем болезней. Это эквивалент как скалистой, часто безжизненной страны севера, холода и мрака Похъелы, так и скалистой земли Маналы, являющейся страной метрвых. В карельских заговорах болезни не просто «замуровывают в камень», а топят этот камень в воде, очень часто в глухой ламбе, из которой не вытекает и в которую не впадает ни одного ручья.
Глазной зуб torihammas, согласно верованиям карелов, обладал магическими свойствами. Считалось, что чем он больше и крепче, тем могущественнее знахарь, тем большими колдовскими силами он обладает. С одной стороны, он защищен от влияния всех вредоносных сил, а с другой – открыт для получения огромного количества сакральных знаний. Если глазной зуб повреждался или заболевал, сила знахаря сразу ослабевала[723].
В бане лечили и горячку. «Больного горячкою знахари до того парят в бане, что тот лишается сознания и совершенно изнемогает; это значит «беса выгоняет»[724]. Как известно, в современной практике бесноватых лечит, то есть «изгоняет беса», священик в храме. Таким образом, еще раз возникает параллель между баней и церковью.
Особо опасной болезнью считалась оспа suurirupi. Ее лечение тоже было связано с баней. В ней отразились одни из самых архаичных мифологических воззрений карелов на болезнь. Карелы считали, что есть три сестры: старшая и самая злобная большая оспа vanhin ja vihaisin suurirupi, средняя – оспа-горошина hernehrupi и младшая – зольная оспа tuhkarupi[725]. Особенно почитали и возвеличивали старшую из сестер. У нее было свое имя, в разговоре ее называли только по имени-отчеству Ospicca Ivanovna. Когда узнавали, что оспой заболели в соседнем доме, сразу же мыли всю избу, лавки, надевали чистую одежду, накрывали стол самой лучшей снедью и шли всей семьей, со всеми детьми к соседям. Зайдя в избу, крестились, кланялись больному и приглашали Оспу Ивановну в гости к себе, произнося: «Ospicca Ivanovna, rupi jumalan luoma, lähe meillä kostih! Myö läksimmä siima käymäh meillä kostih» – «Оспичча Ивановна, струп, божье творенье, пойдем к нам в гости! Мы пришли тебя в гости звать». Карелы верили, что если так почтительно обратиться к болезни, позвать ее в гости, она сама будет милостивее и течение болезни будет более легким. Если болезнь начиналась, с ней старались быть как можно почтительней, чтобы она не рассердилась.
Карелы считали, что все время болезни в доме нельзя ссориться, смеяться, пить вино, мыть полы и стирать белье, запрещено мазать глиной печь, чернить сапоги, стричь овец, убивать животных. Нельзя ходить на охоту и даже мышь убивать. Запрещено было мужу спать с женой на одной постели, водить корову к быку. Иначе оспа прогневается. Эти запреты напоминают о самом сакральном временном отрезке в году – Святках. У южных карелов это Время земли Сюндю Synnynmoan aigu, ay северных – Крещенский промежуток Vierissän keski. Табуированность была свойственна этому времени именно в связи с появлением на земле мифологических существ Сюндю и Крещенской бабы.
Насколько почитали древних божеств Сюндю и Крещенскую бабу, настолько благоговели и перед Оспой, и перед больным, в которого она вселилась, особенно перед ребенком, исполняя любую его прихоть. То есть во время болезни сам больной был эманацией, воплощением страшного и потому особо почитаемого недуга. Карелы рассказывали, что «suurrupi tapoi lapsen, konzu häi suutui moamanpeal» – «большая оспа убила ребенка, когда он рассердился на мать». Они боялись, что болезнь могла сделать его беспомощным инвалидом, которого надо будет кормить в постели. «Тогда исполняли любую просьбу ребенка, лелеяли его… больной ребенок получал все, что хотел. Слова против не говорили»[726].
Карелы считали, что у каждого человека есть свой дух-хранитель haltia. Светловолосые и светлокожие люди valgeiverine находятся под меньшей охраной духа. Чернокровных mustuverine дух больше бережет[727].
Когда человек тяжело или надолго заболевал, пытались предугадать исход болезни. Из озера в какую-нибудь посудину набирали голой рукой воду и говорили: «Tämä kuulii vezi» – «Это мертвая вода». Набрав так же в другую посудину, произносили: «Tämä elävy vezi» – «Это живая вода». Миски подносили больному и предлагали ему выбрать воду. Выбранная вода и предсказывала исход болезни: умрет больной или выздоровеет. Мертвую воду выливали в то место, куда не ступит нога человеческая: под неподвижный камень или в глухую ламбу. Живую воду выливали на ступеньки, ведущие в подпол, на порог дома или под дымоволоком в потолке, то есть на локусы, связанные с обитанием духов предков и домашних духов[728]. Вспомним, насколько широко мотив мертвой-живой воды распространен как в карельской, так и русской сказочной традиции.
Некоторые рассказчики говорят, что эпидемия оспы приходила в деревню раз в семь лет. Она длилась до шести недель. Болезнь была настолько опасна, что от нее даже не было заговоров. Ее называли juma-lanrupi божья оспа[729].
Когда начиналась эпидемия, собирали вместе всех больных детей со всей деревни. Делали крохотные жареные пирожки keittinpiirait, чтобы на одной сковороде их поместилось трижды на девять штучек. Их предлагали детям, которые в данном ритуале представляли самого Оспиччу Ивановича, говоря: «Простите Анну!» Дети кланяются, говорят: «Прощаем!» Silloin rupi antaa anteeksiin. Тогда оспа простит. Кому она не прощает, того пирог дети не едят. Его относили к образам[730]. В карельской ментальности дети до трех лет считались провидцами, которым ведомо будущее и которые неосознанно могут правильно ответить на любой вопрос, касающийся будущего семьи.
Больного оспой укладывали спать в углу за печной стеной, считалось, что здесь ему помогают находящиеся рядом домашние духи и предки. Не случайно существовал обряд бросания первого выпавшего у ребенка зубочка за печку Считалось, что живущие здесь духи-хозяева дома связаны с древними предками и они будут способствовать замене выпавших зубов на новые. Согласно представлениям карелов, именно в крепких зубах и длинных волосах заключалась основная жизненная сила и энергия человека. В произносимом заговоре не случайно обращались к мыши, прося ее унести зуб и вернуть новый. Именно в мышином образе иногда видели домового.
Больного занавешивали, чтобы никто из чужих людей его не видел. Показывать больного разрешалось только вдовам. Когда приносили еду больному, в первую очередь приглашали трапезничать болезнь, кланялись и говорили: «Ospicca Ivanovna, rupi jumalan luoma, nouse murkinalle!» – «Оспичча Ивановна, струп, божье творенье, вставай пообедать!»
Когда больного водили в баню, приглашали и Оспу. Ее тоже парили, произнося молитвы. В бане в это время могла быть только вдова – лицо, обладающее магией в мифологиях многих народов. Это была баня только для больного, после него уже никто в нее не ходил.
После бани Оспичче Ивановне устраивали в избе праздничный обед. На стол надо было поставить «трижды девять» (сакральное число), то есть двадцать семь, различных блюд. Больную оспой, которая представляла в данный момент Оспиччу Ивановну, поднимали с постели, усаживали за стол и клали по кусочку каждого кушанья в рот, всякий раз крестясь и кланяясь: кормили-поили как самого дорогого гостя. За этот стол сажали и своих, и всех соседских детей, которых кормили с таким же почтением, как и болезнь, в образе которой представал больной.
Когда больной начинал выздоравливать, Оспиччу Ивановну провожали: «Nyt on syöty syömät, juotu juomat, pietty piot parahat. Kun hyvänä vierahana tulit, ta parempana mäne!» – «Теперь еда съедена, все выпито, лучшая встреча устроена. Как дорогим гостем пришла, так еще лучшим уходи!» Карелы говорили, что у оспы «свое время, свой круг»: она приходит каждые семь лет.
У повенецких карелов были свои особенности лечения от оспы. «Родители больного кланяются до земли, говоря: «Оспица Ивановна, прости, пожалей, буде мы тебя чем прогневали!» Делают в честь оспицы пироги пряженые [то есть из пресного теста: выпечные калитки, жареные «пироги для зятя» – Л. И.], приносят вино, избы и платья не моют, пока болезнь не выйдет из дому; ежедневно топят баню и в ней парят больного оспою; на лицо его полагают горячие блины, чтобы скорее засыхали оспенные нарывы, а все тело натирают или промакивают спиртом или вином»[731]. Все это делалось не случайно. Пироги-сканцы самые трудоемкие, к тому же требующие большого количества масла, они пекутся в самые ответственные периоды жизненного цикла, например, для сватов и жениха, за которого девушка соглашается выйти замуж. Вино для карелов также имело особое значение. Согласно сведениям собирателей, в XIX веке карелы его практически не употребляли, только взрослые мужчины и только по большим праздникам или на свадьбе. Запрет на мытье изб и на всю грязную работу также объясним. Достаточно вспомнить святочных персонажей Сюндю и Крещенскю бабу: во время Святок это было запрещено, чтобы «не запачкать дорогу» этим мифологическим существам в сакрально чистое время года. По всей видимости, сакральная чистота была присуща и опасному времени, когда «Оспичча Ивановна гостила в доме». Ежедневное паренье в бане с точки зрения современной медицины малопонятно, но тогда это могло объясняться, во-первых, сакральностью банного локуса, а во-вторых, дезинфицирующими свойствами курной бани. Протирание вином также могло иметь гигиеническое объяснение. Блины были выпечкой, сакрализованной в менталитете карелов. Их пекли во многие обрядовые моменты, например, когда встречали в рождественскую ночь спускающегося с неба Сюндю. В качестве маски блин надевали на лицо во время святочных гаданий. Во время масленичных празднеств, когда провожали зиму и встречали не только весну, но и возрождение новой жизни, блин имел солярную семантику, символизировал солнце по цвету и круговорот жизни своей круглой формой.
Если начиналась сильная эпидемия, карелы старались прогнать оспу дымом и огнем. Его разжигали повсюду: на улице, на крыльце, на пороге, в сенях, в избе и в печи – жгли любые вещи и предметы, пропитанные дегтем и смолой.
Во время эпидемии над верхней дверной притолокой в избе дегтем рисовали крест. А снаружи, в сенях, тоже дегтем рисовали коня и всадника с ружьем, с мечом и с копьем (вспомним изображение Георгия Победоносца на православной иконе и то, как он попирает змею, у карелов часто выступающую как эманация болезни). Считалось, что этот наездник охраняет дом от болезней и всего нечистого. Если во время эпидемии болезнь приходила в дом, подметали все вокруг, все углы, мусор рассыпали на поле по ветру, сжигали вместе с тряпками, пропитанными дегтем и произносили, проклиная:
Mäne tuonne tulen tuimasen sekah, pahan vallan valkieh! Kun olet tuulin tullun, ni tuulih ni mane! Onnakko sie tähän taloh tulit ikuisilla istuimilla, polvisilla portahilla? Mäne huuten helvettih, parkuon pahan moah! Mäne konna kotih, ilkie isäntihis, paha maillas pakene![732] Иди туда, в яростный огонь, в белое царство злобы! Если ты с ветром пришла, С ветром и уйди! Неужели ты в этот дом пришла Навеки сидеть На коленях на крыльце? Изгоняем тебя в ад, реветь в земле нечистого! Уходи домой, злорадствовать с хозяевами, Плохое, с земли уходи!Особую силу, согласно народному менталитету, имел специальный «деревянный огонь». При эпидемиях «достают деревянный огонь, то есть получаемый от трения дерева о дерево, через который пропускают и окуривают людей и скотину»[733].
Во время эпидемий оспы в печи жгли можжевельник, который, как считали карелы, обладает магическими свойствами и связан с миром мертвых, поэтому используется во множестве ритуалов. Избу мыли можжевеловой водой[734]. В качестве одной из крайних мер совершали обряд кругового обхода деревни обнаженными детьми и женщинами. При этом они стучали металлическими предметами, связанными с огнем (сковородник, кочерга, сковорода), и несли в руках иконы. Жгли костры. Все это делалось с целью испугать болезнь и заставить ее уйти.
Сегозерские карелы считали переломным днем в лечении оспы девятые сутки. В этот день больного мыли и парили в бане. После этого было два варианта развития болезни: «i piäzöy, a eräs torauduu, zaboleittee enämmäldi» – «и освободится, а иная [то есть болезнь, Оспа – Л. И.] начнет драться, заболеет еще сильнее»[735]. В случае смерти больног был способ обезопасить оставшихся членов семьи: «На место, где лежал больной, умерший от заразной болезни, бросают петуха, чтобы болезнь перешла к нему, а не к людям»[736].
Похожим было лечение и менее опасной краснухи ruskiccu. Эту болезнь также встречали как дорого гостя, и баловали ребенка[737].
В бане лечили и различные болезни и напасти, связанные с женским менструальным циклом. В это время женщина, согласно народным верованиям, была особо уязвима и подвержена «злому влиянию» как со стороны завистников, так и различных духов. Именно поэтому существовало множество запретов, связанных с менструацией (kuuhizet, pesemiset). Ни о первых начавшихся месячных, ни об их начале в течение всего доклимактерического периода никто не должен был знать: никто не будет знать о них, и для самой женщины они будут менее заметны, то есть кратковременны и безболезненны. У карелов есть пословица: «Min lienöy vereni vienyt, kyllä sen vai vesi tietäy» – «Сколько кровушка текла, это только вода знает».
Правда, есть сведения, что первые месячные надо показать маленькому ребенку[738].
Во время начавшейся менструации нельзя было снимать одежду через ноги, только через голову. Девушка и женщина должна была только сама и в отдельной посудине дома стирать свое запачкавшееся белье. На улице можно было только полоскать это белье. Считалось, что если постирать его в озере, сразу пристанет veinnenä нос воды: «Veinnenä tarttuu, emmo sorra sinne» – «Нос воды пристанет, не роняем туда»[739]. Воду после стирки выливать можно бы только в чистое место, где никто не ходит и «не затопчет лемби».
Иногда в качестве оберега рекомедовалось взять кусочки глины или мелкие осколочки камней от задней стены очага, завернуть их в сорочку и замочить ее в воде, взятой из бурлящего потока. Карелы считали, что если кто-то постирает свое окровавленное белье под мостом, у того не будет детей. Объяснялось это тем, что мост построен поперек текущей воды[740].
Во время месячных нельзя было ходить за водой или полоскать даже чужое белье в озере. Иначе кровотечения будут обильными и долгими, бесконечными, как текущая вода в реке; «jä lisäksi vielä voisi vedestä hinkautua kirot, vesihiisi, vesikalma» – «к тому же от воды может пристать проклятие, водный хийси или водная калма»[741].
Vesihiisi – это название и злобного водного духа, и болезни, которую он насылает на человека, в чем-то провинившегося перед ним (в данном случае он пришел на берег водоема, будучи нечист). Vesikalma – это также название болезни, только уже более опасной, в результате которой вероятен смертельный исход: «se ei kavo ni milloinkana» – «она уже никогда не исчезнет». В этот период нельзя было посещать кладбище. Если умирал очень близкий родственник, надо было перед уходом отколоть кусочек обожженной глины с основания печи päcinpohjäs и спрятать его на груди. На кладбище надо освободить пояса на одежде, чтобы этот кусочек незаметно выскользнул и упал на землю: «тогда покойники не поймут, какой человек пришел». Иначе может пристать kalma tai kalmannenä, то есть болезни от могилы. С такими болезнями мог справиться далеко не каждый лекарь. Очень сильная знахарка из Бойницы Окку Лехтонен приносила в баню воду, грела ее, опускала в нее ртуть и лила эту воду на заболевшую женщину, которая обнаженная стояла в широкой посудине. Лить следовало осторожно, чтобы ни одна капелька не упала на пол. При этом читался заговор:
Mäne, kalma, karsinahan, kylmä, kylmähän kylähän, all kylmän kynnyshirren, alle kauhien katajan, ihosta imehnisraukan, karvoista emokapehen, emon tuoman ruumehesta, vaimon kantaman ihosta, vaivaisesta vartalosta. Иди, калма, в пополье, холод, в деревню холода, под холодное бревно порога, под ужасный можжевельник, из кожи женщины, из волос узкого материнского места, из тела рожавшей женщины, из кожи выносившей женщины, из больного тела.Ночью, когда все спят, надо было отнести эту воду на кладбище, вылить ее там и произнести: «Manalaiset moatukkah, kalmalaiset koatukkah» – «Подземные (жители Маналы) пусть спят под землей, кладбищенские пусть упадут»[742]. Затем следовало поясом больной бить по тому месту, куда вылили воду, произнося при этом слова первого заговора. Потом отступают на три шага, бьют кушаком и произносят то же самое. И еще через три шага делают то же. И только после этого уходят, не оглядываясь назад.
То есть могильный нос в бане изгоняли туда, откуда он пришел: в Маналу, «в холодную деревню», которая находится под порогом, «под ужасным можжевельником». Место упокоения предков во многих лечебных заговорах описывается именно так.
Во время менструации женщине нельзя наступать на ноги мужчин и даже проходить рядом, чтобы подол не коснулся мужских одежд или сапог. Нельзя сидеть на том месте, где спят мужчины.
В это время нельзя было заходить в церковь или часовню, можно было зайти в сени, но через церковный порог переступать нельзя, нельзя причащаться, целовать крест, приближаться к священнику. Иначе «voi saada hinkaudunnan jumalista» – «можно получить болезнь от богов».
Нельзя в это время ходить в баню с другими женщинами, потому что они также могут оказаться в такой же ситуации. Тогда «кровь смешается», и заболеют обе: кровотечение будет слишком обильным.
В таком случае рекомендовалось постирать белье на пороге, побить его коромыслом, а воду выплеснуть через дорогу, сказав: «Чье это, тот сам пусть и возьмет!»[743].
Во время менструального цикла женщина считалась нечистой у многих народов. Ижемские коми именно этим объясняли запрет для женщин набрасывать аркан на оленя: «Женщина родилась с грехом. У нее менструации. И в оленя ей нельзя бросить аркан. Девочкам можно, повзрослеет – уже нельзя» [744].
Менструации могли внезапно прекратиться без ведомых причин. Тогда северные карелки обращались за помощью к той же Окку из Бойницы. Она снова приносила воду с озера. В бане следовало разделить ее на три равные части – это проделывала больная, перенося воду в своих пригоршнях. Окку трижды водила больную в баню строго через определенные промежутки времени, которые были связаны с лунным циклом. Первую часть воды использовала на новолуние, вторую – на старую луну и третью часть – снова на новолуние. После банных процедур она лила воду на больную и читала заговор:
Veri ta vesi on vellekset, vesi verta tuopi. Min lienöö vereni vierryt, Kyllä vesi tietäy. Veri ta vesi on vellekset[745]. Кровь и вода – братья, вода кровь приносит. Сколько кровушка текла, это вода знает. Кровь и вода – братья.Если кровотечение было слишком обильным, у Окку был другой способ лечения. Она снова приносила воду из озера и также пригоршнями ее делили в три посудины на три равные части. Первую часть воды она бросала на банную каменку и парила больную «в этом паре». Второй частью воды мыли банные полки. Третьей частью знахарка обливала больную и относила эту воду в хлев к овцам. Таким образом, «кровь была снова разделена на три части», и каждая уходила туда, откуда, согласно народным верованиям, пришла.
Лечили в бане и сглаз pahasilmä. Карелы часто не только обвиняли в нем человека, посмотревшего недобрым взглядом, со злым умыслом, но видели причину и в собственной мнительности: pahus omas duumas tulou плохое (недуг) от своей мысли придет. Сегозерские карелы рассказывали: «Pahasilmä on. Eräs sanou, kaco, lapsi on hyvä da kai… Duumaicet, kaco sie, miksi hiän sanou lasta da koskou. Duumaicet moamo, dai tulou… Sit kylyh talut da pezet da kylvetät da siidä i piässetää» – «Сглаз есть. Кто-нибудь скажет, что ребенок хороший да все… А ты подумаешь, зачем он сказал про ребенка да потрогал… Мать подумает, и придет… Тогда в баню сводишь, да вымоешь, да попаришь, тогда и освободят»[746].
Другое название таких болезней, источником которых считали собственные мысли и слова, приводящие к греху и недугу, было tulomine приходящее. В одном из мифологических рассказов женщина говорит о том, как она с сестрой пошла готовить лапник для скотины. Надо было пройти мимо столбов с изображением богов paccahat niin ku jumalat. Рассказчица при этом перекрестилась, а сестра – нет, да еще и с неодобрением отозвалась о богах. Через некоторое время ей стало плохо, она начала заговариваться. Спасла знахарка, которая, положив под подушку принесенный одной из сестер платок, узнала во сне, откуда пришла болезнь. Она испросила прощение у богов, и девушка выздоровела[747].
Карелы также говорили, что «болезнь пришла от плохой мысли» – «sairas tuli pahas mieles». Например, карелы-людики рассказывали о девушке, которая очень любила одного парня, но он выбрал другую.
После этого она долгое время очень сильно злилась и обижалась на него. В результате «у нее сильно заболело в груди», начался туберкулез. «Воспаление легких приходит от плохих дум» – «Keuhkotauti tulou pahas mieles»[748]. Баня считалась главным средством лечения такой болезни.
Лечили в бане и от насланных проклятий kirojen torjuminen, kirosta päästäminen, которые, как считалось, посылаются или самим озлобившимся человеком, или через колдуна. С целью исцелить проклятого топили баню сломанными грозой деревьями Ukon särkemilläpuillä (букв.: деревьями, которые разбил Укко, то есть древний бог-громовержец). Больного парят ольховым веником и читают заговор, в котором говорится о том, что если болезнь «пристала от проклятий, пришла от слов, пусть она уйдет к проклинающему, отправится к слова произнесшей». Затем больного моют водой, принесенной из лесного родника. После этого воду знахарь относил в лес, при этом следовало оставить жертву-подарок хозяйке леса metsän emännälle – вылитое из олова подобие монеты, к которой привязана красная шерстяная нитка. Воду выплескивали на корни ольхи, произнося:
Minun huolevat hopeat, Ukkoni Turusta tuomat, Veikkoni Savosta saamat, Ristiksesi rinnoillesi, Kaavaheksi kaulallesi, Hetuloiksi helmoihesi, Sormuskäsiksi somiksi [749]. Мной принесенное серебро, Дедом из Туру привезенное, Братом в Саво добытое Для креста на грудь, Для ожерелья на шею, Для украшения подолов, Для красивого перстня.В Войнице от насланного проклятия kiroista лечили несколько иным способом. Находили три чахлых осины, три засохших пня (чтобы так же зачахла, засохла и умерла изначально, согласно карельским верованиям, живая болезнь) и срубали с каждого по четыре щепки. Первые срубленные щепки не брали, а по три каждого вида собирали. Затем находили три одиночно стоящие ольхи, чтобы дождевая вода или роса с соседнего дерева не попадала на их ветви, и рвали с каждой по три стволовых нароста. (Насколько осина у карелов была олицетворением нечистого и болезни, настолько ольха с ее красноватой, уподобляемой крови древесиной ассоциировалась со здоровьем. Не случайно карельское leppy – это и ольха, и кровь, и то, что связано с судьбой человека. У карелов есть выражение: mi on lepitty то, что суждено. Согласно верованиям многих народов, в крови находится душа человека). Затем набирали воду из такого ручья, который бежит то под землей, то по поверхности земли. То есть вода как бы уходит в подземный мир предков, принося им информацию из мира людей, то возвращается из него. Н. А. Криничная в мотивах чередования, которые часто встречаются в быличках о водяных, расчесывающих свои волосы то на одну, то на другую сторону, видела «присущую человеческой жизни чересполосицу»[750]. Воду брали, закручивая ее ведром по ходу солнца. Баню топили разбитыми грозой деревьями, а огонь следовало разжечь щепками от смолистого пня. Затем делали веник из веток девяти различных пород деревьев, привязав к нему ольховые наросты и осиновые щепки. Этим веником парили больного, читая заговор, в котором приглашали на помощь Деву Марию:
Neitsyt Maaria emonen, Puhas muori muovollinen, Tule tänne tarvitahan, Apuvasi huuvetahan, Tekemähän terveyttä, Rauhoa rakentamahan, Ennen päivän nousemista, Koin jumalan koittamista! Saata sauna lämpimäksi, Kivet löylyn lyötäväksi Puuhusilla puhtahilla… Мать-дева Мария, Чистая старушка, Приходи сюда, раз зовут, На помощь призывают, Здоровье творить, Покой созидать, Пока солнце не встало, Бог дома не коснулся! Растопи баню, Чтобы пар на камни бросать, Чистыми дровишками…Затем больного мыли принесенной водой, читая при этом особый заговор kyytityssanoja, с помощью которого отправляли болезнь в Маналу и прощались с ней. Воду относили на северную сторону сопки, а веник выбрасывали через плечо за спину в ту сторону, куда дует ветер. Нельзя было оглядываться и смотреть, куда он упадет, тогда, считалось, болезнь-проклятие уйдет по ветру и больше никогда не вернется. В бане подметали весь мусор и относили его на деревенскую дорогу, отправляя все плохое по ней в Маналу[751].
Иногда человек сразу после ссоры чувствовал, что заболел. Он понимал, что обидчик словами наслал проклятие. В таком случае больного парили в бане, обращаясь за защитой и за помощью к духу природы luontoni, haltieni, который живет «в яме… под корягой» и у которого «на голове – шапка, на руках – рукавицы». И шапка, и рукавицы, согласно народным верованиям, наряду с поясом были главными оберегами человека. Они присутствуют во множестве обрядов, например, во время первого весенного отпуска скота и во время передачи сакральных знаний от старого колдуна-знахаря молодому ученику. В заклинании говорится: «неужели меня оставил Господь Ииисус Herra Jesus, покинул хороший Бог hyvä Jumal в глотку прожорливого волка, в проклятия проклинающего». В конце просили защитницу «испытать трех лапландцев» (именно их карелы считали самыми сильными колдунами, часто насылающими зло), отправить все проклятия проклявшему, так как больной не чувствует за собой никакой вины и ничего плохого никому не сделал:
Jopa meitä jotkin noitu, Noitu noijat, kyyt kiroili, Koki kolme lappalaista Syöttä, vyöttä, voattietta, Alatsti alakivellä. Sen katalat miusta sai, Min sai kirves kivestä, Kasaterä kalliosta, Tuoni tyhjästä tuvasta, Tauti peästä paljahasta[752]. Если меня кто-то околдовал, Заколдуй колдунов, прокляни проклинающих, испытай трех лапландцев без еды, без пояса, без одежды, Голыми на неподвижном камне. Столько подлости от меня получил, Сколько топор от камня, резак – от скалы, Туони – в пустой избе, Болезнь – в черепе.В бане лечили и раны, которые, согласно мифологическим представлениям, назывались «зло, причиненное железом, или зло от железа» – «ravvan vihat». Лечебный заговор начинался с истории о происхождении железа. Затем, например, в одном из сямозерских вариантов обращались к «деве юга» «suvi tyttö», чтобы она натопила баню, принесла медовые мази и забрала «зло от железа».
Ota rauvan vihat, Salbua rauvan manat! Kus liha liikkunuh, Sih liha liittykkäh! Kus suonet sordunuh, Sih suonet solmivukkah Pyhän Iivanan sanois, Vahniman Väinämösen! Kivut kirvokkah, Pakot parandukkah! [753] Возьми зло от железа, Закрой рану, причиненную железом! Где мясо разошлось, Там мясо пусть срастется! Где вены повреждены, Там вены пусть сплетутся Святого Ивана словами, Самого старшего Вяйнямёйнена! Боли пусть пропадут, Раны исцелятся!Если у человека болел живот vacan kipu, его тоже приводили в баню. Больного мыли и парили. В заговоре на помощь приглашали деву Марию. В нем она представала еще в одном образе:
Moarie matala neiti, Pyhä piika pikkaraini, Tule tänne tarvitessa, Käy tänne kutsuttaessa Tätä peätä peästämäh, Henkie lunastamah![754] Мария, низенькая дева, Святая маленькая служанка, Приходи сюда, раз ты нужна, Иди сюда, когда зовут Эту голову освобождать, Душу выкупать!Недуг, который представляли в образе изголодавшегося мужчины, изгоняли «в темную Похъёлу, в сумрачную Тапиолу», в царство смерти, откуда он и пришел. Там его ждет «изысканное» угощение:
Siellä on luutonta lihoa, Siellä on peätöntä kaloa, Suonetointa pohkieta Syyvä miehen nälkähisen, Haukata halunalasen. Там есть мясо без костей, Там есть рыба без голов, Икры без жил, Чтобы ел изголодавшийся мужчина, Кусал проголодавшийся.В конце заговора подчеркивалось, что знахарь, изгоняющий болезнь, гораздо сильнее ее:
Kovat on koprat kuollehella, Miun on kolmie kovemmat, Miun on kahta kauhiemmat. Сильные кулаки у мертвеца (Сильная хватка у смерти), У меня в три раза жестче, У меня в три раза страшнее.В связи с тем, что в данном заговоре Мария Moarie предстает как «matala neiti» – «низенькая дева», следует сказать несколько слов о том, что в этом образе слились воедино и древние верования, и христианские воззрения[755]. Данный пример больше иллюстрирует первые, и поэтому нельзя говорить, что образ Марии полностью заимствован из церковной литературы. Хотя известные финские ученые К. Крон и М. Хаавио считали именно так. Первый писал, что многие эпитеты (puhdas, kaunis, armollinen чистая, красивая, милостивая) и само обращение (Neitsyt Maria Emoine Дева Мать Мария) заимствованы из текстов молитв[756]. М. Хаавио считал, что этот персонаж стал одним из основных в лечебных заговорах в конце средневековья благодаря усилию священнослужителей, старательно насаждавших этот культ[757]. Современный финский фольклорист А.-Л. Сникала, не отрицая влияние христианства, считает, что Дева Мария в карельских заговорах часто стоит в одном ряду с более древним образом Девы болей Kivutar (Vaivatar), выполняет схожие функции и тем самым, с одной стороны, вобрала в себя черты архаичных героинь, а с другой – повлияла и на них[758]. С. В. Туюнен, исследуя заговоры от ожога, пишет, что заговаривающий призывает на помощь для обезвреживания боли четырех героинь: «Дева льда снимает жар, Дева сырости остужает обожженное место прохладной водой и смывает боли, Дева боли собирает страдания в рукавицу и отправляет их обратно, Дева Мария смахивает, уносит боли, лечит ожог»[759]. В карельских заговорах очень часто подчеркивается, что «Моаrie matala neiti» – «Мария низенькая дева» поднимается из земли, поэтому, по мнению С. В. Туюнен, можно связать этот образ с хозяйкой земли, к которой также нередко обращаются за помощью во время лечения многих болезней.
В бане парили и тех, у кого полностью пропадал аппетит, больной худел на глазах и полностью обессилевал. Причину такого недуга видели в том, что человек переступил через три порога неопоясанным[760]. Пояс у карелов считался одним из самых обязательных оберегов, который всегда должен быть на человеке. Даже на беременной женщине узлы ослабляли или пояс развязывали, но не снимали его полностью.
Чтобы поднять аппетит, советовали в бане пожевать сушеную щуку hauvislihojaan[761]. Эта рыба – одна из самых почитаемых в карельской мифологии, а щучий череп – один из самых мощных оберегов.
Лечили в бане и peräummen. Больного парили, затем обливали особой водой. В посудину наливали ключевую воду, в нее через дуло ружья выдували ртуть и ладан. Читая заговор, обливали этой водой, затем давали выпить ее и в это время неожиданно пугали больного[762].
В бане исцеляли и от многих детских болезней. Женщину-знахарку, которая парила и лечила детей в бане, так и называли kylypoapo банная бабушка[763].
Существовало множество табу и различных обрядовых действий, которые совершала сначала повитуха, а затем мать и бабушка во время паренья и мытья детей в бане[764]. Например, в Пудожском уезде Олонецкой губернии в бане рядом с ребенком клали осиновое полено, к которому, согласно народным верованиям, должна была «пристать» болезнь[765]. Во многих карельских былинках ребенок, которого нечистая сила подменила в бане или каком-либо другом локусе, в результате проведенных ритуалов исцеления превращается именно в этот предмет. В верованиях многих народов осина считается деревом нечистой силы, деревом, которое притягивает к себе болезни.
Если ребенку слегка нездоровилось, карелы считали, что его сглазили. В таком случае его приносили в баню, и мать обливала его «сквозь волоса свои, предварительно распустив их над ним»[766].
Существовал и еще один способ вылечить ребенка от сглаза. «В натопленной бане мать поднимала левую ногу и ставила ее на ступеньку полка или что-нибудь подобное. Бабка подает ей больное дитя слева под ногой. Мать справа его принимает, обносит сверху колена и возвращает бабке. И так проделывали три раза»[767].
Если ребенок заболевал очень сильно, одна из женщин перед баней шла в лес и находила там tuulen kobra (дословно: горсть ветра). Это сросшиеся в пучок мелкие веточки на березе. Требовался один пучок. Если болела девочка, нужно было набрать девять или трижды по девять вершинок маленьких березок. Для мальчика – столько же вершинок маленьких сосенок. При этом следовало соблюсти строгое условие: молоденькие деревца должны расти на дальнем расстоянии друг от друга, чтобы от одного нельзя было увидеть второе, и так далее. В бане все клали в решето, открывали трубу или волоковое окошко для выхода дыма. Ребенка поднимали к этому отверстию и через решето поливали водой, читая при этом заговор[768].
Когда готовили баню для больного ребенка, обращались за помощью к «деве Марии, святой маленькой служанке» – «Neitsyt Moarie emoinen, Pyhä piika pikkarainen». Просили, чтобы она «истопила медовую сауну, натопила медвяную баню медовыми дровами» – «Saussuta simainen sauna, Lämmitä medinen kyly Medisillä halgosilla», приготовила «медовый веник из медвяного леса» – «medi vasta Medisestä metsäsestä», воду принесла «из ближайшего ключа в чистой посуде». Ждали, что дева приготовит теплый парок, «медовой рекой бегущий сквозь камни банной каменки», который подарит крепкое здоровье, подобное железу, и покой ребенку. Далее знахарка обращалась к болезни: откуда бы она ни пришла, пусть все плохое уйдет после прикосновения ее рук [769].
Если младенец был беспокойным, плохо спал, считалось, что у него на спинке щетинка sugahat, harjakset, которая чешется, колется и мешает спать: «Näin ku hierelet, nouzou ku harja, ne terävät» – «Так потрешь, поднимется как щетина, они острые». В таком случае ребеночка приносили в баню, немного парили веничком или распаривали в теплой воде, затем обтирали специально приготовленной смесью из материнского молока и пшеничной муки. После этого его заворачивали в шелковый платок, а чаще – в вещь, связанную из самой мягкой шерсти ягненка liemenlangu, и он засыпал. Утром снимали платок, и все щетинки оставались на нем[770]. Этот обряд можно сравнить с ритуалом «перепекания» больного ребенка в печи, когда знахарка, обмазав его тестом, укладывала на лопату для хлебов и засовывала в печь. Так она передавала ребенка высшим силам, призывая на помощь духов домашнего очага и умерших предков[771].
Тихвинские карелы говорили, что определить, есть ли у ребенка щетинка, можно, только приложившись в спинке ребенка щекой: она будет колоться. Для лечения они использовали следующий способ: брали веник обязательно трехлетней давности (стереотипизация троичности), хорошенько распаривали его в горячей воде, а затем парили ребенка и терли спинку этим веником. После этого следовало вынести веник, который, как считалось, впитал в себя всю болезнь, и посадить его на кол, произнеся: «Сиди на этом колу и никуда не двигайся!»[773]. Таким образом наказывали и изгоняли мучивший ребенка недуг. Одной из главных причин такой болезни у ребенка считали вину матери, нарушившей табу. Карелы-людики говорили, что беременной женщине нельзя было пинать ногой никакое животное, иначе его шерсть переходила на ребенка, и у него появлялась колющаяся и чешущаяся щетинка sugahat [774].
Один из священников, собиравших в шестидесятые годы XIX века народные верования в Сегозерье, писал, что «болезнь „щетины“ бывает двоякая». Одна – детская, пристающая «к зыбочным детям», и «эти „щетины64 надо оттирать в бане медом с белою мукой; тогда они выступят на тело снаружи; потом надо выдергивать их с корнем, прикладывая новый холст, на который они пристают. Так можно совсем вылечить ребенка». А второй вид этой болезни проявляется у взрослых. Он «приходит от колдунов, которым (нечистой силой) поставлено в обязанность каждую пятницу спускать „щетины“ на ветер. Кто несчастный случится тут на дороге, особенно кто вышел из дому утром, не перекрестивши глаз, к тому они и пристанут. „Щетины“ замучат человека иногда до смерти; но от них можно вылечиться, если нашептать воскресную молитву в свиное сало и в бане вымазаться им»[775].
Иногда ножки ребенка слабели, он не мог опираться на них, стоять. Такая болезнь называлась eltta. Ребеночка парили в бане и оставляли полежать в специально приготовленном отваре из совсем молоденьких березовых листочков. Такие листики, обращая внимание на их размер, называли hiirenkorva мышиные ушки. Следовало улучить момент ранней весной, когда они только появляются из распустившихся почек. После того, как ребенок пропарится, его натирали этими листочками и обкладывали ими больные суставы.
Когда ребенок только начинает учиться ходить, может случиться jalkatauti, то есть заболят ножки. Ребенка приносили в баню, парили и массажировали, вытягивали ножки.
У маленьких детей часто был рахит riisi. Это была опасная болезнь с совершенно разными симптомами. Таких детей тоже часто мыли и парили в бане. При этом знахарка читала заговоры. Начинала она с заговора о происхождении рахита riiten synty. Она ругала болезнь, подчеркивая свою силу и власть над рахитом, называя его негодяем, мерзавцем и клеветником herja:
Voi sinua mihin rupesit! Silmiä siristämähän, Näkimiä näykkimähän, Kulmia kuristamahan. Ишь как ты стал! Глаза щурить, Зрение портить, Брови хмурить.Согласно верованиям, источником болезни могли быть и сглаз ра-hasilmy, и вода, и сама баня. Знахарка обращалась к рахиту и просила уйти его туда, откуда пришел, и заняться там своей работой, не трогать и не тревожить ребенка. Для этого в качестве подарка рахиту оставляли красные нитки, чтобы он сматывал их в клубок «putoa puna keränä!». Специально приготовленной заговоренной водой ребенка обтирали уже дома в три воскресных утра еще до восхода солнца[776].
Когда у ребенка начинали прорезываться первые зубки, считалось, что это причиняет ужасную боль hammastauti. Карелы говорили: «Kun moamo tietäis sen tauvin, mi lapsella on, kun hampahat alkaa tulla, ni värtinöillä kylyn lämmittäis» – «Если бы мать чувствовала ту боль, которая есть у ребенка, когда начинают прорезываться зубы, она бы скалками для пирогов истопила бы баню». Именно здесь его лечила знахарка, читая заговоры. Считалось, что чем скорее у ребенка появятся зубы, тем скорее он начнет говорить.
Ребенка, больного энурезом, сегозерские карелы трижды водили в баню. В ней парили его и, ударяя по попе веником, произносили:
Sie kahici, mie kolmici, sie kolmici, mie nellici, sie nellici, mie viizici, sie viizici, mie kuuzici, sie kuuzici, mie seicemen, sie seicemen, mie kaheksan, sie kaheksan, mie yheksän[777]. Ты дважды, я трижды, ты трижды, я четырежды, ты четырежды, я пять раз, ты пять раз, я шесть, ты – шесть, я – семь, ты – семь, я – восемь, ты – восемь, я – девять.Счет не случайно доводили до сакральной цифры девять, означающей постоянство и цикличность, символизирующей жизненный путь человека.
Дети с ранней весны, как только появлялась первая травка, бегали босиком. Поэтому у них часто ноги обветривались, и появлялись очень болезненные трещинки. По-карельски такая болезнь называлась variksen saappaat вороньи сапоги. Тверские карелы в таких случаях приводили ребенка в баню, хорошенко парили, приговаривая при этом: «Kurjet, kärjet, mustat korpit, harmaat harakat, sikojen svajakat» – «Каркающие, кричащие, черные глухомани, серые сороки, свояки свиней». После этого распаренные ножки мазали свежими сливками. После нескольких таких процедур все проходило[778]. В заговоре можно усмотреть обращение к хозяевам леса, которые в данном случае воспринимались как вредоносная для человека сила, насылающая разные болезни. Стрекочущие сороки и святочные свиньи в карельской мифологии – это эманация хозяина леса, в поздних быличках часто ассоциирующегося с нечистой силой. А «черная глухомань» – основное место его (и хийси) пребывания.
Одним из самых лучших периодов как для лечения детей, так и для поднятия лемби был сакральный временной отрезок летних Святок от Иванова до Петрова дня, время Viändöi. Тунгудские карелы, «если долго болеет ребенок, <…> берутся его лечить именно на Viändöi, самое подходящее время для лечения болезней. Очень важно, чтобы были соблюдены все условия при взятии воды для лечения. Ее берут ночью, обязательно проточную, по три раза из трех мест (рек или ручьев), обязательно с заговором. После этого парят ребенка в бане и обливают этой заговоренной водой»[779].
В бане парили и детей, больных rokkotauti корью и краснухой[780].
Одной из самых опасных детских болезней считался rodimčikku родимчик. В рассказах о ней древние мифологические представления и архетипы тесно сплетены с более поздними православными элементами и мотивами. Одним из главных симптомов недуга были судороги, в той или иной степени охватывавшие тело. Считалось, что такая болезнь должна пройти через каждого человека. Карелы говорили, что лучше всего, если это случится до трех лет и ночью, во сне, когда никто ее не увидит. Об этом говорила ливвиковская карелка Т. Хейккинен во время нашей фольклорной экспедиции в Пряжу в 2015 году. И в целом представления о том, что болезнь часто приходит ночью, бытуют у многих народов. Так, в Олонецком крае считали, что в виде белой бабочки летает весенняя лихорадка (ворогуша): белым ночным мотыльком она садится на губы сонного человека и таким образом приносит болезнь[781].
Если судорожный приступ у заболевшего родимчиком ребенка случился днем, о нем нельзя было никому рассказывать. Карелы верили, что если посторонние узнают об этом, приступы будут повторяться. Когда ребенок после судорожного приступа засыпал, его ротик накрывали платочком, который до этого лежал на рту покойника и, согласно карельским верованиям, обладал особой магической силой. Ребенка крестили, произнося православную молитву, и говорили: «Как [называли имя покойника] умер, так и болезнь умерла!» После этого ребенка накрывали нестираной скатертью или «чем-то церковным». Когда ребенок сам просыпался, с него, как с покойника, снимали всю одежду через ноги и относили ее под неподвижный камень. Иногда ее топили в глухой лесной ламбе, из которой не вытекают никакие ручьи: «Как это утонет, так и болезнь пусть утонет, не повторяется!» Все это проделывалось тайно, чтобы никто не узнал о недуге. Устроив такие символичные похороны болезни, верили, что ребенок исцелен[782].
Таким образом, баня для карела являлась универсальным местом для лечения множества болезней, основанных на древних мифологических представлениях и архетипах. Согласно карельским верованиям, здесь могли быть и истоки болезни, тут же проходили обряды целительства, всегда сопровождавшиеся заговорами.
Образы духов-хозяев бани
Визуальный и функциональный коды
Баня у карелов считалась сакральным локусом и являлась неким семейно-родовым святилищем: «pyhä paikkahan se sauna ennen aikaan oli» – «раньше сауна была святым местом»[783]. В народном представлении она была населена духами-хозяевами. В них глубоко верили, почитали и прибегали к их помощи в трудные (например, болезнь) и наиболее ответственные (например, лиминальные: рождение, свадьба) периоды жизни.
Культ банных духов-хозяев ярче всего сохранился в мифологических рассказах и заговорах.
В поздних былинках, испытавших сильное влияние христианства, народ, интерпретируя вопросы генезиса мифологических персонажей, однозначно причислял их к нечистой силе.
В 1889 году студент Санкт-Петербургской духовной академии Н. Лесков по поручению отделения этнографии Императорского русского географического общества собирал этнографический материал среди карелов-ливвиков Олонецкой губернии. Вот какой рассказ о происхождении мифологических персонажей записал он «от одного кореляка»: «Когда Бог делал… землю, то «пахалайне» (дословно: плохой; табуированное: черт – И. Л.) всячески старался мешать Ему в этом деле: одно испортит, другое сломает… Отдел ал Он землю и вспомнил тогда все проделки «пахалайне», и задумал прогнать его со свету… «Даю тебе места на земле столько, сколько займет конец кола». «Спасибо и на том», – отвечал «пахалайне» и выбрал из заповедных лесов самый что ни на есть длиннейший кол, заострил его с конца и забил в рыхлую, болотистую почву. Весь кол ушел в землю, только небольшой кончик его остался над поверхностью… Вытащил «пахалайне» кол из земли, и пошла из дыры всякая нечисть в образе мух, комаров, гадов, лягушек, пауков… и вся эта гадость рассыпалась по земле. Часть пошла в воду – в озера, реки и ламбы – и явились водяники; другие пошли в леса – и произошли лесовики; иные пошли по домам, дворам, ригам и баням – и явились домовые, дворовые, баянники, а часть – так-таки и рассеялась в воздухе… И что бы было, если бы Бог не заткнул этой дыры горящей головней?! Вот с тех пор… и живет на земле нечистая сила»[784].
В Беломорском районе в 1937 году Я. Ругоев записал от пятидесятичетырехлетнего И. С. Щелина несколько иную трактовку: «Сначала Бог создал небо. Чертям это не понравилось, они сделали свое – большие тучи, загораживающие небо. Бог посмотрел: не хорошо это. И прогнал чертей, и они упали на землю. Которые в воду упали, те стали водяными, а которые на землю – обычными чертями. Те, которые на земле оказались, говорят: „Этого еще мало!“ Черти сделали в земле отверстие, оттуда вылетело множество комаров. Бог пришел и вставил в эту дыру головешку. С тех пор комары дыма боятся»[785]. В этом рассказе есть одна интересная деталь, которая подтверждается при изучении карельских мифологических рассказов. Народ с большим почитанием относится к духам воды, но при этом часто относит хозяина леса к хтоническим силам, по сути, ставя знак равенства между лешим и чертом (особенно со второй половины XX века).
В семидесятые годы XX века от карелов записан еще один вариант развития событий: «Когда земля началась, Адам и Ева были сначала… С начала земли, значит, начали Адам и Ева детей рожать. Они вот самые первые родили всех детей. Родили много детей и потом, видно, позвали Бога детей крестить. Бог когда пришел крестить, крестил, крестил, много было детей, и спрашивает у них: «Всех ли принесли теперь?» «Всех». «А не обманываете? Больше нигде в другом месте нет?» «Нет!» А у них было спрятано, кто в лес, кто в озеро, в укрытии спрятаны дети. Ну, нет, значит, нет. Он возьми и скажи: «Кто где оказался, тот пусть там и останется. Кто оказался в лесу, пусть останется в лесу. Кто оказался в озере, пусть останется в озере». Вот они и есть и сегодня: в лесу – бесы, в озере – водяники. Вот так, это те самые дети… Им было стыдно, что много родилось, стыдно было… Вот они и есть сейчас бесы»[786].
В записях А. И. Колмогорова есть следующий рассказ: «Когда Бог творил землю и живые существа, дьявол из зависти мешал ему. Бог рассердился, схватил дьявола и сбросил его с неба на землю, в болото. В болоте, в том месте, куда провалился дьявол, образовалась большая дыра; из этой дыры и полезла всякая нечисть. Часть пошла в озера – водяники, часть в леса – лесовики, часть забралась в тучи и облака и так распространилась по всему свету» [787].
О происхождении языческих божеств и различных духов-хозяев и их появлении на земле существуют похожие рассказы у многих народов. Например, у мордвы: «Ангелы хотели стать выше бога. За это бог спустил их в виде дождя на землю. Кто упал в баню – стал Шайтаном, кто в лес – Вирь авой, кто в воду – Ведь авой, кто в дом – Куд авой»[788].
Н. И. Толстой, рассматривая вопросы генезиса персонажей низшей мифологии, приводит легенду, записанную в 1916 году Г. К. Заварниц-ким, в которой говорится о дьяволе, шуте, черте, лешем, домовом и окаянном: «различия почти меж ними нет никакого, а только названия разны». Жил давно, «когда еще Христос Бог ходил по земле», в одной пещере праведный старец, которому удалось заманить всех чертей в кувшин, заманить их и похоронить под крестом. И только один хромой шутенок не влез в кувшин, а спрятался под камнем и видел, где заключены его товарищи. Он забрел в кабак, нашел там горького пьянчугу, «который ни креста, ни поста, ни молитвы не боится», и предложил ему открыть чертей, сказав, что там сокрыт клад. Пьяница согласился, черт нанял лошадей, и они мигом оказались на месте, где был зарыт кувшин. Пропойца откопал его, и дьяволы вихрем, с писком и визгом взвились на небо, оставив на земле своего избавителя, тут же умершего от страха. Затем действие происходило на небе в ту пору, когда «Бог ходил по земле в лике Христа», и там без него оставался Михаил Архангел, который не мог противостоять дьявольской рати. Дьявол взобрался на седьмое небо и устроил там свой престол. Тогда Христос Бог дал Михаилу шесть крыльев и огненный меч. Архангел взлетел на небо, «как мысль», и прогнал оттуда дьявольскую рать. «Вот тут-то было смешно, как оне оттоль летели вверх тормашками – как попало и кто куда. Который упал в воду, стал называться окаянным, который в лес, называется лешим; кой на дом, стал зваться домовым; кой упал на черту меж загонов и в борозду, стал зваться чертом; кто упал на шум (вероятно, ‘мусор’ – H. Т.), стал шут. Вот почему их зовут по-разному, а все они бесы одинаковы. А чертилу ихняго главного Михаил Архангел взял в плен и сковал цепями, отвел в ад, приковал его стене ада. Тот от досады и злости застонал. Его зовут все теперь “Сатана”»[789].
Все эти рассказы в той или иной степени похожи на библейскую трактовку данного события: «И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них уже места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» [790].
Таким образом, в рассказах о генезисе персонажей низшей мифологии находит отражение идея борьбы добра и зла, соперничества Бога и черта. Духи-хозяева природных стихий в народном представлении оказываются наказанными Богом и низвергнутыми на землю с небес. И в то же время вплоть до середины XX века народ поклоняется им и приносит жертвы. Как пишет Н. И. Толстой, «лишь под влиянием христианского мироощущения… духи небесные были почти полностью вытеснены христианскими представлениями, а духи земные на основании тех же представлений перешли в разряд нечистых, но не стерлись из памяти народной»[791].
Обратимся к рассмотрению карельских мифологических рассказов и суеверной прозы о духах-хозяевах бани, которые, как можно заметить, не упоминаются в вышеприведенных сюжетах.
По мнению Н. А. Криничной, в русских мифологических рассказах и поверьях «содержится указание, позволяющее увидеть в бане некое средоточие, вместилище душ, откуда они появляются и со временем уходят, и в этом всеобъемлющем круговороте баннику отведена роль медиатора между мирами, вершителя жизненного цикла»[792].
В карельской мифологической прозе духам-хозяевам бани отведена не менее значительная роль. Баня являлась у карелов неким семейно-родовым святилищем. Это подверждается и материалами быличек, в которых бог и духи в народном восприятии в чем-то по своей сути даже едины. Например, в одной из них рассказывается, как банные духи решили наказать семейную пару, которая часто перед «божьими праздниками jumalan proazniekat» ходила в баню в неурочный час. Сначала в баню пришли работники и услышали в ней разговор, в котором предупреждали, что «зададут хозяевам жару». Рассказчик подчеркивает, что «с Божьей стороны этот разговор слышен» – «Jumalan puolessa tulou se pakina kuultavaksi». Хозяева, придя в баню и услышав угрозы, перепугались, стали просить прощения у банных духов, обещая не нарушать отведенные им временные рамки. Они просили помощи у Бога, чтобы он отпустил их из бани невредимыми[793]. Таким образом, баня воспринималась карелами как ритуально чистый локус.
В карельских мифологических рассказах хозяева бани различаются, в первую очередь по гендерной и возрастной принадлежности. В некоторых случаях указывается и на «социальную» характеристику. «В это я верю, это может быть правдой! Оба есть! В бане есть хозяин и хозяйка, и дети, и слуги, и рабы! В бане много народу! Поди знай, какие они – не видим ведь. Они не на виду, где-то там сидят, в каком углу?!»[794].
Самое полное описание банного населения можно найти в заговорах. В них же появляются образы банных хозяев или посетителей бани, которые отсутствуют в мифологических рассказах, например, Sanervatar и Neitsyt Muarie. К двум последним девам чаще всего обращаются во время ритуалов лечения различных болезней. Образ первой девы, вероятно, более архаичен. Истоки ее имени можно видеть в слове sana «слово», она хранительница и носительница не только мудрости целительства, но и сакральных слов, заговорных формул, снимающих боли и исцеляющих недуги. Прообразом второй девы послужил стадиально более поздний христианский персонаж Девы Марии, хотя и в образе этой девы карельских заговоров можно усмотреть и более архаичные детали. Neitsyt Muarie, как часто происходило в народных верованиях, пришла на смену Sanervatar и постепенно стала гораздо чаще встречаться в лечебных заговорах. Но эта тема требует специального исследования, так как тот материал, который доступен нам, показывает синхронность существования как «языческих», так и «христианских» элементов во многих фольклорных произведениях разных жанров.
В данной главе мы подробно остановимся на образах мифологических персонажей, встречающихся в карельских быличках. В зависимости от названия отличаются и функциональные особенности, и черты характера банных духов-хозяев.
В мифологических рассказах чаще всего встречаются упоминания о хозяине бани kylynizändy и духе бани kylynhaltia.
Чаще всего они предстают перед человеком в антропоморфном виде. Внешний облик может и не описываться, но сходство с людьми подразумевается, так как рассказчик не замечает ничего необычного в потустороннем существе.
В большинстве случаев повествуется о том, что дух-хозяин по ночам парится на полках. Увидеть его можно только в двух случаях: или когда человек идет в баню специально в неурочный час, чтобы показать собственное бесстрашие, или когда оказывается в бане последним, припозднившись по каким-либо причинам. Финал бывал благополучным, если человек тут же безмолвно спасался бегством. В одной из быличек говорится, что старик в субботу вечером пошел мыться последним. Разделся в предбаннике и, открыв дверь в парилку, увидел, что на полках парится дух-haltia, который кашлянул и тут же пропал. Дед впопыхах убежал, даже всю одежду там оставил[795].
Способность к мгновенному исчезновению, как и к внезапному появлению, является характерной особенностью существ иного мира. Свидетельствует это и о том, что они сами совершенно не стремятся идти на контакт с человеком, предпочитая строго соблюдать локально-темпоральные границы. Рассказчики так и говорят: «этот дух бани плохой газ дает», чтобы предупредить человека. «В каждом месте есть такой. Пока его не трогали, и он не трогал»[796]. Хранитель неприкосновенности границ между мирами – одна из основных функций хозяина бани.
Совсем по-другому ведут себя хозяева бани, когда человек осознанно нарушает табу. Дуx-haldie может удавить или содрать кожу[797]. В указателе Л. Симонсуури говорится, что нежеланному гостю хозяин бани «не разрешает мыться, прогоняет, шумит, пугает, моет до смерти»[798]. Иногда дух бани даже выходит из-за полков с топором, чтобы выгнать пьяного[799].
Считалось, что к тем, кто моется поздно в субботу вечером, может прийти железнозубый старик[800]. Эта гиперболизированная деталь подчеркивает жизненную силу и энергию банных хозяев. Согласно народным представлениям именно в зубах концентрировалась сакральная сила знахаря, с их исчезновением он терял свои способности. А здесь зубы подчеркнуто крепкие: железные.
Иногда банные духи могут и убить нежеланного посетителя. «Поздно раньше не ходили в баню. Говорили: грех будет. Говорили: давит там. У нас все вспоминали: один мужик очень поздно пошел в баню, тогда его на печку посадили. На печь посадили и зажарили мужика, вся кожа до мяса сгорела. А потом еще долго жил, но умер. Зажарили! Это вспоминали, этим пугали!»[801].
В исключительных случаях хозяин бани может проявить и великодушие. «Я однажды в субботу вечером в баню поздно пошла. Муж пришел, дети тогда были маленькие. И в субботу вечером мы поздно мылись там. Легли спать. Слышу: дверь в сенях открылась. Пришел старик. Говорит: «Помылась?» Я говорю: «Помылась». Говорит: «Помни только то, что второй раз так поздно не мойся. Задал бы я, – говорит – тебе жару, но младенец у тебя с краю был! А то задал бы тебе жару! Помни только: второй раз не мойся!» Да так повернулся, дверь в избу закрыл, дверь в сенях закрыл и ушел… Такой маленький старичок был, борода была. Он по-хорошему пришел»[802].
Здесь женщину спасло то, что, во-первых, она оступилась в первый раз, а во-вторых, с ней был невинный младенец. Хозяин бани, явившийся в образе белобородого старца, выступает здесь в роли главы семейно-родового святилища и могущественного первопредка, покровительствующего своим потомкам.
Примечательно в этом рассказе и то, что для самих банных хозяев как представителей иного мира нет пространственных границ. Они могут спокойно прийти в дом в ночное время, когда рубежи особенно зыбки, а человек находится в состоянии сна. Как известно, в древности это состояние считалось пограничным между жизнью и смертью. Это особенно ярко отразилось в карельских колыбельных песнях, когда ребенка «укладывают в дрему», а сон прямо сопоставляется с временной смертью. Считалось, что человек в состоянии сна путешествует по иным мирам, его возврат в свой (человеческий) мир всегда под вопросом. Именно поэтому смерть во сне считалась самой легкой: душа уже «привыкла» в это время покидать тело и делает это без мучений, возможных в состоянии бодрствования человека.
В данной былинке хозяин бани предстает в виде маленького старичка с бородой. Существа иного мира часто отличаются от людей по росту: они или очень маленькие, или очень высокие. Но повышенная волосатость (в данном случае борода), несмотря на небольшой рост, говорит об их жизнеспособности и мощи. В заговорах очень часто возникает именно такой образ «белых старших бани» kylyn valgiet vahnembat, при этом белый цвет подчеркивает не только возраст «старейшин», но и их «иномирно сть».
В одном из мифологических рассказов говорится, как дух бани являет «библейское чудо» ночным посетителям, предупреждая их так, как Господь руками и устами Моисея предупреждал египтян, превратив воды Нила в кровь[803]. Примечательно, что в быличке упоминается и ветхозаветное имя Исайя. «Отец Исайи пришел из бани, говорит: «Вода кровяная!» Сыновья пошли, и вправду: вода в котле, как кровь. Никогда не ходи в двенадцать часов в баню, дух бани не дает париться»[804]. Следует отметить, что эту быличку рассказала ингерманландка, уроженка д. Черная речка, много лет прожившая в Сегозерье. Она была хорошо знакома не только с древними народными верованиями, но и, как все ингерманландцы, с Библией и с устоями церкви.
В единственном мифологическом рассказе говорится о том, что хозяин бани выступает в роли соблазнителя. «Хозяин был в бане, и хозяин был в любом месте… И в бане хозяин. В бане тоже хозяин есть. Мало было случаев, мало, но… Некоторые и боялись, боялись, он вроде бы соблазняет и что-то, да потом испугаются. Нельзя было ничего говорить. Было, было много случаев, но не помню ничего»[805]. Здесь, возможно, сохранились отголоски древнейших верований о том, что в бане проходили обряды молодежной инициации.
В 1873 году была записана быличка, в которой хозяин бани выступает в роли учителя, способного научить каждого желающего играть на любом музыкальном инструменте. Только для этого надо строго выполнить все необходимые условия. «Кто хочетъ научиться играть на гармонике, балалайке или гуслях [так называли кантеле – И. Л.], тот должен взять трижды девять (то есть двадцать семь) зерен ржи, трижды девять зерен овса, трижды девять зеренъ жита и завязать взятые зерна по особым тряпочкам. Узелки с зернами положить в карман. Потом взять старый медный грош и положить его в рот за правую щеку. А в правую руку взять инструмент, на котором хочешь научиться играть. И со всем этим идти в баню. По приходе в баню нужно сесть к печи лицом на пол и начать играть как-нибудь. Как только начнешь играть, то тотчас выйдет из-под полка хозяин и начнет плясать. Поигравши как-нибудь под его пляску, научишься играть хорошо. А когда нужно будет уходить из бани домой, то грош, который был во рту, взять в левую руку и, бросив его на пол, уйти из бани задом»[806]. Весь рассказ пронизан мифологической символикой. Используется сакральное количество зерен: три раза по девять. Сами зерна – символ прорастания нового, в данном случае нового таланта. Сакральны оба упоминающихся локуса: человек сидит именно лицом к каменке, а хозяин бани выходит из-под лавки, постоянного места обитания. Монету сначала как оберег держишь за правой щекой. Уходя, берешь монету в левую руку и именно ею бросаешь ее в качестве выкупа или подарка банному духу. Уходить, как и во многих ритуалах, следует спиной вперед.
В карельской мифологической прозе иногда обучает игре на музыкальном инструменте хозяйка воды. Этот мотив роднит этих двух хозяев, банного и водного.
Получение профессиональных навыков рассматривается исследователями «как помещение обучающегося в контекст представлений о контакте сакрального и профанного миров»[807]. Т. А. Берштам убедительно доказала, что трудовые будни и обрядовые функции, независимо от половозрастного разделения хозяйственных занятий, имели ритуальную связь «с сакральными силами», результатом чего являлся «договор», обеспечивающий «прокормление человеческого и животного мира»[808]. Таким образом, сакральными могли быть не только истоки виртуозного мастерства, как повествуют некоторые былички. Как пишет В. Е. Добровольская, «любая традиционная работа имела ряд магических правил и запретов, котрые необходимо было выполнить для достижения успешного результата»[809]. Как показывает карельский материал, это особенно касается людей, занимавшихся знахарством и пастушеством.
Считается, что хозяин бани может наслать болезнь[810]. Происходило это чаще всего в случаях, когда человек находился в бане с чувством брезгливости, считая, что помещение плохо вымыто, или подозревая в нечистоплотности тех, кто мылся рядом. Часто это происходило именно в чужой бане, когда человек был лишен покровительства банных духов своего рода.
Часто в бане видели и ее хозяйку. Практически всегда ее так и называют: kylynemändy.
У мордвы женский банный персонаж доминировал в гендерном плане. Это была Банява – божество бани, культ которой был широко развит и очень похож на карельский. Она «обычно невидима, однако иногда показывается в бане в образе маленькой юной голой женщины, сидящей на полке, расчесывающей длинные светлые волосы. У нее есть муж Банятя, внешне тоже молодой, низкорослый»[811].
В некоторых мифологических рассказах карелов появляются очень интересные женские образы банных хозяек.
У карелов-ливвиков встречаются упоминания о банной бабушке-kylyboaboi. Ею чаще всего пугали детей. Когда ребенок плакал в бане, говорили: «Смотри, банная бабушка придет!» И он замолкал[812]. Возможно, эти детали являются напоминанием о тех временах, когда баня еще являлась семейным святилищем, местом омовения не только людей, но и духов-первопредков.
Примечательно, что kylypoapo называли и реальную старушку-зна-харку, которая парила и лечила детей в бане[813].
Сямозерские карелы говорили, что банная бабушка kylybaba есть в каждой бане, она там моется и парится[814].
У тверских карел, подвергшихся большему влиянию русской традиции, бытовало несколько иное название, вероятно, того же самого образа. Во всяком случае, с аналогичной функцией. Это «одноногая Яга-баба Jaga-mummo, которая живет на поле и в бане. Когда ржаное поле начинает цвести, тогда пугали детей: «Не ходите на поле, там вас Яга-баба напугает. В поле много Яг-баб!» Также пугали детей, когда шли в баню: «Не ходите одни в баню, там Яги-бабы!»[815]. С современной точки зрения в этом можно усмотреть чисто утилитарное значение, воспитательную функцию для детей: запретить им топтать зерновые или баловаться в бане. Но с мифологической точки зрения корни гораздо глубже. Некогда баня, возможно, являлась местом инициации, перехода девочек в статус девушек, мальчиков – в юношей [816]. Цветущее ржаное поле – также одно из сакральных мест. Это локус передачи сакральных знаний. Здесь же проводился обряд поднятия лемби, когда девушка в магическую ночь перед Ивановым днем каталась по росистому полю, приобщаясь тем самым к плодородной силе матери-земли. В образе Яги-бабы, живущей и в бане, и в поле, прослеживается связь с некоей Праматерью, возможно, матерью землей. Как следует из мифологических рассказов, хозяйка земли живет и в карельской бане. Примечательно, что встреча с Яга-бабой наиболее опасна во время цветения ржи. Переломные моменты в природе, когда, согласно народным верованиям, она и ее хозяева просыпаются или засыпают, как и переходные периоды в жизни человека, наиболее опасны. В эти периоды границы между мирами наиболее зыбки и легче всего преодолимы. Например, время, когда весной начинают проклевываться листочки, и период осеннего разноцветья – это «onnetoi aigu» – «несчастное (то есть опасное, неудачное) время», потому что именно тогда человека чаще всего уносит леший[817].
Образ Яги-бабы, скорее всего, заимствован из русских сказок. В них Баба-Яга – одноногая (костеногая) слепая старуха с огромными грудями. «Связь с дикими зверями и лесом позволяет выводить ее образ из древнего образа хозяйки зверей и мира мертвых. Вместе с тем такие атрибуты Бабы-Яги, как лопата, которой она забрасывает детей в печь, согласуются с обрядовой интерпретацией сказок о ней как о жрице в обряде посвящения подростков»[818].
В карельском фольклоре параллелями к русской Бабе-Яге могут выступать сказочная Сюоятар и эпическая старуха Хийси. Первая – злая уродливая колдунья с большими грудями, живущая в лесу. Ее дети – это лягушки и ящерицы, существа, связанные с подземным миром; они чаще всего появляются в эпизодах, когда «невинногонимая героиня» моет их в бане. Вторая – хозяйка лесного царства Хийтолы, часто выступающего как параллелизм к царству мертвых Манале-Туонеле. Как и избушка Бабы-Яги, Хийтола огорожена кольями, на которые нанизаны черепа.
Интересный образ появляется в южнокарельских эпических песнях о сватовстве. Некая Игя-бабушка Igä-buaboi выступает в роли хранительницы подвенечного платья невесты, за которым «за девять морей» отправляется жених кузнец Илмойллине. Игя-баба проглатывает его, заставив сплясать на ее языке. В ее утробе он делает кузницу, выковывает нож, распарывает живот и выбирается наружу[819]. Имя героини можно перевести на русский язык как Баба Жизнь, Баба Вечность. Это некая могущественная вершительница судеб, ткущая не только подвенечное платье, но и полотно жизни. Кузнецу необходимо побывать в ее утробе, прежде чем приобрести новый статус самостоятельного женатого мужчины.
Появляется хозяйка бани и в образе женщины в белом, топящей баню.[820] В этих сюжетах она занимается той же работой, которую делали женщины в мире людей. Но белые одежды подчеркивают, во-первых, «иномирность» существа, а во-вторых, ее позитивный настрой в восприятии человека. В данном случае, возможно, белый цвет можно трактовать и как практически прозрачность-призрачность, бестелесность, близость к приведениям.
Припозднившись, можно было увидеть парящуюся в бане женщину. В одной из быличек рассказывается, как мать забыла в бане что-то из детской одежды и через некоторое время пошла забирать. Она открыла дверь, а там женщина акк моется на лавке. Мать тихонько дверь прикрыла и произнесла: «Мойся с благословением!»[821]. Этот сюжет наглядно показывает, что люди относились к бане как к семейно-родовому святилищу. Банных духов-хозяев они не противопоставляли себе, считая, что они так же, как люди, согласно народному православию, находятся под покровительством Бога или верховного божества и им также требуется божье благословение.
В народных представлениях иной мир и мир человека во многом близки, а точнее – зеркальноподобны. Особенно это заметно при рассмотрении временных параметров. Активная жизнь банных духов как бы начинается поздно вечером, по их понятиям это утро. Людям запрещалось заходить в баню ночью, так как по иномирным меркам это был день, именно поэтому в этот период была наиболее вероятна встреча с духами-хозяевами бани, что было нежелательно для человека.
У банных духов, так же, как у людей, есть семьи, в бане иногда видят их детей.
«Еще и в бане есть. В бане тоже показывается. Я как пришла из детсада [с работы – И.Л.] домой, в Подужемье, мама говорит: «Иди в баню! Уже все помылись!» Я пошла. Я пошла, лампа была. Я как открыла дверь, помню, фуфаечка на мне наброшена. Поставила эту лампу. Вот так скамеечка (вот можешь ты представить, я еще молодая была), и как будто лежит ребеночек. Точно ребенок лежит, кажется мне. Я тогда так испугалась! Темно, а я с лампой пришла… Пришла я домой: «Мама, я боюсь мыться, мне кажется, что на скамейке ребеночек»[822]. В рассказе подчеркивается обыденность происходящей в бане ночной жизни. Согласно правилу зеркальности иного мира, ночь в человеческом понимании – это день для иномирных представителей.
Но в исключительных случаях, если пойти в баню очень поздно и нарушить уединение хозяйки, то она может и убить посетителя вне зависимости от его пола. «Одна женщина пошла поздно, там в бане ее и разорвала… Рассказывали такое, дак. Правда это, хозяйка бани разорвет!»[823].
Рассказывали, что к припозднившимся посетителям бани могут прийти сразу две старухи. Одна из них будет прибавлять пар, бросая воду на каменку. А вторая со злостью будет парить человека до тех пор, пока он полностью не угорит[824].
Во многих мифологических рассказах хозяйка бани насылает болезни на человека, если тот нарушил какие-либо табу. Она охраняет границы банного пространства, это одна из основных ее функций.
В одной из быличек рассказчица говорит, что однажды после бани у нее на ноге образовались водянистые волдыри: «Вода все сочится из них, уже два больших отверстия появилось в ноге». Наконец, ей дали направление в Петрозаводск на операцию: «ногу отрезать». Мать ей говорит: «Наташенька, не подумала ли ты чего [плохого – И.Л.]?» И тут рассказчица вспомнила, что она мылась в бане, стоя на коленках, поскользнулась и «в шутку выругалась матом: «Глянь-ка, ты черт!» Вот от этого нога и заболела. После того, как она сходила просить прощения у хозяев, к ней во сне пришла сама хозяйка бани. Это была старуха в черных одеждах с седой головой. Она растолкала ее в кровати и говорит: «Иди, вымой ногу, нога грязная!» И только после этого женщина пошла на поправку[825].
Седовласость в данном случае подчеркивает, что хозяйка бани является носительницей многовековой мудрости первопредков. А черные одежды можно трактовать как акцент на негативном отношении духов к проступкам человека, нарушившего запреты. Нарушение вербальных границ (мат) привело к болезни. Таким образом, духовная и материальная сферы взаимосвязаны: употребление обсценной лексики навлекает реальный недуг в ноге.
В другой быличке рассказчица говорит: «Нога заболела, сначала немного, потом больше и больше, не могу ни вытянуть ногу, ни наступить». Мать велела ей «прощения попросить у хозяев и хозяек бани». После выполненного ритуала «вижу во сне: как будто бы приходит женщина. А я узнала – это старуха из поселка: черная юбка надета, на подоле юбки две белые каемки[826]. А сама думаю: кто это к нам пришел, если у нас двери заперты. И пришла, рядом с моей койкой села и говорит мне: «Ты меня чуть не обожгла! Если бы обожгла, попомнила бы!» И правда, вода была горячая! А холодная вода у меня не была принесена. Той водой помылась. А потом как проснулась ночью, думаю: правда, это была хозяйка бани!»[827]
Иногда духи-хозяева бани предстают перед человеком в виде моющегося привидения[828]. Порой это просто какое-то непонятное существо. В одной из быличек рассказывается, как человек пошел поздно в баню, и вдруг из-за печки поднялось какое-то большое существо suuri hahmo и произнесло: «Пришел сюда беспокоить!»[829]
В другой быличке мать рассказчицы увидела в каменке улыбающуюся голову. «Отец сам дом строил. А раньше ведь кирпича не было, и ничего не было, надо было кирпичи самому делать…Маме надо было идти в час ночи в баню кирпичи эти делать. И вот когда она пришла ночью с фонариком и стала кирпичи делать, в бане… И вдруг с печки упал камень. Ну вот. И мама на это внимания не обратила, а потом решила посмотреть: вроде как из печки камень упал. Ну, камень бросили. Она как посмотрела, она там голову заметила. Она говорила: “Вот перед Господом Богом, что там была голова. Улыбалась и на меня смотрела, – говорит. – И я тогда не то что фонарик, а помчалась домой! И больше ночью я не ходила!”. Говорили, что хозяева бани есть»[830]. В этом рассказе подчеркивается, что, несмотря на то, что девушка сама нарушила временные границы и сильно испугалась показавшегося ей духа бани, он к ней расположен был весьма благосклонно. Не случайно он ей улыбался и прежде, чем показаться, стремился стуком бросаемых камней предупредить об опасности и нарушенном запрете.
Во многих мифологических рассказах внешность хозяев бани или никак не описывается, или указывается, что они аморфны, невидимы, как, согласно народному мировоззрению, чаще всего и подобает быть представителям иного мира. Видимыми они становятся только в особое время и при особых обстоятельствах.
Хозяина и хозяйку «не видели. Они не показываются. Они как невидимки такие. Не показывает. Бога ведь не видим, так и его. Говорят: Бог, Бог есть да ангел – никогда ведь не видим, а молимся. Так и у него там»[831].
В народном представлении Бог и духи-хозяева бани не противопоставляются друг другу. Скорее, Бог воспринимается как верховное существо. А духи-хозяева подчинены Ему, находятся в Его власти и исполняют Его волю. Об этом говорится еще в одной быличке. «Нельзя поздно ходить в баню. Олеша пошел после всех, совсем поздно, не боясь. Задержался там. Жена нашла его чуть живого…Сутки спал. Проснулся, первым делом попросил надеть ему на шею крест…А до этого он его снял: больше не надену и детям не разрешу! Рассказал… Зашел в баню, разделся, залез на полки. В бане никого нет, в двери никто не заходил, не слышно ничего. Только пар бросил и лег на спину – как стали меня вицами стегать. Никого нигде не видно… И встать не могу, так бьют. Дальше ничего не помню, что делали… А сейчас и повернуться не могу на другой бок – так все тело болит. Больше я накануне праздника поздно в баню и сам не пойду, и другим не советую. После этого Олеша в Бога поверил и ребенка крестил. И сам стал молитвенником»[832].
Здесь человек вдвойне нарушает запреты. Во-первых, идет мыться слишком поздно, когда уже наступает черед мыться банным духам. Во-вторых, будучи крещеным, снимает крест, лишая себя Божьего покровительства и тем самым навлекая на себя особый гнев невидимых духов. Поэтому они без предупреждения расправляются с мужчиной.
О том, что в бане идет своя, чаще всего невидимая человеку ночная жизнь, рассказывается во многих былинках. Порой духи-хозяева бани аморфны и проявляют себя только в звуковом плане. Свидетельством этому является или непонятный шум, стук, или горящая в банном окне лучина и слышащийся разговор невидимых хозяев. «Был такой случай. Всегда в карты играли в том доме и не успели в баню. Да потом перед праздником пошли поздно. Лучина горела, и шум, шушуканье слышалось в каждом месте тем, кто мылся. Что было? Да крепко держал там кто-то дверь, что не пускал вон… Ну была ли хозяйка бани или был кто-то, кто плохо делает»[833]. В другой былинке старик пошел на спор ночью в баню. «А как стал к бане подходить, слышит: в бане разговаривают! Разговаривают в бане! Не посмел войти…Пришел, говорит: “Поспорил, а проиграл! Нет!” – говорит»[834]. При этом следует отметить, что этот разговор банных хозяев всегда ясен и понятен человеку. Это еще раз подтверждает мысль, что баня считалась неким семейно-родовым святилищем и духи, живущие там, говорят на родном для человека языке. В отличие, например, от пойманного в сети ребенка хозяев воды. Или от хозяев леса, которые на последней стадии развития мифологических рассказов аккумулируют в себе негативную характеристику и часто уподобляются черту. Вследствие этого разговор леших, одетых в черные шинели с золотыми пуговицами, практически всегда непонятен человеку.
Видят хозяев бани и в зооморфном виде, например, лягушки. «В баню тоже идут с молитвой, не по-плохому идут. Всегда вспоминали, говорили: была там девушка, с матерью жила. Придет и баню истопит перед каждым праздником ночью. “Не топи, – говорит – баню, доченька, перед таким дорогим праздником. Лучше потом истопишь”. И вот вечером поздно, в праздничный вечер, поздно. “А, – говорит – ничего не будет!” “Не говори так, дочка! А вдруг будет!? Нельзя знать! Иди с молитвой!” Она ни во что не верила. А говорили: в баню как пошла, как стала смотреть – в воде лягушка. В холодной воде, в тазе. Она взяла ее и выбросила. Сказала: “Черт что ли сюда пришел?!” Ну воду она сделала, пару подбросила и стала волосы мыть. Волосы как стала мыть, а они все склеились. Не смогла вымыть. Склеились волосы, она уложила их снова в пучок и домой пришла, говорит: “Мама, теперь волосы не распутываются, не могу никак. Лягушка в тазе чудилась”. “Ну вот, – говорит – надо с молитвой идти, да не надо бы перед дорогим праздником баню топить”. А потом пошли к врачам: “Мы ничего не знаем. Если наголо сбреем волосы, а больше ничего не можем!” Ну что? Тогда к знахарям. Знахари освободили, знахари, да по-хорошему, с молитвой: “Хозяева бани, хозяйки бани…” В каждом месте есть. Плохое – плохое и есть. Не говори: сегодня все хорошо, завтра я то-то сделаю. А поди знай, что сунется. Нельзя знать заранее, что будешь делать, как жить, что будет»[835].
Лягушка в карельской мифологии – животное почитаемое. Убивать ее запрещалось по двум причинам.
Во-первых, карелы говорили, что лягушка – Божья повитуха Jumalan boabo, то есть связана с высшими силами, находится под их покровительством. У манси она является тотемом рода. Не случайно болезнь настигает девушку сразу же, как только она выбрасывает лягушку, еще и помянув при этом черта. Таким образом, после нарушения временных границ (придя в баню поздно перед праздником), она преступает и вербальные. На произношении слова «черт» лежало строгое табу в любое время и в любом месте. А локус бани сакрализован и чист во всех смыслах, и в физическом, и в духовном.
Во-вторых, считалось, что убийство лягушки в летнюю страду, во время сенокоса навлечет дождь, совершенно ненужный в эту пору. «В различных мифопоэтических системах функции лягушки, как положительные (связь с плодородием, производительной силой, возрождением), так и отрицательные (связь с хтоническим миром, мором, болезнью, смертью), определяются, прежде всего, ее связью с водой» [836]. Поэтому не случайно лягушка, являясь в данной былинке эманацией хозяев бани, связанных с Богом, появляется в тазе с водой. Как известно, баня является локусом, в котором синкретизируются стихии огня и воды. Через лягушку, в том числе как представительницу водной стихии, являющейся, по воззрениям карелов, некоей первоматерией, в которой возникла жизнь, в данной былинке вершится наказание ослушника, насылается болезнь. Истоки недуга находятся в духовной сфере, как и его исцеление, которое наступает сразу после того, как девушка испросит прощения у банных хозяев.
Видят в бане и других представителей животного мира, образы которых в мифологии чаще всего являются отрицательными и противопоставляются Богу.
В одной из быличек рассказывается, что Федотов Игнат пошел с женой и двумя детьми в баню. Был уже поздний субботний вечер. Жена детей вымыла, а он еще на полках парится. «Надо бы детей отвести, но и тебе нужен товарищ, поздно уже, да перед праздником» Игнат отвечает: «Идите, ничего не случится!» Жена ужин приготовила, а мужа все нет. Ждала-ждала, пошла, открыла дверь в баню: Игнат лежит на полу на животе мертвый. Подняли: на шее следы от когтей зверя[837].
Здесь, возможно, нашли отражение стадиально более поздние народные представления. В мировоззрении карелов зверь zviiri – это нечто дикое, кровожадное. Этот образ ассоциируется с чертом, он диаметрально противоположен Богу и близок по своей сути к тому «зверю», о котором говорится в Апокалипсисе.
Аналогичный образ появляется еще в одном рассказе. Две девушки не успели доехать до дома, и им пришлось заночевать в соседней деревне. Хозяйка предлагала им лечь дома, на печи. Но они предпочли пойти в баню. «Ну там у нас была беда! Как будто козлы, черные, рога такие, прямо как пики. И трехрогие такие вилы, как будто в дверь идут…Мы не смеем ни… И не спим, и не… Как на чудо смотрим. И боимся, не можем даже разговаривать. Но так они нас мучили, не смеем дверь открыть, чтобы уйти вон из бани. Ну потом это вроде успокоилось. Мы ушли вон из бани, уже светать начало немножко»[838].
Образ, появляющийся здесь, также по восприятию карелов совпадает с образом черта. Козел считается животным нечистым, он с рогами, копытами, бородкой. Все эти детали фигурируют и в образе черта. Примечательно, что существа, пугающие девушек, живут не в бане, а приходят извне, лезут в дверь. Но словно какая-то невидимая преграда не подпускает их к девушкам. Исчезают они только на рассвете. Их появление совпадает с темпоральными границами, на которые приходится наибольшая активность всех «иномирных» существ, но в первую очередь отрицательных. Примечательно, что девушки сами отказались от места на печи, предложенного хозяйкой. Как известно, печь в доме – не только самое теплое, но и самое безопасное место. Не случайно на ней спят самые беззащитные и физически слабые – дети и старики. Согласно народному мировоззрению, на печи они как бы попадают под покровительство домашних духов и духов первопредков, живущих в этом локусе. Девушки, отказавшись от их защиты, оказываются под влиянием «плохой половины» pahapuolizet, черта karu.
В карельских мифологических рассказах о бане встречается упоминание и самого черта. Возможно, связано это с трансформацией представлений о бане и банных хозяевах от «чистых» в «нечистые». Хотя в большинстве зафиксированных фольклорных рассказов карелов баня одновременно воспринимается и как некое семейно-родовое святилище, в котором царили первопредки и духи-хозяева, и как место опасное для человека, потому что там может обитать нечистая сила, к которой под влиянием христианства были приравнены все духи. Говоря о ритуальной чистоте-нечистоте банного локуса, достаточно вспомнить запрет западноевропейской католической церкви в средневековье на любые омовения, якобы смывающие с человека святое причастие, вследствие чего в средние века целые города вымирали из-за эпидемий чумы и холеры.
Также, к примеру, в одном из мифологических рассказов карелов для того, чтобы научиться хорошо играть на гармошке, советовалось в ночь перед Пасхой пойти в баню. В то время, когда все будут в церкви, следовало «продать свою душу плохим pahalaizil. И будешь лучше всех играть»[839]. Здесь локусы церкви и бани явно противопоставлены, причем действие происходит в одну из двух самых святых ночей в году, пасхальную.
Но чаще всего черт в бане выполняет две функции: или чинит расправу над человеком, или крадет детей.
Черт появляется в бане только поздно ночью, он сдирает кожу с тех, кто посмел перешагнуть банный порог в это время[840].
Один старик из упрямства перед каждым «Божьим праздником» заставлял жену поздно топить баню. В очередной раз он очень долго не возвращался. Решила жена посмотреть, что там случилось. А он «на полках лежит, совсем без чувств. И весь веник выпарен, в руке только голик остался. «Что случилось?» Муж встал: «Ой-ой-ой, – говорит – пусть, жена, будет последний раз!» Это его напарил pahapuoli kylvettäjä парильщик с плохой стороны» [841].
В карельской ментальности культивировалось очень внимательное отношение к детям[842]. На них запрещалось ругаться, особенно с упоминанием черта или лешего или с употреблением обсценной, лексики. Особенно трепетно относились к младенцам до полугода, у которых еще не начали появляться зубы. Этот период считался наиболее опасным для детей. Согласно верованиям карелов, именно в это время и при нарушении вербальных табу происходила кража или подмена ребенка духами[843]. Примечательно, что в качестве глагола, обозначающего воспитательный процесс, употребляется не cakata ругать, а гораздо более негативный, грубый синоним kirota, одно из основных значений которого «проклинать». Одним из самых опасных в этом отношении мест считалась баня.
Сюжеты о похищении детей духами-хозяевами[844] одни из самых архаичных в мифологических рассказах. В архивах ИЯЛИ, где хранятся былинки, в основном собранные во второй половине XX века, их очень мало. Есть они в Фольклорном архиве Финского литературного общества (SKS). Например, в Ведлозере рассказывали:
«Женщина положила ребенка у стены в бане. Тут его и поменял черт. Ребенок стал постоянно плакать, перестал ходить. Однажды отец поехал в лес пахать, и там навстречу ему пришел сын и передал привет матери»[845].
Этот сюжет – один из самых распространенных в карельской мифологии. В данной быличке черт уносит ребенка из бани в лес – локус чужой и опасный для человека. Здесь черт – тот же позднестадиальный леший, трансформировавшийся из лесного божества в злого лесного духа. Дома родителям остается «обменыш», беспомощный инвалид. А в лесном царстве живет их настоящий сын, скучающий по матери и находящийся в лесу в неволе. Поэтому он находит возможность встретиться с отцом на вспаханном кусочке земли. Это единственный локус в лесу, безопасный для человека.
В другом рассказе мать с ребенком уже постарше пошла в баню. Когда он непроизвольно испражнился на пол, мать грубо выругала его. Ребенок изменился, стал чахнуть. Тогда позвали очень сильного знахаря. Он особым способом приготовил воду, положил обменыша на порог, и тот превратился в осиновое полено [846].
В карельской ментальности самым страшным наказанием было, когда сам человек и его душа оказывались во власти злых духов. В таком случае главной целью ритуала исцеления было освободить его от влияния «нечистых». Карелы говорили: «työndea elämäh libo kuolemah» – «отпустить жить или умирать», любой из этих вариантов считался одинаково спасительным, так как душа человека становилась свободной.
Примечательно, что обряд освобождения проводится на пороге, под которым, как считалось, обитают предки, и знахарь обращается к ним за помощью[847].
В большинстве рассказов о подмененных детях развязка именно такая: ребенок становится увечным, а затем после манипуляций знахаря превращается в полено, причем именно в осиновое. Осина, как известно, в мифологиях многих народов считается деревом проклятым, деревом нечистой силы. В легендах это объясняется тем, что она не признала Иисуса; во время его крестного пути не склонилась перед ним от жалости; прутья, которыми бичевали Христа, и крест, на котором Его распяли, были осиновыми; на осине после предательства Сына Божьего удавился Иуда. Поэтому от стыда у нее в любую погоду дрожат листья. Это народное поверье нашло отражение и в духовном стихе «Сон Богородицы» из репертура известной заонежской вопленницы И.А. Федосовой:
Иуда же, что продал ли Бога за тридцать монет, Перед своей он совестью не выдержал ответ И на осине со отчаянья повесился. А лучше было б, как разбойник на кресте, Коли б с прощением припал к Его святой руке, И с той поры осина и без ветрышка трясется[848].Аналогичные верования есть и у карелов. Латыши и литовцы считали, что гром и молния поражают именно осину, так как в ней от преследований громовержца прячется черт, чья кровь и окрашивает древесину в красный цвет[849]. Отрицательную семантику имеет осина и в карельской мифологии, в отличие, например, от ольхи, считающейся одним из самых древних, чистых и благословенных деревьев. В сказке ольховая чурка, которую приносит старик и которую бездетная старуха старательно качает в колыбели, превращается в младенца, становящегося сильным и хитроумным помощником отца (СУС 65ОА).
Под Олонцом в 1940 году был записан интересный сказочный сюжет, в котором банная баба hylyn akku выступает в несвойственной ей роли похитителя детей. В этом рассказе мифологические и сказочные реалии переплетены воедино, демонстрируя процесс постепенной трансформации традиционной былинки в сказку. При рассмотрении данного повествования можно сделать акцент не только на похищении ребенка, но и на женитьбе парня на похищенной и вновь обретенной девушке. Здесь уместно вспомнить мнение Е. Г. Кагарова о том, что свадебная баня является пережитком старинного ритуала бракосочетания невесты с духом бани, которому она приносила в жертву свою девственность с целью обеспечить себе плодовитость[850]. Как и в традиционном свадебном обряде, в быличках переход «банной девушки» из состояния временной отреченности от мира людей в состояние замужества связан с утратой признаков невидимости-наготы: жених приносит ей одежду и приводит в свой род[851]. Н. А. Криничная считает, что мотив похищения и изоляции в подобного рода быличках является реминисценцией древних посвятительных обрядов (обрядов инициации), непосредственно предшествовавших браку.
В карельской сказке один парень решает в Святки на спор принести поздно вечером камень от банной каменки. Идет туда, но рука намертво пристает к печке, и оттуда раздается голос: «Отпущу руку, если только женишься на мне». Парень обещает взять незнакомку замуж, а ночью она приходит к нему во сне в образе красавицы. Парень влюбляется, женится на ней. Через какое-то время ему становится обидно, что во время мясопуста все друзья едут в гости к тещам, а ему и погостить негде. Но жена его утешает: «Не расстраивайся, есть куда ехать, запрягай лошадь, только вожжи не бери». Подъезжают они к очень красивому дому, а там внизу alahan нечеловеческий плач раздается. Хозяйка говорит: «Был хороший ребенок. А в год что-то случилось: не растет и не умирает, только есть просит. От этого никто к нам в гости не ходит уже восемнадцать лет». Спустились они вниз, молодая женщина берет ребенка и левой рукой бросает его за спину – на полу оказывается осиновое полено. Она объясняет: «В тот день вы с мужем были обижены друг на друга и пошли в баню. А потом ребенок в колыбели трижды чихнул, а вы ничего не произнесли. Банная баба и забрала вашего ребенка, а взамен положила осиновое полено. Его вы и качали до сих пор. А ваша дочь – я, а этот мужчина освободил меня от рук банной бабы»[852].
В этом сказочном сюжете, очень близком традиционной быличке, все очень символично. Герой нарушает локально-временные границы: идет в баню в период, наиболее благоприятный для контактирования с банными духами, в святочную ночь. Да еще к самому сакральному локусу бани, каменке, которая является основным местом их проживания. При этом следует отметить, что как камень, лежащий в воде, является эманацией водяного, так и камень от банной каменки – воплощение баенника, и трогать его запрещено. Он преступает и вербальные табу: делает это на спор.
Девушка, которую «удочерила» банная баба, впервые показывается человеку во сне. Согласно народному мировосприятию, в это время люди находятся в пограничном состоянии, между жизнью и смертью, и переход из одного мира в другой наиболее вероятен и возможен. Окончательный переход в человеческий мир также происходит в лиминальный временной отрезок, во время свадьбы, поэтому женитьба была главным условием спасения для девушки. После этого она приобретает новый статус, переходя не только в мир людей, но и в новый род, род мужа. Невероятно красивый дом, в котором живут ее родные мать и отец, как бы тоже уже восемнадцать лет находится в ином мире, в который они «попали» из-за нарушения табу. Подчеркивается это несколькими деталями. Во-первых, выделяется особая красота дома, которой чаще всего наделяется иной мир. Во-вторых, подчеркивается, что сюда уже давно никто из людей не приходит. В-третьих, доехать туда можно только на лошади, причем без вожжей. Конь, как известно, в мифологии является проводником между мирами. Женщина запрещает мужу взять вожжи. Это говорит о том, что надо полностью положиться на лошадь, она сама знает, куда надо везти. Вожжи, как и уздечка, – это средство управления лошадью. В одном из карельских сказочных сюжетов (СУС 325) говорится: «Кто имеет уздечку, у того власть над лошадью». В-четвертых, в доме находится «обменыш», издающий «нечеловеческий плач». При этом подчеркивается, что он – «внизу», то есть, по сути, в нижнем мире, мире мертвых. В-пятых, упоминается сакральная цифра восемнадцать. Это дважды девять. Для исцеления или для любой продуцирующей магии используется девять, например, предметов или трижды по девять. Здесь же восемнадцать, то есть дважды девять, нечетное число всегда связывается с миром мертвых или нечистой силой. Именно столько лет находится в доме его представитель, «обменыш». В-шестых, девушка бросает ребенка левой рукой за спину, то есть в мир мертвых, или к чертям, согласно более поздним представлениям. В-седьмых, ребенок превращается в осиновое полено, дерево нечистое в мифологии. В-восьмых, вся беда произошла потому, что родители проявили неуважение дважды. Они сначала пошли в баню в обиде друг на друга. Согласно менталитету карелов, этого нельзя делать ни в коем случае. Как в церковь к Богу рекомендуется идти, только помирившись со всеми, простив все обиды, так и в семейно-родовое святилище, каковым являлась баня. Позже мать с отцом промолчали в ответ на чихание младенца, еще беззащитного перед посягательствами представителей иного мира. Карелы всегда говорили, что, когда ребенок чихнет, надо обязательно произнести: «Господи, благослови!» Поэтому первопредки, представителем которых является в данном случае банная баба, решили забрать ребенка к себе, наказав тем самым родителей, нарушивших табу. Обмен и возвращение в человеческий мир стало возможно, только когда представитель другого рода согласился жениться на девушке, приобщить ее к своему роду и тем самым спасти ее.
Примечательно, что карелы никогда не оставляли младенца одного дома, а тем более в бане. В исключительных случаях следовало положить под колыбель банный веник-голик: «веник, говорили, охраняет ребенка»[853]. В данном случае этот предмет считался эманацией хозяйки бани и хозяев дома, связанных с миром первопредков. Положив веник под люльку, обращались к их помощи. «Первоначально веник осознавался ипостасью мифологического персонажа (огненный змей может появляться в виде веника), его атрибутом (ведьма летает на венике или помеле, с его помощью отбирают у коровы молоко, на веник «наговаривают» порчу, с его помощью передают колдовские знания, вызывают ссоры и болезни) и даже место обитания (в некоторых областях России существуют поверья, что в венике живет домовой). Помимо этого он играл существенную роль в обрядах и верованиях славян (роль веника как оберега рожениц, средства изгнания вредителей и обезвреживания ведьм). Он использовался в сельскохозяйственной и лечебной магии. Веник связан с природными стихиями. Велика его роль в переходных и очистительных обрядах, а также обрядах календарного цикла и гаданиях. Считается, что душа покойного может пребывать в венике, поэтому его нельзя бросать в грязь, сжигать и без особой нужды трогать»[854].
Н. Ф. Лесков писал, что южные карелы, ливвики и людики, клали под колыбель комель от веника, которым роженица парилась первые три бани, или сапоги матери. «А оставь так люльку, не заметишь ведь, как нечистый “paha” устроит какую ни есть пакость: заберется в люльку сам или подложит в нее свое паршивое детище» [855].
Были у хозяйки бани и иные способы наказания провинившегося человека.
«Наш дед Осип в бане был, он много знал, знахарем был. И вот он пошел после шести. И говорили, что там его хозяйка убила. Раз знахарем был… После шести часов вечера не разрешали в баню ходить. Белье в бане не стирали… Грязь туда не носили… А баня после случая с дедом сгорела, дак говорили, что черти вокруг бани плясали. Когда баня горела. Будто бы видели: черти плясали»[856].
Интересно, что это рассказывала женщина из рода староверов. Здесь еще раз подчеркивается сакральность банного пространства, которому чужда и материальная, и духовная «грязь». Наказание настолько жестоко, потому что табу нарушает сам знахарь, человек не только знакомый со всеми правилами поведения и общения с представителями иного мира, но передающий эту мудрость другим, являющийся посредником между человеком и духами. Дед Осип, зная все законы, но надеясь на собственные магические знания, сознательно нарушает их, входя в банное пространство с обыденной целью помыться в сакральное время. Но это пространство уже безраздельно принадлежит банным хозяевам. Поэтому они не только убивают нарушителя, но сжигают и саму оскверненную постройку, тем самым лишая семью родового святилища. Нечистая сила, черти karut радуются этому и пляшут вокруг горящей бани.
Хозяева бани вершат наказание избирательно: сгорает баня только одного рода. Эта семья должна будет возвести новую постройку, куда и перейдут те же самые духи-хозяева и будут и дальше покровительствовать своему роду[857]. У карелов есть даже пословица, подчеркивающая избирательность такой кары: «Kyly kyleä ei polta» – «Баня деревню не сожжет». И в то же время множество фразеологизмов свидетельствует о карательной функции бани. Наказать – это значит «показать горячую баню ozuttua hiilavu kyly», «задать баню (пару) andua kyly (löylyä)». Когда человек прозябает, влечет жалкое существование, говорят «как в холодной бане парится кип viluo kylyö kylpie». Холодная и сухая – для бани были одинаково отрицательными эпитетами, неприемлемыми в карельском быту. Наказать – значило и «получить сухую баню kuivu kyly puutui»[858].
Примечательно, что эпитет «огненная» в применении к бане часто имеет гораздо менее негативный смысл, чем холодная и сухая. Особенно это заметно в эпических песнях на сюжет о сватовстве. Например, в одной из южнокарельских рун три брата Вянямёни, Йогамони и Ил-моллине отправляются сватать «дочь потного Хийси, внучку горных сил» – «Higi Hiien tyttääreego, Vägi vuoren vunukkaago». Приехав на место, герой подвергается ритуальным свадебным испытаниям и со всеми благополучно справляется. Последним из них является огненная баня «kylves on kyly tulinen». Но как только кузнец подходит к ней, ее стены остывают и покрываются льдом: «menib on kylyn lähellä, menib on seinät jäihe» – «подошел он к бане, а стены льдом покрылись»[859].
Возможно, дед Осип, знахарь из предыдущей былинки, нарушил еще и иные табу, которые были неизвестны внучке. Хозяева бани и первопредки помогали людям и покровительствовали знахарям, занимающимся лечебной или иной позитивной магией. На том этапе развития, когда баня считалась семейным святилищем, банная баба kylyn akka не принимала в своем пространстве тех, кто знается с нечистой силой, черных колдунов, и наказывала их. В карельских сказках главную злую колдунью Сюоятар герой по красной ковровой дорожке ведет в баню, тем самым как бы обещая «познакомить» тещу со своими первопредками. Но переступить порог ей не разрешается. Перед (под) ним зарыты кипящие смоляные котлы, в которых и сгорает существо, являющееся чужеродным олицетворением зла. Не случайно это происходит перед порогом, именно этот локус является одним из мест обитания первопредков. Они помогают герою наказать колдунью, пытающуюся обмануть его и посягнуть на семейное счастье и более того – на продолжателя рода. Настоящая жена героя, превращенная в сакральное животное карельской мифологии, в голубую важенку, кормит ребенка своим молоком. Брать грудь дочери Сюоятар мальчик отказывается, тем самым как бы не желая приобщаться к ее роду[860].
Аналогичные мифологические представления находят отражение и в русской литературе. К примеру, в повести В. Одоевского «Саламандра» главная героиня Эльза, будучи ведьмой-колдуньей, не идет в баню, боясь наказания.
Мифологические рассказы также повествуют о том, что баня являлась локусом, в котором происходила передача сакральных знаний от знахаря ученику. «Пекка Хямяляйнен в деревне раны лечил. Пекка рассказывал Соломаниде, как он с первого раза выучил все заговоры и заклинания. Был другой, старший знахарь. Натопил баню. Посадил его на порог, как бы подперев им дверь. Прочитал [заговоры – И.Л.] в молочный горшок и плюнул. Пекка выпил это молоко на полках. И, рассказывал Пекка, я все слова знал»[861].
Передача знаний происходит мгновенно. Этому, во-первых, способствует сам сакральный локус бани, особенно полки и порог, где возможна связь с духами. Во-вторых, идет контакт с сакральными предметами и веществами. Это и сам молочный горшок, и молоко, и слюна. Глиняный горшок, в котором томили молоко, соотносится и с печью, с огнем, тем самым являясь эманацией домашних духов, тесно связанных с этим локусом и выступающих защитниками человека.
Горшок использовали во многих обрядах. Его, ассоциируя с невинностью невесты, разбивали во время свадьбы, а затем по черепкам судили о количестве детей[862]. После выноса покойника из дома (чтобы он ничего не взял с собой), этот предмет разбивали о верхнюю притолоку двери. У. С. Конкка высказывает предположение, что «семантика и символика горшка в различных, в особенности семейных и календарных, обрядах и верованиях, связана с понятиями человеческой души и различными ее ипостасями»[863].
В анализируемом обряде горшок еще и наполнен сакральной жидкостью. Как известно, молоко (как и слюна) является концентрацией жизненной силы[864]. Молоко – это и средство, меняющее физический облик сказочного героя, вспомним сказку о коньке-горбунке (СУС 531). Оно олицетворяет изобилие в мифопоэтических системах мира[865].
Слюна в мифологии также имеет глубокую семантику[866]. Не случайно плевок в лицо, в котором сконцентрирована вся отрицательная энергия, считается самым большим оскорблением.
В Новом Завете Иисус лечит своей слюной, скрепляя процесс вербальной формулой: «Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому»[867]. «Привели к Нему глухого косноязычного и просили возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; И воззрев на небо, вдохнул и сказал ему: «еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверз у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто»[868].
Изначально пол в бане был земляной, во время мытья его застилали соломой. Возможно, вследствие этого считается, что в бане может жить и дух земли moahaldie. Боясь гнева хозяйки земли, не ходили в баню по ночам: того, кто приходит ночью, moahaldie может схватить и привязать к полкам или лавкам[869]. В древности считалась, что во время строительства бани и накануне больших праздников надо положить в землю гостинцы для хозяина и хозяйки земли[870]. В некоторых быличках говорится, что в бане есть подземные жители maanalla eläjät, которые ведут самую обыденную жизнь: у них есть дети, они едят за столом, но могут и наслать болезнь на человека, нарушившего какой-то запрет[871]. Существовало множество разных табу. Например, в бане нельзя выпускать газы, иначе живущий здесь дух земли напустит болезнь, и у человека будет болеть голова[872]. Это еще раз подтверждает, что стихии и духи земли, воды и огня в бане соседствуют и контактируют друг с другом.
Говорится в мифологических рассказах и о различных существах, которые в особое время и при особых обстоятельствах приходят в баню. Это свидетельствует о том, что все духи-хозяева взаимосвязаны между собой и могут контактировать друг с другом. Например, вечером для лечения ребенка знахарь, открыв все двери, может вызвать в баню хозяина леса. Присутствующие издали видят, как он идет из лесу по берегу озера. Он такого огромного роста, что лица не видно! Видны только ноги: «они такие длинные, метров пять длиной ноги». Подойдя к бане, он сделался немного пониже и кое-как, скрючившись, вполз в баню. Хозяин леса по просьбе знахаря обрывает все листья с веника, тем самым забирая себе все боли ребенка. С первого раза младенец полностью не исцеляется, и тогда леший приглашается еще раз[873].
В Ведлозере также рассказывают о посещении «раскаленной добела бани» хозяином леса metsänhiisi. «А хозяин леса… Есть он у нас. На окраине села у самого озера валун лежит, на нем отпечаток ноги этого беса. Старики говорят, что след он оставил, когда, попарившись в раскаленной добела бане, шел окунуться в озеро и ступил огненной ногой на валун. Мы на это место не ходим, пусть дачники тебя проводят»[874].
В другой былинке рассказывается, как в полночь в баню шел старик. У него была длинная борода, длинные волосы и большие, «с кофейную чашку», глаза. Когда рассказчик загремел чем-то, он убежал. «Леший или кто это был?!» – спрашивает себя рассказчик [875]. О неизвестном большеглазом существе (возможно, и человеческом) говорится и в одной из южнокарельских паремий: «Чей котенок лупоглазый в угол бани рожден» – «Kenen kissa kiirasilmä kylyn cuppuh suadu»[876].
Карельская мифология сохранила и некоторые детали, свидетельствующие о том, что в древности люди олицетворяли праздник, считая его неким живым существом. В одной из быличек «божий праздник» в образе аморфного существа приходит в баню и предупреждает человека об опасности. Рассказывается, как женщина с ребенком перед «дорогим праздником kallis proazniekka» (чаще всего в таком контексте подразумевается Пасха) пошли в баню. Уже был поздно, так как «во много очередей мылись… Девочку положила на полок, а сама стала раздеваться. Слышу: дверь скрипнула. Ага! Что тут пришло? Говорю: «Аня, хэй!» А Аня еще дома осталась. «Аня, иди сюда, что хулиганишь?» Не слышно и не видно. Я эту девочку раздеваю, и уже испугалась. Потом говорю: «Аня, иди сюда, что ты там балуешься?» Не видно, не слышно. Беру девочку, завернула, дверь открыла да начинаю догадываться, что раз это было перед праздником, то это праздник дразнит… Тогда быстренько бежать, да домой прибежала. А Аня на печке только сидит, и не выходила. Этого перед большими праздниками боялись, это праздники Бога»[877].
Но иногда некоторые праздники, приходящие в баню, имели и видимый образ, а существо, его представляющее, носило собственное имя.
Это в первую очередь Сюндю, предстающий во время Святок в фитоморфном (копна сена) или ином виде. Хотя чаще всего он невидим, аморфен и имеет только акустические признаки и проявления. Сюндю– предсказатель, это его основная функция, ему ведомо будущее человека. Именно про это мифологическое существо, олицетворяющее собой сакральное время Святок, и про этот временной промежуток карелы говорят: «Nägymätöi nägyy, kuulumatoi kuuluu, kai stoanivuu» – «Невидимый видим, неслышимый слышен, и все сбывается». Поэтому «в Святки идут в баню, где палили поросенка. Становятся за дверь, и Сюндю расскажет все, что будет. Но с ним говоря, надо помнить, что первое сказанное слово необходимо произнести последним. Только тот сможет уйти. Если не скажешь, останешься там»[878]. Предсказания Сюндю слушают чаще всего на перекрестке или у проруби. Но в данной быличке этот дух приходит в баню, и чтобы уйти от него, надо соблюсти ряд правил, в том числе и замкнуть вербальный круг-оберег: первое слово сказать последним.
В целом баня была достаточно известным местом для гадания о будущем. Но при этом за прорицанием чаще всего обращались к банным духам. Для этого следовало протянуть руку в окошко или засунуть ее в печку. Если в ответ хватали шерстяной, мохнатой рукой, будешь счастлив и богат. Если ладонь была голая или холодная, жди беды, болезни, а возможно, и смерти.
Пространственно-временные границы и этикет общения с духами-хозяевами бани
Исследуя мифологическую прозу и заклинательную поэзию карелов, можно прийти к выводу, что локус бани и даже пространство вокруг нее необычны. Все в ней обитаемо, населено духами-хозяевами, даже пар в бане одушевлен, сама постройка оживлена, а дорога к ней полна опасностей. Поэтому, идя туда и возвращаясь домой, человеку надо быть осторожным. В одной из быличек рассказывается, как по пути из бани домой женщина попала «на следы черта karun jallil. Вижу дом впереди, но, сколько ни иду, дом остается на таком же расстоянии. Шла-шла, сколько могла, но так как знаю, что путь до дома совсем близок, поняла, куда попала. Сняла быстренько сапоги и очнулась на мысу, рядом с озером. Стала звать на помощь, и пришел народ из деревни, отвели домой»[879].
Рассказчица, по всей видимости, нарушила какие-то правила и не смогла беспрепятственно выйти из иного мира. На короткой дороге от бани до дома она заблудилась, словно в лесу. Именно с чуждым человеку локусом лесного царства связано большинство сюжетов блуждания или «попадания на следы черта». Способ спастись и выйти на верный путь такой же – переобуться, что и делает рассказчица.
Интересные образы, персонифицирующие баню, появляются в других жанрах карельского фольклора.
В одном из сюжетов эпической песни рассказывается о том, как Лемминкяйнен в свой дом, расположенный «на горе» (то есть как бы в верхнем мире) приводит невесту. Новый род не принимает ее, так как она «дочь Хийси» (то есть из враждебного, чужого, нижнего мира). Даже первопредки, ассоцирующиеся с половицами, против нее:
В сенях половицы расступились Перед подметающей сени. В избе половицы перевертывались Перед подметающей избу… Обещал он привезти кукушку Ягодку нежную обещал, А привез банный крюк, Банный сруб, в семью вносящий раздор[880].Все банное пространство в карельской мифологической прозе населено духами-хозяевами. Его сакральным центром является каменка. В одном из самых архаичных фольклорных жанров, загадке, ее образ олицетворен и наполнен мифологическими деталями: «Черная комолая корова стоит на святой земле, на меже святого поля, большой ушат воды выпивает, большую охапку дров съедает»; «Черная комолая корова воду пьет, огонь ест»; «Баба черная чернушка, баба толстая толстушка ушат воды выпивает»[881]. С одной стороны, банный локус, на котором стоит каменка, назван «святой землей». Но с другой – подчеркивается, что это «межа святого поля», то есть пограничное между мирами пространство, на котором как раз и возможен контакт между человеком и духами. Сама каменка сравнивается с безрогой коровой и толстой бабой. Корова – это животное, дающее животворящую жидкость, используемую во множестве обрядов: омоложения, исцеления, передачи сакральных знаний. Комолость коровы подчеркивает ее позитивный настрой в отношении человека, рогат, как известно, в мифологии черт. К примеру, у русских Обонежья бытовала, вероятно, более поздняя загадка, когда баня уже потеряла свою сакральность: «Чертова шапка вся в заплатках». Сопоставление банной печи с черной толстой бабой означает не только внешнее сходство, но и напоминает о банной бабе, хозяйке данного локуса.
Именно в каменке видят ночью улыбающуюся голову хозяина бани [882]. В щель печи льют молоко и брагу, чтобы задобрить хозяев[883]. Людям запрещается мыться и париться за печью[884]. Припозднившиеся посетители замечают, как из-за печки поднимается «большое существо» и упрекает их в том, что потревожили в поздний час[885]. Девушка, осмелившаяся ночью пойти в баню, сходит с ума и весь свой гнев направляет на самый сакральный банный локус – разбирает каменку: «Я это видела: вся растрепанная, всю каменку разломала, каменка была большая, было сил!»[886]. Во время Святок парни и девушки для поднятия лемби наносили вред центральному банному локусу – ломали каменку, а также уносили дверь,
раскидывали поленницы дров. Хозяин бани бросает с печки камни под ноги десятилетнему мальчику, предупреждая о своем присутствии[887].
Печь как локус пребывания банных духов часто упоминается и в вепсских былинках. Рассказчик однажды видел бабу парной или парящую бабу kylbetinakan. Он зимой долго возил сено и поэтому пошел один поздно в баню. Уходя, он услышал, как кто-то бросил камень в дверь. Он открыл ее и увидел, как женщина убежала за печь. Он так испугался, что больше после этого один в баню не ходил[888]. В другой вепсской былинке говорится, что человеку нельзя париться за каменкой, особенно ночью. Иначе может появиться хозяин бани. У него черная кожа, шерсть, как у собаки, а одежда, как у людей[889].
Часто видят или слышат хозяев на полках или лавках у стен. Ночью на полках парится сам дух, хозяин бани[890]. Здесь чаще всего настигает наказание провинившегося человека[891]. В этом локусе происходит и подмена ребенка[892]. Дух бани может выходить с топором из-под полков и выгонять пьяного посетителя.
Локусом, в котором находятся хозяева бани, называется и угол[893]. Порой говорится, что «шум и шушуканье в каждом месте слышались»[894]. Иногда акцентируется внимание, что «с Божьей стороны этот разговор слышен»[895]. Тем самым подчеркивается ритуальная чистота банного локуса и необходимость самого почтительного отношения к банным хозяевам.
В одной из быличек рассказчик был в бане «накануне Рождества с другом в двадцать три часа. Остальные уже вымылись. Только мы начали мыться, вдруг наверху начался такой шум, думали: потолок обвалится. Пришлось немытыми убежать из бани, пока не убили»[896].
Населено и место под банным полом: там живут подземные жители[897].
Таким образом, абсолютно все пространство бани по ночам безраздельно принадлежит ее духам-хозяевам. Они могут появляться в любом ее локусе, а в некоторых случаях даже приходить в дом. Например, чтобы предупредить человека об истоках его болезни или наказать за невнимательное отношение к ребенку. И точно так же, как в позднее и ночное время, они принимают «в гости» или «на пар» других духов, хозяев иных стихий, так и в дневное время «разрешают» пользоваться баней людям, оставаясь невидимыми и неслышимыми для них.
В мифологических рассказах и заклинательной поэзии не только все банное пространство населено духами, но олицетворена, одушевлена сама баня. Потолок в ней считается отцом, пол – матерью, стены – сестрами и братьями, порог – старший в бане. Во время различных ритуалов заговоры часто читались в дверном проеме, при этом следовало поставить правую ногу на порог, а правой рукой взяться за притолоку [898].
На сакральном локусе банного порога происходит процесс передачи знаний от знахаря ученику. Здесь же совершаются ритуалы, связанные с лечебной магией, когда болезнь изгоняется в подземную страну мертвых Маналу-Туонелу: «Иди, смерть, в подпол, Холод – в холодную деревню, Под холодное бревно порога, Под ужасный можжевельник»[899].
Порог в древности был местом захоронения, а потому воспринимался как локус пребывания духов-первопредков. В одной из вепсских быличек говорится, как рассказчик, моясь ночью в бане, услышал, как кто-то невидимый пришел и сказал голосом отца: «Антон, слышь-ка, это я пришел!» Старик от испуга вскочил, ушиб ногу и бросился вон из бани[900].
Как уже было видно из многочисленных примеров, временные рамки для посещения человеком бани строго ограничены. Хозяева бани показываются человеку только в ночной, строго ограниченный период времени. Практически всегда это происходит в самой бане, только в единичных случаях дома во сне.
Именно с временными границами связаны табу и правила посещения бани, весь банный этикет. В былинках четко говорится о духе-хозяине бани: «Пока его не трогали, и он никого не трогал»[901].
Запрещалось топить баню в дни церковных праздников [902], во время Святок[903]. «В праздники нельзя было в баню ходить… В Корбасельге тетка Василиса в день летнего Николы баню топит. А тетя Наташа говорит: «Зачем? Сегодня вдь Николин днь, такой праздник! А ты баню топишь!» «А! Всяких Николаев!» Пошла мыться – там ее и парализовало, схватило. Так в землю и ушла. Из бани пришла – рот уже скривлен, и рука не работала, и ногу уже… Гляди: В день Николы в баню… Запрещают: старый человек, зачем идешь в баню в праздник. Такая гордая была!»[904]. В другой былинке рассказывается о девушке, которая «с матерью жила. Придет и баню истопит перед каждым праздником ночью. «Не топи, – говорит, – баню, доченька, перед таким дорогим праздником. Лучше потом истопишь». И вот вечером поздно, в праздничный вечер, поздно. «А, – говорит, – ничего не будет». «Не говори так, дочка! А вдруг будет?! Нельзя знать! Иди с молитвой». Она ни во что не верила». В результате, появившись в тазу с холодной водой в образе лягушки, пытались предупредить девушку об опасности. Но лягушку она выбросила, а когда начала мыть голову, все волосы склеились так, что даже врачи не смогли помочь. Спасло только обращение к знахарям[905].
Накануне праздника баню топили обязательно, чтобы очиститься физически. Но ходить в нее можно было только до шести часов[906]. Позже в бане «праздник дразнит…Этого перед большими праздниками боялись, это праздники Бога»[907]. Считалось, «кто перед воскресеньем или праздником поздно ходит в баню, того на том свете парят огненными вениками tulizil vastazil».
Летом во время сенокоса и жатвы баню топили не только по субботам, но и в другие будние дни. При этом оговаривалось, что идти туда следует только до заката, часов до десяти-одиннадцати[908]. После двенадцати часов духи-хозяева не только пугают, но и наказывают: превращают воду в кровь[909], душат[910], зажаривают на печке[911], разрывают[912], привязывают к полкам[913], лишают рассудка[914], стегают вицами до полусмерти[915].
В бане нельзя оставаться на ночь[916]. Банные духи не любят пьяниц и картежников[917]. Хозяева или выгоняют их[918], или даже сжигают баню[919].
Нельзя было ходить в баню женщине во время менструации, так как в это время она считалась «грязной»[920]. В крайнем случае следовало предупредить о собственной «нечистоте». Женщины очень опасались, чтобы своя кровь не смешалась с чужой. «Нечистой» нельзя было подавать пар, иначе кровотечение не остановится. Вот что рассказывала тверская карелка: «Ennen took sanottih, što ka sovat, tullah sovat, rivut, da što pidäw t’ietä, stobi ei sevottua, što pidäw tolkujä hos’s’en: oletgo sie cistoi? Mie vet’ en ole cistoi, pidäw sanoucie da ei pie yhessä pessä, vain ugod’ie pessä konza ei olla rivut molemmilla piällä. A to toko sanotah: sevotah rivut. Vain sevotah, jo i viikoksi n’e jo rivut i läht’ietäh ribajamah, jo viikon yl’en sie et i 1’iene cistoi, nagol’e l’ienet marawdunnun. I nagol’e ves’ma vardeil’iecettih kylyh män’dyöh, što pidäw t’ietä kuin manna i sielä tolkuicciecie kuin olla i kuin I läht’ie, assen sie 1’ienet ozakas kylystä lähtiessä… I kellä hot’ rivut piällä ollah, sillä ei n’ikonza ei pie luwva löylyö, a to siwla nagol’e rubiew n’iin ze palamah siämi, što viikon rubiet nagol’e rivut nämä ribajamah, dai verellä tulomah I ves’ma l’inow siwla jugie, ves’ma ei peitytä viikon» – «Раньше обычно говорили, что вот месячные, и что нужно знать, чтобы не смешать, что нужно расспрашивать хоть: ты чистая? Я ведь нечистая, нужно предупредить и не надо вместе мыться, только угодить мыться, когда не у обеих месячные. А то говорят: перемешаются месячные. Если только перемешаются, уж долго месячные и будут идти, уж долго ты и не будешь чистой, всегда будешь запачканной. И постоянно очень остерегались, придя в баню, что нужно знать, как идти, там расспрашивать, как быть и как уходить, тогда лишь ты будешь счастлива, уходя из бани… и если у кого месячные хоть, той никогда не надо подавать пар, а то у тебя постоянно будет нутро гореть, и долго будут постоянно месячные идти, да и кровоточить, и очень будет тебе тяжело, очень долго не остановятся»[921].
Вечером накануне Масленицы в бане надо было молчать, чтобы летом комары не кусали[922].
Запрещалось мыться за каменкой и на пороге[923], петь, материться и ругаться[924]. «Если в баню идешь, тогда надо матом не ругаться. Старики ведь раньше не матерились, они шли тихо. В баню пойдет – перекрестится, из бани пойдет – перекрестится»[925]. В бане нельзя было выпускать газы, плескаться водой[926]. Детям запрещали баловаться, показывать попу, иначе на ней появятся прыщи[927].
Банное пространство считалось самым чистым местом и в физическом, и в духовном плане. Здесь нельзя было мочиться[928]; выпускать газы – иначе провалишься в воду на тонком льду и утонешь.[929] Здесь подчеркнута взаимосвязь духов: обижаешь хозяев бани, а наказывает водяной. В бане не стирали белье[930], иногда даже воду после своего мытья выливали не в бане, а на улицу [931]. Запрещено было заниматься сексом в бане, «грех делать с мужчиной», иначе «дети будут уродами»[932]. Запрещалось мыться горячей водой и лить ее на землю и на пол, так как можно было обжечь хозяев[933].
Нельзя было идти в баню в обиде друг на друга[934]. Карелы говорили, что идя в баню, как и идя в церковь или обращаясь к Богу, следует сначала простить всех своих обидчиков. В одной из самых известных христианских молитв «Отче наш» говорится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Согласно народным верованиям, запрещалось входить в баню с плохими мыслями, с боязнью заболеть: «Не надо никогда по-плохому идти. Надо по-хорошему идти, молитву сказать: “Господи, благослови”. А не надо по-плохому. Плохое скажешь, тогда плохое и будет»[935].
Весь этикет прихода в баню, пребывания в ней и ухода из нее строго регламентирован.
Периодически хозяев бани следовало задабривать и угощать. Это обязательно делалось перед началом строительства и по его окончании. В щель каменки или на землю лили молоко или брагу. При этом видели, что «еда убывает», считалось, что духи едят ее[936]. Им давали первую часть всего нового, что появлялось в хозяйстве: молоко после отела коровы, кашу и хлеб, приготовленные из нового урожая, уху из первой рыбы, пойманной в сезоне. Это также свидетельствует о том, что в банных духах изначально видели первопредков, которые при жизни ели все это и были рады такому угощению.
Когда шли в новую баню в первый раз, хозяину бани приносили полено[937]. Подарки (рубашку, полотенце или отрез ткани) во время первого посещения относила в баню мужа и молодая жена с целью задобрить духов-хозяев и быть принятой в новый род. Например, она могла повязать полотенце на ручку банного ковша.
Во время дня Кегри и Рождества топили баню для умерших предков, а потом накрывали для них стол в доме. «И сейчас, у кого свои бани, делают гостинцы хозяину бани. Без толку нельзя нигде, ни в бане, ни в каком помещении. На том конце у людей свои бани, они также делают гостинцы и относят. Кладут в землю туда: «Вот гостинцы хозяину земли и другой – хозяйке земли. Хорошо принимайте, да будьте хорошими, да не трогайте никого»[938].
В менталитете карела вера в духов-хозяев и вера в Бога были неразрывно связаны между собой. Первых побаивались, на помощь второго всегда полагались. «А в баню зачем идешь? В баню – с Богом, с молитвой надо быть в бане. И я в баню хожу, дак уходя, говорю: «Простите, хозяева бани, хозяйки бани, белые старейшины бани». Хозяева бани, хозяйки бани – все есть. Хоть не верят, а я во все верю. Я когда в интернате работала, ребята придут: «Тетя Клава, есть Бог?» «Во мне есть Бог, а в вас – не знаю. Вы учитесь, и вы лучше меня знаете. А во мне всегда есть Бог, всю жизнь… Бог в небе, лестница – с собой»[939]. Согласно народным традициям, «Sauna on niinkun kirkko, kun siellä ollahan alasti» – «Баня как церковь, потому что там все обнажены»[940]. Этим еще раз подчеркивается единство восприятия внутреннего, духовного, и внешнего, физического, мира человеком.
В одной из быличек рассказывается о том, как мужик пошел в баню поздно вечером в субботу. Жена запрещала ему, а когда пришла узнать, почему он так долго не возвращается, увидела, что «он растянут на горячей каменке», уже мертвый. Решили, что «это устроил с ним баенник, однако другие утверждали, что Бог наказал нарушителя святости воскресного дня»[941].
По некоторым сведениям, карелы, перед тем как зайти в баню, снимали крест, оставляя его в предбаннике на лавке поверх белья.
Прежде чем прийти в баню, ее начисто мыли. Затем женщина, приготовившая баню, произносила, как бы предупреждая банных духов, чтобы они разрешили людям помыться: «крещеный – мыться, банным паром париться, веником пар развеивать» – «ristikansa kylpömäh, kylyl löyly kylvettämäh, vassah löyly valvattamah»[942]. При этом люди в противопоставление «народу бани» названы «крещеным народом».
Зафиксированы очень интересные и, по всей видимости, весьма архаичные сведения и о том, как приветствовали друг друга приходящие в баню. Согласно сообщению А. С. Степановой, в д. Колатсельга заходящий в баню произносил: «Joucenie! Joucenie!» – «Лебедей! Лебедей!» или «Hoi, joucenie, joucenie!» – «Ой, лебедей, лебедей!» Ему отвечали: «Tule täh joudavuol!» – «Заходи на досуге!» или «Tule nämil lämbimiel!» – «Заходи на это тепло!» Как пишет Н. А. Лавонен, северные карелы также, приветствуя тех, кто мылся на озере или в бане, говорили: «Jumal abuh joucenie!» – «Бог в помощь лебедей!»[943]. Е. И. Клементьев рассказал, что его жена, уроженка д. Тикша (а ее родственники были выходцами из Калевалы и Вокнаволока), заходя в предбанник, произносила: «Joucenilla! Joucenilla!» – «К лебедям! К лебедям!» А пришедший с ней отвечал: «Pidäy! Pidäy!» – «Надо! Надо!» И в тоже время сам Евгений Иванович, уроженец деревни Ондозеро того же Муезерского района, не знал этого приветствия.
Здесь следует отметить, что образ белого лебедя сакрален для карела. Образ этой птицы, которую он называл pyhä lintu священная птица и anheli ангел, появляется в фольклорных произведениях в лиминальные временные отрезки (похороны, свадьба) или в момент проникновения человека в иной мир мифологических духов-хозяев (воды, бани)[944]. Это символ и внешней, физической, чистоты, и внутренней, духовной. Так в севернокарельских плачах во время обмывания умершего просили «отбелить мной выпестованное дитя до белизны вольных лебедей», чтобы он мог попасть «к белым/светлым прародителям». В свадебных причитаниях карелов-ливвиков лебедям иногда уподобляется «девичья воля»: «с каким ветром из этих баенок белые волюшки улетят белыми лебедями»[945].
Банный этикет карелов включал в себя огромное количество заговоров. В них олицетворена и сама баня, и пар, считавшийся в случае нарушения банного этикета одним из источников болезни. Согласно народным традициям, придя в баню, надо в первую очередь поздороваться с баней, паром и теплом.
«Когда идут в баню, надо сначала плюнуть. Затем надо сказать, чтобы другие не слышали: “Золотая банька, медовый парок, передняя стена – брат, полок – мать, стены – сестры, сам я – дуб. Затем снова надо плюнуть”. Все это надо проделать три раза, тогда ничего плохого в бане не случится»[946].
Тверские карелы просили баню принять человека: «Банька, парочек, моховая кучка, прими рабу крещеную [Божью – И. Л.] Orpo» – «Куlyzeni, löylyzeni, sammal tukkuzeni, priimi rabua Ogruo ristikanzua»[947].
Чтобы порча в бане не пристала, заговаривали пар: «Тьфу! Матушка-банька! Сестрица-парок! Произношу чистыми устами, С духом Божьим, Шепчу теплу. Пару нечего сердиться, Жару не за что вредить. Иди, пар, в банный мох, Спрячься в банном подполе На время, пока парится хворый!» – «Phu! Kylyseni, moamoseni, Löylyseni, sisarueni! Puhun suulla puhtahalla, Herran hengellä hyvällä, Läipöttelen lämpimällä. Eigä ole löylyn löytämistä, Lämpimän lähenömistä. Mänkeä, löylyt, saunan sammalii Tahiga kylyn karsinaa Kibehisen kylvend aijaks!»[948].
Эти два древних заговора с архаичными семантическими деталями записаны в самом начале XX века. Но постепенно заклинания укорачивались, к ним добавлялась краткая молитва. Во второй половине столетия, заходя в баню, произносили: «Hospodi-syöttäi, kaco da vardoice! Lagi – toattu, late – moamu, seinät – sizäret da vellet! Hospodi-syöttäi, kaco da vardoice!» – «Господь-кормилец, смотри и береги! Потолок – отец, пол – мать, стены – сестры и братья! Господь-кормилец, смотри и береги!» Как видим, даже в стадиальном плане достаточно поздний заговор второй половины XX века вербально замыкает круг, заканчиваясь теми же словами, которыми начинался. Согласно народному менталитету, круг – один из сильнейших и древнейших оберегов.
Обязательно здоровались и прощались с банными духами. «Дверь в баню открывали: «Здравствуй, хозяин бани, здравствуй, хозяйка бани, здравствуй, дорогой парок!» Уходя в дверях: «Спасибо хозяину бани, спасибо хозяйке бани, спасибо милому парку, спасибо веселой водице, спасибо тому, кто баню топил и тому, кто дрова колол»[949].
Тверские карелы, заходя в баню, крестились.
Особые правила сопровождали ритуал приготовления бани для ребенка. Например, тверские карелы считали, что нельзя даже смотреть в воду, которую носишь с озера или готовишь для ребенка. Если посмотришь в нее и увидишь свое отражение, а потом этой водой вымоешь младенца, у него заболит пупок и может развиться грыжа[950]. Это соблюдалось особо строго, если ребенок очень маленький, до шести недель. Шестинедельный временной отрезок у карелов имел самое важное значение: младенец в это время был полностью беззащитен, так как еще не имел ангела-хранителя; а души умерших шесть недель поле смерти приходили в дом, ночевали на своей постели и для них обязательно во время трапезы ставили на стол посуду.
Когда брали воду для ребенка, трижды произносили: «Здравствуй, земля, здравствуйте, воды, Здоровья и здоровающейся с землей-водой! Здравствуй, золотой король воды! Не беру воду для еды, не беру воду для питья. Беру для чистой души, рабы Божьей младенца Иры. Мыть, очищать от плохих дум, всяких призоров»[951]. Это заклинание служило «профилактикой» от сглаза.
Если ребенок приболел, то произносили иной заговор: «Беги, река, От иерусалимской реки, из бурлящего потока святого Георгия, куда святую Богородицу звали, старшую на земле обливали, всех ангелов крестили. Водица праведная кормилица! Не беру воду для еды, и не беру воду для питья, беру, чтобы невинную душу освободить, очистить от плохих дум, от разных призоров»[952].
Топить баню приглашали «деву Марию, святую маленькую служанку» – «Neičyt Moarie emoinen, Pyhä piika pikkarainen. Просили приготовить «медовую баньку» из «медовых дров»; нарвать «медовый веник» в «медовом лесу»; воду наносить «из ближнего ключа» «чистыми ведерками», чтобы баня дала здоровье ребенку[953].
Когда парили ребенка, обращались к банной бабе: «Банька, парок, Банная баба-бабулечка! Парю-напариваю, листиками с оловянную капельку, размоченными медными веточками. Пусть будут медовые мысли, медвяные внутренности, сверху невидимые, внутри несаднящие, внизу безболезненные, у невинной души младенца Про» – «Kylyzeni, löylyzeni, Kylyn akka boabozeni! Kylvettelen löylyttelen, Tinatippu lehtyzil, Vanoi vazki varbazilla Meziziks mieleltäni, Simasiksi seämelläni, Peälitc tundumattomaks, Seämelle vihoamattomaks, Alic kivuttomaks Oi-geasta hengestä Irost bladencast»[954]. Так следовало попарить в трех банях.
Старались, чтобы ребеночек в бане не плакал, пар делали тепленький, водой обливали аккуратно, часто она стекала с руки бабушки (или матери) на головку ребенку. Старушка скрещивала ему ручки и ласково приговаривала: «Pois paskat lapsestai, pesen korvalehtot, nenäpiekköin, suukkoin ja vattanapain puhtaiks. Pesen pikkukätöiset ja jalkaset» – «Прочь, вся грязь [букв: понос – И. Л.], вымою ушные листочки, крошечный носик, ротик и пупочек в животе чисто-начисто»[955]. Карелы-ливвики в заговоре ребеночка, желая ему счастья и здоровья, уподобляли овсяному зернышку: «Овсяное зернышко – толстеть и наполняться, пшеничное зернышко – белеть и расти!» – «Ozran juväine järenemäh, hakenemah, nizun juväine valgenemah, kazvamah!»[956]. Вспомним заговорный параллелизм: ozru juodo – oza juodo, блюдо овса – это блюдо счастья.
Для того чтобы младенец крепко спал, был особый заговор. «Мои дети всегда спали…словно матицы. Мама покойница как парила, а я всегда слушала и своих внуков так же парила… как возьмет дитя на полок, положит себе на колени: «Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови» – три раза. Как начнет потом веником парить: «Господи, благослови. Спи, словно матица, лежи, словно бревно [топляк], не знай входящих, не ведай уходящих, не знай никого, спи, словно матица, лежи, словно мокрое бревно [топляк], не знай входящих, не ведай уходящих, не знай никого». Трижды произнесет вот эти слова. Всегда помню. Спали, «будто матицы», точно «будто бревна»[957].
Когда обливали детей водой, ее лили на голову и произносили: «Господь-кормилец, смотри и береги! Водица – вниз, Аня – наверх! Водица – пугаться, ребенок – радоваться! Господь-кормилец, смотри и береги!» – «Hospodi-syöttäi, kaco da vardoice! Vedyt alah, Ah’a yläh! Vedyt pöllästymäh, An’a ihastumah! Hospodi-syöttäi, kaco da vardoice!»
Людям разрешалось мыться в бане «в три очереди». Считалось, что «на четвертый пар» приходили мыться духи-хозяева бани. «Уходя, необходимо было оставить духам-хозяевам горячей и холодной воды и веник, чтобы они могли помыться и попарится» [958]. Веник обязательно оставляли на лавке, а не под ней.
Перед уходом из бани в первую очередь произносили заговор, в котором еще раз подчеркивали взаимосвязь всех трех стихий в бане (земной, огненной и водной): «Спасибо, банька, за мытье. Спасибо, парок, за паренье. Банька – отец, парок – мать, водица – братец»[959].
Затем следовало поклониться, перекреститься и поблагодарить духов-хозяев бани: «Спасибо хозяевам бани, старшим бани, младшим бани! Спасибо всему народу за тепло! Люди ihmiset уходят, другие люди – на место!»[960] Обращает на себя внимание последняя вербальная формула. Она практически идентична той, которую произносил человек, заходя в лесную избушку: «Старые – вон, новые – на место!» Но тогда человек приказывал-просил духов-хозяев леса покинуть помещение и позволить ему переночевать в избушке. А здесь все иначе: он благодарит хозяев за гостепреимство и оставляет им баню на ночь в полное их распоряжение. Таким образом, последний человек замыкал вербальный круг-оберег, начатый женщиной, приготовившей баню.
Придя домой, снова крестились на образа: «Спасибо, Господи, что я смог хорошо помыться!» – «Passibo, Hospodi, hyvin pezevyin!» Затем ополаскивали лицо из рукомойника, в котором, считалось, живут домашние духи, чтобы быть уже под их покровительством.
Обилие заклинательных формул в банном ритуале, которыми приветствуют и благодарят духов-хозяев, подчеркивает, что баня в древности играла роль семейно-родового святилища. В ней проводилось множество магических обрядов, духи-хозяева, населявшие банный локус, были окружены почитанием и поклонением. Весь этикет пребывания человека в этом сакральном пространстве был ритуализирован и обставлен множеством правил и табу.
Топится баня по-черному в д. Маньга Пряжинского района. Автор съемки: Я. В. Ругоев, 1970-е годы.
Лесная избушка-полуземлянка Антипа Суолахти на берегу озера Роатехлампи (д. Венехярви). Репродукция из книги П. Виртаранты «Vienan kyliä kiertämässä».
Пожилая карелка развешивает сушиться веники, сделанные во время летних святок (Повенецкий уезд). Автор съемки: И. А. Никольский, 1901 год.
На переднем плане – маленькая карелка рядом с традиционным карельским крестом. На заднем – курная банька в Повенецком уезде. Автор съемки: И. А. Никольский, 1901 год.
Курная изба у водопада Кивач. Автор съемки: С. А. Макарьев, 1930 год.
Старики чинят сети рядом с банькой на озере Сегозеро. Автор съемки: И. А. Никольский, 1901 год.
Невесту ведут в последнюю девичью баню в родительском доме. Свадебый обряд «neiskyly» в Сегозерье. Автор съемки: А. М. Линевский, 1931 год.
На переднем плане – баня по-черному с поленницей дров. На противоположном берегу озера – вид на село Паданы Повенецкого уезда. Автор съемки: И. А. Никольский, 1901 год.
На переднем плане – карел в традиционной лодке. На заднем – деревня Щеккила, на берегу озера стоят баньки. Автор съемки: И. А. Котов, 1935 год.
Баня по-черному в д. Тихий Наволок Прионежского района. Автор съемки: З. М. Иванова, 1930-е годы.
Курная баня на берегу озера в д. Усть-Яндома Медвежьегорского района. Автор съемки: В. А. Скопин, 1960–1970-е годы.
Банька в деревне Усть-Яндома Медвежьегорского уезда. Автор съемки: В. А. Скопин, 1960–1970-е годы.
Та же банька с другого ракурса зимой. Автор съемки: В. А. Скопин, 1960–1970-е годы.
Банька в селе Ладва Прионежского района. Крестьянская усадьба обнесена косой изгородью, которая называлась «журавлиное крыло». Автор съемки: Г. А. Анкундинов, 1938 год.
Одиночная банька в с. Верховье на берегу реки Олонки. Автор съемки: Н. Караваев, 1950 год.
Банька в с. Мегрега Олонецкого района. Задняя стена стоит на деревянных сваях. Автор съемки: З. М. Иванова, 1936 год.
Баньки в д. Сяргилахта Пряжинского района. Автор съемки: П. В. Беззубенко, 1971 год.
Старая и новая бани в д. Усть-Яндома Медвежьегорского района. Автор съемки: В. А. Скопин, 1960–1970-е годы.
Баня в д. Видлица Олонецкого района. Автор съемки: Я. В. Ругоев, 1960-е годы.
Баня в селе Ругозеро Муезерского района. Автор съемки: С. М. Пивоев, 1974 год.
Банька в д. Пряккиля (с. Сельги) Медвежьегорского района. Автор съемки: В. А. Трошев, 1990-е годы.
Банька в д. Семчезеро Медвежьгорского района. Автор съемки: В. А. Трошев, 1990-е годы.
«Банный городок» в д. Сельга Медвежьегорского района. Автор съемки: В. А. Ларионов, 1997 год.
Село Паданы Медвежьегорского района. Автор съемки: В. В. Трошев, 1974 год.
Субботний день в д. Большая Сельга Олонецкого района. Стирка на банном крыльце. Автор съемки: П. В. Беззубенко, 1973 год.
Белая баня, построенная из бруса, в д. Корза Пряжинского района. Автор съемки: В. В. Трошев, 1991 год.
Новые благоустроенные дома и традиционные бани на берегу речки в д. Тивдия Кондопожского района. Автор съемки: Б. Феклистов, 1990 год.
Общественная баня у Лобана в городе Петрозаводск. Автор съемки: И. А. Котов, 1935 год.
Старая общественная баня в городе Петрозаводск. Автор съемки: Я. М. Роскин, 1931 год
Заключение
Баня kyly в жизни карела на протяжении многих веков занимала значительное место. Точное время ее возникновения определить невозможно. Но в связи с развитостью банного культа и банных ритуалов у карелов и ареалом появления первых славянских паровых бань, который находился на границе с карельской территорией, можно утверждать, что карельская паровая баня появилась примерно в то же время, что и севернорусская.
Приусадебная баня явилась прообразом древнего жилища, сохранив в себе ее архетип до наших дней. Усовершенствовалось жилище, изменялась и баня: от землянки, небольшой баньки, углубленной в землю, до курной баньки, в которой предбанничек появился только в конце XIX века, и затем до современной многокамерной постройки с отдельными паровым и мыльным отделением, комнатой для отдыха, а иногда и бассейном.
Столетия баня была для карела не только хозяйственной постройкой, но сакральным пространством, местом проведения многочисленных ритуальных действ на протяжении всей жизни. Здесь человек, находясь под покровительством банных хозяев, явившихся прообразами домашних духов, и умерших предков, проводил считавшиеся самыми опасными лиминальные периоды своего жизненного пути. Именно в этом локусе появлялся на свет ребенок, и вместе с ним первые шесть недель находилась роженица. Во время свадебного обряда в бане молодые получали поддержку предков, а невеста переходила из своего рода в родовой коллектив мужа. Во время поминальных обрядов готовили баню и трапезу для умерших родственников. Здесь знахари поднимали лемби-славутность молодых людей, проводили ритуалы, связанные с любовной магией, и передавали друг другу сакральные знания. Баня у карелов была универсальной лечебницей, где на больного воздействовали не только пар и тепло, фито– и мануальная терапия, но, согласно народному мировоззрению, основополагающим было психотерапевтическое воздействие заговорами и различными магическими приемами и сакрализованными предметами.
В банных обрядах карелов ярко проявился синкретизм народного мировоззрения, в котором переплелись рациональное и иррациональное, реальное и мистическое, древнее и новое, языческое и христианское. В ритуалах и сопровождающих их фольклорных текстах, в первую очередь в заговорах и причитаниях, наглядно прослеживается наслоение верований различных эпох. Языческие и христианские элементы прекрасно сосуществуют в одних и тех же обрядах и текстах. Это и культ солнца, огня, воды, земли и растительности. Почитание самой бани, душ предков, духов-хозяев бани, древних языческих божеств. Как в произведениях фольклора, так и во всей мифоритуальной банной традиции заметно воздействие и христианской культуры, поклонение Богу и почитание православных святых. Согласно Н. И. Толстому, «фольклор как система достаточно открытая и не строго нормированная воспринял многое от христианства… Но тот же фольклор сохранил многие языческие представленя и образы в народном быту». И «эта культурная диглоссия не вела к двум культурам, к существованию двух культурных систем, к двоекультурью или двоеверию, а была результатом функционирования одной осложненной, богатой культурной системы»[961]. Как показывает исследование, сакрализация и демонизация бани – не разностадиальные, а вполне синхронные явления, но при этом с уверенностью можно говорить, что для карела банное пространство было в большей мере, безусловно, сакрализовано, чем демонизировано.
Таким образом, исследовав ритуалы и фольклорные тексты, связанные с карельской баней kyly, можно получить яркое представление о ментальности карельского народа, о том, как он воспринимал картину мира, о постепенной трансформации и наслоении образов и взглядов на протяжении последних столетий, о богатой мифоритуальной традиции карелов.
Приложение
Фольклорные тексты
Мифологическая проза и верования о духах-хозяевах бани
Kylyh myö suovatan iltana erähän kerran myöhäseh menimä. Miun ukko tuli, lapset oli pikkaraiset silloin. Ja suovatan iltan myö myöhä sie kylpimmö. Rupesima muata. Kuuntelen: sincon ovi avautu, pirtin ovi avautu. Tuli ukko. Sanou: “Kylpit!” Mi sanon: “Kylpin.” Sanou: “Muisa vai se, jottatoistakertua älä kylpe näin myöhäseh. Antasin, sanou, mie siula zuaruo, no mladenca on sinula reunassa. Antasin minä sinul zoaruo! Muissa vai se, toista kertua älä kylve. Da niin pyörähti poikes. Pirtin oven pani umpeh, sincon oven pani umpeh ta mäni mänessah… Semmoni pikkaraini ukko oli, parta oli. Se tuli hyvästi.
Я однажды в субботу вечером в баню поздно пошла. Муж пришел, дети тогда были маленькие. И в субботу вечером мы поздно мылись там. Легли спать. Слышу: дверь в сенях открылась, в дом дверь открылась. Пришел старик. Говорит: “Помылась?!” Я говорю: “Помылась”. Говорит: “Помни только то, что второй раз так поздно не мойся. Задал бы, – говорит, – я тебе жару, но младенец у тебя с краю! А то задал бы я тебе жару! Помни только: второй раз не мойся!” Да так повернулся, дверь в дом закрыл, дверь в сенях закрыл и ушел… Такой маленький старичок был, борода была. Он по-хорошему пришел.
ФА 1369/1.
Зап. Конкка У.С., Степанова А.С., в 1968 г., г. Петрозаводск от Липкиной Татьяны Алексеевны, 1901 г.р., д. Кеунасярви, Вокнаволок
Meilä varauteldih sie, kaikici varauteldih… Šanottih. jotta myöhä mänet pyhyäpäivyä vasse kylyh, siitä tulou rautahampahaisi kylyh. Rautahampahaisi ukko tulou, ei pie myöhä männä kylyh…
Нас пугали, по-всякому пугали… Говорили, что если поздно пойдешь перед воскресеньем в баню, то придет железнозубый в баню. Железнозубый старик придет, не надо поздно в баню идти…
ФА 1864/18
Зап. Степанова А.С., Лавонен Н.А., в 1973 г., п. Кепа от Федоровой Татьяны Филипповны, 1896 г.р.
Izändy oli kylys, dai izändy oli joga sijas. Mittuine on kus kodi, dai sie, a kodis on domovoi. Dai kylys izändä. Kylys tozo izändy on… Vähä oli slyccaidu, vähä, ga… Erähät gi varaitih, varaitih, sigä vroode ku soblazniu da midä-to da sit pöllästytäh, ei soannuh nimidä sanota. Oli, äij oli sluceidu ga en musta nimidä.
Хозяин был в бане, и хозяин был в любом месте. Где какой дом, и там, а в доме – домовой. И в бане хозяин. В бане тоже хозяин есть. Мало было случаев, мало, но… Некоторые и боялись, боялись, он вроде бы соблазняет и что-то, да потом испугаются. Нельзя было ничего говорить. Было, было много случаев, но не помню ничего.
ФА 3024/48.
Зап. Ремшуева Р.П., в 1987 г. в д. Святозеро от Моисеевой Марии Григорьевны, 1906 г.р., д. Важинская Пристань
A mama raskazivaici tämän. Tata iče kotin stroi, a muinen häi kirpiccoa ei olluh, eiko miten olluh, piti icelleh loadie kirpicat kaiki. I vot mama sano, sto… Mamalle piti lähtie cas noci kirpiccoi nielöi kylyh loadimah. Konzu ku hän tuli yöllä fonarinkel i hän rupei kirpiccoi loatimah. Kylyssä… I vdruk kiukasta langei kivi. Nu vot. I mama ei sih vnimaanie obrattin, sit ruuhti kaccuu: vroode ku kiukan seämes sie langei se kivi. Nu, kivi lykättih. Hän ku кассой, hän sie peän dogadi. Hän sanou: «Vot peret gospodom Bogom, što sie oli peä. Ulibaicut minuh kacco, – sanou. -1 mi sit neto što fonarie, nellöi juuksin kodih pagoh. I nämbi yöllä mi, – sanou, – en lähtin”.
Šanottih, što kylyn izännät ollah.
А мама это рассказывала. Отец сам дом строил, а раньше ведь кирпича не было, и ничего не было, надо бы кирпичи самому делать. И вот мама говорила, что… Маме надо было идти в час ночи в баню кирпичи эти делать. И вот когда она пришла ночью с фонариком и стала кирпичи делать. В бане… И вдруг с печки упал камень. Ну вот. И мама на это внимания не обратила, а потом решила посмотреть: вроде как из печки камень упал. Ну камень бросили. Она как посмотрела, она там голову заметила. Она говорила: “Вот перед Господом Богом, что там была голова. Улыбалась и на меня смотрела, – говорит. – И я тогда не то что фонарик, а помчалась домой! И больше ночью я не ходила”.
Говорили, что хозяева бани есть.
ФА 3476/64.
Зап. Степанова А.С., Иванова Л.И., Миронова В.П., в 2000 г. в г. Кемь от Мартыновой (Семеновой) Анфисы Николаевны, 1930 г.р., д. Подужемье
Vielä i kylylöissä on. Tooze kylylöisä ozuttautuu… Mi ku tulin detsadus Uzmanalla, nu kotih. Mamma sanou: «Mene kylyh!» Jo kai on pezeytty, mi läksin. Mi otin, lampa oli, mi ku avain oven, muissan, kaikici fufaikane minul peälä. Sen lampan panen. Vot näin ku on lavcane, vot voit si pretstavie, vs’u zizn’, vie olin nuurennu, ku venyy lapsuni. Tocno lapsuni venyy, ozuttau. Sit ku mi pölässyin, pimei, a lampazen kera mi tulin, sit mi tulin, mi sanoin: “Mama, mi varajan pezeytyy, nu ku miul ozuttau, što lavcale lapsuni”. I mi ruttozeh kotih tulin.
Еще и в бане есть. В бане тоже показывается… Я как пришла из детсада домой, в Подужемье. Мама говорит: “Иди в баню!” Уже все помылись, я пошла. Я взяла, лампа была, я как открыла дверь, помню, фуфаечка на мне наброшена. Положила эту лампу. Вот так скамеечка (вот можешь ты представить, я еще молодая была), и как будто лежит ребеночек. Точно ребенок лежит, кажется мне. Я тогда как испугалась, темно, а с лампой я пришла, пришла я домой, сказала: “Мама, я боюсь мыться, мне кажется, что на скамеечке ребеночек”. И я быстренько домой пришла.
ФА 3477/28.
Зап. Степанова А.С., Иванова Л.И., Миронова В.И., в 2000 г. в г. Кемь от Семеновой Риммы Константиновны, 1929 г.р., д. Подужемье
Enne vahnas niidy paistih, što nähtih vroode vedehisty. A minä en ole näh-nyh ni kirdoa, ni usko en, što on sie vedehisty… Ongo se tottu vai ni moozet ole ei olemas kogo.
Kylyn izändy on, sanotah! Kylys, sanotah, on, minä iče daaze ubediimos. Minul rodih jalgu kibei, ezmäi vähäizel, sit book se i book se, en voi oijendoo jalgoo da panna. A sit, moamu hengis oli vie, häi sanoi: “Opi prosken’n’oa pyydeä kylynizändis da emändis”. Häi minuu nevvoi, minä illal kylyn lämmitin, a miehel sanoin: “Minä gu tulen kylyspäi, sinä minuu älä trevoozi, virkka nimidä älä”. Tulet paista ei pie, pidäy muga moata viertä… Minä gu menin pezemäh sinne, vezi on hiilavaccaine, kazii vai cut’ ei polta. Nu minä sen kylyn kaiken pezen dai luven:
Kylyn izändat, kylyn emändät, Kylyn valgiet vahnembat, Kylyn käskyläizet, kazakat, Prostikkoa työ minuu, kaikin, Gu Hennon midä duumainuh Libo pahoi paissuh.Dai lähtin eäres, iče myystyn – moamu minuu nevvoi. Astun eäreh, dai tulen kodih, Sasa magoau, minä moata vieren i unis näin. Näin unis, buitegu tu-lou naine, a minä tunnen, se naine on pos’olkan staruuha: mustu jupku peäl, valgiedu kaksi kajomkastu on jupkan helmas. A iče duumaicen: ken nece meile tulou gu meile veräit on salvas. Dai tulou, minun koikan pieleh istavuu i minul sanou: “Tokko gu minuu cut’ et poltanuh! G’olluzit poltanuh – mus-telluzit!” Atottu, vezi oli hielavu! A viluu vetty minul tuoduu euluh. Hiiluttih net veit!.. A sit gu havucuin yöl, duumaicin: tottu se oli kylyn emändy!..
A sen minä uskon, se voibi mitahto olla pravdu! Mollembat on, kylys on izändy dai emandy, dai lapset, dai kazakat, dai käskyläizet! Kylys on aiju rahvastu! Mentiije mimmozet hyö ollah – näi emmo, eule hyö nägevis, kusto sie istutah, kudamas nurkas!
В старину об этом говорили, что видели вроде водяного. А я не видела ни разу и не верю, что есть там водяной… Правда это или, может, и нет никого.
Хозяин бани есть, говорят! В бане есть, я даже сама убедилась. У меня нога заболела, сначала немного, потом больше и больше, не могу не вытянуть ногу, ни наступить. А тогда мать еще жива была, говорит: “Попробуй прощения попросить у хозяев и хозяек бани. Она меня научила, и вечером баню истопила и мужу сказала: “Я как из бани приду, ты меня не тревожь, ничего не говори”. Придешь – говорить нельзя, надо так спать лечь… Я как пошла мыть туда, вода горячеватая, руки чуть не обжигает. Ну я баню всю вымыла и читаю:
Хозяева бани, хозяйки бани, Белые старшие бани, Слуги и рабы бани, Простите вы меня все, Если я чего подумала Или чего сказала.И пошла вон, сама отступаю спиной – мама меня научила. Вышла, домой пришла, Саша спит, я тоже ложусь спать и во сне увидела. Вижу во сне: как будто бы приходит женщина, а я узнала – это старуха из поселка: черная юбка надета, на подоле юбки две белые каемки. А сама думаю: кто это к нам идет, если у нас двери закрыты. И пришла, рядом с моей койкой села и говорит мне: “Ты меня чуть не обожгла! Если бы обожгла, попомнила бы!” И правда, вода была горячая! А холодная вода у меня не была принесена. Ту воду согрела!.. А потом как проснулась ночью, думаю: правда, это была хозяйка бани!..
В это я верю, это может быть правдой. Оба есть, в бане есть хозяин и хозяйка, и дети, и слуги, и рабы! В бане много народу! Поди знай, какие они – не видим ведь, они не на виду, где-то там сидят, в каком углу!
ФА 3266/54.
Зап. Лавонен Н.А., Степанова А.С., в 1991 г в д. Улялега от Гавриловой Анны Филипповны, 1918 г.р., д. Улялега
Oli ennen se uskonto: ei myöhä pitän kylpie proasnikkua vassen, sitä varoitettih oiken. Ni oli semmosie, liennöykö ollun se kylynemäntä vain mi. A oli erähii taloja, oli semmosie, jotta ei kylvetty aikanah, ni oli ollun. Oli ollun, muissan mie. Kentijärvessä oli ollun semmoine tapaus, kun aina sitä kortie kisattih siinä talossa na ei ehtitty aikana kylyy. Ta siitä proasniekkua vasse mäntih myöhä. Niin pärillä oli, siinä oli sohon joka paikassa kylyssä. Mie liennöy olun. Ta hyvin pitälti oli siinä ovilla ollun semmoni, jotta ei piästy pois kylystä ennein kuin pirtistä mäntih pelastajat. Ni lienöyko ollun se kylynemäntä vain lienöy ollun muu pahanruataja.
– Eiko paistu jotta se emäntä oli kylyssä?
– Paistih, paistih, paistih. Ei annettu kylyssä pelautuo tyhjyä eikä annettu kiroutua.
Раньше верили, что нельзя в бане поздно париться перед праздниками, этим часто пугали. Было такое, была ли это хозяйка бани или что. А были некоторые избы, были такие, что не мылись вовремя, такое было. Я помню случай. В Кентиярви был такой случай. В одном доме всегда играли в карты и не успели вовремя в баню. И перед праздником пошли в баню поздно. А лучинами освещали. И там в каждом углу шорох был в бане. Что-то было! И очень долго не могли дверь открыть, не могли выйти из бани, пока из избы не пришли освобождать. Ну была ли это хозяйка бани или кто другой, плохое делающий.
– Не говорили, что это хозяйка в бане была?
– Говорили, говорили, говорили. В бане не разрешали зря плескаться, и ругаться не позволяли.
ФА 2520Ш; НА41/73.
Зап. Ремшуева Р. П. в д. Вокнаволок в 1978 г. от Ремшу Парасковьи Тихоновны, 1914 г.р., д. Костомукша.
– Konsapa voi kylyssä käyvvä? Voiko illalla myöhä kävvä?
– Ka voit kävvä ruatopäivänä, a pruasniekkua vassa ei pitäis käyvvä. Kalevalassa on ollun pohatta talo, ta tuo Kotoslammissa oli sieltä Mokkosen naini Hämestä. No, niin se tiesi sen Kalevalan elämän. Ni siitä Pohorocan pruashiekan heilä on ollun siinä pohatassa talossa niitä työmiehie, heinämie-hie, äijä, ni niitä palkollisie käynyn kylyn. Kaksiko-kolme henkie lienöy kylyssä sielä puaitah, kuullah ne pakinua, ne kylyn käijät, vierahat käijät. Jotta annatah, tulla isäntä ta emäntä kylyh, näytämmä myö niillä zuaruu, ku joka suovatta myöhäh mänöy kyly. Nin kun Jumalan puolessa se tulou se pakina kuultavaksi. No, a siitä kun kuultih, ne lienöykö ne kylvetty vain ei, sitä ei niin tarkkah muissa. A ne kun tultih siitä isäntä ta emäntä, ta kun mäntih ky-lyh ta sieltä alko heilä kuuluo se erinomaini. As Va tai nin pois taniin Jumala prosti siitä, että Jumalalla. Jumalalta kysyttih apuo, jotta piässä, Jumala, pois, toprin siitä kylystä, nin hyö toicci tätä ei ruata. Jotta main myöhäh kylyh pruasniekkua vassen. No nin ei ole nimitä Jumala luatin. Ihan on iče kuultu isäntä ta emäntä kun on. Mäntih kylyh jotta ei ole nyt hyvä as’s’a. A ruatajilla kun sanottih, niin ruatajat eule i lähetty siitä kylyh. Se sano se naine.
– Когда можно в баню ходить? Можно вечером в баню поздно идти?
– В рабочие дни можно, а перед праздниками не надо бы. В Калевале был богатый дом, там в Катослампи была женщина Моккоева из Хяме. И она знала тех калевальских жителей. И вот в праздник Богородицы у них было много работников, в этом богатом доме. Они косили сено и за работу ходили в баню. Два или три человека парятся там в бане. Слышат они разговор, те, кто в бане, чужие, что, мол: «Пусть только придут хозяин с хозяйкой в баню, покажем мы им жару, раз каждую субботу поздно приходят в баню!» Ну с Божьей стороны этот разговор слышен. Ну как услышали это, удивились ли они или нет – этого хорошенько не помню. А потом как пришли хозяин с хозяйкой, как пришли в баню, да как им начало слышаться что-то странное. Да стали они у Бога просить прощения, что: «Прости, Бог!» У Бога стали просить помощи, чтобы выпустил прочь из бани, что больше они этого делать не будут, не будут поздно перед праздником ходить в баню. Ничего Бог не сделал. Сами хозяин с хозяйкой слышали, что есть, что плохи сейчас дела. А рабочим как сказали, они и не пошли в баню. Так та женщина рассказывала.
НА 84/152. ФА 2610/15.
Зап. Лавонен Н. А., Онегина Н. Ф. в д. Тунгозеро в 1980 г. от Салониеми Анастасии Егоровны, 1885 г.р., д. Ахвенлахти.
– Oliko kylyn izändä?
– No. Eläy se ki nygönä. Issettää kihloja. Yksi starikka sanou: “Mie kihlasta mänen hot kunna”. A toini sanou: “Kihloa ei pie iskie. Kihlasta ei soa mennä nikunna”. A hän sanou: “Mie mänen!” Toini sanou: “Issemmä kihlat, mänetkö kylyy yöllä?” “Mänen, – sanou. -Mintäh en mäne? Mänen!” Aku rubei kylyy mänömää, kuulou, ga kylyssä paissaa! Paissaa kylys! Ei ruohinnuh männä! Kihlat iski, a ei ruohinnuh kylyy männä, kuulou ga paissah kylyssä. Tuli, sanou: “Kihlat iskin, a mänetin”. Dai iellä vet’ oldih vinoa cetvertit, ei litrat da butilkat. Kolme litrua mäni cetvertih. Dai cetvertin viinua mänetti.
– Был ли хозяин бани?
– Да. Он и сейчас еще живет. Поспорили. Один старик говорит: «Я на спор хоть куда пойду!» А другой говорит: «Спорить не надо. На спор никуда нельзя идти!» А он говорит: «Я пойду!» Другой говорит: «Поспорим, пойдешь ли в баню ночью?» «Пойду, – говорит. Почему не пойду? Пойду!» А как стал в баню заходить, слышит: а в бане разговаривают! Разговаривают в бане! Не посмел зайти! Поспорил, а не посмел в баню зайти, услышал, что разговаривают в бане. Пришел, говорит: «Поспорил, а проспорил!» Да раньше ведь четверти вина были, не литры и не бутылки. Три литра помещалось в четверть. Четверть вина проспорил.
ФА 2399/3.
Записала Ремшуева Р. П. в д Сяргозеро в 1976 г. от Морозовой Марии Васильевны, 1912 г.р., д. Хирвиниеми.
Kylyh toze mennäh malitun kel, et häi mene pahoi. Ainos mustettih sanottih: sie oli neidine, moaman kel eli. Tulou i kylyn lämmiteä joga proazniekkoa vasta yöl. “Älä, sanou, lämmitä kylyy, tyttäreni, nengomoa kallistu proazniekkoa vaste. Lucce lämmität jälles.” I vot illal myöhä, proazniekan illal, myöhä. “A ei, sanou, midä rodie!” “A, tytär, sanou, älä nenga pagize, a ku da roih?! Ei soa tiedeä! Mene malitunke!” Häi ei uskonuh nimidä. A sanottih kylyh kui meni, sit kui rubei kaccomah – vies oli löpsöi. Vilus vies, toazas. Häi otti sen da lykkäi. Sanou: “Kehno go neccih tulit!” Nu vien azui häi, lämmeä pani, da sit rubei tukkie pezemäh. Tukkii pezemäh ku ruhei, sit tukat kai kleitihes. Ei pestä voinuh. Kleitih tukat, ackal da tuli kodih, sanou: “Mama, nygöi tukat ei erota, en voi nikui. Löpsöi, sanou, toazas cuudihes.” “Nu vot, sanou, pidäy mennä malitunkel da ei häi pidäs kallistu proazniekkoa vaste lämmiteä kylyy.” A sit mendih vracoih: “Myö nimidä emmo tiije, jesli pallähaksi brecemmö tukat, muud nimidä emmo voi.” Nu midä? Sit tiedoiniekkoih. Tiedoiniekat peästettih, tiedoiniekat da hyväisin, malitunkel: “Kylynizändät, kylynemändät.” Joga sijas rauku on. Paha paha gi on. Älä sano: tänpäi hyvä on, huomei minä necen roan. A mentiije min ähkeäu, ei soa tiedeä midä elät, midä roat, midä roih ennepäi.
– Akembo oli se lopsöi?
– A en tiije mi oli sit se. No ozuttih hänel ku löpsoi. Navemo. Älä mene myöhä kylyh, lämmitä proazniekkoi vaste. A meijan ristizä ainos sanoi, häi Biblielöi ainos lugi: “Ei pie, sanou, mennä pahoileh nikui. Pidäy mennä hyvin, malittuu paista: “Hospodi, blahoslovi!” A ei pie pahoi. Pahan sanot, ga sit paha roihgi.
В баню тоже идут с молитвой, ведь по-плохому не пойдешь. Всегда вспоминали, говорили: была там девушка, с матерью жила. Придет и баню истопит перед каждым праздником ночью. “Не топи, – говорит, – баню, доченька, перед таким дорогим праздником. Лучше потом истопишь”. И вот вечером поздно, в праздничный вечер, поздно. “А, – говорит, – ничего не будет!..” “Не говори так, дочка! А вдруг будет?! Нельзя знать! Иди с молитвой!” Она ни во что не верила. А говорили: в баню как пошла, как стала смотреть – в воде лягушка. В холодной воде, в тазу. Она взяла ее и выбросила. Сказала: “Черт что-ли сюда пришел!” Ну воду она сделала, пару бросила, и стала волосы мыть. Волосы как стала мыть, а волосы все склеились. Не смогла вымыть. Склеились волосы, она их уложила снова в пучок и домой пришла, говорит: “Мама, сейчас волосы не распутываются, не могу никак. Лягушка в тазу чудилась”. “Ну вот, – говорит, – надо с молитвой идти да не надо бы перед дорогим праздником баню топить”. А потом пошли к врачам: “Мы ничего не знаем, если наголо сбреем волосы, больше ничего не можем!” Ну что? Тогда к знахарям. Знахари освободили, знахари, да по-хорошему, с молитвой: “Хозяева бани, хозяйки бани…” В каждом месте есть! Плохое плохое и есть. Не говори: сегодня все хорошо, завтра я то-то сделаю. А поди знай, что сунется, нельзя знать, что будешь делать, как жить, что будет заранее.
– А кто была эта лягушка?
– А не знаю, что это было. Но показалось ей, что лягушка. Наверное. Не ходи поздно в баню, не топи перед праздником. А наша крестная всегда говорила, она всегда Библию читала: “Не надо никогда по-плохому идти. Надо по-хорошему идти, молитву сказать: “Господи, благослови!” А не надо по-плохому. Плохое скажешь, тогда плохое и будет”.
ФА 3429/12
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., в 1999 г. в п. Эссойла от Нестеровой Марии Филипповны, 1916 г.р., д. Ангенлахти
Enne sanottih: joka paikassa on i kylyssä on. А вот это точно: kylyssä on. Me olimmo на Урале, i siitä myö sinne kävyimo produktoin autolla. Yhten kyläh tulimmo että yöty rupiemmo makoamah, myö olimmo podruugankera Nataasan kera. A sooferi rupei että mi rupien pertissä izännänkera ta emannän-kera. Emäntä meile: menkeä kiukulla ta moakkoa kiukalla. “Emmo rupie kiukalla, myö lähemmö Nataskan kera kylyh.” Nu siinä sit meile ole beta. Niin ku korlat, mussat, sarvet tämmoizet, ihan ku ne piikat. I kolmecorpazet semmozet viilat ni ku oveh tullah – ni ku mi emmo kerkii ni… emmo ko makoa, emmo ko, niin ku cuuduu kacommo, i varajammo, emmo voi ni poai. No siitä se net meitä muukattih, emmo ruuhi ovet avata, jotta lähtie pois kylystä sieltä. No siitä se vroode uspokoiltu. Myö sieltä menimmö kylystä poikes, jo alkoi niin ku valota pikuzen. Tulemmo cmännällyy, emäntä sanou: “Nu kuinka työ makasia?” “Oi-voi kui myö makasimma! Не дай Бог!» «Mi häi teile sanoin: älkeä menkeä kylyh.» Tiesi ko mitä emäntä… No se oli semmoni cuudo jotta mi nikonzu en unohta. Mussat, niin ku, как козел идет. Sarvet näin i kolme-corpazet viilat niin. Enne cervie kuokimmo myö niile, semmozet viilat ollah, niin ku tullah oves… Uraalissa, это было в Молотовской областию А мы ездили на Каму за продуктами. Вот это было. Это не вранье и не сказка.
Раньше говорили: в каждом месте есть, и в бане есть. А вот это точно: в бане есть. Мы были на Урале, и там мы ездили за продуктами на машине. В одну деревню приехали и решили на ночь остаться, мы были с подругой Наташей. А шофер: “Я буду в доме с хозяином и хозяйкой.” Хозяйка нам: “Идите на печь и спите на печи.” “Не будем на печке, мы пойдем с Наташкой в баню.” Ну там у нас была беда. Как будто козлы, черные, рога такие, прямо как пики. И трехрогие такие вилы как будто в дверь идут – мы не смеем ни… и не спим, и не, как на чудо смотрим, и боимся, не можем даже говорить. Но так эти нас мучили, не смеем дверь открыть, чтобы уйти вон из бани. Ну потом вроде это успокоилось. Мы ушли вон из бани, уже светать начало немножко. Приходим к хозяйке, хозяйка говорит: “Ну, как вы спали?” “Ой-ой, как мы спали, не дай Бог!” “Я же вам говорила: не ходите в баню”. Знала ли что хозяйка… Но это было такое чудо, что я никогда не забуду. Черные, как будто как козел идет. Рога так и трехрогие вилы так… Как будто в двери лезут. На Урале, это было в Молотовской области. А мы ездили на Каму за продуктами. Вот это было. Это не вранье и не сказка.
ФА 3060/7.
Зап. Конкка А.П., 1987, д. Княжая Губа от Лобенковой Анастасии Ивановны
Issäin tuatto tul’ pois sielt saunast, sano: vesi on vertä. Pojat männit, ni totta: vesi on kattilas ko veri. Älä mene konsa kaksitoist tuntii yötä saunaa. Saunan haltia ei anna olla. Kymmenen vuotta meil oi’ sauna aina ojan ran-nal. Meil oi’ kompinaatiin yövahti. Hän mäni sauna humalas, makkoama, ni häntä kaks kertaa ajo pois saunast. Sanoi, häi ei vei uskonut, män’ viel toisen kerran. A sit, sanoko, tul’ saunan lautasiin aalt kirveen kanssa, tahto päähä lyyvvä häntä. Sit sano: ko on viel Jumala maal, ja päis pakkoo i tul’ miun vävyn i kaik makkamaa. “Pirut, certi vignali!” – sano. Repäis pajan halki.
Отец Исайи пришел вон из бани, говорит: «Вода кровяная!» Сыновья пошли, и вправду: вода в котле, как кровь. Никогда не ходи в двенадцать часов ночи в баню. Дух бани не даст париться. Десять лет у нас была баня на берегу ручья. У нас был ночной вахтер комбината. Он пьяный пошел в баню спать. Его два раза гнало прочь из бани. Говорит, что он еще не поверил, пошел второй раз. А потом, говорит, как вышел из-под банных полков с топором, хотел голову отрубить. Потом говорил: есть пока Бог на земле, смог убежать. И пришел к моему зятю спать. Говорит: «Черти выгнали!» В порванной рубашке.
НА 8/1308; ФА 2056/46. Зап. У. С. Конкка, П. Лааксонен в д. Падун в 1974 г. от Наппу Марии, 1887 г.р., д. Черная речка
Kylys toze sanottih, jotta juuvuu – se toas loattih jotta se kylyn haltii se pahan goazun andau jotta ihmini… Joga tilassa on semmoni. Kun ei liekutettu, hän ei liekuta nikedä…
В бане тоже говорили, что угорит – это тоже делали, что это дух бани этот плохой газ дает, чтобы человек… В каждом месте есть такой. Пока его не трогали, и он никого не трогал.
ФА 2944/9
Зап. Конкка А.П., в1986 в д. Реболы от Лескиевой Анастасии Ивановны, 1898 г.р., д. Реболы
A ennen oli Vuunisen ukkoo kylvetetty. Ielleh oli kallis prosniekku ollut i se Vuunisen ukko oli ollut moine vappu sanaine. No hänellä oli kyly lämmitetty, a akal häi piti ennen pocciniety, ei se kun nyt meile, kuunella piti. Toas heile on kallis prosniekku, nu Jumalan proazniekat. Akka lämmitti kylyn, sietä sanou: “No, ukko, kyly on valmis…” Sietä läksi kylyh, ta eikä ukko tule, eikä ukko tule, ukko ei tule kylystä. No, mi, Jumalan poika, on ku ukko ei tule kylyssä jo näin pitälti? Akka menöy: lavvoila venyy ihan mallitta. I kaiki vastu on kylvetetty, keässä on vai tyyket jeädy. “Mipo tuli?” – sanou. Ukko poikes: “Avoi-voi-voi! – sanou. – Olkahani, akka, viemeni kerta.” Siitä rahvas sanottih: oliko net pahapuuli kylvettäjät vai naapurit kylvetettih jotta kun häi ielkieu joka proasniekkoa.
А раньше Вууниева старика напарили. Впереди был большой праздник, а этот Вуниев старик был такой упрямый. Ну у него баня была истоплена, а жене-то раньше надо было подчиняться, не то что сейчас нам, слушаться надо было. Ну и вот у них большой праздник, ну праздник Бога. Жена истопила баню и говорит: “Ну, муж, баня готова”. И пошел он в баню. Да и не приходит муж, не приходит муж, муж из бани не приходит. Ну что, Божий сын, случилось, что муж так долго из бани не возвращается. Жена идет: на полках лежит, совсем без чувств. И весь веник выпарен, в руке только голяк остался. “Что случилось?” – говорит. Муж вон: “Ой-ой-ой, – говорит, – пусть, жена, будет последний раз!” Потом народ говорил: были ли это с плохой стороны парильщики или соседи напарили, что он наглеет перед каждым праздником.
ФА 3348/19.
Зап. Степанова А.С., в 1996 г. в д. Вокнаволок от Леттиевой Анны Алексеевны, 1926 г.р., д. Аконлахти
– Муб ku olimmo Komis evakuatsies, tyttö se jo ei nuurikkaine, vuottu kolmekymmen ka euluh mihellä. No hänel mi lienne kylys tuli pölästy. No omaika sanotah, omaika. I sit lähti kylys jo myöhä pyhäpäiveä vaste. A se oli kyly kaz’onnoi. I kielettih, što Polina, älä läh kylyh, mikse lähet myöhä, jo dvenatsatii cas, a si lähet kylyh. Hän sanou: “En mi nikedä varaja, olgah. Lähen!” Sit lähti, a cikko jäi hänel kodih. Cikko se vuuttau, vuuttau, händä ei ole. Sit mäni cikko tiijustamah. A häi kaikken kiukon riici kylystä, iče ku huiminäi. No sit händä sivottih da otettih kunna ollou, en tiije. Sto suuvattana myöhä, vot… A sen näin: kaiki trepaiceudut, kaiken kiukon riecci, kiuko oli suuri, oli vägi.
Мы как были в Коми в эвакуации. Девушка там, не молоденькая уже, лет тридцать, но не была замужем. Ну ей в бане пришел какой-то испуг. Ну есть свое время, говорят, есть свое время. А она пошла в баню уже поздно, перед воскресеньем. А баня была казенная. И запрещали, что Полина, не ходи в баню, почему идешь так поздно, уже двенадцатый час, а ты идешь в баню. Она говорит: “Никого я не боюсь, пусть. Пойду!” И пошла, а сестра осталась у нее дома. Сестра ждет-ждет, ее нет. Тогда пошла сестра проведать. А она всю каменку в бане разобрала, сама как сумасшедшая. Ну тогда ее связали и забрали куда-то, не знаю. Что в субботу поздно, вот… А это видела: вся растрепанная, всю каменку разломала, каменка была большая, было сил!
ФА 3381/4.
Зап. Степанова А.С., в 1998 г. в д. Тунгуда от Никоновой Анны Дмитриевны, 1916 г.р., д. Машезеро
Myöhä enne ei käydy kylyh. Šanottih: reähky tulou. Šanottih: painau sie. Meijan kai mustettih: yksi sie muzikku ylen myöhä meni kylyh, sit pandih päcin peäl. Päcin peäl pandih, sit muzikku zoarittih, kai nece eläväl lihal zoaruh meni. A sit vie ylen hätken eli da kuoli. Zoarittih! Sidä musteltih, sidä varaitettih. Sit myö suuvattoin ehtin sen roavon lopimmo muga myöhä menendän. Varaimo sidä rauku… Proazniekkoin ei käydy kylyh, dai latettu ei pesty, soboa ei pesty.
Поздно раньше не ходили в баню. Говорили: грех будет. Говорили: давит там. У нас все вспоминали: один мужик очень поздно пошел в баню, тогда его на печку посадили. На печь посадили и зажарили мужика, вся кожа до мяса сгорела. А потом еще долго жил, но умер. Зажарили! Это вспоминали, этим пугали! Тогда мы кончили по субботам поздно ходить. Боялись этого… И по праздникам не ходили в баню, да и полы не мыли, белье не стирали.
ФА 2972/21
Зап. Ремшуева Р.П., в 1986 г. в д. Сыссойла от Васильевой Окулины Емельяновны, 1910 г.р., д. Варлов лес
Kylyh ei pitäs myöhä mannä, osobenno, suuvattan ei soa myöhä männä jotta muka… Eräs akka oli myöhä männyh, sen oli revitännyh sienä kylyh ta… Paistih semmoista ka… Totta se kylyn emäntä revittelöy… Joka paikassa on emäntä, kylyssä, joka paikassa… Ei ole nähty ka kuultu on…
В баню не надо бы поздно ходить, особенно в субботу нельзя поздно идти, потому что… Одна женщина пошла поздно, там в бане ее и разорвало… Рассказывали такое дак… Правда это, хозяйка бани разорвет… В каждом месте есть хозяйка, в бане, в каждом месте… Не видели, но слышали…
ФА 3148/24.
Зап. Степанова А.С., в 1988 г. в п. Кепа от Степановой Евгении Герасимовны, 1922 г.р., д. Шомбозеро
Kylyssä oli meijän Ossippa diedö, heän ku äjan tiisi, häi oli tietäjä. I vot hän meni jalles. I sanottih, što se emäntä hänty tapoi. Tietäjany ku oli. Jalles kuuttu coassuu ei razresaitu kylyh mennä.
Voatteita ei kylys pesty… Ei ligoa sinne…
A kyly palo sen diedön jalken, dak sanottih jotta pirut kylyn ymhäri pläsittih. Konzu kyly palo. Buite nähtih: pirut pläsittih.
Наш дед Осип в бане был, он много знал, знахарем был. И вот он пошел последним. И говорили, что там его хозяйка убила. Раз знахарем был… После шести часов не разрешали в баню ходить.
Белье в бане не стирали… Грязь туда не носили…
А баня после случая с дедом сгорела, дак говорили, что черти вокруг бани плясали. Когда баня горела. Будто бы видели: черти плясали.
ФА 3486/5-6.
Зап. Степанова А.С., Иванова Л.И., Миронова В.П., в 2000 г. в г. Кемь от Рудометовой (Окатовой) Тамары Семеновны, 1934 г.р., д. Кокорино
Reähkeä ei soannuh kylys pideä, muzikan kel… Proazniekannu ei soannuh mennä kylyh. Myöhäntäh mene, a tol’ko proazniekannu ei soannuh. Korbiselläs t’ot’a Vasilisa kezä-Miikulanpeän kylyy lämmittäy. A t’ot’a Natasa meijan sanou: «Mikse? Tänäpäi häi on Miikulan päivy, nengoine proazniekku – sinä kylyy lämmität.» «A! Kaikkii Miikuloi!» Sinne lähti pezevymäh, sinne händy paraliccu, tabai. Muga moah lähti. Kylys päi tuli – jo suu on veäräs, dai käzi ei roadanuh, dai jongoi jalgoa… Kaco, Miikulan päivän kylyh. Kieltäh: vahnu ristikanzu, mikse menet proaznikannu kylyh. Nenga oli gordoinu. Pyhä Miikul, sanotah, kaikkii keb’jembi on liekutoa hot’ midä. Hot’ kunna autoa libo midä, aiven Pyhä Miikuloa. Sidä on Jumal andanuh…
Reähkeä gu kylys piennet, sit libo lapset roijah urodat, libo iče rubiet boleicemah. Mintahto loadiu Jumal. Sit jongoi pidäy koldovsikkoi eccie, kudai jongoi maltau jarilleh… Tiedoiniekkoa eccie. Sit gu jo otetah sie prosken’n’oa, ga kai, sit moozet vie peästäy.
Грех нельзя было в бане делать, с мужчиной… В праздники нельзя было в баню ходить. Поздно – иди, а только в праздники нельзя было. В Корбасельге тетя Василиса в летний Николин день баню топит. А тетя Наташа наша говорит: «Зачем? Сегодня ведь Николин день, такой праздник! А ты баню топишь.» «А! Всяких Николаев!..» Пошла мыться – там ее и парализовало, схватило. Так в землю ушла. Из бани пришла – рот уже скривлен, и рука не работала, и ногу уже… Смотри: в Николин день в баню… Запрещают: старый человек, зачем идешь в баню в праздник. Такая гордая была.
Святого Николу, говорят, легче всего потревожить, хоть для чего. Хоть куда помочь или что, всегда святого Никола. Его Бог дал…
Грех если в бане сделаешь, тогда или дети будут уродами, или сам будешь болеть. Что-нибудь сделает Бог. Тогда уже надо колдунов искать, которые уже умеют обратно… Знахарей искать. Тогда как попросят прощения да все, тогда, может, еще отпустит.
ФА 3324/2.
Зап. Лавонен Н.А., Ярвинен И.Р., Утриайнен Г.И., в 1996 г. в д. Улялега от Сотиковой Марии Яковлевны
Myöhä illoil kylyh voibi kävvä nedälilöil, a pyheepäivee vaste ei pidäs kävvä da proazniekkoi vaste. Jalles päivän laskuu kezäl hot’. A talvel gu päivy on lyhyt ga…
Поздно вечером в баню можно на неделе ходить, а перед воскресеньем да перед праздниками не надо бы. После захода солнца летом хоть, а зимой день короткий, дак…
ФА 3368/15.
Зап. Степанова А.С., 1997, д. Кирьявала Колатсельгского с/с от Григорьевой Клавдии Михайловны, 1923 г.р., д. Робогойла
Konsu vejella valetah, sanotah: “Lapši ylös, vesi alas, Pyhä Bohrodica peän peal”.
Kylyssä emättöä ei soanut, eiko mitä pahoa elämöä piteä. Eiko enne ni kussa annettu kylyh. Eikä lauloa, eikä mitä? sie piti olla oikein… Ämmö minulla sanoi, jotta kalissa proazniekkoa vasse kun proaznikka on tulemassa myöhä kylyh ei mennä. Heän sanoi jotta kalissa proazniekko vasse jos kylyh menet myöhä, sie voi paha olla. Heän on kerran mennyt. Ämmö vai miul sano. Monta vuorojas oli kylvetty, ni sietä jos vie menet kylyh. Sanoi, mi kerran läksin, meile oli yksi kyly Ondroin jeuko ta hyö. No, ta läksin kylyh, jo oli myöhäni ilta, a en mussa mitä prozniekkoa vasse. I siitä, hän sanou, ku menin kylyh, vie oltih hänel Outi-täti ta Anni-täti pienet, hän meni kylyh, a pimei oli. Illän päivän vasse vai mitä kallis proasnikkoa vasse. Menimmö, sanou, kylyh, tytön panin lavvoila ta rupein jaksamah, kuulen: ovi rytkähti. Aha! Mipo tässä tuli? Sanoin: «Anni, hoi?» A Anni jäi vie pirtih. «Anni, tule poikeh, mitä sie pahoa roat?» Ei kuulu, eikä nävy. Mi, sanou, siitä tyttöy jaksatan ja jo pölässyin. Siitä sanou jetta: «Anni, tule poikes, mitä sie sinä vieristelevyt.» Ei kuulu, ei nävy. Otan, sanou, tytön keärin, ta oven avoan ta ällän arvella jotta se ku on prosniekkoa vasse, se smuttiu proaznikka vai kui sanottih, jotta smuttiu. A, hänel vie oli toizella kerralla ovi rytkannyt. Siitä, sanou, kierehesti juuksemah ta juuksen kotih. A Anni vai kiukulla istuu, eiko ole tullut. Se kallissa proasniekkoa vasse varattih, ne Jumalan proasniekat.
Ei ni enne kylyssa voatetta pesty, meile leävässä pestih.
Когда водой поливают, говорят: «Ребенок вверх, вода вниз, Святая Богородица над головой».
В бане материться нельзя было и ничего плохого делать. И писать раньше в бане не давали. Ни печь. Что еще? Там надо было быть очень… Бабушка мне говорила, что перед большим праздником, когда праздник приходит, в баню поздно не ходят. Она говорила, что если перед большим праздником в баню поздно пойдешь, там может плохое быть. Она раз ходила. Бабушка мне только говорила. Во много очередей мылись, и потом если еще идешь в баню. Говорит: я раз пошла, у нас была одна баня (семья Андрея и они). Ну и пошла в баню, уже был поздний вечер, но не помню перед каким праздником. И тогда, – она говорит, – как пришла в баню (еще у нее тетя Авдотья и тетя Аня были маленькие, она пошла в баню. А темно было. Перед Ильиным днем или перед каким большим праздником?). Пришли, – говорит, – в баню, девочку положила на полки и сама стала раздеваться, слышу: дверь скрипнула. Ага! Что тут пришло? Говорю: «Аня, хей?» А Аня еще осталась дома: «Аня, иди сюда, что хулиганишь?» Не слышно и не видно. Я, – говорит, – эту девочку раздеваю и уже испугалась. Потом говорю: «Аня, иди вон, что ты там балуешься?» Не видно, не слышно. Беру, – говорит, – девочку завернула, дверь открыла да начинаю догадываться, что раз это было перед праздником, то это праздник дразнит, или, как говорили, дразнит. (А у нас еще и второй раз дверь скрипнула). Тогда, – говорит, – быстренько бежать, да домой прибежала. А Аня на печке только сидит и не приходила.
Этого перед большими праздниками боялись, это праздники Бога.
Раньше в бане и не стирали, у нас в хлеву стирали.
ФА 3348/17.
Зап. Степанова А.С., в 1996 г. в д. Вокнаволок от Леттиевой Анны Алексеевны, 1926 г.р., д. Аконлахти
A kylyh midäbo menet, kylyh jumalan kel, malitun kel pidäy olla kylys. Dai minä kylyh kävyin, ga lähtijes sanon: «Prostikkoa, kylyn izändät, kylyn emändät, kylyn valgiet vahnemhat»… Kylyn izändät, kylyn emändät, kai ollah, kai ollah. Hos ei uskota, minä uskon kai. Dai silloi olin internoatas roavoin, lapset tullah: «T’ot’a Klava, ongo Jumal?» «Minus on Jumal, a teis en tiije. Työ häi opastutto ga työ parembi minuu tiijetto. A minus on Jumal ainos, ijän kaiken… Jumal taivahas, pordahat keral.
А в баню зачем идешь? В баню с Богом, с молитвой надо быть в бане. И я в баню хожу, дак «уходя» говорю: «Простите, хозяева бани, хозяйки бани, белые старейшины бани.»
Хозяева бани, хозяйки бани – все есть. Хоть не верят, а я во все верю. А тогда в интернате работала, ребята придут: «Тетя Клава, есть Бог?» «Во мне есть Бог, а в вас – не знаю. Вы учитесь, и вы лучше меня знаете. А во мне всегда есть Бог, всю жизнь… Бог – в небе, лестница – с собой.»
ФА 3362/10.
Зап. Иванова Л.И., в 1997 г. в с. Ведлозеро от Мининой Клавдии Федоровны, 1916 г.р., д. Репное
Myöhä kylyh käyndäl käydih, no pidäy kylyh mennä, sit ei pie mattie panna. Starikat häi enne ei mat’ugaitu. Hyö mendih hilläizin, kylyh lähtöy – silmät ristiu, kylyspäi lähtöy – silmät ristiu. Vereän salboau Jumalan kel, panou ristan vereäl. Vereän salboau illal moata viertes – ristan panou. Kaikkie ozuttoa voi, voi sinuu tulla ottoa, voi jarilleh tuvva pertih. Sinä magoat, sinuu kandelou, sinä ni tije iče et. Unis voi kannella.
Поздно в баню ходить-то ходили, но если в баню идешь, тогда надо матом не ругаться. Старики ведь раньше не матерились. Они шли тихо. В баню пойдет – перекрестится, из бани пойдет – перекрестится. Дверь закроет с Богом, перекрестит дверь. Дверь перед сном закрывает – перекрестит. Всякое показать может, может прийти, взять тебя, может обратно в дом принести. Ты спишь, а тебя носит, ты и сам не знаешь. Во сне может носить.
ФА 3460/42-43.
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., в 2000 г в д. Лахта от Максимова Павла Дмитриевича, 1936 г.р., д. Корбиниими
Lapsen kel kylyh mennäh, sit luvetah:
Lagi – toattu, late – moammu…Izandat sie kaiket lekutetah. Meijan moatusku ku lapsen ottau, sit menöy, sit kylyn uksen avoau, sit kodvan lugou sit. Sit äski lapsen kylvettäy. A ei ni Jumaloileh olluh nimidä.
С ребенком в баню идут, тогда говорят:
Потолок – отец, пол – мать…Всех хозяев там назовут. Наша свекровь, когда возьмет ребенка, пойдет, дверь в баню откроет и долго читает. Тогда только парит ребенка. А ничего, с Богом, и не было.
ФА 2972/24.
Зап. Ремшуева Р.П., в 1986 в д. Сыссойла от Васильевой Окулины Емельяновны, 1910 г.р., д. Варлов лес
– A sanottih että oli izändä da emändä? Da siel pidi vielä vettä jätteä padah?
– Sinä piänä myö jätämmä, konza lähemmä, anna hän pezeytöy, jiau viluu dai palavaa. A toissa piänä mänemmä, ni uberima kai.
– Sie ku toissapiänä mänet uberimaa, hän ollou kylvenny da pessyy, vot ku siuda za siivorot tavottau?
– En raukka nägen. Toissa piänä kaikeci mänen kuadamaa da puhastamaa, ni emmä nikonza nägen. No. A sidä konza käymä ni jäini hänellä i viluu i palavua. Ei se näytäydy, a niin vain, jotta ennen jätettii, dai vasta jätettii. Nu, dai vasta, dai kaikkie jiäu, anna hän kylböy da pezettöy.
– А говорили, что в бане есть хозяин да хозяйка? Да что еще воды надо оставить в котле?
– В тот день мы оставляем, когда сходим, пусть он помоется, останется холодной и горячей. А на другой день пойдем и уберем все.
– А когда пойдешь на следующий день убирать, если он попарился и помылся, вот как схватит тебя за шиворот!
– Не видела. Назавтра пойду все выливать да убирать, никогда не видела. Ну а когда ходим, то оставляли и холодной, и горячей. Не показывался тот. А только так, что раньше оставляли, и веник оставляли. Да, и веник, и все оставляли. Пусть он попарится да вымоется.
НА 8/900; ФА 2036/26.
Зап. У. С. Конкка, П. Лааксонен в д. Чёбино в 1974 г. от Кирилловой Анны Яковлевны, 1905 г. р., д. Келдоваара.
Dai nygöi, kelle on omat kylyt, azutah gostincat kylyn izändälle. Tolkuta ei nikus, ni kylys, nimis pomeseniis. Toal n’okal on kylyt omat rahvahil, sezi azutah muge gostincat da viedäh. Da pannah moah sinne: “Gostincat täs moanizändäle da moanemändäle toine. Pidägätte hyvin, da olgatte hyvin, da älgätte koskevuu nikedä.”
И сейчас, у кого свои бани, делают гостинцы хозяину бани. Без толку нельзя нигде, ни в бане, ни в каком помещении. На том конце у людей свои бани, они так же делают гостинцы и относят. Кладут в землю туда: «Вот гостинцы хозяину земли и другой – хозяйке земли. Хорошо принимайте, да будьте хорошими, да не трогайте никого».
ФА 3024/52.
Зап. Ремшуева Р.П., в 1987 г. в д. Святозеро от Моисеевой Марии Григорьевны, 1906 г.р., д. Важинская Пристань
– Oletko kuullun kylynizännästä?
– Ka ne sielä kylynemändä, kylynizändä… Se sielä. Ku mänet, midä duumainet, libo pahua, libo midä, kai. Sidä pidäy hänen luokse männä prostieksee. Ku sielä midä duumainet libo kai siula paha, zaboleicet kylystä. A hiän sinuu on boleznija kaikemmoisie kibiedä midä. Siidä pidäy mennä hänen luokse prosken’n’alla:
Kylynizännät, kylynemännät, Kylyn vanhimmat, nuorimmat, keskikerdaizet. Kai prostikkua miuda, Raboa boozii Nastuo.Tuas toisesta sijasta kumardoate hänellä. Toista i sanoa senin: “Kylynizännät, kylynemännät, kyin vanhimmat, nuorimmat, kai prostikkuo raboa boozii Nastuo. Kylynhaldijat kaikki, raboa boozii Nastuo. Moozet midä duumaicin mie siusta midäni, moozet midä ajattelin siusta midäni. Prosti miuda roadi Hristoa moasta taivahaa, taivahasta moasaa”.
No vot rubetaa ne lähtömää kaikki. Siid otat lehtizii kudamazet vassast kylvetty. No da sidä moasta otat lehtizie da sidä kibiee painelet siih senii: “Kuin tämä lehti täh paikkah kuivi, nii sii miusta kuivettais. Ota omas”. Kusta paikasta otat, ni sen tooze siih paikkoa panet. No nii lähtijessä, kolme kerduo nii lehtilon kuottelet, järellää sillä paikalla panet.. Dani lähtiessä kumardelietet, prostietat:
Kylynizännät, kylynemännät, Kylyn vanhimmat, nuorimmat, keskikerdaizet. Kai prostikkua miuda Moasta taivahaa, taivahasta moasoo. Prostikkoa roadi Hrista, Hristoa roadi.No da niin kibijät jo i rubetaa kuivamaa. Da se proidiu. Se on kylynizändä. -A sidä varatii?
– A kylynizändiä? Ku kellä nimidä pahoa, ni mänet pezet kylyzen, mänet puhtahana kylyzee. A toine vet hiän: “Avoi-voi! Midä hänellä on kibie libo mi kai..– jo duumaiccou.
– Käytiiko päivälossan jälkeen kylyy?
– Ei. No ku päivä laskietou. Toicci i männää.
– A prozniekkoina?
– A proazniekkoina… nygönä eigo tiijetä. A enne ei. Ei lämmitetty proazniekkona kylyy. Eigo käydy. A nygönä päivät yhenmoiset. Äijänä päivänä lämmitetää da kylvetää.
– Слышала ли о хозяине бани?
– Дак они там хозяйка бани, хозяин бани… Они там. Если пойдешь, подумаешь чего, или чего плохое, или еще что. Тогда надо идти к нему прощения просить. Если подумаешь там чего или что все у тебя плохо, заболеешь в бане. А у него болезни всякие. Тогда надо идти к нему прощения просить:
Хозяева бани, хозяйки бани, Старшие бани и младшие, Средние. Все простите меня Рабу божию Настю.Еще раз в другое место поклониться. И сказать еще раз туда: «Хозяева бани, хозяйки бани, старшие бани и младшие, все простите рабу божию Настю. Все духи бани – рабу божию Настю. Может, я что подумала о вас, может, что помыслила о вас. Прости меня ради Христа, от земли до неба, от неба до земли». Ну вот и будет все это выходить. Потом возьмешь листик от веника, которыми парился. С земли возьмешь листики, да больные места прижмешь или: «Как этот листик на этом месте высох, так что бы и на мне высохло. Забери свое». С какого места возьмешь, на то же место положишь. И перед уходом поклонишься, прощения попросишь:
Хозяева бани, хозяйки бани, Старшие бани, младшие, средние, Все простите меня. От земли до неба, от неба до земли, Может чего я подумала о вас. Простите ради Христа и Христа ради.Так будут болячки засыхать. И все пройдет. Это хозяин бани.
– А его боялись?
– А хозяин бани, у кого ничего плохого. Пойдешь, вымоешь баню, пойдешь в чистую баню. А у другого ведь: «Ой-ой-ой! Что у нее болит или что… И подумает…
– Ходили ли после заката в баню?
– Нет. Как солнце сядет. Иногда ходили.
– А в праздники?
– В праздники… сейчас не знаю. А раньше нет. Не топили в праздники баню. И не ходили. И в субботу поздно не ходили в баню. А сейчас все дни одинаковые. В Пасху топят и парятся.
НА 33/224; ФА 2254/13 Зап. Ремшуева Р.П., 1975 г. в п. Паданы От Кононовой Анастасии Тимофеевны, 1900 г.р., и. Паданы
Былички о подмененных детях
Lapši vajehettu
Mie sanon yhen kertomuksen kun sano yksi, vot sielä Tiksalla kun myö elimä, no se on tietysti ämmö kuollun. Vot hän kerto kun häi sai tyttären. Sillä tytöllä nimi Surka, no Aleksandra. Ni hänellä kun se tyttö kolmen vuvven vanhana sairastu. Ja vot se tyttö sairastau da sairastau, hänellä jo kuin monta aikua, ja eikä piäse nikuin, se eikä kävele. Ajo on kävelyaika se, no kolmannella vuvvella. A toisessa kylässä oli, Čirkka Kemi sielä, oikein tietyjyä kaksi starikkua, hiän sanou. No tuumaicen, što pitäy lähtie sinne sen starikanluo. I von se oli suovattapäivä, sanou, kun läksin, ni se starikka jo oli nähnyn unen. Kun huomeksella nousi se starikka, nin heän sanou emännälläh, akallah, sanou sto:
Sie lämmitä tänä piäna kyly.
Kačo sie kuin se i kucuttih sitä, en muissa. Oiken hyvä se oli ämmä toze. Myö olimma aina korttierissa sielä, Čirkka-Kemissä. Konovalof oli familii sillä akalla. Annako lienöy ollun vai nimi.
Sie lämmitä tänä piänä kyly, Anni. Tänä piänä tulou oiken suuren hiän kera ihmini. Akun hiän tulou, niin pannah lapsen tähä kozn’alla. Akozn’aksi sielä nimitetäh rundukkua, a meilä sanotah Karjalassa rundukan piäh. I anna makua, anna on iltah suat’e siinä. A vie, sanou, mecässä tuon mitä miula pitäy. A kun niättä to mie tulen rantah venehellä, tulkah lapsen kera kylyh.
Ennen viidimo hyö tietih mitä. A se naini on niin kor’assa sen lapsen kera. Ta se lapsi yöt ta päivät itki. Hänellä euluh ni mimmoista rauhua, muuta kun: umm-umm-umm. I sanou, jo sillä niin kun lapsella jo silmät alettih niinkun muuttuo. Tuumaicen, sanou, hot’pa kuolis tämmöisestä kiusasta lapsi. A vracoja-to ennen aikoja ei ollu. Se oli monesko vuosiluku, en muissa. Se oli jo ennen voinie, ennen tätä suurta voinua, ennen kolhosoja. Nu i, sanou, tulen mie sinne: «Terveh!» – “Terveh!”
Oi-joi-joi! Mistä nyt sie lankesit tämmoni vieras? Jo miän ukko unen näki. Sanou: heittä tämä lapsi. – Hänellä juohattau kun ukko käski. Hän ku lapsen heitti. A kun se lapsi uinuo muata! Kun ei päivässä nouse. Hiän ku yhtä astuu kaccomah, jotta onko hoti elossa? Tuumaicen, sanou, no vieläkö pojat lapsi vakautuu itkömästä. Kun itköy yöt-päivät mute kun.
Noh. Ollah iltah suate, sitä päivyä kun kulutetah. Ajo se tyttö vakautu, ei enämpi iänä, tuumaicen, to kuolou se, kuolou.
Ukko tuli mecästä. Hyö nähäh, to tätä nyt veneh soutau. Siitä tullah heinältä. Heinäaiku oli se kesällä. Sanou se Anni:
Paraskovj a Kuzminicna, ota lapsi runtukan piästä ta mäne kylyh.
A nuoret, ne kun tultih hyö rantah, nuoret ne hypättih venehestä ta perttih ni juostih. Heilä vähä dieluo eikä hyö mitä tietty, eikä ukko viidimo heilä ei sanon nimitä. Lapsen otalti käteheh ta kylyh luoksi. No, niin, sanou, mäni sinne:
Siekö se olit tulijä?
A hyö tiijettih toini toiseh, ei etähänä sielä kylät.
Mie olen, – sanou. Hyö vielä kuin-to oltih rodn’at, oliko hiän dvurodnoi velli vain kuin, en muissa.
Mie, sanou, olen ta semmosessa.
Nu kun olet, ni kylläse tämä vielä parenou dielo.
A sielä on tuonun heän uvven vassan mecästä. Sanou jotta:
Jaksautu, puolenna vuatteita piältä, vet’ hiessyt ylen äij äiti kylyssä, kyly on äkie. Ta jäksa, sanou, lapsi, ta istuuhu tuoho. Elä nimitä virkka, sanou. A mitä nähnet, mitä kuullet, mie vastuan kaikki.
Hiän otti sen lapsen, jakso. Iceltä, sanou, puolennin vuatteita vähäsen, a en jaksauhu, kun muzikka on, ennein vet’ muzikkoa häpieltih.
Siitä, – sanou, – tuo lapsi.
Hän otti se ukko sen. Tooze heitti vuatteitah niitä, alus vuatteihense jäi yksih. Peitti, sanou, sen lapsen. Kylvetti sillä vassalla, uuvvella vassalla, min heän toi sen uuvven vassan. Nu i heitti tuoh ovikorvah. Avasi kaikki ovet, kylynoven i sen sincioven kylystä.
A se kylä on, se on por’atocno pitkä kylä, no kilometriin en tijä onko pivus. No nin sen tuosta peästä kylän, mecänrannasta, mecästä kun solahti se tulija. Mi, sanou, näin kacon, ni ei nivovse vartaluo navy, a muuta kujällät. A kun, sanou, kallistauvun kaccomah, ni ei vielä nävytä, muuta kun yhet jalat, ne on niin pität jalat. No sanou, jotta viisi metrie olisko pität oltu jalat, kun vielä en niä sitä tuuluvissua, muuta kun yhet jalat. Hiän sano, što ei heän nimitä virka muuta kun et virkka sie mitänä, kun mie vain virkan. I, sanou, tulou. Ihan astuu, a kun se kyly kun on rannalla, ni se näkyy kun heän rantua myöte astuu. Tuli sih kylyn luoksi, alentuu kun ei nikuin, tuli kylyh alentu. No se tuli ihan, sanou, kaksinkerrin, mitä sie, kun ei eissy, ei nikuin sovi kylyh. No ukko juohattau: “Tuossa on! – No juohattau vastah. – Kaikki ota omas, a miun jätä!”
Niin kaiken riivi sen vassan. Vassasta siitä joka lehtysen. Yksi lehti jäi riipimättä. Jätti riipimättä se tulija. I sano:
No tämän sie unohit vielä. Tämä, – sanou, – pitäy jättyä siula.
Se ukko vastai:
Kun tulet toisen kerran, nin otat kaikki! Mie sen unohin, – ukko oli vassan. No, hiän ne kun kaikkilehet riipi, I kaikki otti ne tähä paijan helmah. Paijan helmah vassasta, oi kun se tulija. Znaacit heän otti ne kaikki ne tytön kuta viit’imo kylvetti. Ne kivut kaikki otti. No yhen vielä jätti. Siitä ukko oli sanon, jotta unohin vet’ yhen sanan sanomatta. Ni se varpa jäi yksi, yhen sanan sanomatta, riipimättä. “Tulet, sanou, – toisena iltana i otat kaikki!” I niin läksi pois, se mies. Niin mäni, myö istuma koko äijän kuni ei männyh meccärantah. Meccärantah ku mäni, sanou:
No mäni, ota lapsi, suorita i mane pane tuas rundukan piäh, anna makuau.
Kolmet suutkat, sanou, makasi tytär. A hiän ei käsken liikuttua. Mie, sanou,sanon:
Ka vet heän nälkäh kuolou!
Ei kuole, ei nälkäh. On se syöttäjyä hänellä, syötetäh. Se aika kun on, ottau syötettäväksi, syöttäy! Akun hänen syötäntä loppuu, kyllä myö omalla syötämmä.
No siitä kolmet sutkat tytär kun makasi, heän vielä lämmitti kylyn kerran, ukko se. I vielä kylvetti, vielä kävi, otti. Siitä riipi sen, toisen kerran ku tuli, ni kaikken vassan puhtahaksi. Ei, sanou, jiännyn ni yhtä, ni jotta olis yksi varvani siih vastah.
Siitä heän ni sanou, sen kun yön makasin, ni ukko sanou huomeneksella sto:
Nyt, Fofanovna, – Fofanovna isännimi sen paapuskan, – suot männä kotihis, lapsi on siula terveh.
Vot heän miula tämän kerto.
Mi sillä lapsella oli?
A mane tiijä. Vot, sanou, itki, itki pes konsa, jotta kuin mihin hänellä tuli polesni. No lapsi läseytyy, myö vet juoksemma vracalluu sraasu. Nytki se naini eläy, hänellä on vielä lasta, sillä naisella. Tämän Tiihhanaisen Mikon naisena heän on, San’kka, Miitron paapuskan tytär.
Я расскажу, о чем говорила, когда мы там, в Тикше, жили, но она уже умерла, конечно. Вот она рассказывала, как она дочь родила. Эту девочку зовут Шурка, ну Александра. Вот у нее эта девочка в три года заболела. FI вот эта девочка болеет и болеет, уже как много времени, а не поправится никак, да и не ходит. А уже ходить должна, уже третий год. А в другой деревне, в Чиркка-Кеми, было два очень знающих старика, она говорила. Fly, думаю, надо пойти туда, к тому старику. И вот это была суббота, когда я пошла. А тот старик уже во сне увидел. Когда утром проснулся этот старик, он сказал хозяйке, жене:
– Ты натопи-ка сегодня баню.
Вот я не помню, как звали ее, очень хорошая была старушка. Мы все время на квартире были у них в Чиркка-Кеми. Коновалова была фамилия у этой женщины. Анна, что ли, ее звали.
– Натопи-ка ты сегодня баню, Анна. Сегодня с очень большой нуждой придет человек. А когда она придет, пусть положит ребенка на этот сундук. И пусть спит на нем до вечера. А я принесу из лесу все, что мне нужно. А когда я оттуда на лодке подъеду к берегу, она пусть с ребенком придет в баню.
А раньше, видимо, они знали что-то. А та женщина в таком горе с этим ребенком. Этот ребенок дни и ночи плачет у нее, ни минутки покоя не дает, только: умм-умм-умм. У ребенка уже, говорит, даже глаза изменились. Думаю: лучше бы умер этот ребенок. А врачей-то раньше не было. В каком это году было, не помню, это было еще до войны, до этой большой войны, даже раньше колхозов. Ну и, говорит, прихожу я туда. “Здравствуйте41 – “Здравствуйте“ говорит:
– Ой-ой-ой, от чего же вы так заболели? Мой старик во сне видел. Положи сюда ребенка, – говорит, как ей муж велел. Она только положила этого ребенка, он сразу и уснул! И целый день не просыпался. Она постоянно подходила посмотреть, живой ли хоть. До этого думала: перестанет ли хоть когда-нибудь плакать. Ведь дни и ночи плакал. Но. Пробыли там до вечера. День прошел, девочка успокоилась, не плачет больше. А я все думаю: умрет, умрет. А старик вернулся из лесу, они видят, что лодка плывет. Это как раз летом было, во время сенокоса. С сенокоса на лодке возвращались. Говорит та Анна:
– Парасковья Кузьминишна, возьми ребенка на сундуке и иди в баню.
А молодые, подъехав к берегу, выпрыгнули из лодки и побежали в дом. А у них какие дела, они и не знали ничего. Да и старик, видимо, им ничего не сказал. Она взяла ребенка на руки и в баню. Пришла туда:
– Это ты пришла?
А они знали друг друга, деревни ведь недалеко.
– Да, это я.
Они еще как-то родственники были, был ли он двоюродным братом или как, не помню.
– Да, это я, такая-то.
– Ну, раз ты, то это дело исправиться. – А он из лесу принес новый веник. Говорит: Раздевайся. Сними одежду, иначе вспотеешь, очень жаркая баня. И раздень ребенка, да садись там. Не говори ничего. А если что увидишь или что услышишь, я на все отвечу.
Она взяла этого ребенка, раздела. Сама сняла часть одежды, но не полностью, ведь мужик рядом. Раньше ведь мужиков стыдились.
– Принеси ребенка, – говорит.
Старик взял ребенка. Он тоже разделся, остался в нижнем белье. Накрыл того ребенка и парил этим веником, новым веником, который он принес. И положил потом веник на дверь. Открыл все двери, и банную дверь, и в сенях бани. А эта деревня достаточно длинная, наверное, около километра. Ну и с того конца деревни, из лесу вдруг появился идущий. Ну, говорит, я так смотрю, ну совсем тела не видно, только ноги. А потом как присмотрелась и все равно ничего не вижу, только одни ноги, такие они длинные. Ну, наверное, метров пять эти ноги длиной, даже туловища не видно, только одни ноги. А он сказал, что тот ничего не будет говорить, пока она молчит. Тот приближается. Прямо шагает, а эта баня стоит на берегу, поэтому видно, что он идет прямо по берегу. И подходит прямо к бане. Наклонился, согнулся в три погибели, но все равно никак в баню не помещается. Старик говорит: “Вот тут!“ и показывает на веник. “Все свое забери, а мое оставь!“ И тот весь веник растрепал. Из веника каждый листочек вдернул. Только один листочек остался висеть. Только этот листочек не сорвал пришедший. И говорит:
– Вот это ты еще забыл. Это надо оставить тебе.
На это старик ответил: “Когда придешь в следующий раз, тогда заберешь все. Я забыл это“.
Он как все листья сорвал и собрал их всех в подол рубашки. В подол рубашки все листья, этот пришедший. Значит, он взял все с той девочки, которую парил. Все те болезни взял. Но одну оставил. Тогда-то старик и сказал, что забыл ведь одно слово сказать. Вот эта веточка и осталась одна не оборванная, одно слово не сказанное. Придешь, говорит в следующий вечер, заберешь все. И он вышел вон, тот мужчина. Так и пошел, а мы сидели все время, пока он не дошел до леса. Когда он подошел к лесу, старик сказал:
– Ну, ушел. Забери ребенка, одень и иди положи туда же на сундук. Пусть спит.
Трое суток спала дочь. А старик не разрешал будить. Я, говорит, спрашиваю:
– Она ведь с голоду умрет.
– Не умрет с голоду Есть те, которые кормят ее, накормят. Раз взяли ее, чтобы кормить, так накормят. А когда их время кормить закончится, мы своим накормим.
Вот так, трое суток дочь спала. Потом старик еще раз баню натопил. И еще раз напарил. И еще приходил тот забирать. Когда второй раз пришел, то до конца оборвал весь веник, начисто. Не осталось не одного листочка, ни одной веточки. А утром старик сказал, когда проснулись:
– Теперь, Фофановна, (это было отчество бабушки) можешь идти домой, ребенок твой здоров.
Вот это мне рассказывали.
– А что было у этого ребенка?
– А поди знай что. Вот плакала и плакала без конца. Откуда пришла эта болезнь? Но ребенка вылечили, а мы ведь к врачам сразу бежим. А эта женщина и сейчас жива. У нее пятеро детей. Это Шурка, жена Тихонова Микко, дочь Митроевой бабушки.
НА 53/126; ФА 1701/3
Зап. А. С. Степанова, Н. А. Лавонен в 1972 г. в п. Княжая от Архиповой Варвары Филипповны, 1920 г.р.
Подменённый ребёнок
Ämmörukka kaikicci sano miula: “Sie vain ikonaini lapsen luo pane, nin muuta ei ole mitä. Lapsen luo ikonaisen panet ta kierällät jotta: “Hospodi, sokrani, pereki!” ta nimie myöten pladencasta. Kun ollou rissitty, ni nimie myöten tai. Se ämmörukka miula kaikicci juohatti. “Akun kunna lähet, vast-kolikka reunah pane, älä jätä lasta, hot’ olkah kätkyössä, hot’ jiäkkäh pirttih, yksinäh älä lasta jätä”. Ämmörukka kaikicci sano.
– Mitä sanottih?
– No, Hospodi blahoslovi. Muuta nimitä ei pie sanuo. A kolikka pitäy jättyä hänellä toiseksi. On meilä yksi tapahus. Yksi naini kun läksi kylystä. Jo hänellä onnakko kuukausi oli kun lapsen sai. Kun kylystä hyppäi, kun vastua ei tokatin ottua, ta emätuksen kera ta lapsi jäi kylyh. Ta hiän mäni ta sielä riiteli. No nin nyt onka kolmekymmentäko jo vuotta on, no ni nämä ollah kiät nämä i… niin ku koira syöy lapsi. Tytä jo täysi inehmini.
I kaikicci sanottih nämä vanhemmat ihmiset silloin, myö vielä olima nuoret, ni sanottih, jotta semmoista cuutuo elkyä ruatakkua. I hänellä sraasu sanottih, jotta kaco kuin vajehti häneltä lapsen.
– Mi vajehti?
– No kun mie hot mie sanosin… No niin kun pahapuoli vajehtau. Sanot, lähet, sano mat’t’isana, kun jiäy kotih, ka hiän se siinä pyöriy, hiän se siinä on, pahapuoli se pyöriy siinä, pahapuoli se i puhjuttau. Ämmörukka meile oli sokie, ei se kyllä kaikie pitäis sanella, vain sanelen mie kyllä. Ämmörukka oli meilä muinen, ni kun hänellä sekou sielä eli kesrätessä eli lanka eli mi: “No tästä nyt kyllä ei nimitä sua, ei nimitä sua! Kačo kun koukkuhäntä siih hierautuu, tulou ta sevottau, et nimitä sua. Mie en emätä, en, mat’t’isanuo en sano. No vot siitä hiän ni vuottau, siitä hiän ni pyytäy! Kačo nyt, sanou, lapset, kaccokua nyt kun hiän pyytäy tuas. Tämän se suau miusta”. Vot mie en ole iässäh emättän.
– Voitko lasta pihalla toimittua kirosanan kera?
– Ei pitäis toimittua, ei pitäs, mimmoseh cuastih sattuu ni. Miehän teilä tuolain sanoin, jotta kato tytär hirsitukun alla, Mie mat’t’ie en, mie en ole mat’t’ie iässäh. Mie kun kunne lähetäh eli kunne lähen ice: “Hospodi, plahoslovi, Hospodi, plahoslovi!” No sielä kun ken mitä cuutinou, eli nakranou eli mitä, hyö nakrakkah, a mie omasta kohastani, omua iccenie ta omieni, a mie vierahil, kun kellä ei paisa, ni miula pahua ei tule.
– Eiko rozencua varattu?
– Ka en mie, rozencua mie en ole kuullun. Ne varotetah, siitä varotetah, rauta on hänellä alla kun makuau. No niin kericcemet ollah rozencalla alla. Lapsen ku suau ta muite venyytyy, nin kericcemillä ta ikonan kera kierretäh, ta kericcemet alla pannah.
– Ken kiertäy?
– A puapo. Se kun kiertäy ta sanou sih: “Hospoti, plahoslovi!” ta…
– Бабушка все время мне говорила: «Ты только иконку положи к ребенку и больше ничего. К ребенку иконку положишь да обведешь ею: Господи, сохрани, береги и по имени младенца назовешь. Если уже крещеный, то по имени». Об этом мне бабушка все время напоминала: «А если уходишь, голик от веника положи с краю. Не оставляй ребёнка, хоть в колыбели он, хоть в доме, одного ребенка не оставляй». Бабушка все время об этом напоминала.
– А что говорили?
– Господи, благослови. Больше ничего не надо говорить. А голик ему надо оставить как бы вторым. Был у нас один случай. Одна женщина вышла из бани. Наверное, уже месяц прошел, как она ребенка родила. Выскочила из бани, а веник не догадалась взять, да с матом. А ребенок остался в бане. А женщина пошла и ругалась. И вот теперь уже тридцать лет прошло, а руку у нее… Как будто собака покусала ребенка. Дочь уже взрослая женщина. Раньше все время говорили старики, мы еще молодые были, а они говорили: «Вот такого чуда не сотворите». А ей сразу сказали, что ей ребенка подменили.
– Кто подменил?
– Ну как бы тебе сказать… Ну как будто бы черт подменил. Говорили, что пойдешь в лес, а ребенок останется дома, а тот тут-то и вертится, тот там, черт этот вертится. Вот этот черт и подменит. Бабушка у нас была слепая. Не надо бы тебе все рассказывать, но все-таки расскажу. У бабушки как-то запуталась нитка, когда она пряла. Нитка или что-то там: «Ну теперь здесь ничего не получишь, ничего не получишь! Смотри-ка, хвост кочергой тут сунулся. Пришел и запутал. Больше ничего не получится. Я не буду ругаться, не буду материться, а вот он-то этого и ждет, для этого он и запутал, посмотрите дети, как он тут суется. Но этого он от меня не получит». Вот и я, никогда не матерюсь.
– А можно ли ребенка с руганью на улицу отправлять?
– Не надо бы, нельзя. Не знаешь, в какой час попадешь. Я ведь вам недавно рассказывала, как дочка потерялась. А я ведь даже не материлась. Если я куда пойду с ребенком или даже одна: «Господи, благослови! Господи, благослови!» А там пусть хоть кто осудит или посмеется, или что, они пусть смеются, а я на своем месте, сама себя и своих, ко мне плохое и не пристанет.
– А роженицу не боялись?
– Ну про роженицу я не слышала. Берегут саму роженицу, железо у нее под постелью, раньше это были ножницы для стрижки овец. Эти ножницы под роженицей. Ребенка когда она родит да просто ляжет, вот тогда этими ножницами и иконой обводят ее. А ножницы кладут под постель.
– А кто обводит?
– Повитуха. А когда обводит, то говорит: «Господи, благослови!» да…
НА 53/162; ФА 1703/6
Зап. А. С. Степанова, Н. А. Лавонен в 1972 г. в п. Зеленоборский
От Койкеровой М. И., 1905 г.р.
Сказка о подмененной в бане девушке
Smieloi briha
ОН ennen sie yhtes hierus taloin poigu. Häi ei varannuh nimidä. Hot’a i sih aigah rahvas molittih jumaloa i uskottih tiedoiniekkoi, i rahvas sanottih, što on mecäs kamu, järvilöis – vedehiesty. A häi ei uskonnuh nimidä. Yhtel aigoa talvel, jälles Rastavua, Sv’atkien aigah ollas bes’odas i lähtöy heil pagin, ken midä vamau, ken midä ei vama. A tämä briha, taloin poigu, nouzou seizoi i sanou kaikile:
– Minä en vama nimidä. Ei go le nimidä varattavua.
Sit hänen kel iskietäh kihlat viinu butilkois. Šanottih: voinet tuvva kylyspäi kiven täh bes’odah, siit butilkan viinua. A häi oh viinah ohottu. A häi sanou:
– Mengeä tuogoa viinat! – i reädiu: puolen butilkoa juon lähtijes, a toizen juon tuldui.
Muga i loaitah. Viinat tuodih. Häi ottau, puolen butilkua valoau stauccazeh, sen juou, a dostali puoli jiäy stolale i lähtöy ylen hroabro. Kylyh menyö. Vai tahtou päcispäi kiven ottoa da ieäreh lähtie, drug hanele tarttuu kädeh mene tiije ken i pidäy. Häi kiskou, kiskou kätty, ga ei voi piästiä. Sit häi jiäviu paginan, sanou:
– Ken olet? Piästä käzi iäre hyväzil.
A hänele vastatah, otviitoiccou:
– Silloi piästän käin, ku ottanet minuu mucoikse.
A häi ei tiije midä sanuo, duumaiccou: “En tiije midä ruaduo”. Jällicel sanou:
– Piästä vai käzi, otan, ole ken tahto.
Jo häi pöllästyi. Nu sen häi kuulou, što pagizou naizen iäneh. Sille brihale sanou:
– Huomei ehtäl tulgua ristikanzan kel i tuogua naizen sovat.
A häi uskaldi, sanou:
– Hyvä, piästä vai käzi, tulemmo.
Häi menöy bes’odah, kiven vedäy. Stolale heittäy, dostalin butilkan tämän juou, hot’ häi hmaldui, a vesselöynyh ei, istuu pahas mieles. Bes’odaspäi lähtieh kai ieäres I häi menöy kotih, vieröy muate. Unis hänel ozuttahes se naine i sanou:
– Älä kielasta, huomei ehtäl tule ristizän kel minuu ottamah, a jesli et tule, siit hyviä sinulle ei rodie.
Ahäi neccih naizeh кассой, I hänele muga ponraaviheze, mostu nikuz häi ei nähnyh luavukastunnastu nikus… Jo havaccuu maguamaspäi i duumaiccou: “Nengoine vai olis, ottazin mucoikse, anna olis hot’ ken”… Tulou huondes valgei, häi nouzou cuajun juou nikelle nimidä ei virkka. Läntöy ristizählyö käymäh, a kodipereh smekniittih: navemo lähtöy kodzile i rubieu naimah. No vai sitä ei tietä, kus rubieu. Menöy ristizählyö, objasniu tämän dielon, kui
oli. A ristizä sanou:
– Ku muga on, ottua pidäy, ristin poigu, olgah ken tahto.
Nu häi ku oli aino poigu, dengue hänel oli, ostau naizien sovat piäs da jälgoih sah. Tulou ehty tossu päivän, coassuu kymmenen aigu i lähtietäh ristizän kel. Mennäh sih kylyh. Ristizän uksen avuau i kyzyy:
– Ongo kedä tiä?
Vastah otvietoiccou:
– On. – Naizen iäenel i kyzyy: – Toittogo sovat?
A ristizäh sanou:
– Toimo.
– Pangua sovat lavvoin n’okale, a iče mengiä järilleh sencoih kodvazekse.
Hyö mygai ruattih. Sovat pandih lavvoille, a iče mendih sencoile. Kuultah
a ylen äijäl lommahtiheze. Kodvaine aigua proidiu, rubei kuccumah järilleh isanou:
– Suagua nygöi tuli.
Tuli ku suajah, briha kacahtiheze i ylen äijäl mieldyi, juuri on moine, miittuman häin nägi unis. A iče duumaiccou: “Olgah ken tahto, a yksikai otan mucoikse. Svoad’bo pietäh i kai hieru divuijäheze kus häi nengoman mucoin löydi laukkahan i coman. Ruvetah elämäh, nu häi midä vai käih ei ottane, joga sijan luadiu. Tulou ennevahnalline pyhälasku. Ruvettih ajamah, toizet vävyt vereksel nainnut naindu sijoih gostih, hänele pahamieles. Duumaiccou: “Olin briha taloin poigu, lizäkse aino poigu, en olluh suuh sylttävyy, nu naizih puutuin aiga kohtah. Kaco, muut pahembat minuu kaikkin kengo kunna ajetah gostih, a minä kunna ajan? Kylyh?”
Mucoi dogadi, što häi on pahas mieles i hänel kyzyy:
– Midäbo olet sinä nenga suuttunuh? Vai on miitttuine sinul pahamieli hengel?
A häi ennepäi pucciiheze: eule nimidä, eule nimidä. A sit jällicele i priznaicciheze, a vot sidä duumaicen.
– Kaco, minun dovarisat, kudamat oldih daze pahembat, ajetah kaikin gostih, a kunnabo myö sinunkel ajammo, armahazeni, vai kylyh lähtemmö?
A mucoi vastah otvietoiccou:
– On velli kunna ajua, vähästä hebo, nu tokko ohjaksii älä pane.
A hebo oli ravei heile i ribei häi duumaicemah: “Enne en varannuh nimidä, nu pidäy oppie tämä kerdu mucoin sanojen myö luadie”. Häi hevon vallästau, mucoi sil aigua menöy hevon pihale laskou dai iče selgieu sil kodvastu. Istutaheze korjah, Mucoi hebuu gu pletil näukkuau. Hebu tembuau täytty nelTuu i juuksou mene tiije mis hierus piälici. Erähäs hierus ajettih, vai hieru loppiiheze i zavodii kuuluo rövy, eigo ole zviirin, eigo ole ziivatan, eigo ole ziivatan, a on mene tiijä min. Hyö ajetah, rövy lähenöy min aigua Kacotah: rubei nägymäh hieru. Hebo juuksou ylici hierun. Kacotah: on suuri kodi kahtu jatuazua, se on opseittu da kruasittu. Sen koin pihale azetui hebo. Ylähän eletäh iče koin izändät da emändät, a alahan kuuluuu se iäni. Izändy vai dogadii: azetui pihale heboo, tulou heidy vastuamah hyväs mieles i duumaicou: jo kaheksatostu vuottu nikedä heil ei käynyh, a mit rahvahii nygöi nämä tuldih.
Hevon häi kabrasti, icciedäh heidy pertih otti i rubei gostittamah, a mucoi tämä kyzyy:
– Mibo tämä teile alahan ravizou?
A emändy sanou:
– Oi, armahazeni, oli mil lapsi-tytär, ylen oli coma i lapsi zdoroovoi, vuvven myö handy kazvatimmo, a sit en tiije mi rodih. Häi peremeniheze i rodih mene tiije mi. Sit aijassah on jo kaheksatostu vuottu, eigo kazva, eigo kuole, ainos vai iändy laskou. Ennepäi vie opimmo spruavie, nimidä ei viidinuh, a nygöi lykkäimmö handy kätkyöh I virukkah sie, ei go häi hot’ viluh kylmä da ni nälgah ei kuole. Sidä periä heitettih rahvas käyndy, kaikin varatah hänen iändy.
A tämä mucoi sanou:
– Ettogo työ handy minul ozuttas. Minä kaccozin, mi häi on.
A emändy sanou:
– Ga voit jo tuada ozuttua, onnuako ei pahene pahembakse tädä.
Sit hyö lähtiettih kaikin nelläi alahakse. Menöy tämä mucoi kätkyönluo. Zuavesin avuau, sen sie hvattiu hurual käil i lykkiäy sellän tuakse, lattiele pakkuu huabaine halgo. I ravu perttis loppih. A sit mucoi rubei pagizemah tälle emändäle:
– Vot, – sanou, – työ icces ukonkel kävyittö kylyh. I sen päivän työ olitto tuskevuksis toine tizen piäle. Teijän lapsi kätkyös kolme kerdua hirnui, a työ nikudai nimidä etto virkkanuh, Teijän lapsen otti kylyn akku, a sijäh pani huabazen hallon. Sidä työ täh aigassah liikutitto. A teijän tytär olen minä, a tämä mies on minun ukko. Häi minuu piästi kylyn akal kais.
Sit ku nostih uvvessah ylähäkse, luaittih gostbis’s’u kaikele sel’soviitale. Gostitettih ken vai piädyi siirici proidimas. Daze minä piävyin sil pruazniekal. Minule annettih doroga viihti viinua da butikku kringelii zakuskakse.
Смелый парень
Был у нас в одной деревушке парень в зажиточном доме. Он ничего не боялся. Хотя в то время люди молились Богу и верили знахарям, и люди говорили, что в лесу есть черти, в озерах водяные. А он ни во что это не верил. Однажды зимой после Рождества, во время Святок, были на беседе, и пошел у них разговор, кто чего боится и кто чего не боится. А этот парень встает и говорит всем:
– Я ничего не боюсь. Да и нечего боятся
Тогда с ним поспорили на бутылку водки. Сказали: «Если сможешь принести из бани камень на беседу, тогда бутылка твоя». А он любил выпить. Он и говорит:
– Идите, принесите вино, я полбутылки выпью перед уходом, а другую половину, когда вернусь.
Так и сделали. Принесли вино. Он налил полбутылки в мисочку, выпил, а вторая половина осталась на столе. И пошел очень храбрый. Пришел в баню. Только собрался взять с каменки камень и уйти, вдруг кто-то схватил его за руки и держит. Он дергает, дергает руку, но не может ее освободить. Тогда он заговорил, спрашивает:
– Кто ты? Отпусти руку по-хорошему
А ему в ответ отвечаю:
– Освобожу руку, если возьмешь меня в жены.
А он не знает, что сказать, думает: «Не знаю, что и делать» Наконец, говорит:
– Освободи руку, возьму, кем бы ты ни был.
А он уже испугался. Но слышит, что говорит женским голосом. И говорит парню:
– Завтра вечером приходите с крестной и принесите женскую одеж-ДУ-
А тот обещал, говорит:
– Хорошо, отпусти только руку, придем.
Приходит он на беседу, приносит камень. Кладет на стол и выпивает остатки из бутылки. Он хоть захмелел, а не развеселился, сидит расстроенный. Стали расходится после бесёды, и он пошел домой, лег спать. А во сне, ему показалась та женщина, и говорит:
– Не обмани, завтра вечером приходи с крестной забирать меня. А если не придёшь, то добра тебе не будет.
А он смотрит на эту женщину, и она так ему понравилась, такой прекрасной женщины он нигде не видел… Проснулся он и думает: «Если бы такая была, взял бы ее в жены, кем бы она ни была» Наступило утро, рассвело. Он встал, выпил чаю и никому ничего не сказал. Пошел крестную навестить. А дома смекнули: наверное, пошел свататься, будет жениться. Но только того не знают, на ком будет. Пошел он к крестной, объяснил, как все было. А крестная говорит:
– Раз такое дело, надо брать, крестник мой, кем бы она ни была.
А так как он был единственный сын, деньги у него были, купил он женскую одежду с ног до головы. Наступает вечер, часов в десять и пошли они с крестной. Пришли в эту баню. Крестная дверь открывает и спрашивает:
– Есть кто тут?
Отвечают:
– Есть. – Спрашивает женский голос: – Принесли ли одежду?
А крестная говорит:
– Принесли.
– Положите одежду на край полков, а сами уходите в сени ненадолго.
Они так и сделали. Одежду положили на полок, а сами вышли в сени.
Слышат: раздался очень громкий грохот. Прошло немного времени, она снова позвала и говорит:
– Зажгите огонь.
Огонь зажгли. Парень взглянул, и она очень ему понравилась. Точно такая же, какую он видел во сне. А сам думает: кем бы она ни была, а все равно возьму в жены. Отпраздновали свадьбу, и вся деревня удивляется, где он такую жену нашел, прекрасную и красивую. Стали жить. Что бы она в руки ни взяла, с любым делом справляется. Приходит время старого мясопуста. Стали другие только что женившееся зятья к тещам в гости разъезжаться. А он расстроился. Думает: был парень зажиточный, к тому же еще и единственный сын, не последним женихом был, а женился ишь в каком месте. Смотри-ка, другие, которые хуже меня были, по гостям разъезжают, а я куда поеду? В баню?
Жена заметила, что он расстроен, и спрашивает у него:
– Чего это ты так расстроился? Или у тебя какая плохая дума на сердце?
А он сначала отнекивался: да нет ничего, да нет ничего. А потом наконец признался. Вот что думаю:
– Посмотри-ка, мои товарищи, которые были даже хуже меня, все разъехались по гостям. А куда мы с тобой, миленькая, поедем? Или в баню пойдем?
А жена отвечает:
– Да есть куда поехать. Запряги-ка лошадь, только вожжи не бери.
А лошадь у них была быстроногая. Он и думает: «Раньше я ничего не боялся, надо и теперь попробовать сделать, как жена велит».
Запрягает он лошадь. Жена выпускает ее на улицу, и сама к этому времени уже подготовилась. Сели в сани. Жена как хлестнула лошадь, лошадь плеткой, лошадь и помчалась изо всех сил, неизвестно, через сколько деревень перескочила. Приехали в очередную деревушку, только она к концу подошла, послышался рев: не звериный, не животный, но и не человеческий, а невесть какой. Они едут, рев все приближается. Смотрят: стало виднеться деревушка. Лошадь пробегает через нее. Смотрят: стоит большой двухэтажный дом, он обшит и покрашен. У этого дома лошадь и остановилась. На верхнем этаже дома хозяин с хозяйкой живут, а внизу этот голос слышится. Хозяин только заметил, что лошадь во дворе остановилась, выходит, довольный, их встречать и думает: уже восемнадцать лет никто к ним не заходит, что за люди теперь пришли? Распряг он лошадь, привел их в дом и стал угощать. А молодая жена спрашивает:
– Кто это у вас внизу воет?
А хозяйка говорит:
– Ой, милая, была у нас дочка. Очень она была красивым и здоровым ребенком. Год мы ее растили, а потом не знаю, что случилось. Потом она изменилась и превратилась неизвестно во что. С тех пор уже восемнадцать лет и не растет, и не умирает, только голосит. Сначала еще пробовали вылечить, но ничего не получилось. А теперь, бросили ее в колыбели, пусть лежит там, может, хоть замерзнет от холода или умрет от голода. Из-за этого перестали люди к нам ходить, все боятся ее голоса.
А эта жена говорит:
– Не покажете ли вы мне ее. Я бы посмотрела, какая она.
А хозяйка говорит:
– Да можно эту показать, уже хуже этого не будет.
Тогда пошли они вчетвером вниз. Подходит молодая жена к колыбели, открывает завесу, левой рукой выхватывает ее и бросает за спину. На пол падает осиновое полено. И рев прекращается. И рассказала молодая жена хозяйке:
– Вот вы с мужем ходили в баню. А в этот день вы поссорились и были в обиде друг на друга. Ваш ребенок в колыбели трижды чихнул, но никто из вас ничего не произнес. Поэтому вашего ребенка забрала банная баба, а на место положила осиновое полено. Его вы до сих пор и качали, а ваша дочь – я. А этот мужчина – мой муж. Он освободил меня из руки банной бабы.
Тогда поднялись они снова наверх, устроили гостьбище для всего сельсовета. Угощали каждого, кто мимо проходил. Даже я угодила на этот праздник. Дали мне в дорогу связку вина да бутылку баранок на закуску.
НА 139/4(15)
Зап. Голов И. в 1940 г. в д. Мегрозеро Олонецкого р-на от Никифорова Ивана Афанасьевича.
Верования, связанные с народной медициной
Банная земляная
Kylys roih äijän kerdua. Dai kylys roihes. Kylys voi olla tulimuahine, voi olla vezimuahine, voi olla muamuahine. Tulimuahine, kaco, sie päcis on. Vezimuahine, kaco, valavut da kai ga vezine häi on. A kudai on nastojassoi muahine, kaco:
Valgeimua, kandaizeni syöttäi, Mustumua, kandaizeni syöttäi, Ruskeimua, kandaizeni syöttäi, Sininemua, kandaizeni syöttäi, Harmaimua, kandaizeni syöttäi, Kirjavumua, kandaizeni syöttäi, Eloimua, kandaizeni syöttäi, Ziiloimua, kandaizeni syöttäi, Kalmoimua, kandaizeni syöttäi, Paivukojan karvaine mua, kandaizeni syöttäi.В бане часто случается. И в бане может случиться. В бане может быть земляная от огня, может быть земляная от воды, может быть земляная от земли. Земляная от огня, смотри, там, в печке. Земляная от воды, смотри, обливаешься да все, так водное ведь. А которая настоящая земляная, смотри:
Белая земля, мать-кормилица, Черная земля, мать-кормилица, Красная земля, мать-кормилица, Синяя земля, мать-кормилица, Серая земля, мать-кормилица, Пестрая земля, мать-кормилица, Живая земля, мать-кормилица, Крапивная земля, мать кормилица, Цвета ивовой коры земля, мать-кормилица.ФА 3303/18
Зап. Иванова Л.И., 1994 г., д. Колатсельга, Пряжинский р.
От Фадеевой Марии Андреевны, 1914 г.р., д. Пульчойла
Joga sijas on izändy, ongo kylys, ongo tahnuus, ongo kois, ongo vies, ongo mecas… Kylys malitun kel ku pezettös midäbo sit, a nimidä. Jeslgu midä palloa roat libo sie matin kirgoat libo midä sit vai voi. A muite ei sinuu koske…
Kylynmoahine se on moine bolezni. Sit pidäv proskennäl kävvä kylyh. Proskennöa kyzytäh. Ei pie ni lämmiteä: “Prosti minuu i vs’o.” Izändäl da emändäl kyzytäh prosken’n’oa, nu kylynizändäl da emändäl.
– A ongo heidy nähty?
– Eule nähty. Ei hyö ozuttahes. Hyö ollah ku nevidimkat moizet. Ei ozuta. Jumaloa emmo häi näi, mugaigi sidä. Sanotah Jumal, Jumal on da angel, emmo häi nikoz näi, a molimmokseh. Mugai hänel sih.
Myöhä kylyh ei kävdy. Enne proazniekkoi vaste daaze jo enne kuuttu coassuu kävdih suovahan kylyh da kirikköh puututtih.
В каждом месте есть, в хлеву есть, в доме есть, в воде есть, в лесу есть… В бане если с молитвой моешься, то что там, ничего. А если что плохое сделаешь или выматеришься или что там… А так тебя не тронет…
“Банная земляная” – это болезнь такая. Тогда надо сходить прощения попросить в бане. Прощения просят. Не надо и топить: “Прости меня!” – и все. У хозяина и хозяйки просят прощения, ну у хозяина бани и хозяйки.
– А видели их?
– Не видели. Они не показываются. Они как невидимки такие. Не показывает. Бога ведь не видим, так и его. Говорят: Бог, Бог есть да ангел – никогда ведь не видим, а молимся. Так и у него там.
Поздно в баню не ходили. Раньше перед праздниками даже раньше шести в субботу в баню ходили, да в церковь шли.
ФА 3431/17.
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., в 1999 г. в п. Эссойла от Волковой Анны Васильевны, 1925 г. р., д. Эссойла
Moahine oli! Se loadiu ruven neccih, nenga pläkmän, da sit rubi se sangei, sangei, kibei. Kibei!.. Sit tiedoiniekku. Kylynmoahine gu on, sit kylyh menet, sanot:
Kylyn izändät, kylyn emändät, Kylyn kuldahat kuningahat, Kylyn heliet heimykunnat, Kylyn suvat susiedat Kylyn valgiet vahnimahat, Herrallistot, papillistot Kazakat, käzkyläizet, Nuorembat, vahnembat, keskikerdallizet.Sidä lugietah, sit moadu otet’ah, sit paineltah, sit päivy-toine menöy, dai jo on terveh. Vot… Moal, moal painellah, kylyn rauruu otat necie päcis, sit nenga painelet, nenga… Minul oli necis vuvven moahine. Da vie iče opin, dai ni lähtenyh ei. Sit Maurun Pasal, icelleni vie heitynyh ei.
Земляная была! Она сделает болячку сюда, такую корку. И корка эта толстая, толстая, больная. Больная!.. Тогда знахарь. Банная земляная как есть, то в баню идешь, говоришь:
Хозяева бани, хозяйки бани, Золотые короли бани, Звонкие рода бани, Соседи бани Белые старшие бани, Господа, священники, Слуги, рабы. Молодые, старые, средние.Это прочитают, потом землю возьмут и прижимают. Потом день-другой пройдет и уже поправился. Вот… Землей, землей прижимают, банную копоть возьмешь там в печке и так прижимаешь, так… У меня вот здесь год была земляная. Еще и сама попробовала, но не ушла. Потом у Мавроевой Паши, самой еще не поддалась.
ФА 2972/23.
Зап. Ремшуева Р.П., в 1986, в д. Сыссойла от Васильевой Окулины Емельяновны, 1910 г.р., д. Варлов лес
– Butto kui staaruuhat enne kuoteldii. Kylynmuahine. No. Muahine, muahizen muamo, kylynmuahine, ota muahine ristiknzasta Annista.
– Se oli kuottelus?
– Kuottelus. Muahista kuotellaa. No siidä lähetää, kylyssä muahista kuotellaa kolme kerdua niin, sidä lähetää kylystä prostitaheze sidä, siidä sanotaa:
Kylynizännät, kylynemännät, Kylyn nuorembat, kylyn vanhemmat, Kylyn keskikerdaizet. Prostikkua, rabaa boozei Annie, Ollou heän duumainun midä, Ollou heän ajatellun midä, Prostikkua kaikista pahoista. Prostikkua, spruavitakkua, Pelastakkua, hyvitäkkiä Annie.Kolme kerdua lugie pidäy, ni rovno sanuo. Kuottelus, ken kylyssä kibeytyy.
– Kylyssä kylböy da kibeydyy?
– No, no.
– Будто бы старухи раньше заговаривали. Земляная бани. Да. Земляная, мать земляной, земляная бани. Возьми земляную с крещеной Анны.
– Это заговор?
– Заговор. Земляную заговаривали. Идут, в бане заговаривают земляную три раза так. И выходя из бани, так говорят:
Хозяева бани, хозяйка бани, Младшие бани, старшие бани, Средние бани. Простите рабу божию Анну, Если она помыслила что, Простите ее за все плохое. Простите, вылечите, Очистите, оздоровите Анну.Три раза прочесть надо и ровно сказать. Заговор, кто в бане заболеет.
– Когда в бане моется и заболеет?
– Да, да.
НА 33/102; ФА 2249/17
Зап. Ремшуева РП, 1975 г., д. Мяндусельга. От Савельевой Парасковьи Степановны, 1913 г.р., д. Мяндусельга
Enne vahnas muga i… Kelle sie toici midä rodih, kibei ga on kylymoahine da on… Mugai mennäh. Enne moahizekse sanottih: kylymoahine on. A sit prosken’n’oa pyydämäh käydih häi enne da kai, kylyh prosken’n’oa. Ga sezo sit lugietah: “Kylynizändät dai moan, moaizändät, dai kivimoanizändät, dai tulimoanizändät!” Net kai sie prosken’n’oa pakitah, stobi: “Ota icces hyvyt, da anna minun pahuut”, da nenga lugietah, sanotah sie. Minä olen boabolois kuulluh. Prosken’n’oa pyvvetäh ga annetah sie palkoikse sie, enne sanottih: pikoivähäine ga viinoa andoa pidi. Hot’ sorminahkane: sorminahkazel vii-noa, segu händy: täs sinul palkakse. No… Se on bolezni.
В старину так и… У кого там порой что случалось, болезнь, дак есть “банная земляная” да есть… Так и идут. Раньше “земляной” называли: “банная земляная” есть. Тогда прощения просить ходили да все, в баню прощения. И там говорят: “Хозяева бани, и земли земляные хозяева, и каменистой земли хозяева, и огненной земли хозяева!” У всех их прощения просят, чтобы: “Возьми свое хорошее, отдай мое плохое!”, так там говорят, приговаривают. Я от бабушек слышала. Прощения просят дак дают там плату, раньше говорили: чуть-чуть, но вина надо дать. Хоть наперсток. Хоть наперсток, наперстком вина, это как бы ему: вот тебе оплата. Ну… Это болезнь.
ФА 3024/86.
Зап. Степанова А.С., в 1987 г. в д. Колатсельга от Ивановой Марии Афанасьевны, 1923 г.р., д. Сигозеро Олонецкого р-на
Yhtel naizel, jo kerran oli bol’nicas, toizeh kerrah bol’niccah viedih. Sit vraca sanoi: “Sinä ole hot’ kolme vuuttu bol’nicas, sinä et peäze, sinä eci boabuskoi.” Vot. A hänel oli kolme vuottu jalgu gu parzi, puhkoau jalgoa. Sit työttih. Sie Jovenkyläl häi, Säämärven kyläl oli neisakku, se loadi lekarstvoa. Sit hyö mendih sinne. Mendih, sanou: “Minul pidäy enzimäi kaccuu kibei, mittuine on.” Sit akkoa sinne viedih, sit jallan sen kacoi. “Enzimäi, sanou, poganoi poaru ottakkoajallas. Äski minä loain lekarstvat.” Räkki on jallas. Enne gu yksih kylylöih käydih, yksil lavdaizil sie kolmien-nellien hengiin poarittehes. A sie häi kaikkie on rahvastu, on puhtastu, oni gresnoidu. Sit hänel se räkki jalgah meni. Sit se räkki hänel pukkoau jalgoa. Sit ugodihes heijan hieruh moine boabusku, otti sen räken jallas. Sit mendih sen neistytöl-lyy, sit häi yksiyöhizeh sliefkah, illal maijot lasketetah sit sliefku kerävyy häi, sit sen sliefkan ku otti, sit loadi lekarstvat, sanat pani. Kolmen päivän peräs jalgu oli terveh.
У одной женщины, она уже раз была в больнице, второй раз в больницу увезли. Тогда врач сказал: “Ты хоть три года лежи в больнице – не поправишься. Ты ищи бабушек.” Вот. А у нее три года нога была как бревно, нарывало ногу. Отпустили. А в Улялеге, в Сямозерье, была старая дева, она делала лекарства. Они пошли туда. Пошли, говорит: “Мне надо сначала посмотреть, где болит.” Тогда женщину туда свозили, ногу эту посмотрела. “Сначала, – говорит, – поганый пар снимете из ноги. Тогда я только сделаю лекарства.” Жар в ноге. Раньше как в одну баню ходили, на одних полках втроем-вчетвером парились. А там ведь разный народ есть. Есть чистые, а есть грешные. Вот ей жар и зашел в ногу. Вот этот жар и нарывает ей ногу. И вот оказалась в их деревне такая бабушка, забрала этот жар из ноги. Потом пошли к той старой деве. Она в свежие сливки (вечером молоко процедят ведь, потом за ночь сливки соберутся), вот эти сливки взяла, сделала лекарства, слова вложила. Через три дня нога была здорова.
ФА 3362/7.
Зап. Иванова Л.И., в 1997 г. в с. Ведлозеро от Мининой Клавдии Федоровны, 1916 г. р, д. Репное
Kylyssä jesli mi tartuni semmoine. Meile voinan jalgeh Diimal bol’ackat tuldih, sit hyvä se akka tuli ta näki jotta se on kylystani… Bol’ackois hyö nähtäh, se on pohoozoi kylyhine. Martu, Man’udäädinka peästi… Ei pie duumaija mitä. Menet vierahah kylyh, älä duumaiče mitä. Icestä tulou se kaikki. Hot’ olkah kui lääsä kyly, hot’ olkan ken käynyh, älä nikonsu kylyssä duumaice. Ei nimi tartu. Ajesli vai duumainet! Soatilah ku Mari meijan meni, mändih kylyh ta hän sielä näki jotta sie on muka likani ta duumaici. Huumeneksa hänellä oldih märkäpözörössä kaikki. Siitä täti sie huumasi jotta mitani on. Sanou: “Ka mi kylyssa duumaicin”.
Если в бане что-то пристанет такое. У нас после войны у Димы болячки появились, тогда хорошо та женщина пришла и увидела, что это из бани… Из болячек они видят, она похожая, эта “банная”… Не надо думать ничего. Пойдешь в чужую баню, не думай ничего. Из-за себя все это приходит. Хоть какая пусть грязная баня, хоть кто пусть ходил, никогда в бане не думай. Ничто не пристанет. А если только подумаешь. Наша Мария как пошла к Сотеевым, пошли в баню, да она как увидела, что там так грязно, да подумала. Назавтра у нее все было в водяных пузырях. Тетя тогда догадалась: что-то случилось. Говорит: “Дак я в бане подумала”.
ФА 3353/5.
Зап. Степанова А.С., в 1996 г. в д. Вокнаволок от Хотеевой Елены Андреевны, 1921 г.р., д. Шомбозеро
Enne vahnas muga i… Kelle sie toici midä rodih, kibei ga on kylymoahine da on… Mugai mennäh. Enne moahizekse sanottih: kylymoahine on. A sit prosken’n’oa pyydämäh käydih häi enne da kai, kylyh prosken’n’oa. Ga sezo sit lugietah: “Kylynizändät dai moan, moaizändät, dai kivimoanizändät, dai tulimoanizändät!” Net kai sie prosken’n’oa pakitah, stobi: “Ota icces hyvyt, da anna minun pahuut”, da nenga lugietah, sanotah sie. Minä olen boabolois kuulluh. Prosken’n’oa pyvvetäh ga annetah sie palkoikse sie, enne sanottiin pikoi vähäine ga vienoa andoa pidi. Hot’ sorminahkane: sorminahkazel vienoa, segu händy: täs sinul palkakse. No… Se on bolezni.
В старину так и… У кого там порой что случалось, болезнь, дак есть “банная земляная” да есть… Так и идут. Раньше “земляной” называли: “банная земляная” есть. Тогда прощения просить ходили да все, в баню прощения. И там говорят: “Хозяева бани, и земли земляные хозяева, и каменистой земли хозяева, и огненной земли хозяева!” У всех их прощения просят, чтобы: “Возьми свое хорошее, отдай мое плохое!”, так там говорят, приговаривают. Я от бабушек слышала. Прощения просят дак дают там плату, раньше говорили: чуть-чуть, но вина надо дать. Хоть наперсток. Хоть наперсток, наперстком вина, это как бы ему: вот тебе оплата. Ну… Это болезнь.
ФА 3024/86.
Зап. Степанова А.С., в 1987 г. в д. Колатсельга от Ивановой Марии Афанасьевны, 1923 г.р., д. Сигозеро Олонецкого р-на
Оспа
Vietih kaikkie parempua sillä, mi oli ruvessa. Kun vietih sillä, ni sitä ru-pie kucuttih, sitä tautie, siitä vielä syömäh, jotta: “Ospicca Ivanovna, tule syömäh!” Jotta helpomalla pitäis sitä tautihista. Ensi kun tuotih sillä läsijällä ruoka, ni ensimäksi sitä jotta: “Ole hyvä, Ospicca Ivanovna, ta tule syömäh. Ta helpota ta ole, auta tätä läsijuä”. Siitä sillä läsijällä annettih syvvä.
Все самое лучшее приносили тому, кто болел оспой. Когда приносили ему, то эту Оспу приглашали, эту болезнь, кушать. «Оспичча Ивановна, приходи кушать!» Чтобы легче обходилась с этим больным. Сразу, как приносили этому больному еду, то в первую очередь: «Будь добра,
Оспичча Ивановна, да приходи кушать. Да будь добрее к этому больному, помогай». А потом давали эту еду больному.
ФА 2555/34.
Зап. Ремшуева Р. П. в п. Калевала в 1979 г. от Лесонен Анастасии Андреевны, 1910 г.р., д. Вокнаволок.
Родимчик
– A olet go kuulluh rodimcik?
– Olen kuulluh, dai minul sih poigu kuoli. Vuozi seicei kuudu. Tyttö, tyttö kuoli, tyttö kuoli.
– Mi se on?
– Rodimcikku on, kaikkis ristikanzois proiiu, joga toizes kolmeh vuodes-sah. Se on hyvä ku kolmeh vuodessa proiiu. Voibi moates proiie. A ku rah-vastu on necis, händy nähtah, min enämbi rahvastu rodiu nägemäh händy, što handy rubieu tabailemah, sit jo händy jo rubieu poftorimah poaksumbah. A se pidäy peitteä, nikel sanuu ei. Mis kohtoa häi ollou magoamas, minu-toa kaksi-kolme-viizi sie, sit kulakkaizet kienittäy nenga, silmät azettau, sinistyy – ei pie koskie, ni za što ei pie koskie. A suonpeäl pidäy kuolin suopaikkaine panna. Da ristu loadii “Ämin! Ämin! Sv’atii Boozei, sv’atii krepkii, sv’atii bessmertnii, pomilyi nas.” Nimi kuolin sanuu, mi se oli nimi kuolin – häi kuoli, i bolezni kuoli. “Sv’atii Boozei, sv’atii krepkii, sv’atii bessmertnii, pomilyi nas,” – kolme ristoa loadii lapsel. I lapsi kattoa pim-iembäh kohtah, stobi olis pimei. Pimei, eigo ken kävelis. Häi min magoas, magoas suutkat – ei trevoozii, iče kuni häi ei nouze, ei go syömäh, eigo juumah. Ei sih kuole, peäzöy. A gu kuolendakse ollou, kuolou. Ei lekahuttoa lastu. Pyhkimel, kaco, syödih häi, pyhkimel katettih. Ei pesty, ihan syödypy-hkin. Libo midätah kirikön, on häi riizu papin, midätahto kirikön. A sit gu lapsi tostah, sit alahpäi gu pokoiniekal net sovat ottoa, täh alahpäi ottoa gu pokoiniekal. I net viijä liekkumattoman kiven oal. Kus ei kivi lieku – sinne panna. Lapsen sovat, lapsi pidäy jaksattoa i sil kohtie, lapsi magoau, tostah, alasti gu pokoiniekan jaksatit, sovat otit i sen veit liekkumattoman kiven oal. Libo viijah, pohjattomat lammit ollah häi, pienet lammit, nikunne ojoa ei lähte. Silmylammit sanottih, silmylammit, ei oja kunne lähte. Sih lammih, kiven panit, upolit: “Kui tämä uppou, muga tämä bolezni upokkah, enäm-bi poftorikkah älgäh hänes.” I nikel nimidä ei sanuu, stobi ei moa tiedäs. I nimi, niken tiedäs. Tiedäs vai ken nägi i vs’o. Se vai pidäy boleznie nikel ei sanella, eigo boTniccah… Da vie moamal käskietah istuu, suunpeal istu-ukseh. PäTTähal perziel lapsen suun peal. Sit enämhi vs’o. Kaikkies paras olis se. PalTahal perziel istuukseh suun peal, kodvaine, ei häi sie. “Tämä kai vastoa, peästeä, muga sinul kai pahat vastakkah, kaikkis pahois peästäk-käh.” Moamu, kaco, sai, moamu dolzen ristie kai boleznit, niken ei muu, vaikku moamu se voibi.
– А слышали о родимчике?
– Слышали, да у меня самой от него сын умер. Год и семь месяцев. Девочка, девочка умерла, девочка умерла.
– Что это?
– Родимчик есть! Через всех людей пройдет. Через каждого до трех лет. Это хорошо, если до трех лет пройдет. Может во сне пройти, никто о нем не узнает. А если через кого днем пройдет, да если еще люди окажутся, увидят его!.. Чем больше людей увидит его, что будет схватывать ребенка, тогда у него уже чаще будет повторяться. А это надо утаить, никому не рассказывать. Прямо где спит, минуты там две-три-пять, кулачки сожмет вот так, глаза остановит, посинеет – не надо трогать, ни за что не надо трогать! А на рот надо положить платочек, который лежал на рту покойника. И перекрестить: “Аминь! Аминь! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!” Имя умершего назвать, какое там было у умершего имя: он умер, и болезнь умерла. “Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!” – трижды перекрестить ребенка. И накрыть ребенка в темном месте, чтобы было темно. Темно, и не ходил никто. Сколько он будет спать, хоть сутки – не тревожить, пока он сам не проснется, ни кормить, ни поить. От этого не умрет, поправится. А если к смерти, то умрет. Не трогать ребенка. На скатерти, смотри, ели ведь, скатертью накрыть. Нестиранной, прямо на которой ели. Или, может, что-то церковное есть: ризы священника, что-нибудь из церкви. А потом, как ребенок придет в себя, тогда книзу, как у покойника одежду снять, вот так, книзу, как у покойника снять. И отнести ее под камень, который сдвинуть нельзя.
Который камень нельзя сдвинуть, туда положить. Белье ребенка, ребенка надо раздеть и на то место. Ребенок спит, придет в себя, раздел догола ребенка, как покойника, взял одежду и отнес под камень, который нельзя сдвинуть. Или отнесут – есть же бездонные ламбушки, маленькие ламбушки, из которых реки не вытекают. Глазные озера говорили, глазные озера, речка оттуда не выходит. В ту ламбу с камнем утопишь: “Как это утонет, так и болезнь пусть утонет, не повторяется.” И никому ничего не говорить, чтобы земля не знала. Чтобы никто ничего не знал. Знал бы только тот, кто видел, и все. Это только надо: о болезни никому не говорить, и в больницу не ходить… И еще матери велят сесть, на рот присесть. Голой попой на рот ребенка. И больше – все. Это было бы самое лучшее. Голой попой присесть на рот, ненадолго ведь. “Это все заслонит, освободит, так и у тебя все плохое пусть заслонит, от всего плохого освободит.” Мать, смотри, родила, мать должна перекрестить все болезни. Никто другой, только мать это может.
ФА 3317/6
Зап. Лавонен Н.А., в 1992 г. в д. Новые пески от Потаповой Евдокии Григорьевны
Корь
Ruskiccu… sidä ei nikui. Ruskiccu se d’umalan ruskiccu. Ruskicas ei nimit-tuine buabo peästä. Ei! Ruskiccu, se pidä, uvazaitih. Hyvin händy piettih, gostitettih. I toatad, moamad puhtahilleh oldih, cotaitih. Sto on meile gosty. Ruskiccu se on moine dielo. Ruskiccoa sidä piettih gostännu. Ken ku tullou: “Meile on gosty!” Sit händy, lapsii uvazaijah, itkiekkäh, kyzykkah midä-tahto – kaikkie annetah. Ku ei suuttu. Toatto mattii kirguo libo sanoo pahoi, sid voibi daaze silmäd ottoa, nu suuttuo.
Корь – ее никак. Корь – это божья краснуха. От кори никакая знахарка не вылечит. Нет! Корь, ее надо… ее уважали. Хорошо ее встречали, угощали. И отцы, и матери чистоту блюли, считались. Что у нас гость. Корь – это такое дело. Корь эту за гостя почитали. Если кто-то приходит: “У нас гость!” И его, ребенка, уважали, пусть плачет, просит хоть чего – все дают. Лишь бы не рассердился. Отец выматерится или скажет плохо, тогда может даже ослепить, ну рассердится.
ФА 711/8.
Зап. Рягоев В.Д., в 1966 г. в д. Рубчейла от Акимовой Марии Ивановны, 1901 г.р.
Приходящее
– A sano vain mibo on tulomme?
– Mimmoine on tulomme, semmoine on mänömine.
– A sanotah, kun duumaicet vain kun sidä. Se on bolezni vai mi?
– No ka sanotaa niin, jotta on bolezni; I tulomine go tulou vai bolezni icceh tulou. Nu sanotah, ollemma myö tiällä, pahoin olin, duumaicin, što ka pahoin mie seizoin hos pokoiniekan peällä, moozet eigo miuh gor’us tule
– tulomine. No, tulou. Libo mie pahoin kun mänin, en hyvin hyvällä pai-kkoo. Libo on toine kibeissäh kylyssä. No. Vot mie kylvin hänen kerällä, duumaicin: kai e miuh tarttuis. Tulen kodih, d’oi tarttu. Se i tulomine.
– А скажи-ка, что это – приходящее?
– Какое приходящее, такое и уходящее.
– А говорят, что подумаешь или как это? Это болезнь или что?
– Ну, так говорят, что болезнь это; приходящий ли придет или бо
лезнь в тебя придет. Ну говорят, что плохо мы здесь были, думала, что-то плохое и стояла, хоть над покойником: лишь бы ко мне никакая беда не пришла – приходящая. И придет. Или я плохо пошла не на хорошее место. Или другой больной в бане. Ну. Вот я мылась с ней, думала: лишь бы ко мне не пристала. Пришла домой – и пристало. Это и есть приходящая. НА 7/56. фА j879/4
Зап. Трофимчик З.М. в 1973 г. в д. Сельга, Медвежьегорского р.
От Гурьевой Евдокии Егоровны, 1905 г.р., д. Паданы
Čikon kera kävelimä, vielä olima emmä mudroizet, haudaa karzimaa. Lähemmä haudaa karzimaa, a iellä oldie ne paccahad, niin ku jumalat. Jumala sinne pandu paccahaa. Pidäy silmät ristie matatassa. No. A mie matkazin, dai silmät rissin. A vanhembi cikko ei ristin. Mie sanon: “Kaco, matkuot, ni et rissi silmie!” “A, – sanou, – rubien kaikila jumaloila silmie ristimää! Erähät anna niin seizotaa, jumalat!”
Ku tulima kodii, ku olima kodvazen, ei ruvennun voimaa. A ei voi, ei voi, jo huroua midä peäkandau.
A siidä oli meilä rinnalla boabo, Missa-boaboksi kuccuma, ni hän tiedi. Hänellä vietää pieluksii sinne paikka, hän unen nägöy. Sanou, hänellä on mistä kai tullun. Da ni ku kuotteli, prostitti da peäzi.
Мы с сестрой ходили лапник для скота заготавливать, еще молодые были. Пошли за лапником, а впереди эти столбы были, как боги. Бог [икона? – Л. И.] поставлен на этот столб. Надо перекреститься, мимо проходя. Но. А я прошла и перекрестилась. А старшая сестра не перекрестилась. Я говорю: «Смотри! Идешь и не перекрестишься!» «А, – говорит, – буду еще перед всеми богами креститься! Некоторые боги пусть так постоят!»
Как пришли домой, побыли немножко, стало ей плохо. И не может, и не может, уже болтает, что в голову взбредет.
А рядом с нами старушка была. Мишша-бабушка ее называли, она знала. Ей относили под подушку платок, и она во сне видела. Сказала, откуда ей это пришло. И поколдовала, прощения попросила, и выздоровела.
НА 34/5.
Зап. Ремшуева R П. в д. Сяргозеро в 1976 г. от Морозовой Марии Васильевны, 1912 г. р., д. Хирвиниими.
Нос ветра
– Sit ku turmu työtäh, pahus ku loaitah, sit. Minä en nähnyh. A mami sanoi: “Ihan proiji ikkunoin kauti.” A ikkunat oldih korgiet, ei ku täs. Dvuhetaznois. En tiije, mi proiji. Pahus gu tyytäh se, turmi tyytäh. A tagan gu midä eule, sit voi tappoa kerras. Tyytäh pahus se tiedoiniekat, kudai tuskevuu ken peäl sit muga roatah… Mami nägi, kui proiji. A vie sanottih: “Hyvä vereädy etto avannuh. G’olluzitto avannuh, sit ne to što lapset, bunukat musteltas.” Jumal tiedäy, no se oli. Se oli ennen nämii voinii oli. Mami iče sit pöllastyi, häi vie toko miehel tuli täh kodih, iče pollästyi. A loaittih tatin pereä, sie toine tahtoi miehel mennä, a otti tämän, a händy ei ottanuh. Sit tyyndi turman. Sit ollus tappanuh mollembat. Sit häi sanoi toatalleh, toattu tiezi vähäizen, sit… Mamin toattu.
Вот как вихрь отправят, плохое как сделают, вот… Я не видела. А мама говорила: “Прошел прямо мимо окон”. А окна были высокие, не как здесь. Двухэтажный. Не знаю, что прошло. Плохое как отправят, вихрь отправят. А если ничего нет с собой, то может убить сразу. Плохое это отправляют знахари, когда како-нибудь рассердится на кого, то так и сделает… Мама видела, как проходил. А еще сказали: “Хорошо еще, дверь не открыли. Если бы открыли, тогда не только дети, внуки бы попомнили!” Бог знает, но это было. Это было до этих войн, было. Мама сама тогда испугалась, она еще только что замуж вышла в этот дом, сама испугалась. А сделали из-за отца, там другая хотела замуж выйти, а взял эту, а ту не взял. Вот и отправила вихрь. Тогда бы убило обоих. А тогда она сказала отцу, отец знал немножко… Мамин отец.
ФА 3431/20.
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., в 1999, г. в п. Эссойла от Волковой Анны Васильевны, 1925 г.р., д. Эссойла
Nygöi ei veeritä, a ennen parempi veerittih. Šanottih, että tuulenkera tulou semmoni että tuou bolezn’an… Ei pie yöllä ulos kävvä, ulkona yöllä vs’akoi bolezni… Toisen kacot ku tuuli hyöryttäy, nu kui ylähäksi nostau sen peskun ja siilä ku pyyriu. Semmosih häi ei pidäs popadii. Se on opas’noi. Se sanottih: tuulennenä. Siitä oli bolezni ja että nenänä tuli i sen peästajoa ei ollun. Ennen oli äiju znaajussih Tuudi, oni Tuboi bolezni peässettih. A retko löydyi jotta ken siitä nenästä celoveekan peästi.
Meile oli sluucai peret finskoi voinoi jo ammuzeh aigah, jotta moamu raatoi sie leävillä dojarkana i mi roavoin… Siitä moama rukka ennen läksi ja avaamah ku rapasi ovija, mäni turmi jo. I siitä ku lehmillä tuli antamah heinöö, siltä ku mölävyttih lehmät: myy. Duumaicimmo: mi nyt tuli? Siiltä kurkissamma. A akat sielä haraitah, sielä eistetäh – moamu piti od’d’oalala kotih viija… No se sanottih niin, jotta se oli peä pantu mänemäh, jotta ei löyty peästajoa. No löyty, lövvettih derevn’assa. Nygöja ei ole. Silloja voi löytyja vie. Vot hän on opasnoi bolezni. Tuulen nenäs. Tuulen nenä matkah ku pantih, ennen niitä kolduitih miehii gi…
Сейчас не верят, а раньше больше верили. Говорили, что с ветром приходит такое, что приносит болезнь… Не надо ночью на улицу выходить, ночью на улице всякая болезнь… Иногда смотришь: ветер крутит, вверх так поднимает песок, и он как бы кружит, в такое бы не надо попасть. Это опасно. Это, говорили, нос ветра. Были болезни, которые с носом пришли и от них никто освободить не мог. Раньше было много знающих людей, они от любой болезни освобождали. А редко находился тот, кто от носа мог человека освободить.
У нас был случай перед финской войной, уже давно. Мама работала на скотном дворе дояркой, и я работала… И вот мама пораньше пошла да как дверь стала открывать, вихрь прошел. И когда коровам пришли сено давать, как замычали коровы, мы подумали: что случилось? Присели. А женщины там двигают, – маму надо было на одеяле домой нести. Но, это так говорили, что так сделали, чтобы умерла, чтобы не нашлось того, кто освободит. Но нашелся, нашли в деревне. А сейчас нет. Тогда еще можно было найти. Вот это опасная болезнь. Нос ветра. Когда нос ветра отправляют. Могли раньше и мужчину заколдовать.
ФА 3054/10.
Зап. Конкка А.П., п. Биржа Мурманской обл. от Вдовиной Федосьи Васильевны, 1911 г.р., д. Ругозеро
Tuulen nenä on! Tartuu! Nu toze händy pidäy vastata, toze pidäy tiedeä. On tuulen nenä, on! Se pidäy tiedäjänny olla, myö-to tiije emmo. Häi vot toici buur’a moine matkoau, идет воем, крутит, надо сразу землю падать. Kerras padäy sinul moaduvaste nojavuu, nosta ei, kuni häin ei sinus ielleh proiji. Eiga voibi sinulles andoa igäizen boleznin, libo kunnatahto sinuu rieftata, ottoa. Libo kaiken ijän rubiet boleimah. Vot miittuine on! Se on, on! Poaksuh on, moine matkoau, tuulis pyyroi tulou moine… Voibi gi tiedoiniekku tyyndeä.
Нос ветра есть! Пристает! Ну тоже его надо уметь встретить, тоже надо знать. Есть нос ветра, есть! Это надо знахарем быть, а мы-то не знаем. Он – вот иногда буря такая движется, идет с воем, крутит, надо сразу на землю падать. Сразу тебе надо на землю лечь, не подниматься, пока она мимо тебя не пройдет. Иначе может тебе болезнь на всю жизнь дать или тебя куда-нибудь схватить, забрать. Или всю жизнь будет болеть. Вот какой! Это есть, есть! Часто бывает, двигается такой, вихрь такой идет… Может и знахарь отправить.
ФА 3461/2.
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., 2000, д. Лахта Максимов Павел Дмитриевич, 1936, д. Корбиниими
A vot tuuli konzu matkoau senmoine, näi kruttiu peskuu – sih ei pie puuttuu, sit voi kaikkie pahoa sluccivuu. Kaikenmostu boleznie tulou, niestä pidäy osteregatsa. Kacot ku matkoau, jo kunnatahto pagene. Se tuou kaikenmostu bolezniloi… Se häi on tuulennenä, nastojasoi tuulennenä, se kruttiu, tuulen nenä tulou. Hot vejellä, hot’ missä… Babkat muinen peästettih tuulennenästä.
А вот ветер когда движется такой, он крутит песок – в него не надо попасть, тогда может всякое плохое случится. Всякая болезнь приходит, от этого надо остерегаться. Видишь, что идет, уже куда-нибудь убеги. Он приносит всякие болезни… Это ведь и есть нос ветра, настоящий нос ветра, он крутит, нос ветра идет. Хоть на воде, хоть где. Бабки раньше освобождали от носа ветра.
ФА 3383/15.
Зап. Степанова А.С., в 1998 г. в д. Новое Машезеро от Лазаренко Любовь Даниловны, 1931 г.р., д. Ушково
Suuren tuulen aikana sanotah: Tuulen ukko, tuulen akka, Tuulen entini emändä, Kauhotu mavostas, Azetu ajatuksistas. Во время сильного ветра говорят: Дед ветра, баба ветра, Древняя хозяйка ветра, Успокойся от работы, Остановись от дел.НА 118/120.
Зап. Л. Люютинен в1987 г. в Калевальском районе
от Катри Люютинен.
Tuulennenä se mecannenä. Se pidäs jo tiedäjäl, se peästetäh ken tiedäy. Tuu-lennenä toici tartuu pieneh lapseh. A tiedäjät opitah, dai proijiu.
Libo lapsi pahenou, yölöil ei magoo, sit toze pidäy lapsi illal pestä da malitunkel moata panna.
Silloi meile oli brihaccuine, kolme vuottu, Kuudamah jallai astui. Minä sanoin: “Vot cuudo on! Nengoman dorogan gu piini brihaccu jallai käveli!” Sit gu rubei itkemäh ga yön itki! Minä sanoin: “Anna vai minä brihacul silmätpezeldän!” Silmätpezin, dai uinoi!.. Vähäizen sie pidäy sanuu! Sanata juuri ei! Sanot sie vähäizen sanomistu, malitunkel moata panet, dai uinuu, dai magoau.
Нос ветра – это нос леса. Это уже надо бы к знахарю, от этого вылечивают те, кто знает. Нос ветра иногда пристанет к маленькому ребенку. А знахари попробуют, и пройдет.
Или ребенок заболевает, по ночам не спит, это тоже надо ребенка вечером вымыть и с молитвой спать уложить.
Тогда у нас было: мальчик трехлетний в Кудаму пешком дошел. Я сказала: “Вот чудо! Такую дорогу маленький ребенок сам прошел!” После этого как заплакал, всю ночь проплакал! Я сказала: “Дай-ка я ребенку лицо умою!” Умыла, и уснул! Немножко там надо сказать! Не без слов! Скажешь там немного, что надо, с молитвой спать уложишь, и уснет.
ФА 3463/16-17
Зап. Иванова Л.И., Миронова В.П., в 2000 г. в д. Лахта от Артамоновой Марии Николаевны, 1914 г.р., д. Меччелица
Tuulen nenä tulou, sit lapsel oksenduttamah rubieu, syöy – oksendau, syöy – oksendau, syöy – paskandau, tuuli gu tulou. Ei ni tiedoiniekkoa äijee pie. Silloi meijan Misanakku, t’outa, oi min keras lastu peästi! Sit menöy, pedäi ladvaizii välläl moal necie pedäi ladvaizii leikkou, katkou, kaco, nenii näpukkaizii, on häi tämän kezällizet. Niidy sieglah panou da yhekseä loaduu zirkaluu da kedä-midä harjea da kai (puhutut harjat, kaco, oldih ciganakoil). Panou, lapsen valattau, stola otetah, stolan kohtal valattau lapsen – lapsi jo on huumei endizelleh. Truvan kohtas toze, ken kui, ken kui. Sit jo lapsi endi-zelleh, a lapsi oksendau, iče vai hoikenou-hoikenou, jo on tämän sangevus. Ice vai oksendustu, syöy vai midä – dai oksendau, syöy vai midä – dai paskandau, ihan valgiedu. Maiduu syöy – maiduu i paskandau. Sit händy vala-tetah, jongoi lapsi peäzöy.
“Нос ветра” придет, тогда ребенка будет тошнить, поест – вырвет, поест – вырвет, поест – понос будет, это когда ветер пристанет. Знахарь и не нужен. Тогда наша тетя, жена Михаила, ой, сколько детей за лето спасла! Пойдет, верхушки сосен там, на свободной земле верхушки сосен отрезает, отламывает, кончики есть же, этого лета. Их в сито положит и девять видов – зеркало да кое-чего, щетина да все (заговоренная щетина была у цыганок). Положит, ребенка польет, стол возьмут, на месте стола польют ребенка – назавтра ребенок уже какой и раньше был. На месте трубы тоже, кто как, кто как. Тогда ребенок уже обычный, а то ребенка рвет, сам худеет-худеет, уже такой толщины. Самого только тошнит, поест только чего-нибудь – и вырвет, поест только чего-нибудь – понос, совсем белый. Молоко ест – молоком и покакает. Его обольют – ребенок и поправится.
ФА 2972/22
Зап. Ремшуева Р.П., в 1986 г. в д. Сыссойла от Васильевой Окулины Емельяновны, 1910 г.р., д. Варлов лес
Нос могилы
Kalmismoasta heitäytyy, heitaytyy! Monel on heitäytyn. Helmillä häi heitäy-tyi vaste, onko vai vie kolme vuottu aikoa. Hyö mäntih sinne, ku Leena tuli Luusalmesta, ta mäntih Leenaa käytämäh kalmismoalla, toatan havvalla. Ta sinne istuvuttih peällä, havvan peällä. Ta hän tuumaici, Helmi tuumaici, ei hän toizih tartun. Ku otti hänen jalan ka!.. Siitä piti kävvä kalmismoal pros-tiutuma…
Kalmismoalla ei pie nimitä ottoa, liekuttoa, ei marjoa, ei nimitä.
– A ku koavutah rissit?
– Ka niitä voit vaj ehtoa. Nyt vajehetah, a enne ei vajehettu. Kačo ku sattuu ka… Vot Juskjarvessä oli. Toarii meijan tuota, Toarien ukko Juskjarvessä. Heän tuota pyritettih susidalla havdoa kaivamah. A hän oli semmoine liijan bojevoi, buohakka semmoini. Ta hauta kaivettih, ta zadeenittih tosta havtoa, toizeh grobuh zadeenittih. No mitä hän siela sano, mitä hyö sielä roattih. Toizet kai vajat tuldih, hän ku tuli kodih i heitäy, muutau kengät jotta lähtöy sih taloh kunne havvattih – hän ei peässyh… Mitä hän sielä sanoi, mitä hän bouhelistu. No ja nien hänellä ku tuli, niin piti viruvtuu boTniccah… Ei nimitä. No hyö oli sanottu, jotta Petroskoih pitäy käyteä, no ei tämä parene Petroskoila. Käytettih Petroskoila i tuutih, od’d’oalalle kotih nossettih ta sanottih: “Myö tällä emmo voi nimitä roatoa.”… I paissun ei muuta kun sa-nou: “Tarja!” ta emäskoini, muutu nimitä: “Tarja!” ta emäskoini. Siitä hän on nellätoista vuutta sijalla… Nyt jo kuoli. En tiije mitä hän, hän naverno mitä lienne sie sano ta mitä sattui…
На кладбище пристает, пристает! У многих приставало. У Хельми ведь недавно случилось, прошло ли уже три года. Они пошли туда, когда Лена приехала из Луусалми, и пошли Лену отвести на кладбище, на могилу отца. И сели там, на могилу. И она подумала, Хельми, подумала, не по-другому ведь пристало! Как схватило ее ногу!.. Тогда надо было на кладбище сходить прощения попросить.
На кладбище не надо ничего брать, трогать, ни ягоды, ничего.
– А если кресты упадут?
– Ну их можешь поменять. Теперь меняют, а раньше не меняли. Смотри, как случится дак… Вот в Юшкозере было. Дарья, наша тетя, муж Дарьи в Юшкозере. Его позвали соседу могилу копать. А он был такой боевой, разухабистый. Ну могилу выкопали, да задели другую, другой гроб задели. Ну что он там сказал, что они там делали. Другие копальщики пришли, а он как домой пришел и снимает, меняет сапоги, чтобы пойти в тот дом, где поминки – не смог пойти… Что он там сказал, что ляпнул. И вот так к нему как пристало, что пришлось в больницу лечь… Ничего. Ну они сказали, что надо отвезти в Петрозаводск, но и в Петрозаводске это не поправится. Свозили в Петрозаводск и привезли, на одеяле домой подняли и сказали: “Мы здесь ничего сделать не можем!” И не говорил ничего, кроме: “Дарья!” и матом ругался. Больше ничего, “Дарья!” да мат. Четырнадцать лет лежал… Сейчас уже умер.
Не знаю, что он, он, наверное, что-то там сказал и вот случилось…
ФА 3353/10
Зап. Степанова А.С., 1996, д. Вокнаволок Степанова Евгения Герасимовна, 1922, д. Шомбозеро
Kalmannenä toze on. Hänes, – sanotah, – on kalman nenä. A mis se roiteh, kui roiteh, kui se parendetah, kui liecitäh. Kel sanotah kalman nenä tartuu – sei sanotah nu nygöi: rak, nu ihmine kuivoau. Nu kalmannenäs, sanottih, toze kuivoau häi.
A mil händy parendetah, mil kohendetah – sidä en tiije. A kuulluh olen, sanotah: hänes on kalmannenä, häi nygoi muul ei peäze, hänes on kalmannenä..
Kirguu da eändeä da kirota kalmal ei pie konesno. Sil pidäy hilläh olla.
Нос могилы тоже есть. “В нем, – говорят, – нос могилы”. А от чего он случается, как случается, как исцеляют, как лечить… К кому, говорят, нос могилы пристанет, у того, сейчас говорят, рак, ну сохнет человек. Ну от носа могилы тоже сохнет человек.
А как его исцеляют, как поправляют – этого не знаю. А слышала, говорят: в нем нос могилы, он уже другим не спасется, у него нос могилы.
Шуметь, да кричать, да ругаться на могиле не надо, конечно. Там надо тихо быть.
ФА 3368/25
Зап. Степанова А.С., в 1997 г. в д. Колатсельга от Григорьевой Клавдии Михайловны, 1923 г.р., д. Робогойла
Kalmal ei pidäs nimidä pahoa duumaija. Kun duumainet midä pahoa, sylge kolme kerdoa olgupeas: “Midä ollen duumainuh, midä ollen smietinnyh, kai täh jeägäh.” A to voi ylen heitaydyy. Kolme kerdoa sanuu da sylgie… Stobi ei lähtietäs mugah. Muinien äijy sanottih, on se, on.
Kalmizmoal ei nimidä koskieta: ni marjoa, ni griboa, ni siendy.
На могиле не надо бы ничего плохого думать. Как подумаешь о чем плохом, плюнь три раза через плечо: «О чем подумала, о чем помыслила, все пусть здесь останется». А то можно сильно заболеть. Три раза сказать и плюнуть. Чтобы следом не пошли. Раньше много говорили, есть это, есть.
На кладбище ничего не трогают: ни ягоды, ни грибы.
ФА 3383/16
Зап. Степанова А.С., 1998, д. Новое Машезеро Лазаренко Любовь Даниловна, 1931, д. Ушково
Hyö sanottih jotta kalmasta voipi heitäytyy vai kalmismaalla pitäy olla oiken ostorozno. Ei pie mennä mitä pahoa pakajamah kalmismoalla. Eikä pie ylös kävvä kalmismaalla. Ei pie prosto pahazesti paista, ei pie sielä. Jos menet kalmismaalla voit häi si silitellä nietä pylvehie tai ristiä tai mitä. Ei mitänä pie pahoi paista… Prostiuttuu oiken pitäy. Ei pie mitä ottoa kalmismaalla.
Muut vie kaikki voipi nien ka laittoa jotta se, a kalma on oiken vaikei se soaha, parentoa. Jotta se ku sverlalle vaikuttoa ihmeseh.
Они говорили, что от могилы может пристать. На кладбище надо быть очень осторожно. На кладбище не надо ничего плохого говорить. И в туалет не надо на кладбище ходить. Просто плохо разговаривать не надо там. Если идешь на кладбище, можешь ведь ты там погладить крест, да что там еще сделано. Ничего не надо плохо говорить… Надо очень сильно прощения просить. Не надо ничего брать с кладбища.
Остальное все еще можно, если что, а от калмы очень трудно избавиться, вылечить. Потому что это как сверлом протыкает человека.
ФА 3350/10
Зап. Степанова А.С., в 1996 г. в д. Вокнаволок от Федоровой Марии Артемовны, 1909 г.р., д. Лютгя
A midäbo pidäy ottoa, stoby kalma ei tarttus, paha ei tarttus?
– Erähät otetah leibeä kan’n’oine, ruskei lentu pannah, ken mi. Erähät kai kivysty pannah kormanih. A kivyt toze pannah kormanih sidä pereä: “Min kovus on kivyt, sen kovus olis se, ken tahtou minul pahuttu… Mittuine kivi on kova, sen kovus oldas sanat. Täh kivyyh ni mi ei tarttu, i heijan sanat stobj meih ei tartuttas…” A sit lykätäh se eäre… Minä, naprimer, kunna mennen, minul kroome malittuu nimidä ei ole. Kormanih minä nimidä en ota, nikos: “Hospodi, pomilui, spasi i sohrani. Господи, огради меня животворящим крестом.” Hot’ yödy lähtenen istumah.
– А что надо взять, чтобы калма не пристала, плохое не пристало?
– Некоторые берут хлеба горбушку, красную ленту кладут, кто что. Некоторые даже камушки кладут в карман. А камушек так же кладут для того, что: «Как тверд камешек, так тверд пусть будет тот, кто желает мне плохого… Насколько крепок камешек, настолько пусть крепки будут слова. К этому камешку ничто не пристанет, и их слова чтобы к нам не пристали». А потом выбрасывают его вон… Я, например, куда бы ни пошла, у меня кроме молитвы ничего нет. В карман я ничего не беру, никогда: “Господи, помилуй, спаси и сохрани. Господи, огради меня животворящим твоим крестом.” Хоть на ночь пойду сидеть.
ФА 3327/3
Зап. Лавонен Н.А., Ярвинен И.Р., в 1996 г. в д. Соддер
от Шомбиной Евдокии
Meijän ei panna moadu kalmah käil, ato kalmu tarttuu. Meijän ei panna palTahal käil vovse. Hot’ ei ole labjoa, sit otetah hot’ puikkoine, sit puik-koizel sieretäh. PalTahal käil ei panna. Venälazet pannah, a meijän ei panna palTahal käil. Ni yksi karjalaine ei pane palTahal käil. Ei labjoa, sit ottau hot’ puikkoizen…
I omat ei panna kuni ruuhi ei kattavu, vierahat pannah. A sit gu ruuhi jo ei nävy, sit voijah… Ezmäizekse katetah vierahat ruuhi, a sit vai omat.
Наши не бросают в могилу землю рукой, а то калма пристанет. Наши не бросают голой рукой вовсе. Если нет лопаты, тогда хоть щепочку берут, и щепочкой сбрасывают. Голой рукой не бросают. Русские бросают, а наши голой рукой не бросают. Ни один карел не бросит голой рукой. Нет лопаты, тогда хоть щепочку возьмет…
И свои не бросают, пока гроб не покроется, чужие бросают. А потом, когда гроб уже не виден, тогда могут… Сначала чужие покрывают гроб, а потом свои.
ФА 3324/3
Зап. Лавонен Н.А., Ярвинен И.Р., Утриайнен Г.И., 1996, д. Соддер
от Сотиковой Марии Яковлевны
– A kui kalma tartuu?
– Konzu se ristikanzu kalmah pannah häi, sit kaikin rahvas starajutsa moadu lykätä. I pritom ei palTahal käil, a pidäi… Kačo eräs otetah labju, a rahvas, kaco, eräs ottau keppizen liho mintahto. Keppizel kolme kerdoa lykkeäu. Rounehäi gu: “Пусть земля будет пухом”. Se enne vahnoa lykät-tih, dai nygöi lykätäh. A palTahal käil ei lykitä.
– Amindäh bo ei voi palTahal käil? Goorodas kai palTahal lykätäh.
– Meile ei palTahal käil kaskietä, palTas käzi on palTas kzi. PalTahal käil voibi ottoa dai panna. Kaco, hot’ ziivattoa necis ostetah ga palTahal käil ei anneta ziivattoa. Annetah villaizel käil. Dai otetah villaizel käil. A palTahal käil annat, voibi tukul palTahane lähtie. Vot i palTahal käi ei lykätä sendäh, pidäy keppine libo…
– A kunna keppine pannah?
– Keppine lykätäh sinne muvan kel, kolmandel kerral dai keppine lykätäh sinne.
– А как калма пристает?
– Когда человека в могилу опускают, все люди стараются землю бросить. И притом не голой рукой, а надо… Смотри, некоторые берут лопату, а люди, смотри кто-то возьмет палочку или что-нибудь. Палочкой три раза бросит. Ну будто бы: “Пусть земля будет пухом!” Это в старину бросали, и теперь бросают. А голой рукой не бросают.
– А почему нельзя голой рукой? В городе все голой рукой бросают.
– Нам голой рукой не велят. Голая рука есть голая рука. Голой рукой можно взять и положить. Смотри, хоть животных покупают, дак голой рукой не отдают животного. Отдают шерстяной рукой. И берут шерстяной рукой. А голой рукой дашь, может полностью догола уйти. Вот и голой рукой не бросают поэтому, нужна палочка или…
– А куда палочку девают?
– Палочку бросают туда с землей, в третий раз и палочку туда бросают/
ФА 3325/10
Зап. Лавонен Н.А., в 1996 г. в д. Соддер от Ругачевой Матрены Федоровны, 1921 г.р., д. Кивиниеми
Oi kalmasta voipi kalma tartuu… Prostivu jotta: “Kolmesta polvikundas-ta yheksah polvikundah prostikkoa!” Ku lähet kalmismoalla, hos käynet haudoa vaste, prostiu. Silmäset risti ta: “Prostikkoa!”
Ой, от могилы калма может пристать… Простит, если: “От третьего поколения до девятого, простите!”” Когда сходишь на кладбище, к могиле, простит. Перекрестись да: “Простите!”
ФА 1594/29а
Зап. Степанова А.С., в 1971 г. в п. Кепа от Люммюс Анны Григорьевны, 1900 г.р., д. Пирттигуба
Калевальского р-на
Любовная магия
Как в бане лечили мужика, околдованного во время свадьбы
– A sanottihgo ennen, što voidih brihoa pinoh panna?
– Oi, heitä sinä! Minul oli omis käzis. Minul oli kai normal’no, minul ei olluh nielöi reähkii. Minul suurin naitti. Nu, tarateltih gu sie pinoh panendoa da kaimandoa da kai. “Vuota sinä, – minä sanon – Nikolai!” Kucutah händy Kol’akse. “Mi roinnou, ga sinä viritä sviittu perttih.” Häi jo on olluh naizis, mucoi kuoli ezmäine. Häi jo toimitti mi sie roadoa da kai, da midä pidäy. Dai lapsi oli hänel ezmäizen kel mucoin kel. Häi sanou: “Heitä jo kummitandu! Mene jo kodih Jumalankel”
Minä tulin kodih da humalaizes uinoildin. Nenga ikkunah peän keänän, minä sanon: “Nasfoi, kaco-vai, Kol’al sviittu palau!” Sanou: “Ga ylen ammui palau!” Minä en hänel sannuh, što sanoin Kol’al: viritä tuli. Voinuzin häi sanuu. Minä stanat jalgah vieldän da sit poikki joves! Poikki joves oli. Da sit: “ Miz bo on dielo?” Moatuska sanou ga nenga da nenga, КоГа käski: “Älä sammuta sviittoa!” Minä plokutan da menen sinne: “Nikolai, v corn diilo?” “Heitä, – sanou, – sinä, en voi nimidä! Rinnal olen muzikku? a katettu zavodi vai välteä dai jo olen nimidä tolkkuu.” A ei hänel kivistä dai nimidä. A sie on Fed’a Kirjanan. Häi nielöi dieloi zanimaicihes, kaimai da kai. Minä deädy myö begom! Sinne pocti puoli kilometrie rodiu, hieru pitky ga. Menen, avaitan. An’n’oi sanou: “Oi, Fed’a on humalas, ei voi nimidä!” Mas sanon: “An’noi, minä teile kahtet suutkat vein mecceä kodih, kahtet suutkat ni trak-toroa en sammutannuh, ni undu silmäl en pannuh. Häi täi minuutal minul dolzen avata vereän!” Menöy da sanou: “Kol’a avaittau.” No, se tiezi jo, midä tulou! No, häi sijal viruu, minä menen. Konesno, et peitä, tabavunnuh olin. Kyzyn ezmäi hyväzelleh: “Fed’a, mimbo voit? Midä roadoa?” Nengai nenga suurinal. Häi se zavodiu neäkikseä, da ei vuidi. Minä händy sijälpäi kobristin nenga, käzi vie oli kudakui, tabain, lattiel vieldin od’d’oalankel. Mas sanon: “Fed’a, ei häi roine nimidä, täh kulkule pollen sinule!” Häi sanou: “Na, minä annan veicen! Minä en voi lähtie.” Iminkummaizen veicyön andau, se terävy on veicyt dai rucku. Sto hänel se aiven peitos on mentiije kus por’atkas – tiijot ollah! “Menet da kolme ristastu azu kamajah kudoas moatah perttis. Da nengomat sanat sano sie!” Mas sanon: “Fed’a, gei roine nimidä, täi veicyöl minä sinul kai kiskat vacas kaivan, et häi iče lähtene!” Häi sanou: “Mene, rodiu!”
Minä tulen tänne Kol’alluu järilleh kierehes. Tämäs dielos kuni on pimei da kai, jo huondes cura on ga. Sen dielon azun da iče toizeh perttih stolan toakse: pidäy nygöi uspokoikseh. Moatusku viinu butilkan andau minule sit. Vähäzen valoa minule buitegu peä kohendoa da icel bodrostie ottoa. Proidiu sie oma aigu. Minä sanoin Kol’al: “Midä roinnou, gu viidinou ga kolahuta!” Kodvaine aigoa proidiu, sih dieloh, kui sanotah, ei häi pie zuuharie kuivata. Vereäh kolahuttau. Minä menen sinne ukselluu, nu mas sanon: “Kui dielot?” Sanou: “Dielot oli, ga minul rubei vacan kivistämäh.” Jo posle vsevo dobro-vo. Sil kodvastu kuni minä yksinäh sit prähkimoicimmos stopkankel da kuni Kol’a kravatis oli, tulou jo Fed’a minulluu sit. Duumaicou: kaco, hä minul hyvytty loadi, a minä hänelle pahuttu. Minä kahet suutkat hänel meccee ko-dih toin da trelyicin. Nelli cekkistu viinoa minä otin kaikis kahtes suutkas ro-adolois. Otin sendäh, što minä traktoroa vtdämäh, ga mehaanikankel juvva. “Sinä, – sanon, – prohvostu, tämän dielon azuit juuksendelemah minuu!” A häi oli fiziceski slaaboimbani minuu da muga hä pöllästyi, duumaicou: ga kehno tiedäy, kerran sanoi ga voibi azuu toven. Nu, Fed’a tulou tiijustamah minul. No “Vala viinoa!” “Nimittumoa vinoa, mene istui skamn’ale, stobi et ni rinnal olis, kuni ei КоГа viistii tuonne,” – minä hänele sanon. Nu, КоГа gu kolaitti, što kai on dielo, što vacan kivistämäh rubei.
Mas sanon: “Midä nygöi roammo, Fed’a?” Fed’a sanou: “Nikolai, nygöi emmo roa nimidä, kuni emmo kylyy lämmitänne! Kylyn lämmitän sit äskin häi parenou, vaste heittäy vacan kiviständän.” Minä kylyh. Fed’a vinoa pakiccou. “Minä in anna viinoa, kuni ei Kol’a sanone: dobro, kuni ei Kol’an käzi valane. Minuspäi sinä et soa viinoa!” Häi veiccie järilleh pakiccou. “Nygöi on minun kormanis, sinul ei buudi, kuni vai Kol’a ei parene!” Nu vot, kylyn minä lämmitän na skoruju ruku, hienondan halguu da stobi teräm-bäh lämbies hot’ vezi. Jo on pimei dai kai. Fed’a ottau, sanou: “Vai viritys puikot anna minule!” Häi midä supetti, minul ei sanonuh dai minä kuulluh en. Minä menen nielöil puikoloil viritän sen kylyn päcin. Da lämbiu kyly sie coasun verran. Vie on hämäri, polnoi hämäri on. Kylyh uuzii molodoloi viimmö. Kylyh Kol’a menöy, vai käit kastau ei ehti vie ni jaksoakseh, Käi kastoi vai vedeh kylys, heiti vacan sraazu kiviständän. Se jallespäi häi taratti. Kylyspäi tullah. Ma sanon: “Nygöi, Kol’a, sano, voibgo Fed’al valoa vai ei?” Kol’a sanou: “Vala. Kai on normal’no.” Pestihes da kai jalles käzien kastandoa. Tiedoiniekku oli!
Vot lähti sih kaimoandah da kai sana… Minul susiedu n’a näit, Mosin n’a. Ton’a oli mucoikse otettu. Kuuzi kuudu neidizennu virui muzikan rinnal! Miettumoa goröa nähtih, da miettumoa ecindeä nähtih! Kai proijittih, kedä vai ken tiedäy, tiedoiniekkoa!
Älä virkka muudu, minule jo Fed’a priznaicih jällespäi, jo kai oli por’atkas, jo mirimmökseh myö. Veiccie pakiccou, ma sanon: “Vuota, jällespäi!” Kolmat suutkat minä vuutatin handy, veiccie en andanuh. Konzu veiccie andamah rubein hänele, sanou “Nikolai, pidäy go minä sinul annan tiedovot, što hot’ kaksikymmen vuotta ollou eletty, a voit hot’ butilkah sporii hot’joassikkah, sinä yön ei koske muzikku akkoa!” Ma sanon: “Fed’a, sidä vinoa, kaco, minul ei pie!” Hot’ olen, suvaicen viinoa da kai, a tädä viinoa minä, kaco, en rubie juomah! Minä otkazals’a. Tämä jo on издевательство над другим человеком. Ei ole dobro!
– Amiettuine se veicci oli?
– Veicci oli, pikkaraine veicyt oli. Jesli ken nähnys veicen, häi potkannus, eäre lekännys. A tiedovot oldih veices! Sit häi jällespäi jo taratteli, как он получил это колдовство. Armies olles. Starikku sanou: “Minä en voi kuol-ta, ota velli minul nämä tiedovot. Starikku мучался перед смертью, что Бог не мог допустить händy, пока не откается. Se oli livgiläine starikku, kus-tahto tagamoas sie, en tiije kus oldih… En minä voi teile sanuu nielöi sanoi, en voi sanuu. A ei ni hädöö ole, anna menöy häi…
– A midä pidi roadoa?
– Minä kolmeh kerdah sen veicen nökkazel piiräldin kamajah, kudoas perttis, jälgimäine kynnys. Da dälgoa ei pie kynnyksele panna da kamajah pieräldeä. Sanat oldih, prostoit sanat. A minul andajes veicen, häi vai iče uutiaici sidä veicie, nenga huulil talui. A minul ei pidänyh nimidä roadoa, krome kak pieräldeä da sie puolikymmen sanoa sanuu… Prosto huulil gu mockata nenga – se Fed’a… Häi ei olluh vanhu, 25–24 vuottu… Häi painittu maloti, hyvtty ylen vähän. A enne kuulehdoa häi puutui astavan alle, sit astavu trepaicci ylen äijäl, hebo oli, vedi. Reähkis nenga, kai rahvahal nenga loadiu pahuttu… Koldovsiikakse sanottih.
– А говорили раньше, что парня можно «положить в поленницу»?
– Ой, перестань! У меня в руках это было! У меня-то все было хорошо, со мной не случалось этих грехов. У меня шурин женился. Ну болтали там о том, что могут в поленницу положить, да что околдовывают да разное. «Подожди-ка, – говорю я Николаю (зовут его Колей). – Если что случится, ты свет зажги в избе». А он уже был женат, жена первая умерла. Он уже понимал, что там надо делать да все, что надо. И ребенок у него был с первой женой. Он говорит: «Перестань, не смеши! Иди с Богом домой!»
Я пришел домой и спьяну уснул… И так голову к окну повернул и говорю: «Настена, смотри-ка, у Коли свет горит!» Она отвечает: «Да очень давно горит». Я ей не сказал, о чем говорил с Колей: зажги свет – мог бы ведь ей рассказать! Я штаны натянул и через реку! На другом берегу было. Я: «В чем дело?» Свекровь говорит: так и так, Коля велел не гасить свет. Я постучал и захожу туда: «Николай, в чем дело?» «И не говори, – отвечает. – Не могу ничего. Пока рядом – мужик, а как только одеяло начну отодвигать – никакого толку!» А у него не болит и ничего. А там есть Федя Кирьянов. Он этими делами занимается, колдует да разное. Я по льду бегом! Туда почти полкилометра будет, деревня длинная. Прибегаю, стучусь. Аннушка говорит: «Ой, Федя пьяный, ничего не может!» Я говорю: «Аннушка, я вам двое суток бревна возил для дома, двое суток даже трактор не глушил. Глаз не сомкнул. Он в эту же минуту должен дверь открыть!» Уходит, говорит: «Коля стучится!» Ну тот уже понял, зачем я пришел. Ну он на постели лежит, я захожу. Конечно, не скроешь, я очень зол был. Сначала по-хорошему спросил: «Федя, что можешь? Что делать?» Так и так дела у шурина. Он начал отнекиваться, да что ничего не выйдет. Я его схватил на постели (рука еще ничего была!), на пол стащил вместе с одеялом! Я говорю: «Федя, если ничего не выйдет, на горло сейчас тебе наступлю!» Он говорит: «На, я дам тебе нож. Я не могу пойти». Какой-то плохонький ножичек дает, но ножичек острый и с ручкой. Он у него всегда спрятан был, в порядке, в нем все колдовство было. «Пойдешь и три креста сделай на дверной притолоке в той комнате, где они спят. И такие слова скажи!» Я говорю: «Федя, если ничего не получится, этим ножичком я тебе все кишки выпущу! Раз сам не пойдешь». Он говорит: «Иди, получится!»
Я прибегаю снова к Коле. В этом деле надо, пока темно, уже ближе к утру. Все это делаю, а потом сам на кухне сажусь за стол: надо теперь успокоиться. Свекровь дает мне бутылку водки. Немного наливает мне, чтобы голову поправить и взбодриться. Проходит свое время. А я сказал Коле: «Если все выйдет, постучи». Немного времени проходит, для этого дела, как говорят, не сухари сушить. Раздается стук в дверь. Я подхожу к двери, говорю: «Как дела?» Отвечает: «Дела были, но у меня сильно живот заболел». Уже после всего доброго.
А в это время, пока я один сидел со стопкой, а Коля был в кровати, приходит Федя ко мне. Думает: он мне добро сделал, а я ему – зло. Я ему двое суток лес для дома трелевал. За все только четыре чекушки взял, за двое суток работы. Взял для того, чтобы выпить с механиком, когда поеду трактор отвозить. «Ты мне, – говорю, – прохвост, такое сделал, бегать заставил». А он был физически слабее меня, и так он испугался, думает: черт его знает, раз говорит, то может и убить. Ну Федя приходит разузнать, как дела: «Налей водки!» «Никакой водки тебе, иди сядь на скамейку, чтобы и рядом тебя не было, пока Коля весть не подаст», – я ему говорю. Коля как постучал, что дело было, но живот заболел, я говорю: «Что теперь, Федя, делать будем?» Федя говорит: «Николай, теперь ничего делать не будем, пока баню не натопим. Баню натоплю, только тогда он поправиться, только тогда живот перестанет болеть».
Я в баню! Федя водки просит, я не даю. «Пока Коля не скажет: добро. Пока Колина рука не нальет, от меня ты водки не получишь!» Он ножичек обратно просит. «Теперь он в моем кармане, и в твоем не будет, пока Коля не поправится». Ну вот, баню я натопил на скорую руку, наколол мелко дрова да чтобы хоть вода побыстрее согрелась. Еще темно. Федя говорит: «Только лучины для розжига дай мне!» Он взял, что-то пошептал, мне ничего не сказал, а я и не слышал. Я пошел, этими лучинами разжег каменку в бане. И протопил баню около часа. Еще темновато, полные сумерки. В баню новых молодых отвели. Коля в баню зашел, как только в бане руки смочил, даже еще не разделся, руки только в воде в бане смочил, живот сразу перестал болеть. Он это потом рассказал. Вернулись из бани, я спрашиваю: «Теперь, Коля, скажи, можно Феде налить или нет?» Коля говорит: «Наливай. Все нормально». Они помылись после того, как он руки смочил… Знахарь был!
Вот заговорили о колдовстве да об этом… У меня сосед был Ваня, Моисеев Ваня. Тоня была в жены взята, шесть месяцев девушкой лежала рядом с мужем. Какого горя хлебнули, сколько искать пришлось, всех прошли, кто только чего знал, знахарей.
Не говоря уже о другом, мне Федя признался потом, уже все было в порядке, мы уже помирились. Нож просит у меня, а я говорю: «Подожди, позже!» Трое суток я заставил его ждать, не отдавал нож. Когда стал нож ему отдавать, он говорит: «Николай, хочешь, я дам тебе колдовские знания, что пусть хоть двадцать лет прожили вместе, а ты хоть на бутылку поспорь, хоть на ящик, в ту ночь муж до жены не дотронется!» Я говорю: «Федя, такой водки мне не надо!» Я хоть и люблю выпить, а такую водку я пить не буду! Я отказался. Это уже издевательство над другим человеком. Это не добро…
– А какой этот нож был?
– Нож был – маленький ножичек, если бы кто-то на дороге увидел этот нож, пнул бы его, выбросил бы, а в нем было колдовство. Он потом рассказал, как он получил это колдовство. Когда в армии был. Старик сказал: «Я не могу умереть, возьми у меня это колдовство». Старик мучился перед смертью, что Бог не мог допустить его к себе, пока он не покается. Это был старик-ливвик, где-то в чужой стороне, не знаю, где… Я не могу сказать вам эти слова, не могу сказать. Да и нужды нет, пусть все пропадет.
– А что надо было делать?
– Я трижды концом этого ножичка начертил на дверной притолоке в той комнате, где они спали, на последнем пороге. Да еще ногу надо было поставить на порог и начертить на притолоке. И слова были, простые слова. А когда он мне нож отдавал, он сам вот так пригубил этот нож, так поднес к губам. А мне не надо было больше ничего делать, кроме как начертить и полдесятка слов сказать. Он просто так прижал губами – Федя этот… Он не был старый, лет 24–25… Он плохое умел, а хорошего очень мало. А перед смертью он под борону попал, борона его очень сильно покалечила, лошадь ее тащила. Это за грехи. Всем людям делал плохое. Колдуном его называли.
ФА 3731/070103 013.
Зап. Л. И. Иванова, В. П. Миронова, д. Татчелица, 2014 год от Ретроева Николая Константиновича 1932 г.р., д. Пижинхииру.
Причитания во время невестиной бани
Невесту начинают собирать в баню. Во время расплетания косы плачея причитывает:
Ašetteliutukkua, kahet armahat hyväseni, ta äijän ensimmäisistä ami-navetysistä äijän ylentelijäiseni, armahien spuassusien eteh alahaisimpien alentoijena kera
alliaunasieni avuantasih alliarmahilta asemuisilta.
Voi, tunnon ensimmäini tuuvittajani lapsi, tunnon teräväiseh tulovat tulituohuksuot tulitella.
Ainut, äijän ensimmäini armahien cuariloijen polkissa astunut aikojaini lapsi, /voi/
armahien cuarijen stolilta alliavuamet assutella, millä armahaisista äijän ylennettyjä alliaunasie avualTa armahilta alliasemaisilta.
Kuvuamaiseni lapsi, kujin teräväiseh kualattele, cuarin stolilta kulta-avuamet kulettele, millä kultanimysieni kuijin ylennellä.
Ennen olis pitän, lehvojaiseni, hienoin leikkuurauvoin lemmen nuoret lehtoliemenyöt leikkualTa, ennen kuin lemmen omattomih lehvomaisih varoin levittelettä.
Встаньте, двое моих дорогих хороших [родители] и моя, из первой аминь-водицы меня ь воспринявшая /крёстная/, перед милыми спасушками [иконами] с нижайшими поклонами, чтобы распустить/раскрыть милые пряди уточки-морянки с милых мест.
И [ты], первое дитя меня в люльке качавшей [матери, сестра], поскорей зажги огненные свечечки.
И [ты], единственное и первым в милых царских полках/войсках служившее дитя моей [меня] создавшей [матери, т. е. брат], не сможешь ли со столов милых царей принести ключи для уточки-морянки, чтобы раскрыть ими любовно выращенные/ношенные пряди с милого девичьего состояния.
Дитя моей [меня] создавшей [здесь: брат], скоренько сходи и принеси золотые ключи с царских столов, чем возвысить/приподнять (?) мои золотые имечки [это и волосы, и девичья воля, девичество].
Лучше бы моя [меня] в бане парившая [мать] тонким режущим железом обрезала бы мои молоденькие вольные волоконца/первошерстки [волосы], чем распускать их для ухода к неродным в бане пареным [в семью мужа, к чужим].
Перед уходом в баню от имени невесты причитывают матери:
Oletko, valkeilla ilmoilla siätelijä vualijaiseni, vuara vuarasilta yksin varvoin valitut vakavat lehtivastaset varussellun vaimalalla vartuvuollani vallan viimesih
vakavih vassan löylykylysih vakio vartaloisieni varvotella? Ice vallal-lisien valkeijen allilloijeni kera vallan viimesissä varilokylysissä vakio vartaloisieni varvoteltavikse.
Vielä oletko, vualijaiseni, vuahen jauho loista vallan asetelluot vuah-timuilaset varussellun? Vieläkö, ankeijen vaivojen näkijä vualijaiseni, /olet/
valkiet varsisopaset varussellun vallan viimesistä vaklokylysistä vuaticceutuo
vaivojen näkömättömih vualimih varoin?
Vain, valkeilla ilmoilla siätelijä vualijaiseni, kun vaimalolla vartuvuolla vallan vaimaloisekseni vallan viimesih vaklokylysih vallan kualelen iče vallan entisien valkeijen allilojeni kera. En voi valTasvarsasitta enyä kualella, niin vaimalan vartuvuoni vallan nuoret vaklopolvuoni vaivutah.
Kun ei olle vualijaiseni valTasvarsasie, niin hoti ihalat issunstuulaset kualattele,
anna issunstuulasien varasissa innon kualettelen.
Anna ankeh vartuvuoni vielä avoproskenjaisie äijän myöhäsih allikylysih /lähtiessä/ anelen. Et tiijä, olen äijän vähäsien allinimysien äijän ylentely-ijällä
aikojaistani ankehin sanoin apivoinun.
Моя, на белый свет [меня] создавшая, выпестовавшая [мать], приготовила ли ты со многих горочек по одной веточке выбранные славные лиственные венички, чтобы [мне] сникшему стану в последние разочки мой белый стан в жаркой парной баенке понежить? С моими поровеночками, с белыми уточками-морянками [подругами], в последние разочки в жаркой парной баенке свой девичий [уел.] стан попарить.
И еще, моя [меня] выпестовавшая, сумела ли из пенного порошочка изготовленное пенное мыльце припасти? И еще, моя тяжкие муки испытавшая, [меня] выпестовавшая, приготовила ли белые одежды, чтобы в светлой баенке в последние разочки переодеться перед уходом к [чужим] выпестованным, страданий не ведавшим?
Моя на белый свет создавшая, [меня] выпестовавшая, ведь как [я] сникший стан на свою беду пойду в последние девичьи [уел.] баенки вместе со своими прежними белыми уточками-морянками, так уж не смогу без лошадок в упряжке до дома дойти, до такой степени девичьи [уел.] коленки сникшего стана устанут.
А если нет [у тебя], моя выпестовавшая, объезженного коня/лошадки в упряжке, так хоть красивый стульчик для сидения принеси. И, опираясь на этот стульчик для сидения, [я] дойду.
И еще [я] печальный стан попрошу полного прощения перед уходом в позднюю баенку уточки-морянки [девичью баню]. Как знать, быть может обидела горькими словами мою [меня] создавшую в ту недолгую порушку, пока возрастала с имечком уточки-морянки [в пору девичества].
В бане невесту парят и моют подруги. Причитальщица причитывает в предбаннике:
Voikah tunnon yliset tuuvehet spuassuset tunnon teräväiseh kaksien tuu-vehien hyväsieni tunnon myöhäset tulitupaset tuhansina tulikypenyisinä tu-prahutella ympäri tuuvehie ilmasie.
/Voikah/ kiiras synty kiran teräväiseh kivikipakkaiset kirvotella kiirahan hyväseni kisojen kirvottelupaikkasih, kun ei kieroseni kiran puuvuttu.”
Пусть высшие ласковые спасушки вмиг развеют по ласковому свету тысячами огненных искорок позднюю жаркую баенку (букв.: избушку) моих двоих ласковых хороших [родителей].
Пусть ясные прародители вмиг развалят каменную печку в бане моего ясного хорошего [отца], [в месте] где я расстаюсь с порушкой игр/ бесед, и мои обидушки не поубавились.
Tuli kylystä pihalla, itköy:
Anna ualtovetysih äijän luajittelen äijän nuoret allinimyseni, kun oli äijän viimeset jo allikylyset. Eihän apieseni äijän vähäselti hoti alettu.
Выходят с невестой из бани, причитывают во дворе:
Дай-ка опущу в волнистую воду свое молоденькое имечко уточки-морянки [девичью волю], ведь это была последняя баенка уточки-морянки, и кручинушки не поубавились.
Hyö lähetäh matkah, stuula tuuvah, millä morsien istuutuu ta itköy:
Anna inhu vartuvuoni hoti issunstuulasilla issutteliuhun, kun ei inhuseni hoti innon vähäsiltä innon puuvuttu ihalan hyväseni iltakylysissä.
По пути из бани невесте приносят стул, она садится на стул, а плачея продолжает причеть:
Дай-ка, несчастный стан, присяду хоть на стульчик для сидения, ведь мои кручинушки нисколько не поубавились в вечерней баенке моего чудесного хорошего.
Приступают к расчесыванию волос. Невеста сидит на стуле. Плачея причитывает:
Voi, kajon ensimmäini kauniskasvoni kalevan kantajani lapsi, kalanluiset piäkampaset kajon kualatella, millä iče kajollisien kaunehien alliloijeni kerällä
kanaliemenöisieni kampualisin kaunehenhy väseni kaj on assuntavierisissä. Hoti kaunehen hyväsen kamuaikkunoijen piällisiksi karjalintusiksi kajon ylentelisin
kajon nuoret kananimyseni.
Anna kaunehilla ilmoilla siätelijä kantajaiseni karjalintusien karjasista kacahtelis
miun kajon nuorikkaisie kananimysieni.
Vieläi, herojaini lapsi, herkkuset helun kualattele helun nuorien hepuk-kanimysieni piällä, anna iče helulliset heliet alliseni herkutteliuvuttais.
Vieläi, kantajaini lapsi, kannoilla karkuajat kapakkavetyöt kualattele, anna kaikenhyvistä kajollisista luatuloista kaunehaisista kananimyöni kajon puuvuttelen.
Сможешь ли [ты], первое прекраснолицее дитя моей бодрой [меня] выносившей [дитя матери, брат], принести гребешок из рыбьих костей, чем вместе с моими поровёночками, красивыми уточками-морянками, расчесать мои первошерстки/волоконца курочки [девичьи волосы] в строениях моего красивого хорошего [в отцовском доме]. Не оставить ли мне над оконными косяками своего красивого хорошего в образе стайных (?) птиц (птиц в стае?) молоденькие имечки курочки [девичью волю]?
Пусть бы моя, на красивый свет создавшая [меня] выносившая [мать] в стае птиц любовалась моим молоденьким имечком курочки [девичьей волей].
И еще, дитя моей [меня] создавшей [уел.] [рат], принеси лакомства в честь моего имечка куманики, пусть мои поровёночки, ясные уточки-морянки, полакомятся.
И еще, дитя моей [меня] выносившей, принеси на пятки (так в оригинале!) набегающие/действующие водицы из кабака [вино], чтобы славно и по-доброму расстаться мне с моим красивым имечком курочки [с девичьей волей].
Когда волосы причесаны, продолжают путь, и около крыльца плачея причитывает матери:
Vieläkö, itvojaiseni, innon entisie isvoolintasie myöten isvontelikset, kuita innon vähäsillä innon ylenentä äijälläni iloten innon kualelin.
Nyt vain innon olovaisien itkuvetysieni kerällä innon kualelen.
Voi, vualijaiseni, vallan Iällisistä valtapaikkasista valtavetyöt vallan kual-atella.
Anna vallan viimesistä vassanlöylykylysistä vallan kualeltuo ihovalkie-sieni valottelisin.
Vielä, vualijaiseni, i vanouttujen vuamojen nenissä val’aimattoniat vuar-napaikkaset ihovalkiesieni valotella vallan kualattele.
Vieläi, tuuvehilla ilmoilla siätelijä tuuvittajaiseni, tulittele palavat tulituohuksuot.
Vieläi, luatu ilmoilla siätelijä luatijaiseni, lakijen tasoissa lainehti]at luas-kavat
luatusavuset luajittele. Anna iče luavullisien luatu allisieni kera luavun olovan luatu narotaisen lukusie ta luatusie myöten luaskavampie osasie lua-jittelisin.
Еще ли, моя [меня] взрастившая, по-прежнему позволишь пройтись по двору, где за короткое время возрастания с радостью хаживала? Теперь же с обильными водицами [со слезами] прохожу.
Сумей, моя [меня] выпестовавшая, из ближайших вольных водоемов вольную водицу принести, чтобы по возвращении из последних парных баенок белое личико обмыть.
И еще, моя [меня] выпестовавшая, принеси на вековых вешалках висящие свежие утиральнички белое личико обтереть.
И еще, на ласковый свет создавшая, [меня] в люльке качавшая, засвети/зажги горящие свечечки.
И еще, моя на пригожий свет создавшая, [меня] сделавшая/создавшая, на уровне потолка стелющиеся ласковые дымочки разведи, чтобы [мы] с моими поровёночками, пригожими уточками-морянками, по законам и обычаям славного народа более ласковой/лучшей доли удостоились.
НА Ф. 1, оп. 2, колл. 20, ед. хр. 35.
Записала Даниева в с. Ухта в 1938 году от Хотеевой Мавры Максимовны Перевод причитаний на русский язык А.С. Степановой.
Список сокращений
КЭП – Карельские эпические песни
НА – Научный архив КарНЦ РАН
ОГВ – Олонецкие губернские ведомости
ФА – Фонограммархив Института ЯЛИ КарНЦ РАН
FFC – Folklore Fellows Communications
KKS – Karjalan kielen sanakirja
KV – Kalevalaseuran vuosikirja
SKS – Suomen kirjallisuuden seura
SKVR – Suomen kansan vanhat runot
Список архивных источников
Научный архив Карельского Научного центра РАН. Фонд 1. Опись 2. Коллекции 1-175.
Фонограммархив Института языка, литературы, истории КарНЦ РАН. Кассеты 1 – 3500.
Suomen kirjallisuuden Seura. Фольклорный архив Общества Финской литературы. Хельсинки – Йоэнсуу.
Список литературы
Андреев Ф., свящ. Предания и поверья в Масельгско-Паданском приходе, Пове-нецкого уезда (Перевод с карельского) // Олонецкие губернские ведомости. 1870. № 55. С. 601 – 602.
Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. 240 с.
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. 191 с.
Байбурин А. К., Левинтон Г. А. К описанию организации пространства в восточнославянской свадьбе // Русский народный свадебный обряд. Л., 1978. С. 95.
Бессонов П. А. Калики перехожие. Вып. 1–6. М., 1861–1863.
Б-ков М. Быт карела // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. № 3. С. 107–108.
Баня, банька, баенка / Сост. Я. Р. Рыбкин, Н. А. Криничная, В. И. Анохин и др. Петрозаводск, 1992. 190 с.
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. 288 с.
Бернштам Т А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л., 1988. 280 с.
Богданов Г. X. Свадьба Ухтинской Карелии // Западнофинский сборник. Л., 1930. С. 40–62.
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Веник // Славянские древности: Этнолингвистические словарь: в 5 т. М., 1995. Т. 1., А-Г. С. 307–313.
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях // Символический язык народной культуры. Балканские чтения 2. М., 1993. С. 3–34.
Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 57–67.
Винокурова И. Ю. Вепсские молодые в хронике биосоциальных событий // «Уведи меня, дорога…». СПб., 2010. С. 107–121.
Витов М. В. Гнездовой тип расселения на Русском Севере и его происхождение // Советская этнография. 1955. № 2. С. 27–40.
Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVII. М., 1974. 217 с.
Власова M. Н. Русские суеверия. Энциклопедический словарь. СПб., 2000. 672 с.
Геннеп ван А. Обряды перехода. М., 1999. 200 с.
Георгиевский М. Д. Из народной жизни // ОГВ. 1980. № 73. С. 743–744.
Грузнова Е. Г. Место, где все равны // Родина. 1995. № 9. С. 100–105.
Давыдов И. П. Баня Бабы-Яги // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2001. № 6. С. 73–88.
Девяткина Т. 77. Мифология мордвы. Саранск, 2006. 332 с. Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. 224 с.
Добровольская В. Е. Типы передачи мастерства и прфессиональных навыков в фольклорной прозе Русского Севера и Центральной России // Рябининские чтения-2015. Петрозаводск, 2015. С. 277–279. Древности Петрозаводска / Сост. А. М. Жульников, А. М. Спиридонов. Петрозаводск, 2003. 129 с.
Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011. 455 с.
Духовная культура сегозерских карел конца 19 – начала 20 в. / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Петрозаводск, 1981. С. 216.
Елеонская E. Н. К изучению заговора и колдовства в России // Сказка, заговор и колдовство в России: Сб. тр. / Сост. и вступ. ст. Л.Н. Виноградова. М., 1994.
Желтое А. А. Бани и банные традиции северной и центральной России // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 14–34.
Жуков А. Ю. Карелия в средневековье (X–XV вв.) // История Карелии с древнейших времен и до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 61–97.
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 522 с.
Зеленин Д. К. О старом быте карел Медвежьегорского района Карело-Финской ССР//Советская этнография. 1941. № 5. С. 110–125.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Баба-Яга // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 149.
Иванов В. В., Топоров В. И. Баенник // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 162.
Иванова Л. И. Духи-хозяева леса в роли похитителя людей (по материалам карельских быличек) // Народная культура в слове и контексте. Сыктывкар, 2013. С. 74–80.
Иванова Л. И. Законы «лесного царства»: народные традиции экологического воспитания (по материалам карельской мифологической прозы) // Карельская семья во второй половине 19 – начале 21 в. Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2013. С. 180–211.
Иванова Л. И. Лесной нос: архаичные представления карелов о болезни и магические локусы ритуала исцеления // Труды Карельского научного центра Российской Академии наук. Серия Гуманитарные науки. Выпуск 3. Петрозаводск, 2012. С. 68–74.
Иванова Л. И. Народные представления и обряды, связанные с лемби // Иванова Л. И., Миронова В. П. Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской культуре. Финляндия: Juminkeko, 2014. С. 11–108.
Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывалыцин, поверий и верований карелов. Часть первая. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. 558 с.
Иванова Л. И. Тапиола и Хийтола: два лесных царства карельской мифологии / Рябининские чтения-2011. Петрозаводск, 2011. С. 55–59.
Илюха О. И. Школа и детство в карельской деревне в конце 19 – начале 20 века. СПб., 2007. 303 с.
Кагаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Императорской Академии наук. VI серия. Пт., 1917. Т. XI. № 9. С. 640–647.
Кагаров Е. Шаманский обряд прохождения через отверстие // Доклады АН СССР. Сер. В. М., 1929. № 11. С. 189–192.
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973. 351 с.
Камкин И. Архангельские карелы // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический журнал с рисунками. Петербург, 1880. XVI, 4. С. 651–673.
Карельские народные загадки / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1982. 143 с.
Карельские пословицы и поговорки / Сост. В.Г. Макаров. Петрозаводск, 2011.
Карельские причитания / Сост. А.С. Степанова, Т.А. Коски. Петрозаводск, 1976.
Карельский фольклор / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1992. 272 с.
Карельские эпические песни / Сост. В. Я. Евсеев. Л., 1950. 527 с.
Ковыршина Ю. И. Контекстуальное переключение регистров интонирования русских и карельских заговоров // Доклад на «Рябининских чтениях-2015», г. Петрозаводск. Статья находится в печати.
Колегова Р. В. Баня в обрядах и представлениях коми-зырян. СПб., 1992. 25 с.
Конкка А. П. Календарная мифология и обрядность сямозерских карел // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 301–341.
Конкка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историкокультурный ландшафт СевероЗапада-З. СПб., 2014. С. 66–73.
Конкка А. П. На плечах Большой Медведицы: карельские заговоры и магические действия на поднятие лемпи // Традиционная культура. 2014. № 3. С. 136–145.
Конкка А. П. О заговорах «поднятия лемпи» из собрания фольклорного архива Финского литературного общества (SKVR: Беломорская, Приладожская и Северная Карелия) // Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов. Петрозаводск, 2013. С. 88–104.
Конкка А. От колыбели до могильного креста (обряды и верования в рассках панозерцев) // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 405–414.
Конкка А. П. Сямозерская свадьба // На плечах Большой медведицы. Петрозаводск, 2015. С. 289–327.
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. 213 с.
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. 296 с.
Кораблев Н. А., Афанасьева А. И. Карелия во второй половине XIX – начале XX вв. // История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001.
Корнишина Г. А. Экологические воззрения мордвы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск, 2008.
Кочкуркина С. И. Корела и Русь. Л., 1986. 143 с.
Кочкуркина С. И. Народы Карелии: история и культура. Петрозаводск, 2004. 208 с.
Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М, Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах. Петрозаводск, 1990. 140 с.
Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М., 1997. С. 517–532.
Криничная Н. А. Баенник как прообраз домашних духов // Н.А. Криничная. Русская мифология: мир образов фольклора. М., 2004. С. 26–94.
Криничная Н.А. Двойник: к семантике мифологического образа // Русская речь. № 5. 2013. С. 113–118.
Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов. Петрозаводск, 2014. 389 с.
Криничная Н. А. Окно крестьянского жилища: к представлениям о границе и контактной зоне вмежду мирами в севернорусской мифологии // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Петрозаводск, 2008. С. 131–141.
Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. Истоки и полисемантизм образов. СПб., 2001. 580 с.
Криничная Н. А. Сынове бани // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 66–77.
Кузнецова В. П. И. А. Федосова и ее духовные стихи // Рябининские чтения-2015. Петрозаводск, 2015. С. 338–341.
Лавонен Н. А. Из наблюдений о бытовании погребально-поминального обряда в Южной Карелии // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1993. С. 24–47.
Лавонен Н. А. Карельская народная загадка. Л., 1977. 134 с.
Лавонен Н. А. Стол в верованиях карел. Петрозаводск, 2000.
Лавонен Н. А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованиях карел // Фольклор и этнография. Л., 1984. С. 171–179.
Ладвинский Федор. Особенности общественного быта жителей Паданскаго погоста и о Ребольском приходе Повенецкого уезда Олонецкой губернии. Источник: #t20c
Лесков Н. Ф. Вiäндуойдъ // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 515–517.
Лесков Н. Ф. Карельская свадьба // Живая старина. 1894. Вып. 3–4. С. 499–511.
Лесков Н. Ф. Отчет о поездке к олонецким карелам летом 1893 г. // Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 19–36.
Лесков Н. Ф. Погребальные обряды кореляков // Живая старина. Вып. 3–4. 1894. С. 511–514.
Лесков Н. Поездка в Корелу // Живая старина. 1895. Вып. 3–4. отд. 1. С. 279–297.
Лесков Н. Представления кореляков о нечистой силе // Живая старина. СПб., 1893. Вып. 1–3. С. 415–419.
Леннрот Э. Калевала. Петрозаводск, 1998. 583 с.
Логинов К. К. Великие «тиэдяяд» Сямозерья на закате древней традиции // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. Петрозаводск, 2010. С. 277–288.
Логинов К. К. Домашний повседневный быт // Деревня Юккогуба и ее округа. Сост. И. Е. Гришина и др. Петрозаводск, 2001.427 с.
Логинов К. К. Из истории бани в Карелии // Традиционная культура. № 1.2015. С. 133–141.
Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия // История и культура Сямозерья. Под. ред. В. П. Орфинского и др. Петрозаводск, 2008. С. 153 – 246.
Логинов К. К. Материалы по традиционным обрядам и представлениям населения Карелии, связанные с баней // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Сборник статей памяти Юга Юльевича Сурхаско. Гуманитарные исследования. Вып. 2. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 302–317.
Логинов К. К. Родильная обрядность и способы лечения младенческих недугов // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 247–254. Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993. 228 с.
Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990. 270 с.
Лызлова А. С. Место похищения женщины в русской волшебной сказке: к вопросу о контакте представителей своего и иного миров / Труды КарНЦ РАН. № 6. 2011. С. 143–147.
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. 283 с.
Макашина Т. С. Свадебный обряд и фольклор // На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989. С. 239–240.
Мансикка В. Из финской этнографической литературы // Живая старина. 1916. № 903. С. 199–231.
Маслова Г. С. “Kegrin päivä” у карел Калининской области // Советская этнография. 1937. № 4. С. 150–153.
Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца 19 – начала 20 века. Сост. Р. Ф. Никольская, А. П. Косменко. Л., 1981. 262 с.
Миронова В. П. Беседа в повседневной жизни сельской молодежи (конец 19-первая половина 20 в.) // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 183–210.
Миронова В. П. Зимние Святки у ливвиков (по полевым материалам 1990-2000-х гг.) // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Сборник статей памяти Юго Юльевича Сурхаско. Гуманитарные исследования. Вып. 2. Петрозаводск, 2009. С. 265–270.
Миронова В. П. Эпитеты в южнокарельской традиции (на примере песни «Сватовство в мифической стране Хийтола») // Финноугроведение. № 1.2010. С. 65–67.
Миронова В. П. Южнокарельская эпическая песня «Сватовство в мифической стране Хийтола» в контексте карельского свадебного обряда // Традиционная культура. № 3. 2011. С. 39–47.
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 115–135.
Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 68–85.
Никольский В. Святочные гадания и суеверные обычаи олонецких карел // Олонецкая неделя. 1916. № 1.
Никольский В, священник. Суеверные приметы Олонецких карел при рождении младенца // Олонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 16. С. 371.
Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. Саранск, 1995. 166 с.
Новак И. П. Полевые аудиозаписи А.В. Пунжиной как источник информации о повседневной жизни тверской карельской семьи конца 19 – начала 20 в. // Культура повседневности карельской семьи. Сост.
О. П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 69 – 155.
Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб., 2001. 247 с.
Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси 6–9 вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. с. 359–408.
N. N. Свекровь в бане // Олонецкие губернские ведомости. 1872. № 1. С. 10.
Образцы карельской речи. Тихвинский говор собственно карельского диалекта. Сост. В.Д. Рягоев. Л.,1980. 382 с.
Орфинский В. П. Вековой спор: Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера // Советская этнография. 1989. № 2. С. 55–67.
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. 119 с.
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Сямозерские деревни // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 349–376.
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. 480 с.
П. М. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1894. № 87. С. 10.
Пашкова Т. В. Баня в лечебных обрядах карел // Традиционная культура. 2015. № 1.С. 142–148.
Пашкова Т. В. Название болезни ‘оспа’ в карельском языке // Вестник Поморского университета. 2007. № 8. С. 117–120.
Пашкова Т. В. Народные поверья как признак номинации некоторых названий болезней // Бубриховские чтения: проблемы функционирования и контактирования языков и культур прибалтийско-финских народов. Петрозаводск, 2008. С. 188–199.
Пашкова Т. В. Этимология названий некоторых детских заболеваний в карельском языке // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика. Петрозаводск, 2006. С. 257–260
Пертту П. По следу Вяйнямёйнена. Петрозаводск, 1978. 256 с.
Плесовский В. Ф. Свадьба народов коми. Сыктывкар, 1968. 320 с.
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//ОГВ. 1863. № 14, 15,29. С. 7–10.
Повесть временных лет. М.-Л., 1950. 556 с.
Познанский Н. Заговоры. Пгр., 1918. 311 с.
Покровский П. Карел, его быт и занятия // Олонецкие губернские ведомости. 1873. № 6–8.
Проезжий. Знаменитый колдун // Олонецкие губернские ведомости. 1905. № 30. С. 3.
Пропп. В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 365 с.
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. 320 с.
Разумова И. А. Баня в народных верованиях и сказке // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 86–109.
С. В. И. Г. Важинский погост, Олонецкого уезда // Олонецкие губернские ведомости. 1895. № 43. С. 4.
Сауна (использование сауны в лечебных и профилактических целях) / Под ред. В. М. Боголюбова и М. Матея. М., 1984. 208 с.
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. 209 с.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. M.: М., 2002.512 с.
Словарь карельского языка / Сост. Г.Н. Макаров. Петрозаводск, 1990. 495 с.
Степанова А. С. Карельская свадьба в конце 19 – начале 20 в. // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О.П. Плюха. Петрозаводск, 2014. С. 210–224.
Степанова А. С. Поэзия калевальской метрики и причитания // Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 165–175.
Степанова А. С. Свадебные причитания и ритуальная баня // А. С. Степанова. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 49–69.
Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004. 303 с.
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. 237 с.
Сурхаско Ю. Ю. Козичендашаува – жезл колдуна на карельской свадьбе // Сборник Музея антропологии и этнографии. 1972. Т. 28. С. 199–207.
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. 172 с.
Тароева (Никольская) Р. Ф. Материальная культура карел. М.-Л., 1965. 245 с.
Толстой Н. И. Откуда дьяволы разные // Толстой Н. И. Язык и народная культура. М., 1995. С. 245 – 250.
Толстой Н. И. Язычество и христианство Древней Руси // Толстой Н. И. Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М„1998. 422–430 с.
Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтической формулы // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. 4. С. 9–43.
Топоров В. И. Лягушка // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 84.
Топоров В. Н. Осина// Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 266.
Туюнен С. В. Помощники заговаривающего // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998. С. 67–73.
Устная поэзия тунгудских карел. Составитель А.С. Степанова. Петрозаводск, 2000. 383 с.
Федотова В. П. Фразеологический словарь карельского языка. Петрозаводск, 2000. 260 с.
Федотова В. П., Бойко Т. П. Словарь собственно-карельских говоров Карелии. Петрозаводск, 2009. 349 с.
Фишман О. М. «А все равно лучше жили»: нарративы тихвинских карелов о прежней крестьянской жизни // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О. П. Плюха. Петрозаводск, 2014. С. 28–68.
Флоренский П. Магия слова. М., 1990.
Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе / Сост. А. Н. Рассыхаев, В. М. Кудряшова. Сыктывкар – Нарьян-Мар, 2014. 504 с.
Харузина В. Н. Несколько слов о родильных, крестильных обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой губернии // Этнографическое обозрение. 1906, № 1–2. С. 88–95.
Шдорберг. О способах и мерах уменьшения случаев пожара в банях // ОГВ. 1870. № 10. С. 6.
Эпические песни Южной Карелии. Сост. В. П. Миронова. Петрозаводск, 2006. 447 с.
Этнографичесие материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 1–55.
Haavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Porvoo, 1935. 450 s.
Harva U. Miero vuotti uutta kuuta // KV. 1939. N 19. S. 56–67.
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982.
Hämäläinen A. Ihmisruumiin substanssi. Suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa. Helsinki, 1920. 162 s.
Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. 438 s.
Jauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999.389 s.
Karjalan kielen sanakirja. Osa 2. Helsinki, 1974. 591 s.
Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. Helsinki, 1983. 584 s.
Karjalan kielen sanakirja. Osa 6. Helsinki, 2005. 782 s.
Karjalaisia sananpolvia / Toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971.640 s.
Kemppinen I. Haudantakainen elämä. Helsinki, 1967. 224 s.
Kemppinen I. Suomalainen mytologia. Helsinki, 1960. 352 s.
Krohn K. Suomalaisen runojen uskonto. Suomen suvun uskonnot. I. Porvoo,1915. 360 s.
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta. Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. 176 s.
Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
Ojajärvi A. Morsiussauna // Kalevalaseuran vuosikirja. 1959. N 39. S. 293–330.
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. 109 s.
Paulaharju S. Matkakuvia karjalan kankailta. 1907. Helsinki, 1981. 118 s.
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. 248 s.
Pelkonen E. Karjalan meren äärellä. Helsinki, 1961. 303 s.
Reponen A. Metsäsuomalaisten ikäkylpy ja ilokylpy // Kalevalaseuran vuosikirja. 1931, N11. S. 151–158.
Sallamaa K. Nouse lempi liehumahan // Kalevalaseuran vuosikirja. 1983, N 63. S. 256.
Siikala A.-L. Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki, 2013. 536 s.
Siikala A. -L. Suomalainen samanizmi. Helsinki, 1992. 359 s.
Suomen kansan vanhat runot. Osa I, II, VII. Helsinki, 1908–1933.
Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Helsinki, 1981. 415 s.
Vahros I. Gesghihte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. 360 pp.
Valtakari P. Die Entwickhung und Verbreitung der Finnischen Sauna // Sauna-Archiv. 1978. N 4. S. 11–17.
Vilkuna K. Vuotuinen ajantieto. Helsinki, 1950. 364 s.
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. 280 s.
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa II. Helsinki, 1963. 453 s.
Virtaranta P Lyydiläisiä tekstejä. Osa III. Helsinki, 1964. 402 s.
Virtaranta P Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. 271 s.
Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1958. 808 s.
КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО (РУССКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ)
Более подробную информацию о наших книгах (аннотации, оглавления, отдельные главы) вы можете найти на сайте www.s-and-e.ru
ГЕОПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ:
1. Валлерстайн Иммануил. Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. Wallenstein Immanuel. The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century / предисловие Г.М. Дерлугьяна; пер. с англ., литер, редакт., комм. И. Проценко, А. Черняева.
2. Валлерстайн Иммануил. Мир-система Модерна. Том II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750. Wallenstein Immanuel. The Modem World-System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750 / nep. с англ., литер, редакт., комм. И. Проценко.
3. Люттвак Эдвард Н. Стратегия: логика войны и мира. Luttwak Ed-wand N. The Strategy: Logic of War and Peace / пер. с англ. A.H. Коваля.
4. Люттвак Эдвард И. Государственный переворот: практическое пособие. Luttwak Edwand N. Coup d’Etat: Practical Handbook / nep. с англ. H.H. Платошкина.
5. Люттвак Эдвард H. Подъем Китая vs. логика стратегии. Luttwak Edwand N. The Rise of China vs. the Logic of Strategy (выйдет в 2016 году).
6. Фомин А.М. Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за «Османское наследство», 1918–1923.
7. Кикнадзе В.Г. Невидимый фронт войны на море. Морская радиоэлектронная разведка в перовой половине XX века.
8. Козлов Д.Ю. Нарушение морских коммуникаций по опыту действий российского флота в Первой мировой войне (1914–1917).
9. Котельников В.Р. Отечественные авиационные поршневые моторы 1910–2009.
10. Степанов А. С. Развитие Советской Авиации в Предвоенный Период (1938 – первая половина 1941 года).
11. Свойский Ю.М. Военнопленные Халхин-Гола. История бойцов и командиров РККА, прошедших через японский плен.
12. Садатоси Томиока. Политическая стратегия Японии до начала войны.
13. Рашид Ахмед. Талибан / пер. с англ. М.В. Поваляева.
14. Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и невольные участники / отв. ред. А.С. Степанов.
15. Мазов С. В. Холодная война в «сердце Африки». СССР и конголезский кризис, 1960–1964.
16. Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление.
17. Симонов Н.С. Несостоявшаяся информационная революция. Условия и тенденции развития в СССР электронной промышленности и СМИ. 1940–1969 гг.
18. Симонов Н.С. Очерки истории банковской системы России. 1988–2013 гг.
19. Платошкин Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Чехословакия в 1938–1968 гг. Часть 1. Весна чехословацкого социализма. 1938–1948 гг.
20. Платошкин Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Чехословакия в 1938–1968 гг. Часть 2. Осень чехословацкого социализма. 1948–1968 гг.
21. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений / отв. ред. Н.И. Егорова.
22. Улунян Ар. А. Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. -1980 г.).
ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:
23. Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815–1830.
24. Платошкин Н.Н. История Мексиканской революции. Том 1: Истоки и победа. 1810–1917 гг.
25. Платошкин Н.Н. История Мексиканской революции. Том 2: Выбор пути. 1817–1828 гг.
26. Платошкин Н.Н. История Мексиканской революции. Том 3: Время радикальных реформ. 1828–1940 гг.
27. Платошкин Н.Н. Чили 1970–1973 гг. Прерванная модернизация.
28. Платошкин Н.Н. Интервенция США в Доминиканской республике 1965 года.
29. Платошкин Н.Н. Сандинистская революция в Никарагуа. Предыстория и последствия.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ ВРЕМЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ. ИСТОЧНИКИ:
30. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Античные источники. Том I / сост. А.В. Подосинов, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой.
31. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Византийские источники. Том II / сост. М.В. Бибиков, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой.
32. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Восточные источники. Том III / сост. И.Г. Коновалова, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой.
33. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Западноевропейские источники. Том IV / сост. А.В. Назаренко, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой.
34. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Древнескандинавские источники. Том V / под ред. Г.В. Глазыриной, Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой.
35. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е.А. Мельниковой.
36. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.).
37. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. Из серии: Древнейшие государства Восточной Европы.
38. Древнейшие государства Восточной Европы. Пространство и время в средневековых текстах / под ред. Г.В. Глазыриной.
39. Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство. Из серии: Древнейшие государства Восточной Европы.
40. Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / под ред. Е.А. Мельниковой.
41. Древнейшие государства Восточной Европы. 2011 год: Устная традиция в письменном тексте / под ред. Г.В. Глазыриной.
42. Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия.
43. Самые забавные лживые саги: Сборник статей в честь Галины Васильевны Глазыриной / под ред. Т.Н. Джаксон.
44. Висы дружбы: Сборник статей в честь Т.Н. Джаксон / под ред. Н.Ю. Гвоздецкой, И.Г. Коноваловой, Е.А. Мельниковой, А.В. Подосинова.
45. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе.
46. Агишев С.Ю. Теодорик Монах и его «История о древних норвежских королях».
47. Лидов А.М., Евсеева Л.М., Чугреева Н.Н. Спас Нерукотворный в русской иконе.
48. Евсеева Л.М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия.
49. Лидов А.М. Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера.
50. Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция.
51. Афанасьева Т.И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII–XVI вв.: исследование и тексты.
52. Афанасьева Т.И. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.).
53. Именослов. История языка. История культуры. Сборник статей / отв. ред. Ф.Б. Успенский.
54. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. Том 2 / под ред. Хорошкевич А.Л., Полехова С.В., Воронина В.А., Груши А.И., Жлутко А.А., Сквайре Е.Р., Тюльпина А.Г.
55. Пулькин М.В. Самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX в.).
56. Каштанов С.М. Московское царство и Запад.
57. Формирование территории Российского государства. XVI – начало XX в. (границы и геополитика) / отв. ред. Е.П. Кудрявцева.
58. Калинина ТМ. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников).
59. Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света: Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова / отв. ред. О.В. Кудрявцева.
60. Немецкие анналы и хроники X–XI вв. / пер. И.В. Дьяконова, В.В. Рыбакова.
61. Каштанов С.М. Исследование о молдавской грамоте XV века.
62. Юлиана Нориджская. Откровения Божественной Любви / пер., вступ. ст., примеч., подгот. среднеангл. текста Ю. Дресвиной. Julian of Norwich Revelations of Divine Love / Edition, introduction, translation and commentaries by Juliana Dresvina.
63. Ауров O.B., Марей А.В. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст, Перевод, Исследование.
64. Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: сравнительное исследование.
65. Генрих Хантингдонский. История англов / пер. с лат., вступ. ст., примеч., библиография и указатели С.Г. Мереминского.
66. Долеман Р. (Парсонс Роберт). Рассуждение о наследовании английского престола. 1594 г. / перевод А.Ю. Серёгиной.
67. Святитель Хроматий Аквилейский. Проповеди / пер., вступ. ст. С.С. Кима.
68. Марей Е.С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления о праве и правосудии.
69. Ганина Н. Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества. Перевод и исследования.
70. Рахаев Д.Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII века.
71. Пётр II Петрович Негош и Россия (Русско-черногорские отношения в 1830-1850-е гг.). Документы / сост.: М.Ю. Анисимов, Ю.П. Аншаков, Р. Распопович, Н.Н. Хитрова.
72. Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.
73. Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917).
74. Мария Фёдоровна, императрица, 1847–1928. Ксения Александровна, вел. кн., 1875–1960, Ольга Александровна, вел. кн., 1882–1960. Письма (1918–1940) к княгине А.А. Оболенской / подгот. текста, пер. с франц. М.Е. Сороки, под ред. Л.И. Заковоротной.
75. Менъкова И.Г. Блаженны кроткие… Священномученик Сергий Лебедев, последний духовник Московского Новодевичьего монастыря. Жизненный путь, проповеди, письма из ссылки.
ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. АРХЕОЛОГИЯ:
76. Логинов К.К. Обряды, обычаи и конфликты традиционного жизненного цикла русских Водлозерья.
77. Криничная Н.А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии.
78. Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале.
79. Иванова Л.И. Персонажи карельской мифологической прозы.
80. Иванова Л.И. Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева.
81. Лобанова И.В., Филатова В.Ф. Археологические памятники в районе Онежских петроглифов.
82. Лобанова И.В. Петроглифы Онежского озера.
83. Ольговский С.Я. Цветная металлообработка Северного Причерноморья VII–V вв. до н. э. По материалам Нижнего Побужья и Среднего Поднепровья.
АНТИЧНОСТЬ. ВИЗАНТИНИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОЛОГИЯ:
84. Позднее М.М. Психология искусства. Учение Аристотеля.
85. Суриков И.Е. Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических Афин.
86. Суриков И.Е. Античный полис.
87. Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц.
88. Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира.
89. Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры.
90. Gaudeamus Igitur: Сборник статей к 60-летию А.В. Подосинова / под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, Г.Р. Цецхладзе.
91. Ревзин Г. Путешествие в Античность. Комплект фотографий и чертежей античных памятников с комментариями.
92. Виноградов А.Ю. Миновала уже зима языческого безумия. Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики.
93. Файер В.В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр.
94. Файер В.В. Рождение филологии. «Илиада» в Александрийской библиотеке.
95. Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства / отв. ред. А.В. Подосинов, О.Л. Габелко.
96. Ермолаева Е.Л. Гомер. Илиада. XVIII песнь «Щит Ахилла».
97. Гай Юлий Цезарь. Записки о войне с галлами. Книга 1 / введение и комментарии С.И. Соболевского.
98. Гай Юлий Цезарь. Записки о войне с галлами. Книга 2–4 / введение и комментарии С.И. Соболевского.
99. Жмудь Л.Я. Пифагор и ранние пифагорейцы.
100. Кузьмин Ю.Н. Аристократия Верой в эпоху эллинизма.
101. Смирнов С.В. Государство Селевка I (политика, экономика, общество).
102. Прокл Диадох. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида / пер. А.И. Щетникова.
103. Квинт Смирнский. После Гомера / вступ. ст., пер. с др. греч. яз., прим. А.П. Большакова.
104. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н. э.
105. Латинские панегирики / вступ. ст., пер. и комм. И.Ю. Шабаги.
106. Завойкина Н.В. Боспорские фиасы: между полисом и монархией.
107. С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В.П. Толстикова / под ред. Д.В. Журавлева, О.Л. Га-белко.
108. Люттвак Эдвард Н. Стратегия Византийской империи. Luttwak Edward N. The Grand Strategy of the Byzantine Empire / пер. с англ. A.H. Коваля.
109. Хроника Симеона Магистра и Логофета / пер. со среднегреческого А.Ю. Виноградова, вступ. ст. и комм. П.В. Кузенкова.
110. Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов»: опыт прочтения одного апокрифа.
111. Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994–1998 гг. Херсон. Том I / Золотарёв М.И. и др.
112. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть I.
113. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть II.
114. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть III.
ЖУРНАЛ «АРИСТЕЙ»:
115. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 1.
116. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 2.
117. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 3.
118. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 4.
119. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 5.
120. Аристей: Классическая филология и античная история, Журнал, выпуск № 6.
121. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 7.
122. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 8.
123. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 9.
124. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 10.
125. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск № 11.
ЕГИПТОЛОГИЯ:
126. Лаврентьева Н.В. Мир ушедших. Дуат: Образ иного мира в искусстве Египта (Древнее и Среднее царства).
127. Прусаков Д.Б. Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации.
128. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 1. Сборник статей / под ред. М.А. Чегодаева, Н.В. Лаврентьевой.
129. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 2. Сборник статей / под ред. М.А. Чегодаева, Н.В. Лаврентьевой.
130. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 3. Сборник статей / под ред. М.А. Чегодаева, Н.В. Лаврентьевой.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
131. Антонец Е.В. Введение в римскую палеографию.
132. Вопросы эпиграфики. Выпуск 1. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
133. Вопросы эпиграфики. Выпуск 2. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
134. Вопросы эпиграфики. Выпуск 3. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
135. Вопросы эпиграфики. Выпуск 4. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
136. Вопросы эпиграфики. Выпуск 5. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
137. Вопросы эпиграфики. Выпуск 6. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
138. Вопросы эпиграфики. Выпуск 7. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
139. Вопросы эпиграфики. Выпуск 8. Сборник статей / под ред. А.Г. Авдеева.
140. Вальков Д.Б. Генуэзская эпиграфика Крыма.
ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО
141. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 1. Город: история и культура.
142. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 2. Русь и Византия.
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ:
Четыре тома избранных произведений О.А. Седаковой:
143. Седакова О.А. Четырехтомное издание избранных произведений: Стихи (1-й том).
144. Седакова О.А. Четырехтомное издание избранных произведений: Переводы (2-й том).
145. Седакова О.А. Четырехтомное издание избранных произведений: Poetica (3-й том).
146. Седакова О.А. Четырехтомное издание избранных произведений: Могайа (4-й том).
147. ДВА ВЕНКА: Посвящение Ольге Седаковой. Сборник статей / под ред. А.В. Маркова, Н.В. Ликвинцевой, С.М. Панин, И.А. Седаковой.
Собрание сочинений В.В. Бибихина:
148. Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. Собрание сочинений. Том I.
149. Бибихин В.В. Введение в философию права. Собрание сочинений. Том II.
150. Бибихин В.В. Новый ренессанс. Собрание сочинений. Том III.
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
151. Смышляев А.Л. История Древнего Рима от Ромула до Гракхов. Учебное пособие.
152. Зайков А.В. Римское частное право в систематическом изложении. Учебник.
153. Поливанова А.К. Старославянский язык. Грамматика. Словари.
154. Рязановский А.Р. Математика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Арифметика, алгебра, начала математического анализа. Очерки по истории математики с древнейших времён.
Если вы нашли в наших книгах опечатки, просьба сообщить о них на электронный адрес knigiudp@gmail.com. В сообщении нужно указать книгу, страницу и абзац, где была обнаружена опечатка. Благодарим за сотрудничество.
.
Примечания
1
Далее: НА номер фонда, номер описи, единица хранения, лист.
(обратно)2
Далее: ФА номер кассеты/номер единицы хранения на ней (место записи).
(обратно)3
Далее: SKS номер микрофильма/номер текста на нем.
(обратно)4
Далее: ОГВ.
(обратно)5
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa II. Helsinki, 1963.453 s.; Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa III. Helsinki, 1964. 402 s.; Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Hel-sinki, 1958. 808 s.
(обратно)6
Paulaharju S. Matkakuvia karjalan kankailta. 1907. Helsinki, 1981. 118 s.; Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. 109 s.; Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. 248 s.
(обратно)7
Далее: SKVR номер тома, номер части: номер текста (место записи).
(обратно)8
Никольская РФ., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 68–85.
(обратно)9
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 101–102, 107–109; Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 24–36.
(обратно)10
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. 296 с.; Степанова А. С. Свадебные причитания и ритуальная баня // А. С. Степанова. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 49–69.
(обратно)11
Степанова А. С. Поэзия калевальской метрики и причитания // Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 170–174.
(обратно)12
Vahros I. Gesghihte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. 360 pp.
(обратно)13
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004.288 с.
(обратно)14
Криничная Н. А. Баенник как прообраз домашних духов // Н. А. Криничная. Русская мифология: мир образов фольклора. М., 2004. С. 26–94.
(обратно)15
Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993. 228 с.; Логинов К. К. Материалы по традиционным обрядам и представлениям населения Карелии, связанные с баней // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Петрозаводск, 2009.С. 302–317; Логинов К. К. Из истории бани в Карелии // Традиционная культура. № 1. 2015. С. 133–141.
(обратно)16
Баня, банька, баенка / Сост. Я. Р. Рыбкин, Н. А. Криничная, В. И. Анохин и др. Петрозаводск, 1992. 190 с.
(обратно)17
Разумова И. А. Баня в народных верованиях и сказке // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 86–109.
(обратно)18
Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 57–67.
(обратно)19
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004.
(обратно)20
Повесть временных лет. М.-Л., 1950. С. 228.
(обратно)21
Повесть временных лет. М.-Л., 1950. С. 208.
(обратно)22
Рыбкин Я. Р. Баня парит, баня правит… // Баня, банька, баенка. Петрозаводск, 1992. С. 19.
(обратно)23
Матей М. История бань в Чехословакии // Сауна / Под ред. В. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 14.
(обратно)24
Желтов А. А. Бани и банные традиции северной и центральной России // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 27–28.
(обратно)25
Желтов А. А. Бани и банные традиции северной и центральной России // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 34.
(обратно)26
Логинов К. К. Из истории бани в Карелии // Традиционная культура. № 1. 2015. С. 136.
(обратно)27
Там же. С. 133.
(обратно)28
Матей М. История появления и распространения сауны в мире // Сауна / Под ред.
B. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 11.
(обратно)29
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004.
C. 7.
(обратно)30
Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка. М., 2003.
(обратно)31
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 8, 10.
(обратно)32
Древности Петрозаводска / Сост. А. М. Жульников, А. М. Спиридонов. Петрозаводск, 2003. С. 83.
(обратно)33
Желтов А. А. Бани и банные традиции северной и центральной России // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 14.
(обратно)34
Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 57–67.
(обратно)35
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 80.
(обратно)36
SKVR 1,4:2407.
(обратно)37
Кочкуркина С. И. Народы Карелии: история и культура. Петрозаводск, 2004. С. 114.
(обратно)38
‘Там же. С. 98, 102.
(обратно)39
Жуков А. Ю. Карелия в средневековье (X–XV вв.) // История Карелии с древнейших времен и до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 62.
(обратно)40
Там же. С. 66.
(обратно)41
Там же. С. 81.
(обратно)42
бам же. С. 63, 166–167.
(обратно)43
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 258.
(обратно)44
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 242.
(обратно)45
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 124.
(обратно)46
Точка зрения К. К. Логинова о происхождении бани у карелов см.: Логинов К. К. Из истории бани в Карелии // Традиционная культура. № 1. 2015. С. 133–141.
(обратно)47
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. 109 s.
(обратно)48
Макашина T. С. Баня в вологодском свадебном обряде // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 231.
(обратно)49
SKVRII: 299.
(обратно)50
Орфинский В. IL, Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 107–108.
(обратно)51
Орфинский В. П. Вековой спор: Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера // Советская этнография. 1989. № 2. С. 57–58.
(обратно)52
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Сямозерские деревни // История и культура Ся-мозерья. Петрозаводск, 2008. С. 355.
(обратно)53
Битов М. В. Гнездовой тип расселения на Русском Севере и его происхождение II Советская этнография. 1955. № 2. С. 27–40; Битов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVII. М., 1974. С. 164–165.
(обратно)54
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 116.
(обратно)55
‘Там же. С. 117.
(обратно)56
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 127.
(обратно)57
Karjalan kielen sanakirja (далее: КК8). Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)58
Покровский П. Карел, его быт и занятия // ОГВ. 1873. № 6. С. 65–66.
(обратно)59
Paulaharju S. Matkakuvia Karjalan kankailta 1907. Helsinki, 1981. S. 48–49, 68.
(обратно)60
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. M., 2002. С. 48.
(обратно)61
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 53.
(обратно)62
Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца 19 – начала 20 века / Сост. Р. Ф. Никольская, А. П. Косменко. Л., 1981. С. 81.
(обратно)63
Никольская Р.Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 83.
(обратно)64
Кочкуркина С. И. Корела и Русь. Л., 1986. С. 38.
(обратно)65
Харузин H. Н. Очерки развития жилища у финнов // Этнографическое обозрение. М., 1895. С. 45.
(обратно)66
Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Helsinki, 1981. S. 298.
(обратно)67
Никольская Р.Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 68.
(обратно)68
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 310.
(обратно)69
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 118.
(обратно)70
Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. M.-JL, 1965. С. 114–115.
(обратно)71
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. 109 s.
(обратно)72
Тароева (Никольская) Р. Ф. Материальная культура карел. М.-Л., 1965. С. 115.
(обратно)73
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 9.
(обратно)74
Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 369.
(обратно)75
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. s. 34–35.
(обратно)76
Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси 6–9 вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. с. 388–389.
(обратно)77
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 164–165.
(обратно)78
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 48.
(обратно)79
Желтов А. А. Бани и банные праздники северной и центральной России // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 14.
(обратно)80
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 310.
(обратно)81
Там же. С. 310.
(обратно)82
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 47.
(обратно)83
Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. С. 310.
(обратно)84
Логинов К. К. Домашний повседневный быт // Деревня Юккогуба и ее округа. Сост. И. Е. Гришина и др. Петрозаводск, 2001. С. 182.
(обратно)85
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 48.
(обратно)86
SKS 74/2598.
(обратно)87
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 141, 306.
(обратно)88
Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел / Сост. Р. Ф. Никольская, А. П. Косменко. Петрозаводск, 1981. С. 81.
(обратно)89
Локоть – древняя мера длины, равная 62 сантиметрам.
(обратно)90
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 187.
(обратно)91
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)92
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 48.
(обратно)93
Устное сообщение А. П. Конкка о рассказах деда.
(обратно)94
Там же. С. 48.
(обратно)95
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 73.
(обратно)96
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 521.
(обратно)97
Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск, 2006. С. 264.
(обратно)98
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 521.
(обратно)99
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 401.
(обратно)100
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)101
Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 73, 79–80.
(обратно)102
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520–522.
(обратно)103
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S.522.
(обратно)104
SKS 73/1474.
(обратно)105
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 399.
(обратно)106
HA 34/261.
(обратно)107
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 107.
(обратно)108
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)109
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)110
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)111
Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 76.
(обратно)112
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 154.
(обратно)113
Логинов К.К. Материальная культура и производственно-бытовая магия // История и культура Сямозерья / Под. ред. В. П. Орфинского и др. Петрозаводск, 2008. С. 223–224.
(обратно)114
Логинов К. К. Материалы по традиционным обрядам и представлениям населения Карелии, связанным с баней // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Петрозаводск, 2009. С. 302.
(обратно)115
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)116
Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. M.-JL, 1965. С. 116.
(обратно)117
Фишман О. М. «А все равно лучше жили»: нарративы тихвинских карелов о прежней крестьянской жизни // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О. П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 59.
(обратно)118
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 22.
(обратно)119
Пертту П. По следу Вяйнямёйнена. Петрозаводск, 1978. С. 211.
(обратно)120
Taive I. Vatjalaista kansankultturia. Helsinki, 1981. S. 50–51.
(обратно)121
ФА 2390/24, НА 34/261.
(обратно)122
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 120.
(обратно)123
Конкка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историкокультурный ландшафт Северо-Запада-З. СПб, 2014. С. 66–73.
(обратно)124
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)125
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 208.
(обратно)126
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 98.
(обратно)127
Записано от T. Хейккинен в 2015 году в и. Пряжа.
(обратно)128
Hämäläinen A. Ihmisruumiin substanssi. Suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa. Helsinki, 1920. S. 18–46.
(обратно)129
ФА 2241/27.
(обратно)130
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 99.
(обратно)131
Георгиевский М. Д. Из народной жизни // ОГВ. 1980. № 73. С. 743–744.
(обратно)132
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S. 53.
(обратно)133
Устное сообщение E. И. Клементьева (Муезерский район)
(обратно)134
ФА 2253/13.
(обратно)135
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 123.
(обратно)136
НА 8/615.
(обратно)137
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)138
ФА 2241/27.
(обратно)139
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)140
ФА 2520/23; НА 34/282.
(обратно)141
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982. S. 252.
(обратно)142
Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе / Сост. А. Н. Рассыхаев, В. М. Кудряшова. Сыктывкар – Нарьян-Мар, 2014. С. 325.
(обратно)143
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)144
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 123.
(обратно)145
НА 8/622.
(обратно)146
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki: SKS, 1991. S. 89.
(обратно)147
ФА 2390/24.
(обратно)148
Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 124.
(обратно)149
Б-ков M. Быт карела // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. № 3. С. 108.
(обратно)150
Turunen A. Kalevalan sanat i niiden taustat. Helsinki, 1981. S. 298.
(обратно)151
SKS 74/2593,2595.
(обратно)152
Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 52.
(обратно)153
Лесков Н.Ф. Вшндуойдъ // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 515.
(обратно)154
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 190.
(обратно)155
Пропп. В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 67.
(обратно)156
‘НА 34/261.
(обратно)157
Karjalan sananpolvia / Toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971. S. 221.
(обратно)158
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 522.
(обратно)159
Девяткина T. П. Мифология мордвы. Саранск, 2006. С. 104.
(обратно)160
Новый Завет. Еф. 5: 25–26.
(обратно)161
Новый Завет. Тит. 3:5–6.
(обратно)162
Катаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Императорской Академии наук. VI серия. Пт., 1917. Т. XL № 9. С. 645; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 285, 340,404, 412.
(обратно)163
Криничная Н. А. Сынове бани // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 75.
(обратно)164
Никольская РФ., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 83.
(обратно)165
Virtaranta Р. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1958. S. 167.
(обратно)166
SKVRII: 920 (Tulomajärvi), 925, 925a (Repola); VII: 3026, 3056.
(обратно)167
HA 8/1137.
(обратно)168
НА Разряд 1, оп. 2, ед. хр. 98, лист 7.
(обратно)169
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S.63.
(обратно)170
Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел / Сост. Р. Ф. Никольская, А. П. Косменко. Л., 1981. С. 81–82.
(обратно)171
А. С. Степанова и В. П. Федотова – ученые, работавшие в ИЯЛИ в 60–90 годах XX века.
(обратно)172
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 104.
(обратно)173
НА 155/3.
(обратно)174
ФА 2391/22 (Юккогуба).
(обратно)175
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 25.
(обратно)176
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 48.
(обратно)177
HA 34/261 (Медвежьегорский район).
(обратно)178
Грузнова E. Г. Место, где все равны // Родина. 1995.№ 9. С. 102.
(обратно)179
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 11.
(обратно)180
Древний карельский ритуал приветствия в бане будет рассмотрен в главе об этикете общения с духами-хозяевами бани.
(обратно)181
Иванов В. В., Топоров В. Н. Баенник//Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 162.
(обратно)182
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 63.
(обратно)183
Матей М. История появления и распространения сауны в мире // Сауна / Под ред. В. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 10.
(обратно)184
Матей М. История появления и распространения сауны в мире // Сауна / Под ред. В. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 15.
(обратно)185
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 165.
(обратно)186
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 166.
(обратно)187
Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные сведения о карелах. Петрозаводск, 1990. С. 9.
(обратно)188
Virtanen L. Onni yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S. 53.
(обратно)189
ФА 2520/23.
(обратно)190
Virtanen L. Onni yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S. 53.
(обратно)191
Байбурин A.K. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С. 90–91.
(обратно)192
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 29.
(обратно)193
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 75.
(обратно)194
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 41–42.
(обратно)195
Никольская P. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 80.
(обратно)196
Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. M.-JL, 1965. С. 115.
(обратно)197
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 41.
(обратно)198
ФА 2019/7.
(обратно)199
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S. 61.
(обратно)200
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 37.
(обратно)201
SKVRI, 4: 943 (Kiimasjärvi).
(обратно)202
SKVRI, 4: 941 (Kiimasjärvi).
(обратно)203
SKVRII: 920 (Tulomajärvi).
(обратно)204
ФА 2019/7.
(обратно)205
Этнографичесие материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 5.
(обратно)206
ФА 1720/2.
(обратно)207
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 65.
(обратно)208
Этнографические материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 5–6.
(обратно)209
Живая старина. 1911. № 20. С. 13, 243; Известия Академии наук по Отделению общественных наук. 1931. С. 749–750.
(обратно)210
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 36–37.
(обратно)211
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 54.
(обратно)212
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 299.
(обратно)213
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 167–168.
(обратно)214
Геннеп ван А. Обряды перехода. М., 1999. 200 с.
(обратно)215
Никольская РФ., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 82–83.
(обратно)216
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 51.
(обратно)217
Духовная культура сегозерских карел / Сост. У С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980. С. 9.
(обратно)218
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 166, 168.
(обратно)219
ФА 2011/40,2363/11 (Чёбино, Сяргозеро).
(обратно)220
НА 8/854 (Медвежьегорский район).
(обратно)221
ФА 2019/7.
(обратно)222
НА Фонд 1, опись 45, ед. хр. 131, л. 21.
(обратно)223
Подробнее см.: Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывалыцин, поверий и верований карелов. Часть первая. М., 2012. С. 161–167.
(обратно)224
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карелов. Л., 1985. С. 141.
(обратно)225
ФА 2392/6 (Юккогуба).
(обратно)226
См. подробнее: Л. И. Иванова. Законы «лесного царства»: народные традиции экологического воспитания (по материалам карельской мифологической прозы) // Карельская семья во второй половине 19 – начале 21 в. / Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2013. С. 180–211.
(обратно)227
ФА 1592/7-8.
(обратно)228
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 66.
(обратно)229
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 166.
(обратно)230
Никольский В. Суеверные приметы Олонецких карел при рождении младенца // Олонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 16. С. 371.
(обратно)231
НА 8/1130 (Медвежьегорский район).
(обратно)232
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 166.
(обратно)233
SKS 440/ 595 (Ведлозеро).
(обратно)234
SKS 75/2966 (Колатсельга).
(обратно)235
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 37–45, 48–51.
(обратно)236
Ibid., s. 45.
(обратно)237
Фольклорно-этнографическая экспедиция в Олонец в 2014 году.
(обратно)238
Ibid., s. 45.
(обратно)239
Аршин – старинная мера длины, равная 0, 7 метра.
(обратно)240
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 199.
(обратно)241
SKVRII: 840 (Porajärvi), 841 (Repola).
(обратно)242
Этнографические материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 11.
(обратно)243
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 66.
(обратно)244
ФА 1592/7-8.
(обратно)245
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 40.
(обратно)246
Этнографические материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 5.
(обратно)247
Девяткина Т. И. Мифология мордвы. Саранск, 2001. С. 103–105.
(обратно)248
Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. СПб., 2001. С. 65–72.
(обратно)249
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 147.
(обратно)250
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 177.
(обратно)251
Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011. С. 20.
(обратно)252
Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск, 2006. С. 104, 106.
(обратно)253
Vahros I. Geschihte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. S. 136–145.
(обратно)254
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 164–177.
(обратно)255
Vahros I. Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. S. 141.
(обратно)256
SKS 4945/33.
(обратно)257
Макаров Г. H., Рягоев В. Д. Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. С. 243, 270.
(обратно)258
НА 156/80; НАФ. 1,оп. 50, ед. хр. 1–4.
(обратно)259
SKS Marttinen L, E 83, s. 114.
(обратно)260
Новый Завет. Мтф. 19:5.
(обратно)261
Pelkonen E. Karjalan meren äärellä. Helsinki, 1961. S. 101–102.
(обратно)262
Степанова А. С. Карельская свадьба в конце 19 – начале 20 в. // Культура повседневности карельской семьи / Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 216.
(обратно)263
НА 8/746 (Медвежьегорский район).
(обратно)264
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 107.
(обратно)265
См. реконструкцию обряда на основе причетной традиции: А. С. Степанова. Свадебные причитания и ритуальная баня // А. С. Степанова. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 49–69.
(обратно)266
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 216.
(обратно)267
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 107.
(обратно)268
Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004. С. 102–103; Карельские причитания / Сост. А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976. № 106–109.
(обратно)269
НА 20/ 35 (Ухта).
(обратно)270
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 140; Лызлова А. С. Место похищения женщины в русской волшебной сказке: к вопросу о контакте представителей своего и иного миров // Труды КарНЦ РАН. № 6. 2011. С. 146.
(обратно)271
Криничная Н. А. Окно крестьянского жилища: к представлениям о границе и контактной зоне между мирами в севернорусской мифологии // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Петрозаводск, 2008. С. 131–141.
(обратно)272
Ojajärvi A. Morsiussauna // KV. 1959. N 39. S. 303.
(обратно)273
Лесков H. Ф. Погребальные обряды кореляков // Живая старина. Вып. 3–4. 1894. С. 511–514.
(обратно)274
Лавонен Н. А. Карельская народная загадка. Л., 1977. С. 50–52.
(обратно)275
Байбурин А. К., Левинтон Г. А. К описанию организации пространства в восточнославянской свадьбе // Русский народный свадебный обряд. Л., 1978. С. 95.
(обратно)276
О почитании деревьев карелами см.: Сурхаско Ю. Ю. Козичендашаува – жезл колдуна на карельской свадьбе // Сборник Музея антропологии и этнографии. 1972. Т. 28. С. 203; Л.И. Иванова. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С. 143–159.
(обратно)277
Reponen A. Metsäsuomalaisten ikäkylpy ja ilokylpy // KV. 1931, N11. S. 151. Salla-maa K. Nouse lempi liehumahan // KV. 1983, N 63. S. 256.
(обратно)278
Никольская R Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983. С. 123.
(обратно)279
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 172.
(обратно)280
НА 79/325, 420 (Заонежье).
(обратно)281
Бессонов П. Калики перехожие. М., 1861. С. 281.
(обратно)282
НА 7/127 (Сельга).
(обратно)283
НА 8/176 (Медвежьегорский район).
(обратно)284
!HA 8/569 (Медвежьегорский район).
(обратно)285
НА 8/553.
(обратно)286
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. С. 247.
(обратно)287
Степанова А. С. Свадебные причитания и ритуальная баня // Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 62.
(обратно)288
Степанова А. С. Свадебные причитания и ритуальная баня // Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 63.
(обратно)289
НА Ф. 1, оп. 38, ед. хр. 265, л. 98.
(обратно)290
Ojajärvi A. Morsiaussauna // Kalevalaseuran vuosikirja. 1959. N 39. S. 297.
(обратно)291
Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004. С. 103.
(обратно)292
Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб., 2001. С. 177–193.
(обратно)293
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 109.
(обратно)294
SKVR1,4: 1944 (Vuokkiniemi).
(обратно)295
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. С. 247.
(обратно)296
Карельские причитания / Сост. А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976. № 110.
(обратно)297
ФА 575, 576.
(обратно)298
НА 20/35 (Ухта).
(обратно)299
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 18.
(обратно)300
Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 53.
(обратно)301
Pelkonen E. Karjalan meren äärellä. Helsinki, 1921. С. 100–101.
(обратно)302
НА Ф. 1, on. 50, едхр. 1^1.
(обратно)303
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 107.
(обратно)304
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 168.
(обратно)305
НА 20 /35 (Ухта).
(обратно)306
Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 54.
(обратно)307
О функциях бани в русской сказке см.: Разумова И. А. Баня в народных верованиях и сказке // Обряды и верования народов Карелии. СПб., 1992. С. 86–108; Давыдов И. П. Баня Бабы-Яги // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2001. № 6. С. 73–88.
(обратно)308
Степанова А. С. Поэзия калевальской метрики и причитания // Степанова А. С. Карельские причитания. Петрозаводск, 2003. С. 173.
(обратно)309
НА 20/35 (Ухта).
(обратно)310
Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 54.
(обратно)311
Духовная культура сегозерских карел. Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980. С. 18.
(обратно)312
Лесков Н. Ф. Карельская свадьба // Живая старина. 1894. Вып. 3–4. С. 504–505.
(обратно)313
Богданов Г. X. Свадьба Ухтинской Карелии // Западнофинский сборник. Л., 1930. С. 43.
(обратно)314
Лавонен Н. А. Стол в верованиях карел. Петрозаводск, 2000. С. 115.
(обратно)315
Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М. 2012. С. 160–161.
(обратно)316
Virtaranta Р. Vienankansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1957. S. 353.
(обратно)317
Лесков H. Ф. Карельская свадьба // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 505.
(обратно)318
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 109.
(обратно)319
Катаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Академии наук. Петроград. Серия VI. 1917. № 9. С. 651.
(обратно)320
Познанский Н. Заговоры. Пгр., 1918. С. 247, 253.
(обратно)321
Зеленин Д. К. О старом быте карел Медвежьегорского района Карело-Финской ССР // Советская этнография. 1941. № 5. С. 110 – 125.
(обратно)322
Лесков Н. Ф. Карельская свадьба // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С.505.
(обратно)323
Лесков Н. Ф. Карельская свадьба // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 505.
(обратно)324
Богданов Г. К. Свадьба Ухтинской Карелии // Западнофинский сборник. Труды КИПС АН СССР; 16. Л., 1930. С. 43.
(обратно)325
Лесков Н. Ф. Карельская свадьба//Живая старина. Вып. 3^1. СПб., 1894. С. 505.
(обратно)326
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 67.
(обратно)327
НА 8/553, 746 (Медвежьегорский район).
(обратно)328
ФА 683/5.
(обратно)329
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 179.
(обратно)330
НА 20/35 (Ухта).
(обратно)331
Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 55.
(обратно)332
Kemppinen I. Haudantakainen elämä. Helsinki, 1967. S. 144.
(обратно)333
Лавонен H. А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованиях карел // Фольклор и этнография. Л., 1984. С. 171–179.
(обратно)334
Богданов Г. К. Свадьба Ухтинской Карелии // Западнофинский сборник. Труды КИПС АН СССР; 16. Л., 1930. С. 43.
(обратно)335
Vahros I. Geschichte und Folklore der grossrussishen Sauna. FFC. Helsinki, 1966. S. 141.
(обратно)336
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 102.
(обратно)337
Макашина Т. С. Свадебный обряд и фольклор // На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989. С. 239–240; Катаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Академии Наук. Серия VI. 1917. № 97. С. 640–647.
(обратно)338
Цит. по: А. С. Степанова. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 69.
(обратно)339
Плесовский В. Ф. Свадьба народов коми. Сыктывкар, 1968. С. 136–137.
(обратно)340
Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 69.
(обратно)341
Vahros I. Gesghihte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. S. 309, 318.
(обратно)342
Миронова В. П. Южнокарельская эпическая песня «Сватовство в мифической стране Хийтола» в контексте карельского свадебного обряда // Традиционная культура. № 3. 2011. С. 39–47.
(обратно)343
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 101–102.
(обратно)344
SKVRII: 461, 467 (Repola).
(обратно)345
SKVRII: 467.
(обратно)346
Миронова В. П. Эпитеты в южнокарельской традиции (на примере песни «Сватовство в мифической стране Хийтола») // Финноугроведение. № 1. 2010. С. 65–67.
(обратно)347
SKVR I, 4: 2167 (Vuokkiniemi).
(обратно)348
Harva U. Miero vuotti uutta kuuta // KV. 1939. N 19. S. 56–67.
(обратно)349
Степанова А. С. Поэзия калевальской метрики и причитания // Степанова А. С. Карельские плачи. Петрозаводск, 2003. С. 170–174.
(обратно)350
SKVRI, 3: 1554, 1555 (Jyskyjärvi).
(обратно)351
SKVR II: 96а (Pyhäjärvi).
(обратно)352
SKVR II: 460 (Repola).
(обратно)353
SKVR II: 463 (Repola).
(обратно)354
SKVR I, 1 erill.
(обратно)355
SKVR II: 463.
(обратно)356
SKVRI, 3: 1554 (Jyskyjärvi).
(обратно)357
SKVRII: 461 (Repola).
(обратно)358
SKVR I, 4: 2155 (Kiestinki).
(обратно)359
SKVRII: 96а (Pyhäjärvi).
(обратно)360
SKVRII: 460(Repola); Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 107.
(обратно)361
HA 111/5-6 (Колатсельга, Сыссойла).
(обратно)362
Карельские эпические песни. Сост. В. Я. Евсеев. Петрозаводск, 1950. № 123, 155.
(обратно)363
SKVRI, 3: 1556 (Kiimaisjärvi).
(обратно)364
НА 111/4 (Колатсельга, Сыссойла).
(обратно)365
SKVRI, 3: 1554, 1555 (Kiimaisjärvi); II: 96а (Pyhäjärvi), 463 (Repola).
(обратно)366
SKVR I, 3: 1556 (Kiimaisjärvi); II: 463 (Repola).
(обратно)367
SKVR I, 3: 1559 (Vuokkiniemi).
(обратно)368
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 186–189.
(обратно)369
ФА 2028/14.
(обратно)370
Байбурин А. К., Левинтон Г. А. К описанию организации пространства в восточнославянской свадьбе // Русский народный свадебный обряд. Л., 1978. С. 95; Винокурова И. Ю. Вепсские молодые в хронике биосоциальных событий // «Уведи меня, дорога…». СПб., 2010. С. 116.
(обратно)371
См. подробнее о лемби: Иванова Л. И. Народные представления и обряды, связанные с лемби // Иванова Л. И., Миронова В. И. Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской культуре. Финляндия: Juminkeko, 2014. С. 24–26.
(обратно)372
ФА 1894/1 (Сельга).
(обратно)373
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 186.
(обратно)374
ФА 832/2, 836/5 (Зашеек).
(обратно)375
ФА 2028/14 (Карельская Масельга).
(обратно)376
ФА 575, 576 (тверские карелы).
(обратно)377
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985.
(обратно)378
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520–522.
(обратно)379
Словарь карельского языка / Сост. Г.Н. Макаров. Петрозаводск, 1990. С. 122.
(обратно)380
Karjalaisia sananpolvia / Toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971. S. 479.
(обратно)381
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 190.
(обратно)382
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 201.
(обратно)383
Конкка А. П. Сямозерская свадьба // На плечах Большой медведицы. Петрозаводск, 2015. С. 304.
(обратно)384
SKS 74/2289 (Колатсельга).
(обратно)385
Духовная культура сегозерских карел / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Петрозаводск, 1980. С. 52.
(обратно)386
НА 20/35 (Ухта).
(обратно)387
Конкка У.С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 139.
(обратно)388
Духовная культура сегозерских карел / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Петрозаводск, 1980. С. 21.
(обратно)389
Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011. С. 21.
(обратно)390
N. N. Свекровь в бане // Олонецкие губернские ведомости. 1872. № 1. С. 10.
(обратно)391
Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск, 2006. С. 104.
(обратно)392
Подробно о лемби см. главу «Баня в любовно-магической ритуальности».
(обратно)393
Конкка А.П. О заговорах «поднятия лемпи» из собрания Фольклорного архива Финского литературного общества (SKVR: Беломорская, Приладожская и Северная Карелия) // Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов. Петрозаводск, 2013. С. 98.
(обратно)394
SKVR 1,1:15 (Jyskyjärvi).
(обратно)395
SKVR 1,4:1869 (Kontokki).
(обратно)396
Федотова В. П., Бойко Т. П. Словарь собственно-карельских говоров Карелии. Петрозаводск, 2009. С. 207.
(обратно)397
Винокурова И. Ю. Вепсские молодые в хронике биосоциальных событий // «Уведи меня, дорога…». СПб., 2010. С. 115.
(обратно)398
ФА 2018/16.
(обратно)399
Сурхаско Ю. Ю., Никольская Р. Ф. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 79.
(обратно)400
НА 8/374 (Медвежьегорский район).
(обратно)401
ФА 2713/9.
(обратно)402
Paulaharju S. Matkakuvia karjalan kankailta 1907. Helsinki, 1981. S. 57–58.
(обратно)403
Конкка А. П. Сямозерская свадьба // На плечах Большой медведицы. Петрозаводск, 2015. С. 302.
(обратно)404
НА 8/910 (Медвежьегорский район).
(обратно)405
Vahros I. Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. S. 101.
(обратно)406
Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М., 1997. С. 528.
(обратно)407
Гальковский H. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. Харьков, 1916. С. 72.
(обратно)408
Лавонен Н. А. Из наблюдений о бытовании погребально-поминального обряда в Южной Карелии // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1993. С. 24^-7.
(обратно)409
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 36.
(обратно)410
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 152.
(обратно)411
Там же. С. 151.
(обратно)412
Подробно о погребально-поминальной обрядности карелов см.: Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 52–132.
(обратно)413
Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. М.-Л., 1965. С. 116.
(обратно)414
ФА 2391/23.
(обратно)415
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 158–163.
(обратно)416
Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 65.
(обратно)417
Vahros I. Gesghihte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC. N 197. Helsinki, 1966. S. 103.
(обратно)418
KKS. Osa 6. Helsinki, 2005. S. 766
(обратно)419
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. С. 200.
(обратно)420
Мансикка В. Из финской этнографической литературы // Живая старина. 1916. № 903. (Петроград, 1917). С. 203.
(обратно)421
См. подробно о Кегри: Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С. 27–35.
(обратно)422
Kemppinen I. Suomalainen mytologia. Helsinki, 1960. S. 37.
(обратно)423
Krohn К. Suomalaisten runojen uskonto. Helsinki, 1915. S. 53–56; Vilkuna K. Vuotuinen ajantieto. Helsinki, 1950. S. 296–298.
(обратно)424
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973. С. 123–125.
(обратно)425
Virtaranta Р. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki. 1958. S. 764.
(обратно)426
KKS. Osa II. Helsinki, 1974. S. 119.
(обратно)427
Маслова Г. C. “Kegrin päivä” у карел Калининской области // Советская этнография. 1937. № 4. С. 150.
(обратно)428
Мансикка В. П. Из финской этнографической литературы // Живая старина. 1916. № 903. (Петроград, 1917). С.203.
(обратно)429
Paulaharju S. Matkakuvia Karjalan kankailta 1907. Helsinki, 1981. S. 32.
(обратно)430
Конкка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историкокультурный ландшафт Северо-Запада-З. СПб, 2014. С. 66–73.
(обратно)431
KKS. Osa 3. S. 355; Osa 2. S. 119.
(обратно)432
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 165.
(обратно)433
Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. СПб., 2001. С. 94.
(обратно)434
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 29. С. 7.
(обратно)435
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 167.
(обратно)436
ФА 682/7.
(обратно)437
ФА 682/7.
(обратно)438
Баня и печь в русской народной традиции / Отв. ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 245.
(обратно)439
ФА 683/5, 7.
(обратно)440
Миронова В. П. Зимние Святки у ливвиков (по полевым материалам 1990-2000-х гг.) // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Петрозаводск, 2009. С. 265–270.
(обратно)441
Подробнее о Сюндю и Крещенской бабе см.: Иванова Л.И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С. 35–140.
(обратно)442
SKS 384/39.
(обратно)443
Конкка А. П. Календарная мифология и обрядность сямозерских карел // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 319.
(обратно)444
ФА 2610/6.
(обратно)445
Иванова Л.И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С.
(обратно)446
Virtaranta Р. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1958. S. 612.
(обратно)447
ФА 1375/6, 2254/4.
(обратно)448
ФА 683/5, 7.
(обратно)449
НА 8/1023 (Медвежьегорский район).
(обратно)450
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 171.
(обратно)451
Новак И.П. Полевые аудиозаписи А. В. Пунжиной как источник информации о повседневной жизни тверской карельской семьи конца 19 – начала 20 в. // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О. П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 118, 121.
(обратно)452
ФА 682/7.
(обратно)453
ФА 683/5.
(обратно)454
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 146.
(обратно)455
ФА 683/5.
(обратно)456
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 3 Helsinki, 1964. S. 18.
(обратно)457
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Juväskylä, 1982. S. 426.
(обратно)458
Карельские народные загадки / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1982. С. 76.
(обратно)459
Конкка А. П. Великий Сюндю // На плечах Большой Медведицы. Петрозаводск, 2015. С. 115.
(обратно)460
Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Joensuu, 1981. S. 175.
(обратно)461
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982. S. 18.
(обратно)462
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982. S. 254.
(обратно)463
Лесков H. Ф. Вияндуойд // Живая старина. 1894. Вып. 3–4. С. 515.
(обратно)464
Никольский В. Святочные гадания и суеверные обычаи олонецких карел // Олонецкая неделя. 1916. № 1.
(обратно)465
См. подробнее о лемби: Иванова Л. И. Народные представления и обряды, связанные с лемби // Иванова Л. И., Миронова В. И. Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской культуре. Финляндия: Juminkeko, 2014. С. 11–108; Конкка А. И. На плечах Большой Медведицы: карельские заговоры и магические действия на поднятие лемпи // Традиционная культура. 2014, № 3. С. 136–145.
(обратно)466
SKVRII: 1048 (Säämäjärvi).
(обратно)467
Сурхаско Ю. Ю., Никольская Р. Ф. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 74.
(обратно)468
Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Helsinki, 1981. S. 175.
(обратно)469
SKS 76/3900 (Колатсельга); ФА 2031/38 (Чебино).
(обратно)470
Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтической формулы // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. 4. С. 13.
(обратно)471
ФА 2035/15-17 (Чебино).
(обратно)472
SKS 76/3900 (Колатсельга).
(обратно)473
SKVRII: 1039 (Porajärvi).
(обратно)474
SKVRII: 1039а (Porajärvi).
(обратно)475
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. С. 147.
(обратно)476
“SKVRII: 1043 (Porajärvi).
(обратно)477
SKS 76/ 3900 (Колатсельга).
(обратно)478
SKS 76/3906 (Колатсельга).
(обратно)479
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. С. 147. SKVR II: 1043.
(обратно)480
SKVR VII,5: 4711 (Kaavi).
(обратно)481
Подробнее о божестве Лемпи см.: Иванова Л.И. Народные представления и обряды, связанные с лемпи / Иванова Л. И., Миронова В. И. Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской народной культуре. Juminkeko, 2014. С. 30–36.
(обратно)482
SKVR VII,5: 4617.
(обратно)483
SKVR VII, 5: 4713; ФА 1884/20 (Сельга).
(обратно)484
KKS. Helsinki, 1983. Osa III. S. 60.
(обратно)485
ФА 1884/20.
(обратно)486
SKS 76/3902 (Колатсельга).
(обратно)487
SKVR VII. 5.4639.
(обратно)488
SKS 76/3899 (Колатсельга).
(обратно)489
SKS 441/662 (Ведлозеро).
(обратно)490
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи: Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. С. 273–274.
(обратно)491
Virtaranta Р. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1958. S. 614.
(обратно)492
SKS 76/3914 (Колатсельга).
(обратно)493
KKS. Helsinki, 2005. Osa VI. S. 519.
(обратно)494
Turunen A. Kalevalan sanat ja nieden taustat. Helsinki, 1981. S. 175.
(обратно)495
SKS 76/3901 (Колатсельга).
(обратно)496
Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 1958. S. 614.
(обратно)497
ФА 2031/37 (Остречье).
(обратно)498
SKVRII: 1037 (Tulomajärvi).
(обратно)499
KKS. Osa 3. Helsinki, 1977. S. 60.
(обратно)500
SKS 76/3899 (Колатсельга).
(обратно)501
SKS 441/662 (Ведлозеро).
(обратно)502
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. С. 152.
(обратно)503
‘KKS. Osa 3. Helsinki, 1977. S. 60.
(обратно)504
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи: Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Л., 1969. С. 274
(обратно)505
ФА 1884/20.
(обратно)506
Лесков Н. Поездка в Корелу // Живая старина. 1895. Вып. 3–4. отд. 1. С.292.
(обратно)507
KKS. Helsinki, 1983. Osa III. S. 60.
(обратно)508
SKVR VII, 5: 4708 (Kaavi); 4815 (Kaavi).
(обратно)509
Turunen A. Kalevalan sanat ja nieden taustat. Helsinki, 1981. S. 175.
(обратно)510
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 3. Helsinki, 1964. S. 18.
(обратно)511
Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 3. Helsinki, 1964. S. 16.
(обратно)512
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta/Toim. J. Nirkko. Helsinki: SKS, 1991. S. 43.
(обратно)513
Сурхаско Ю. Ю., Никольская P. Ф. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 75.
(обратно)514
Катаров Е. Шаманский обряд прохождения через отверстие // Доклады АН СССР. Сер. В.М., 1929. № 11. С. 189–192.
(обратно)515
SKVR VII, 5: 4714,4716.
(обратно)516
SKVRII: 1039 (Porajärvi), 945 (Tulomajärvi).
(обратно)517
SKS 76/3904 (Колатсельга).
(обратно)518
Сурхаско Ю. Ю. Карелькая свадебная обрядность. Л., 1977. С. 54
(обратно)519
Конкка А.П. О заговорах «поднятия лемпи» из собрания Фольклорного архива Финского литературного общества (SKVR: Беломорская, Приладожская и Северная Карелия) // Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов. Петрозаводск, 2013. С. 100.
(обратно)520
SKVR I, 4: 1804 (Vuokkiniemi).
(обратно)521
SKVR I, 4: 1813 (Kontokki).
(обратно)522
SKVR1,4: 1814 (Kontokki).
(обратно)523
SKVR 1,4: 1807 (Vuokkiniemi).
(обратно)524
Вероятно, правильнее: tsuarin.
(обратно)525
SKVRI, 4: 1816 (Vuokkiniemi).
(обратно)526
SKVR1,4: 1818 (Vuokkiniemi).
(обратно)527
SKVR I, 4: 1819 (Vuokkiniemi).
(обратно)528
SKVR1,4: 1820 (Vuokkiniemi).
(обратно)529
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Helsinki, 1995. S. 18.
(обратно)530
SKVR VII, 5: 4607 (Sortavala).
(обратно)531
Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010. С. 157.
(обратно)532
SKVRI, 4: 1812 (Kiimaisjärvi).
(обратно)533
Из быта и верований корел Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 95. С. 6.
(обратно)534
Духовная культура сегозерских карел конца 19 – начала 20 в. / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Петрозаводск, 1981. С. 115.
(обратно)535
ФА 2031/36-38 (Чёбино).
(обратно)536
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki: SKS, 1991. S. 36,40.
(обратно)537
Конкка А. П. О заговорах «поднятия лемпи» из собрания Фольклорного архива Финского литературного общества // Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов. Петрозаводск, 2013. С. 89.
(обратно)538
Вероятно, правильно: tsuarin. Финский собиратель неверно расслышал или записал слово. Вряд ли неграмотные карелы могли знать о богатстве персидского царя Дария, но имели представление о царских деньгах.
(обратно)539
SKVRI, 4: 1816 (Vuokkiniemi).
(обратно)540
SKVRI, 4: 1818 (Vuokkiniemi).
(обратно)541
SKVR II: 1045 (Porajärvi).
(обратно)542
НА 8/ 763; ФА 2031/ 39 (Чёбино).
(обратно)543
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 43.
(обратно)544
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta/Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 43
(обратно)545
SKVR1,4: 1834 (Kiimaisjärvi).
(обратно)546
SKVR 1,4: 1835 (Kiimaisjärvi).
(обратно)547
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 140.
(обратно)548
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 43.
(обратно)549
Там же. С. 96.
(обратно)550
SKVR VI, 2: 6133 (Etelä-Savo).
(обратно)551
Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Helsinki, 1981. S. 298. См. подробнее o различных обрядах русского населения на территории Карелии: Логинов К. К. Материалы по традиционным обрядам и представлениям населения Карелии, связанные с баней // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Петрозаводск, 2009.С. 302–317.
(обратно)552
SKS 72/221,73/694.
(обратно)553
ФА 2650/5.
(обратно)554
Леннрот Э. Калевала. Петрозаводск, 1998. 23:620.
(обратно)555
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 102–103.
(обратно)556
Леннрот Э. Калевала. Петрозаводск, 1998. 23:405; 25:543–562; 35:313–314.
(обратно)557
ФА 3476/64.
(обратно)558
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 75.
(обратно)559
SKS 74/2437 (Колатсельга).
(обратно)560
Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982. S. 111.
(обратно)561
Подробно о беседах см.: Миронова В. П. Беседа в повседневной жизни сельской молодежи (конец 19-первая половина 20 в.) // Культура повседневности карельской семьи / Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 183–210.
(обратно)562
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 188, 142.
(обратно)563
ФА 2022/29.
(обратно)564
НА Ф. 1, оп. 50, ед. хр. 8, л.31.
(обратно)565
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 29. С. 7.
(обратно)566
НА Ф. 1, оп. 2436, ед. хр. 287, л. 9.
(обратно)567
П. М. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1894. № 87. С. 10.
(обратно)568
Баня и печь в русской народной традиции / Отв ред. В. А. Липинская. М., 2004. С. 238.
(обратно)569
SKS 72/221,73/694.
(обратно)570
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 123; Путешествия Элиаса Ленн-рота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 102.
(обратно)571
SKS м/ф 75 (Колатсельга).
(обратно)572
Колдуны… М., 2013. С. 15.
(обратно)573
НА 155/3 (стр. 63). Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)574
HA 155/ 3 (стр. 97). Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)575
HA 155/ 3 (стр. 106–104). Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)576
HA 155/3 (стр. 126). Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)577
См. также: Пашкова Т. В. Баня в лечебных обрядах карел // Традиционная культура. 2015. № 1.С. 142–148.
(обратно)578
Конкка А. П. От колыбели до могильного креста (обряды и верования в рассках панозерцев) // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 405–414. Пашкова Т. В. Этимология названий некоторых детских заболеваний в карельском языке // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика. Петрозаводск, 2006. С. 257–260; Пашкова Т. В. Название болезни ‘оспа’ в карельском языке // Вестник Поморского университета. 2007. № 8. С. 117–120; Пашкова Т. В. Народные поверья как признак номинации некоторых названий болезней // Бубриховские чтения: проблемы функционирования и контактирования языков и культур прибалтийско-финских народов. Петрозаводск, 2008. С. 188–199.
(обратно)579
Образцы карельской речи. Тихвинский говор собственно карельского диалекта / Сост. В.Д. Рягоев. Л.,1980. С. 300, 302–303, 306, 307, 310, 313, 317, 319, 320.
(обратно)580
Ладвинский Федор. Особенности общественного быта жителей Паданскаго погоста и о Ребольском приходе Повенецкого уезда Олонецкой губернии. Источник: #t20c
(обратно)581
Карельский фольклор / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1992. С. 88.
(обратно)582
Valtakari Р. Die Entwickhung und Verbreitung der Finnischen Sauna // Sauna-Archiv. 1978. N4. S. 11–17.
(обратно)583
Матей M. История появления и распространения сауны в мире // Сауна / Под ред. В. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 11.
(обратно)584
Шдорберг. О способах и мерах уменьшения случаев пожара в банях // ОГВ. 1870. № 10. С. 6.
(обратно)585
Сауна (использование сауны в лечебных и профилактических целях) / Под ред. В. М. Боголюбова и М. Матея. М., 1984.
(обратно)586
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 184.
(обратно)587
Боголюбов В. М. Особенности лечебно-профилактического воздействия русских бань // Сауна / под ред. В. М. Боголюбова, М. Матея. М., 1984. С. 95–104.
(обратно)588
Флоренский П. Магия слова. М., 1990. С. 253, 255.
(обратно)589
Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990. С. 68.
(обратно)590
НА 155/3 (стр. 25); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)591
HA 155/3 (стр. 37, 115);NiemiA. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)592
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 193.
(обратно)593
Липинская В.А. Баня печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 157.
(обратно)594
Siikala A. L. Suomalainen samanizmi. Helsinki, 1992. 359 s.; Логинов К. К. Великие “тиэдяяд” Сямозерья на закате древней традиции // “Калевала” в контексте региональной и мировой культуры. Петрозаводск, 2010. С. 277–288.
(обратно)595
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 14. С. 10.
(обратно)596
НА 155/3 (стр. 31). Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)597
HA 155/3 (стр. 25); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)598
НА 155/3 (стр. 46); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)599
HA 155/3 (стр. 53); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)600
HA 155/3 (стр. 137); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)601
НА 155/3 (стр. 64, 77, 113); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)602
HA 155/3 (стр. 78); Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Helsinki, 1921.
(обратно)603
НА Ф.1, оп. 32, д. 47, стр. 12.
(обратно)604
Камкин Н. Архангельские карелы // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический журнал с рисунками. Петербург, 1880. XVI, 4. С. 668–669.
(обратно)605
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 350.
(обратно)606
SKVRII: 784 (Repola).
(обратно)607
С. В. И. Г. Важинский погост, Олонецкого уезда// Олонецкие губернские ведомости. 1895. № 43. С. 4.
(обратно)608
НА Разряд 1, опись 2, ед. хр. 98, лист 7.
(обратно)609
Проезжий. Знаменитый колдун // Олонецкие губернские ведомости. 1905. № 30. С.З.
(обратно)610
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 14. С. 10.
(обратно)611
Покровский П., учитель. Корел, его быт и занятия (Олонецкий уезд) // Олонецкие губернские ведомости. 1873. № 8. С. 90–92.
(обратно)612
Кораблев Н. А., Афанасьева А. И. Карелия во второй половине XIX – начале XX вв. // История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 329.
(обратно)613
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 271.
(обратно)614
ФА 2024/3 (Карельская Масельга).
(обратно)615
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 307.
(обратно)616
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 34.
(обратно)617
См.: Иванова Л. И. Лесной нос: архаичные представления карелов о болезни и магические локусы ритуала исцеления // Труды Карельского научного центра РАН. Серия Гуманитарные науки. Выпуск 3. Петрозаводск, 2012. С. 68–74.
(обратно)618
SKVRII: 1090 (Pyhäjärvi).
(обратно)619
Карельский фольклор / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1992. С. 91.
(обратно)620
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 105.
(обратно)621
SKVR1,4: 696 (Kontokki).
(обратно)622
SKVR 1,4: 713 (Vuokkiniemi).
(обратно)623
SKVR 1,4: 699 (Suomussalmi).
(обратно)624
SKVR II: 847 (Tulomajärvi).
(обратно)625
SKS 74/ 2290 (Колатсельга),
(обратно)626
SKVRII: 783 (Repola).
(обратно)627
SKVRII: 854 (Porajärvi).
(обратно)628
SKVR II: 850 (Porajärvi).
(обратно)629
SKS 440/ 673 (Ведлозеро).
(обратно)630
SKVRII: 849 (Säämäjärvi).
(обратно)631
SKVRII: 851 (Porajärvi).
(обратно)632
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 106.
(обратно)633
SKVR1,4: 941 (Kiimaisjärvi).
(обратно)634
Карельские пословицы и поговорки / Сост. В.Г. Макаров. Петрозаводск, 2011. С. 125.
(обратно)635
Virtaranta Р. Lyydiläsiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 289–290.
(обратно)636
Имеется в виду менструальная кровь.
(обратно)637
SKVRII: 801 (Rukajärvi).
(обратно)638
‘НА 155/3.
(обратно)639
НА 155/3.
(обратно)640
SKS 73/914.
(обратно)641
Туюнен С. В. Помощники заговаривающего // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998. С. 67–73.
(обратно)642
SKS 74/2388-2389.
(обратно)643
KKS. Osa II. Helsinki, 1974. S. 521–522.
(обратно)644
Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011. С. 20.
(обратно)645
ФА 2011/ 26–27 (Чёбино).
(обратно)646
НА 8/850.
(обратно)647
SKS 74/2298-2299 (Колатсельга).
(обратно)648
ФА 3310/5а.
(обратно)649
ФА 2584/17 (Тунгуда).
(обратно)650
SKS 73/1463 (Колатсельга).
(обратно)651
SKS 74/ 2297 (Колатсельга).
(обратно)652
SKVR1,4: 699 (Suomussalmi), 669 a, 669b (Kontokki), 713 (Vuokkiniemi).
(обратно)653
SKS 74/ 2293.
(обратно)654
ФА 2254/13.
(обратно)655
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 402.
(обратно)656
SKS 3369.
(обратно)657
Иванова Л.И. Тапиола и Хийтола: два лесных царства карельской мифологии // Рябининские чтения-2011. Петрозаводск, 2011. С. 55–59.
(обратно)658
SKS 344/12348-12349.
(обратно)659
SKS 344/12347.
(обратно)660
SKS 344/12352.
(обратно)661
SKS 344/12350.
(обратно)662
SKS 74/2249 (Колатсельга).
(обратно)663
SKS 74/2265.
(обратно)664
НА 8/848,997 (Медвежьегорский район).
(обратно)665
SKS 74/ 2268.
(обратно)666
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 521.
(обратно)667
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 80.
(обратно)668
SKS 73/1454.
(обратно)669
SKS 73/1461.
(обратно)670
SKS 73/1437, 74/2294.
(обратно)671
HA 8/997 (Медвежьегорский район).
(обратно)672
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 521.
(обратно)673
SKS 74/2294 (Колатсельга).
(обратно)674
SKVRII: 834 (Vitele).
(обратно)675
SKVRII: 851 (Porajärvi).
(обратно)676
SKVRII: 851.
(обратно)677
SKS 74/2251 (Колатсельга).
(обратно)678
ФА 3303/18.
(обратно)679
SKS 74/2248-2249 (Колатсельга).
(обратно)680
См. на эту тему: Елеонская E. Н. К изучению заговора и колдовства в России // Сказка, заговор и колдовство в России: Сб. тр. / Сост. и вступ. ст. Л.Н. Виноградова. М., 1994.
(обратно)681
Ковыршина Ю. И. Контекстуальное переключение регистров интонирования русских и карельских заговоров // Доклад на «Рябининских чтениях-2015», г. Петрозаводск. Статья находится в печати.
(обратно)682
ФА 1860/1-10 (Кепа); 1883/38 (Вокнаволок); 2046/34, 37 (Остречье); 2551/6,7,10, 11 (Тунгозеро).
(обратно)683
SKS 74/2271-2272 (Колатсельга).
(обратно)684
SKS 74/2267.
(обратно)685
SKS 74/2266.
(обратно)686
SKS74/2300.
(обратно)687
SKVRII: 781 (Porajärvi).
(обратно)688
KKS. Osa 6. Helsinki, 2005. S. 552.
(обратно)689
Virtaranta R Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 210.
(обратно)690
НА Ф. 1, on. 32, д. 47, стр. 13.
(обратно)691
SKS 74/2474 (Колатсельга).
(обратно)692
SKVR1,4: 1027 (Suomussalmi).
(обратно)693
См. подробно о лесном носе: Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С. 242–250, 370–378.
(обратно)694
SKS 73/1463.
(обратно)695
SKS 74/2272.
(обратно)696
SKS 76/4029 (Колатсельга).
(обратно)697
SKVRII: 868 (Porajärvi).
(обратно)698
НА 118/120 (Калевальский район).
(обратно)699
SKS 440/ 629 (Ведлозеро).
(обратно)700
ФА 3431/20 (Корза).
(обратно)701
ФА 2948/4 (Реболы).
(обратно)702
ФА 3461/2 (Лахта).
(обратно)703
SKS 13608b.
(обратно)704
Камкин Н. Архангельские карелы // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический журнал с рисунками. Петербург, 1880. XVI, 4. С. 668.
(обратно)705
SKVRII: 782 (Repola).
(обратно)706
SKS 73/1472.
(обратно)707
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 208.
(обратно)708
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 62–63.
(обратно)709
ФА 3026/5.
(обратно)710
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa II. Helsinki, 1963. S. 272.
(обратно)711
См. подробнее: Иванова Л. И. Тапиола и Хийтола: два лесных царства карельской мифологии /| Рябининские чтения-2011. Петрозаводск, 2011. С. 55–59; Иванова Л. И., Миронова В. И. Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской народной культуре. Juminkeko, 2014. С. 30–36.
(обратно)712
SKVRI, 4: 2407 (Vuokkiniemi).
(обратно)713
Словарь карельского языка / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990. С. 149.
(обратно)714
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 170.
(обратно)715
SKVR I, 4: 599а (Suomussalmi).
(обратно)716
Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. С. 41.
(обратно)717
SKVRI, 4: 611 (Kiestinki)
(обратно)718
SKVR1,4: 612 (Kiestinki).
(обратно)719
ФА 1594/29а (Кепа).
(обратно)720
ФА 3324/3 (Соддер), 3325/10 (Улялега).
(обратно)721
SKVRII: 836 (Porajärvi).
(обратно)722
Туюнен С. В. Помощники заговаривающего // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998. С. 66.
(обратно)723
KKS. Osa 6. Helsinki, 2005. S. 150.
(обратно)724
Покровский П., учитель. Корел, его быт и занятия (Олонецкий уезд) // Олонецкие губернские ведомости. 1873. № 8. С. 90 – 92.
(обратно)725
Основной материал о лечении оспы и нарушении менструального цикла взят из книги: Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 14–19, 74–79. Но рассказы о лечении оспы часто встречаются и в фольклорных записях, собранных карельскими исследователями во второй половине XX века и хранящихся в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН.
(обратно)726
SKS 74/2450,2452 (Колатсельга).
(обратно)727
SKS 74/2444,2445.
(обратно)728
SKS 74/ 2447.
(обратно)729
SKS 74/2450,2451 (Колатсельга).
(обратно)730
SKS 74/ 2450.
(обратно)731
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 15. С. 9.
(обратно)732
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 74–77.
(обратно)733
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 14. С. 10.
(обратно)734
SKS 74/ 2452 (Колатсельга).
(обратно)735
НА 8/1154 (Медвежьегорский район).
(обратно)736
Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 14. С. 10.
(обратно)737
ФА 711/8 (Рубчейла).
(обратно)738
SKS 74/2818.
(обратно)739
SKS 74/ 2828.
(обратно)740
SKS 74/2818.
(обратно)741
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 15.
(обратно)742
Ibid., 16.
(обратно)743
SKS 74/2819.
(обратно)744
Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе / Сост. А. Н. Рассыхаев, В. М. Кудряшова. Сыктывкар – Нарьян-Мар, 2014. С. 341.
(обратно)745
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuulema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995. S. 17.
(обратно)746
НА 8/396.
(обратно)747
ФА 2362/5 (Сяргозеро).
(обратно)748
Virtaranta R Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 273.
(обратно)749
SKVRI, 4: 622, 622b (Porajärvi).
(обратно)750
Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов. Петрозаводск, 2014. С. 81.
(обратно)751
SKVRI, 4: 634 (Vuokkiniemi).
(обратно)752
SKVR1,4: 630 (Vuokkiniemi).
(обратно)753
SKVR II: 715 (Säämäjärvi).
(обратно)754
SKVR 1,4: 697 (Kontokki).
(обратно)755
Туюнен С. В. Помощники заговаривающего // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998. С. 67–73.
(обратно)756
Krohn К. Suomalaisen runojen uskonto. Suomen suvun uskonnot. I. Porvoo,1915. S. 216–221.
(обратно)757
Haavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1995. S. 189.
(обратно)758
Siikala A.-L. Suomalainen samanizmi. Helsinki, 1992. S. 171.
(обратно)759
Туюнен С. В. Помощники заговаривающего // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998. С.73.
(обратно)760
SKS 74/2447.
(обратно)761
Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 61.
(обратно)762
SKVR1,4: 1007 (Suomussalmi).
(обратно)763
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 522.
(обратно)764
См. раздел о родильной обрядности в бане.
(обратно)765
Харузина В. Н. Несколько слов о родильных, крестильных обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой губернии // Этнографическое обозрение. 1906. № 1–2. С. 88–95.
(обратно)766
Этнографические материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 12.
(обратно)767
Этнографичесие материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 14.
(обратно)768
Этнографичесие материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 15.
(обратно)769
SKVRII: 841, 842, 844 (Repola).
(обратно)770
ФА 2024/3 (Карельская Масельга).
(обратно)771
Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 172.
(обратно)773
Образцы карельской речи. Тихвинский говор собственно карельского диалекта / Сост. В.Д. Рягоев. Л.,1980. С. 315.
(обратно)774
Virtaranta Р. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963. S. 297.
(обратно)775
Андреев Ф., свящ. Предания и поверья в Масельгско-Паданском приходе, Пове-нецкого уезда (Перевод с карельского) // Олонецкие губернские ведомости. 1870. № 55. С. 601–602.
(обратно)776
SKVR1,4: 916 (Pistojärvi).
(обратно)777
ФА 2051/21 (Покровское).
(обратно)778
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 204.
(обратно)779
ФА 2581/ 7–8 (Тунгуда).
(обратно)780
SKS 74/ 2456.
(обратно)781
Власова M. Н. Русские суеверия. Энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 120.
(обратно)782
ФА 3317/6 (Улялега).
(обратно)783
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)784
Лесков Н. Представления кореляков о нечистой силе // Живая старина. СПб., 1893. Вып. 1–3. С. 415.
(обратно)785
НА 35/29 (д. Березово, Тунгуда).
(обратно)786
ФА 1734/2 (Паданы).
(обратно)787
Колмогоров А. И. Чухарская свадьба: Черты обрядовой жизни чухарей / Сборник в честь 70-летия Д.Н. Анучина. М., 1913. С. 372.
(обратно)788
Корнишина Г. А. Экологическое воззрение мордвы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск, 2008. С. 94
(обратно)789
Толстой Н. И. Откуда дьяволы разные // Толстой Н. И. Язык и народная культура. М., 1995. С. 245–246.
(обратно)790
Новый Завет. Откровение. 12:7–9.
(обратно)791
Толстой Н. И. Откуда дьяволы разные // Толстой Н. И. Язык и народная культура. М., 1995. С. 246, 249.
(обратно)792
Криничная Н. А. Сынове бани // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 75.
(обратно)793
ФА 2610/15 (Тунгозеро).
(обратно)794
ФА 3266/54 (Улялега).
(обратно)795
‘SKS 3041.
(обратно)796
ФА 2944/9 (Реболы).
(обратно)797
ФА 2585/6 (Тунгуда), 2389/24 (Юккогуба).
(обратно)798
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. С. 132–133.
(обратно)799
ФА 2056/46 (Падун).
(обратно)800
ФА 1864/18 (Калевала).
(обратно)801
ФА 2972/21 (Сыссойла).
(обратно)802
ФА 1369/1 (Вокнаволок).
(обратно)803
Исход. 7: 17–22.
(обратно)804
ФА 2056/46 (Падун).
(обратно)805
ФА 3024/48 (Святозеро).
(обратно)806
Покровский П. Карел, его быт и занятия // Олонецкие губернские ведомости. 1873. № 8. С. 91.
(обратно)807
Добровольская В. Е. Типы передачи мастерства и профессиональных навыков в фольклорной прозе Русского Севера и Центральной России // Рябининские чтения-2015. Петрозаводск, 2015. С. 277.
(обратно)808
Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л., 1988. С. 139.
(обратно)809
Добровольская В. Е. Типы передачи мастерства и профессиональных навыков в фольклорной прозе Русского Севера и Центральной России // Рябининские чтения-2015. Петрозаводск, 2015. С. 277.
(обратно)810
ФА 2254/13 (Паданы).
(обратно)811
Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск, 2006. С. 105.
(обратно)812
SKS 384/35.
(обратно)813
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 522.
(обратно)814
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 522.
(обратно)815
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entista elamaa. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 228.
(обратно)816
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность Л., 1977. С. 54; Никольская РФ., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 76.
(обратно)817
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entistä elämää. Povoo-Helsinki, 1961. S. 222.
(обратно)818
Иванов В. В., Топоров В. Н. Баба-Яга//Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 149.
(обратно)819
Эпические песни Южной Карелии / Сост. В. П. Миронова. Петрозаводск, 2006. С. 195; Карельские эпические песни / Сост. В. Я. Евсеев. Л., 1950. № 179.
(обратно)820
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. С. 132; Lauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999. S. 220.
(обратно)821
SKS 6450.
(обратно)822
ФА 3477/28 (Кемь).
(обратно)823
‘ФА 3148/24 (Кепа).
(обратно)824
Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982. S. 107.
(обратно)825
ФА 2025/38 (Падун).
(обратно)826
Криничная Н.А. Двойник: к семантике мифологического образа // Русская речь. № 5. 2013. С. 113–118.
(обратно)827
ФА 3266/54 (Улялега).
(обратно)828
Симосуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. С. 133.
(обратно)829
SKS 2291.
(обратно)830
ФА 3476/64 (Кемь).
(обратно)831
‘ФА 3431/17 (Корза).
(обратно)832
SKS 384/29.
(обратно)833
ФА 2520/2 (Вокнаволок).
(обратно)834
ФА 2399/3 (Сяргозеро).
(обратно)835
ФА 3429/12 (Эссойла).
(обратно)836
Топоров В. И. Лягушка // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 84.
(обратно)837
‘SKS 384/31.
(обратно)838
ФА 3060/7 (Колатсельга).
(обратно)839
SKS 384/40.
(обратно)840
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. С. 133.
(обратно)841
ФА 3348/19.
(обратно)842
Плюха О. П. Школа и детство в карельской деревне в конце 19 – начале 20 века. СПб., 2007. С. 41–59.
(обратно)843
Об «обменышах» см. подробнее: Новичкова Т. Э. Эпос и миф. СПб., 2001. С. 193–202; Иванова Л. И. Законы «лесного царства»: народные традиции экологического воспитания (по материалам карельской мифологической прозы) // Карельская семья во второй половине 19 – начале 21 в. Сост. О.П. Плюха. Петрозаводск, 2013. С. 180–211.
(обратно)844
Былички о детях, спрятанных или подмененных хозяевами леса, подробно рассмотрены в статье: Иванова Л. И. Духи-хозяева леса в роли похитителя людей (по материалам карельских быличек) // Народная культура в слове и контексте. Сыктывкар, 2013. С. 74–80.
(обратно)845
SKS 440/682 (Ведлозеро).
(обратно)846
SKS 2080, 74/2081 (Колатсельга).
(обратно)847
Лавонен Н. А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованиях карел // Фольклор и этнография. Л., 1984. С. 171–179.
(обратно)848
Кузнецова В. П. И. А. Федосова и ее духовные стихи // Рябининские чтения-2015. Петрозаводск, 2015. С. 341.
(обратно)849
Топоров В. Н. Осина // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 266.
(обратно)850
Кагаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Академии Наук. Серия VI. 1917. № 97. С. 640–647.
(обратно)851
Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 244–245.
(обратно)852
НА 139/4 (Олонецкий район).
(обратно)853
ФА 2392/6 (Юккогуба).
(обратно)854
Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. С. 94. См. также: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях // Символический язык народной культуры. Балканские чтения 2. М., 1993. С. 3–34; Они же. Веник // Славянские древности: Этнолингвистические словарь: в 5 т. М, 1995. Т. 1., А-Г. С. 307–313.
(обратно)855
Лесков Н. Ф. Отчет о поездке к олонецким карелам летом 1893 г. // Живая старина. 1894. Вып. 1.С. 19–36.
(обратно)856
ФА 3486/5-6 (Кемь).
(обратно)857
Jauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999. S. 220.
(обратно)858
Федотова В. П. Фразеологический словарь карельского языка. Петрозаводск, 2000. С. 99, 118.
(обратно)859
SKVRII: 91 (Tulomajärvi).
(обратно)860
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 67.
(обратно)861
SKS 2542.
(обратно)862
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977. С. 190.
(обратно)863
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 240–246.
(обратно)864
Криничная Н. А. Русская мифология: мир образов фольклора. М., 2004. С. 653.
(обратно)865
Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. С. 31, 49.
(обратно)866
Hämäläinen A. Ihmisruumiin substansii. Helsinki, 1920. S. 75–81.
(обратно)867
Евангелие от Иоанна. 9:6.
(обратно)868
Евангелие от Марка. 7:32-35
(обратно)869
SKS 73/1454 (Колатсельга).
(обратно)870
ФА 3024/52 (Святозеро).
(обратно)871
SKS 3369, М 342.
(обратно)872
SKS 73/1461 (Колатсельга).
(обратно)873
ФА 1701/2 (Зеленоборский).
(обратно)874
«Московский комсомолец» в Карелии. 2015. № 37. С. 21.
(обратно)875
SKS 531, К 47.
(обратно)876
Suistamolaisia sananpolvia. Vaasa, 1982. S. 74.
(обратно)877
ФА 3348/17.
(обратно)878
SKS 384/39 (Ведлозеро).
(обратно)879
SKS 3385, К 221.
(обратно)880
Карельские эпические песни / Сост. В. Я. Евсеев. Л., 1950. С. 160–161.
(обратно)881
Карельские народные загадки / Сост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1982. С. 28-
(обратно)882
ФА 3476/64 (Кемь).
(обратно)883
Jauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999. S. 220.
(обратно)884
SKS 78 (Колатсельга).
(обратно)885
SKS 2291.
(обратно)886
ФА 3381/4.
(обратно)887
SKS 3038.
(обратно)888
SKS 508.
(обратно)889
SKS 78 (Колатсельга).
(обратно)890
SKS 3041,1780.
(обратно)891
SKS 84/29.
(обратно)892
SKS 440/682, ФА 3477/28.
(обратно)893
ФА 2025/56 (Карельская Масельга).
(обратно)894
ФА 2520/21 (Вокнаволок).
(обратно)895
ФА 2610/15 (Тунгозеро).
(обратно)896
SKS 4558/9.
(обратно)897
SKS 3369,1454; ФА 3024/52.
(обратно)898
ФА 3317/3 (Улялега).
(обратно)899
Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Porvoo, 1924. S. 110.
(обратно)900
SKS 3038.
(обратно)901
ФА 2972/24 (Сыссойла).
(обратно)902
ФА 2254/13 (Паданы), 2389/24 (Юккогуба).
(обратно)903
НА 139/ 4 (Олонецкий район).
(обратно)904
ФА 3324/2 (Соддер).
(обратно)905
ФА 3429/12 (Эссойла).
(обратно)906
ФА 3486/5-6 (Кемь).
(обратно)907
ФА 3348/12.
(обратно)908
ФА 3368/15,1369/1 (Вокнаволок), 1864/18 (Калевала).
(обратно)909
ФА 2056/46 (Карельская Масельга).
(обратно)910
ФА 2389/24 (Юккогуба).
(обратно)911
ФА 2972/21 (Сыссойла).
(обратно)912
ФА 3148/24 (Кепа).
(обратно)913
«SKS 1454.
(обратно)914
ФА 3381/4.
(обратно)915
SKS 384/29.
(обратно)916
ФА 3060/7 (Лейпяниеми).
(обратно)917
ФА 2520/2 (Вокнаволок).
(обратно)918
ФА 2056/46 (Карельская Масельга).
(обратно)919
Jauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999. S. 220.
(обратно)920
SKS 384/36.
(обратно)921
Новак И. П. Полевые аудиозаписи А.В. Пунжиной как источник информации о повседневной жизни тверской карельской семьи конца 19 – начала 20 в. // Культура повседневности карельской семьи. Сост. О.П. Илюха. Петрозаводск, 2014. С. 94–97.
(обратно)922
Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991. S. 88.
(обратно)923
SKS 78 (Ведлозеро).
(обратно)924
ФА 2520/21 (Вокнаволок), 3348/17, 3431/17 (Корза), 3460/42-43 (Лахта).
(обратно)925
ФА 3460/42^3 (Лахта).
(обратно)926
ФА 2520/21 (Вокнаволок).
(обратно)927
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S.53.
(обратно)928
ФА 3348/15 (Кемь).
(обратно)929
Karjalaisia sananpolvia / Toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971. S. 221.
(обратно)930
ФА 3348/17, 3486/5-6 (Кемь).
(обратно)931
ФА 2520/23 (Вокнаволок).
(обратно)932
‘ФА 3324/2.
(обратно)933
ФА 3266/54 (Соддер).
(обратно)934
НА 139/4.
(обратно)935
ФА 3429/12 (Эссойла).
(обратно)936
Jauhiainen M. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Helsinki, 1999. S. 226.
(обратно)937
Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 74.
(обратно)938
ФА 3024/52 (Святозеро).
(обратно)939
ФА 3362/10.
(обратно)940
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S.53.
(обратно)941
Этнографичесие материалы. Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Каргополь. Исторические сведения. Петрозаводск, 1892. С. 44.
(обратно)942
KKS. Osa 2. Helsinki, 1974. S. 520.
(обратно)943
Лавонен Н. А. Стол в верованиях карел. Петрозаводск, 2000. С. 115.
(обратно)944
Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012. С. 160–161.
(обратно)945
Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004. С. 159.
(обратно)946
SKVRII: 190 (Porajärvi).
(обратно)947
SKVR II: 1354 (Tveri).
(обратно)948
SKVR II: 851 (Porajärvi).
(обратно)949
SKS 384/34.
(обратно)950
SKVRII: 1353 (Tveri).
(обратно)951
SKVR II: 839 (Porajärvi).
(обратно)952
SKVR II: 839.
(обратно)953
SKVRII: 841 (Repola).
(обратно)954
SKVR II: 840 (Porajärvi).
(обратно)955
Virtanen L. Onnin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984. S.53.
(обратно)956
HA 173/37 (Пряжинский и Олонецкий районы).
(обратно)957
Устная поэзия тунгудских карел / Сост. А. С. Степанова. Петрозаводск, 2000. С. 98.
(обратно)958
ФА 2036/26 (Чёбино).
(обратно)959
SKVRII: 1355 (Tveri).
(обратно)960
Virtaranta Р. Tverin karjalaisten entista tlamaa. Porvoo-Helsinki, 1961. S. 76–78.
(обратно)961
Толстой Н. И. Язычество и христианство Древней Руси // Толстой Н. И. Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998. С. 428–429.
(обратно)
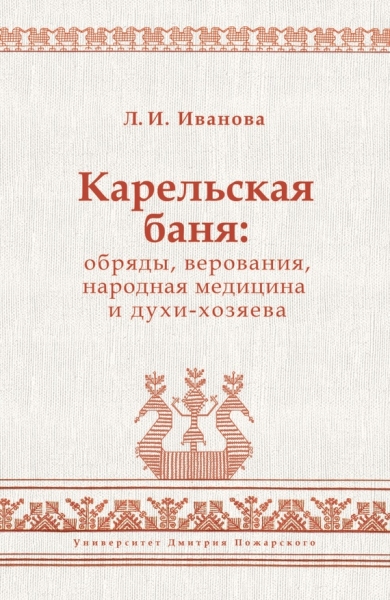

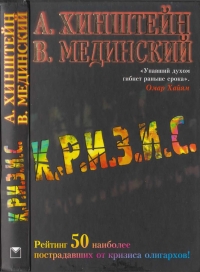

Комментарии к книге «Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева», Людмила Ивановна Иванова
Всего 0 комментариев