Лилия Константиновна Кузнецова Петербургские ювелиры XIX – начала XX в. Династии знаменитых мастеров императорской России. О шедеврах, их создателях, владельцах и непростых судьбах в увлекательном изложении непревзойденного знатока ювелирного искусства
© Кузнецова Л.К., 2017
© ООО «Рт-СПб», 2017
© «Центрполиграф», 2017
Рецензии на книгу Л.К. Кузнецовой «Петербургские ювелиры XIX – начала XX веков»
Книга Л.К. Кузнецовой, посвящённая петербургским ювелирам XIX в., является завершением труда всей жизни замечательного ученого. Первые две книги, в которых рассматривались основные этапы развития ювелирного искусства России в XVIII – начале XIX вв., судьбы ювелиров и судьбы их изделий, вызвали большой резонанс в довольно обширном сообществе учёных, специализирующихся на различных аспектах указанной темы.
Для всех книг Л.К. Кузнецовой, включая рецензируемую, характерен широкий взгляд на развитие ювелирного искусства императорской России. Это не только история вещей в утилитарном контексте их потенциального провенанса. Это история, в которой судьбы ювелирных изделий разного уровня неразрывно переплетены с судьбами людей, которые их изготовили, и людей, которые ими владели. Причём эта история удивительно легко и с бездной интереснейших деталей укладывается в контекст как истории императорских резиденций, так и повседневной жизни императорского двора. За непринуждённостью и удивительной элегантностью изложения сложнейшего материала скрывается многолетняя кропотливая исследовательская работа по атрибуции ювелирных изделий, которые до указанных работ Лилии Константиновны просто «молчали».
Многие годы работы в архивах, тщательный отбор и перепроверка сведений в опубликованных исследованиях выливались в многочисленные статьи и выступления на конференциях различного уровня. Поэтому книги Л.К. Кузнецовой, объединившие результаты её изысканий, являются безусловным образцом высококлассной исследовательской работы.
Если говорить о рецензируемой рукописи, то она, как и предыдущие работы Л.К. Кузнецовой, базируется на широком использовании архивных источников, большая часть которых впервые введена в исторический оборот. Хотелось бы подчеркнуть важность именно этой архивной составляющей исследовательской работы автора. В настоящее время история ювелирного искусства императорской России является одним из научных трендов, в мейнстриме которого проводятся конференции, формируются частные и государственные музеи. В советский период, на который пришлась большая часть самых плодотворных творческих лет Лилии Константиновны, ювелирная тематика была уделом довольно узкого круга специалистов-музейщиков. Собственно поэтому главные книги Л.К. Кузнецовой выходят только сегодня, сразу же становясь «ювелирными» бестселлерами.
Обстоятельные экскурсы автора в историю той или иной вещи буквально завораживают. Здесь и значимые государственные и семейные события российских императорских семей, рассказанные через истории ювелирных изделий. Здесь и настоящие ювелирные детективы, связанные с причудливой судьбой тех или иных украшений. Здесь и судьбы ювелиров, буквально своими руками создававших славу российского ювелирного искусства. Причём, говоря о судьбах ювелиров, Лилия Константиновна не ограничивается именами мэтров уровня Зефтигена, Болина или Фаберже. Она вводит в научный оборот описание судеб и творений множества петербургских ювелиров, которые во многих, подчас солидных монографиях, рассматриваются в качестве мастеров второго ряда, что совершенно не соответствует их истинным заслугам.
В работе Л.К. Кузнецовой имеются отголоски дискуссий с коллегами по цеху, с которыми она аргументированно спорит, уточняя детали своей атрибуции. При этом автор не боится признавать и собственные ошибки, уточняя детали более ранних атрибуций. Подчас некоторые из утверждений Л.К. Кузнецовой вызывают удивление, например, утверждение об Александре I, выбравшем в 1825 году судьбу старца Федора Кузьмича. Но эта гипотеза не голословна, поскольку основана на двух записочках, хранившихся в коробочке из-под зубочисток императора.
Резюмируя, можно утверждать, что книга живая, поскольку замкнута не на ограниченный круг исследователей ювелирного искусства, а обращена к самой широкой аудитории, коей интересны судьбы Родины. Представленная рукопись заслуживает самой высокой оценки и рекомендуется к печати.
Доктор исторических наук, профессор, Зимин Игорь Викторович 15 ноября 2016 годаЛилия Константиновна Кузнецова долгие годы была ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, областью её научные интересы было изучение творчества ведущих ювелиров Петербурга. Книга Лилии Константиновны представляет собой уникальный обобщающий труд, посвященный знаменитым династиям ювелиров, работавших в российской империи в XIX – начале XX вв. Длительное время ювелирное искусство выдающихся мастеров Петербурга было недоступно для изучения исследователями, многие их произведения были утрачены для России навсегда, но сегодня эта тема как никогда актуальна. Такой обобщающий труд помогает прикоснуться к миру высочайших заказчиков и искуснейших исполнителей, а обширные архивные материалы, собранные исследователем, позволяют в полной мере воссоздать одну из граней жизни императорской семьи – владение ею изумительными произведениями ювелирного искусства, нередко имеющими собственную историю, связанную с историей жизни их владельцев.
Книга является серьезным научным трудом, подводящим итог многолетним исследованиям Лилии Константиновны. Она будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей. В книге тесно переплетаются архивные материалы, которые рассказывают об истории создания и бытования ювелирных украшений, принадлежавших российским государям и первым лицам государства, и описание исторических фактов, событий, с ними связанных. Книга написана доступным, ярким, образным языком, отличающим все труды Лилии Константиновна, благодаря чему читатель невольно погружается в великосветский мир XIX столетия.
Книга состоит из тринадцати глав, которые охватывают историю ювелирного искусства Петербурга XIX в. – блистательной эпохи, когда создавались поистине выдающиеся произведения. Читатель вслед за автором переносится в сложный и неоднозначный период, когда разнообразные стили сменяли друг друга, следуя от роскошного и изысканного ампира к нежному романтизму, и, позднее, к разнообразным национальным стилистическим направлениям периода эклектики. Всё это нашло отражение в творчестве ведущих ювелиров, работавших в исследуемый период в Петербурге.
Читатель подробно познакомится с модными украшениями той эпохи, их названиями, особенностями использования. Ему предстоит узнать многочисленные имена петербургских ювелиров, галантерейщиков, мастеров серебряного и золотого дела, которые не столь часто попадают на страницы изданий, доступных неспециалистам. В книге рассматриваются творческие биографии петербургских ювелиров-цеховиков братьев Барбе, читатель узнает о целой династии выдающихся ювелиров Кейбелей, отдельные разделы автор посвятила деятельности ювелирных домов Болин и Фаберже, а также деятельности небольших ювелирных фирм «Вальян и Жиго де Вильфен», «Ф.И. и Ф.Ф. Кёхлин», «К. Ган» и др. Также откроются интереснейшие страницы деятельности Английского магазина, клиентами которого были члены императорской фамилии и представители высшего света Петербурга. Предметы, приобретенные в Английском магазине, украшали многочисленные петербургские дворцы и особняки. В отдельном разделе автор рассказывает о деятельности выходцев с Урала, известных ювелирах конца XIX в.: А.К. Денисове, А.И. Сумине, И.С. Брицыне, а также о знаменитых ювелирных фирмах рубежа ХIХ-ХХ вв.: Сазикова, Хлебникова, Верховцевых, братьев Грачевых, Овчинниковых и др.
Л.К. Кузнецова доступным и красочным языком описывает разнообразные произведения ювелирного и декоративно-прикладного искусства, благодаря чему любой человек может с легкостью представить, как они выглядели в действительности. Это особенно ценно, потому что далеко не все они сохранились, но благодаря образности языка автора и его увлечённости излагаемым материалом читатель легко может реконструировать для себя их облик.
Книга Кузнецовой Лилии Константиновны будет с интересом воспринята широким кругом читателей, поскольку знакомит не только с историей создания выдающихся произведений искусства, но и с некоторыми легендами, которые их окружают. Кроме того, данная книга представляет несомненный интерес и пользу для специалистов в области русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства, поскольку основывается на обширном архивном материале, в ней представлены многочисленные мемуарные источники, которые помогают наиболее полно и достоверно показать историческую эпоху ХЕК в. Это серьезное многолетнее научное исследование, изложенное ярко, захватывающе, образно, с неповторимым колоритом.
Прекрасный оратор, Лилия Константиновка щедро делилась своими знаниями и новыми открытиями с коллегами и учениками. Её рассказ увлекал любого слушателя. На протяжении многих лет она являлась для меня примером целеустремлённого, увлечённого своим делом исследователя. Именно благодаря её дару щедро делиться с окружающими своей любовью к камню, ювелирному и декоративно-прикладному искусства она смогла зажечь эту любовь и во мне. В 1990-е годы, читая увлекательные лекции по курсу «Декоративно-прикладное искусство», она смогла открыть для меня великолепный мир камня. Каждая встреча с Лилией Константиновной в Эрмитаже или на научных конференциях была наполнена новыми интересными открытиями и идеями, которые позволяли направить и свою исследовательскую деятельность в новое русло.
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Горного музея Боровкова Наталья Валерьевна20 ноября 2016 годаГлава I Эпоха Николая I и ювелирное искусство Петербурга
В двадцать девять лет Николай I взошёл на завещанный старшим братом императорский престол, жестоко расправившись с бунтом дворянской гвардии, желавшей скорейшего осуществления либеральных реформ. Поскольку декабристы считали царствующую династию неспособной на перемены, они попытались насильственным путём устранить её.
В последние годы жизни Александр I избегал всех общественных увеселений. Он признавался в письме к жене своего будущего преемника на троне, что хотя с наступлением нового, 1825 года, «удовольствия снова вступили в свою обычную колею, <…> я остаюсь верным своим привычкам к уединению, которые согласуются с моими вкусами, моими занятиями, моим здоровьем». Вошедшие же в обычай появления на балах в честь рождения младшего брата Михаила 28 января и племянницы Марии Николаевны самодержец рассматривал как ежегодную «дань, которую я выплачиваю каждую зиму, и она представляется мне достаточной для того, чтобы затем считать себя освобожденным от остального».[1]
При Николае I, стремившемся привлечь на свою сторону как можно больше верноподданных, во главу угла было поставлено упорядочение не только законов, но и системы пожалований от Двора. Новый император не выносил тунеядцев и лентяев, сплетни и скандалы вызывали у него отвращение.[2] Но поскольку в почёте оказались не умники, а верноподданные, то пышным цветом расцвело чинопочитание.
Предательство, особенно друзей и товарищей, противное чести дворянина, становилось клеймом для доносчика. Однако только «за недонесение» властям о заговоре и членстве в тайном обществе было осуждено более двухсот декабристов – это было деянием, несущим опасность не только для династии, но и для государства. Сам Николай Павлович придерживался рыцарских правил, но, будучи самодержцем, обязан был следовать букве закона, требовать от подданных строгого соблюдения положений воинского устава и параграфов чиновничьих циркуляров. Иногда это приводило к парадоксам. Однажды некий морской офицер за какую-то провинность оказался на петербургской гарнизонной гауптвахте. Вместе с ним маялся под арестом гвардеец, оказавшийся хорошим приятелем сменившегося начальника караула. Ради друга тот решился пойти на должностное преступление и своей властью отпустил на несколько часов домой незадачливого повесу. Моряк позавидовал счастливой участи сотоварища и тут же настрочил донос на Высочайшее имя. Убедившись, что морячок не солгал, Николай отдал обоих приятелей под военный суд, разжаловавший провинившихся в рядовые. Зато доносчик-дворянин не остался без царской награды: он за своё гнусное деяние получил, подобно Иуде, свои «тридцать сребреников» – целую треть месячного жалования, однако с непременным условием «записать в его послужном формуляре, за что именно получил он эту награду»[3].
Годы правления дали опыт, и своё кредо мудрого монарха третий сын Павла I изложил в завещании сыну-престолонаследнику Александру: «Будь милостив и доступен ко всем несчастным, но не расточай казны свыше её способов. С иностранными державами сохраняй доброе согласие, защищай всегда правое дело, не заводи ссор из-за вздору, но поддерживай всегда достоинство России в её истинных пользах. Не в новых завоеваниях, но в устройстве её областей отныне должна быть вся твоя забота. Пренебрегай ругательствами и пасквилями, но бойся своей совести».[4]
Неудивительно, что Александр I «своим отшельничеством и своею наклонностью к мистицизму внушил всем род замкнутости и лицемерия, которые препятствовали увеселениям и разделили петербургское общество на маленькие кружки».
С началом нового царствования все словно очнулись от скучного и однообразного существования, и, навёрстывая упущенное, вновь предались танцам, веселью, всем светским развлечениям и удовольствиям. Поэтому зима с 1826 на 1827 год в С.-Петербурге была чрезвычайно оживленной: императрица Александра Феодоровна, наконец-то оправившись от расстройства здоровья, вызванного событиями 14 декабря, одушевляла и украшала своим присутствием столичные балы».[5]
Давно уже так не веселились в Петербурге. Императорский Двор сам поощрял к этому, – милая приветливость императрицы и простой открытый тон августейшего её супруга служили обществу лучшим примером.
Ради блеска Двора придворный штат был увеличен, но царили там низкопоклонство и неприкрытая лесть. Если в начале царствования Николай I стремился следовать скромности брата-предшественника, то через несколько лет траты на баснословные подарки опять выросли.
Николай Павлович, обожая свою супругу, осыпал её драгоценностями, ибо, как известно, дорогой бриллиант требует соответствующей оправы. На день тезоименитства, 23 апреля, императрица получила от него стоившую 130 тысяч рублей нитку[7] крупного жемчуга с большими жемчужными «банделоками»-подвесками для серёг. Это было только начало. 1 июля 1826 года Николай I подарил своей супруге на день её рождения и на очередную годовщину свадьбы девять столь любимых им сапфиров, приобретенных у Дюваля за 12 000 рублей (незадолго до казни декабристов, свершившейся на кронверке Петропавловской крепости).
Не забывал император и о других дамах августейшего семейства: супруге младшего брата самодержца, великой княгине Елене Павловне, в феврале были преподнесены серьги с жемчужными грушевидными подвесками в 15 000 рублей, а в мае, «по случаю благополучного разрешения от бремени», – склаваж с голубым аквамарином, осыпанным бриллиантами, с двумя нитками крупного жемчуга, стоившие 52 000 рублей.[6]
Крюгер Ф. Портрет императрицы Александры Феодоровны. 1836 г. ГЭ
К началу 1826 года в Императорском Кабинете количество всевозможных вещей, предназначавшихся на подарки, составило сумму 2 228 282 рубля. Однако коронация требовала как больших пожалований, так, соответственно, и больших затрат. Только за первый квартал знаменательного года «ювелирам за работу и за купленные у них и у разных людей бриллиантовые и другие вещи» причиталось 537 878 рублей 50 копеек.[8] Но это и не удивительно. Ведь всего за 1826 год было роздано драгоценных подарков на сумму 2 550 602 рубля, из них членам императорской фамилии – на 241 596 рублей.
Крюгер Ф. Портрет императора Николая 1.1836 г. ГЭ
Однако блеск петербургского Двора и славу о щедрости монарха требовалось поддерживать и дальше. Например, за 1834 год истратили на подарки 2 097 355 рублей, хотя из этой суммы доля членов императорской фамилии «лишь» 65 390 рублей.[9]
Чтобы ещё больше порадовать сердца верноподданных царской милостью, 31 августа 1826 года, на радостях от благополучно прошедшей коронации, Николай I отменил 10 %-ное отчисление с подарочных вещей, шедшее на образование капитала для увечных воинов. Сумма там накопилась уже довольно значительная, и теперь «начиная уже с 1 числа сего апреля» не подлежало делать «никакого вычета и со всех бриллиантовых, золотых и прочих вещей, жалуемых из Кабинета, до какой бы цены оные не простирались».[10]
Николай I не преминул сразу по воцарении внести изменения в Положение о придворных ведомствах.
В день коронации, 22 августа 1826 года, новый самодержец обнародовал указ о создании Министерства Императорского Двора, объединившего разные учреждения в одно целое. Отныне все они, включая Театральную дирекцию, оказались подчинены новому ведомству, возглавляемому князем Петром Михайловичем Волконским. Таким образом, долголетний сподвижник Александра I стал доверенным сановником при его венценосном преемнике и вплоть до своей смерти в 1852 году обладал огромными полномочиями: он совмещал посты министра Императорского Двора и министра Департамента уделов, оставаясь управляющим Кабинетом. Он подчинялся только императору, все повеления получал исключительно от него и отчитывался перед монархом. Неслучайно о полномочиях доверенного лица в указе о создании столь привилегированного министерства было подчёркнуто, что кто-либо «никакого отчёта по делам, вверяемым его распоряжению, требовать и предписаний по оному чинить право не имеет».[11]
Итак, отныне Кабинет Его Императорского Величества стал лишь составной частью учреждённого Николаем I Министерства Двора. Если при Александре I придворная Алмазная мастерская считалась третьим, а с 1819 года стала вторым отделением Кабинета, где по штату кроме канцелярского персонала предусматривались состоящие во «втором столе», занимающемся дорогими подарками, два оценщика: Георг-Фридрих Мерц и Иоганн Яннаш, то теперь уже его второе, названное Камеральным, отделение заведовало делами о драгоценных предметах, исполняемых «для комнаты», то есть непосредственно для членов императорской семьи.
Сравнительная простота, царившая при дворе Александра Благословенного, уступила при Николае I место роскоши и блеску. Заезжая англичанка никак не могла понять, как это «русские дамы тратят на платья от 400–500 фунтов стерлингов в год», что, тем не менее, считается умеренным; «франтихи тратят гораздо больше», а девицы носят «всегда много драгоценных камней», да и подарок французскому посланнику – «пара пистолетов тульского изделия, осыпанных бриллиантами», – отличался баснословной стоимостью в 6000 фунтов стерлингов.[12]
Жившие в 1830-х годах современники отмечали: «Бриллианты и дорогие каменья были еще недавно в низкой цене. Нынче бриллианты опять возвысились. Их требуют в Кабинет». О причине перемен рассказывали занимательную байку, что якобы это произошло, когда Николай I приказал министру Двора князю П.М. Волконскому принести самую дорогую табакерку. Он принёс. Неожиданно государь пожаловал принесенную табакерку ему самому. Скуповатому министру стало обидно, что он так «обмишурился», полученный подарок стоил «только» 9 тысяч рублей, а потому на всякий случай князь стал закупать в Камеральное отделение табакерки ценой (из-за бриллиантов) до 60 тысяч рублей.[13]
Во время восстания декабристов супругу Николая I столь сильно напугало случившееся, что у неё на всю жизнь осталось нервное подёргивание головы. Этот недостаток императрица Александра Феодоровна пыталась затушевать изобилием ослепительно сверкавших алмазов и прочих драгоценных каменьев. Да и её августейший супруг видел в ней «прелестную птичку, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке»,[14] развлекая всевозможными блестящими безделушками. Теперь дни некогда скромной прусской королевны сливались в непрерывный калейдоскоп развлекательных зрелищ и феерических балов, оживляемых переливчатым блеском бриллиантов и жемчугов, сверканием драгоценностей, так изящно сочетающихся с шёлком и кружевами изысканных нарядов, с пьянящим ароматом и красотой цветов. Такая роскошь поневоле бросалась в глаза и, воспринимаемая современниками образцом придворного вкуса, отразилась в их воспоминаниях.
Высший свет Москвы долго обсуждал, как посетившая Белокаменную в 1831 году государыня «была прелестно одета, вся в белом и залита бриллиантами и бирюзами».[15]
Примеру повелительницы последовали верноподданные, с удовольствием соперничая друг с другом в роскоши наряда. Вот и на столичном балу, где «народу была пропасть», одна из красавиц «была одета очень просто: белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов».[16]
Мода на подражание временам древнего императорского Рима постепенно уходила в прошлое. Ещё во второй половине «осьмнадцатого» века европейские аристократы стали обращаться к древним преданиям своей страны. Англичане ценили время Тюдоров. Екатерина II считала исконными древнерусскими соборы, стены и башни Московского Кремля. Во время Французской революции отправляют на гильотину королевскую чету и аристократов, а освободившийся Лувр отдают под музей, куда со всей страны стекаются древности, достойные внимания всех слоев общества. После разгрома Наполеона освободившиеся от его нашествия народы многих стран с возросшим воодушевлением обращаются к собственной истории. Сплотившись в едином порыве во время освободительной борьбы против иноземных захватчиков, они почувствовали себя нациями.
Необычайной популярностью стали пользоваться исторические романы, особенно Вальтера Скотта. Читатели модных «готических» романов представляли себя героями минувших дней, рыцарями Средневековья, поэтами и философами эпохи Возрождения. В начале XIX века времена крестовых походов, когда монархи европейских королевств объединялись для освобождения Гроба Господня в Иерусалиме, любили сравнивать с союзом России, Пруссии, Австрии и Англии против Наполеона. Поскольку «историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло во все сферы современного сознания», то и «само искусство сделалось теперь преимущественно историческим».[17]
Возможность заимствования из богатейшего арсенала всего лучшего, что было в различных стилях прошедших эпох, идея свободного выбора и дальнейшего применения в современной жизни, вызвали появление термина «эклектика», точно и удачно образованного писателем Н. Кукольником от греческого глагола «эклейген», означающего «избирать». Даже участники придворных маскарадов стали появляться в совершенно фантастических одеждах, исполненных в «нужном вкусе». Но не меньшее очарование таила пряная экзотика мавританского Востока, рассказы о баснословных сокровищах раджей Индии, о соблазнительных гаремах турецких султанов и утопающих в неге наслаждений персидских шахов; приковывали внимание древние традиции искусства Китая – все эти настроения и переживания постепенно нашли яркое отражение в литературе, в своеобразии костюмов и причесок, стиле поведения, прикладном искусстве, характере интерьеров, в архитектуре, своеобразии садов и парков, в поисках новой гармонии петербургских ювелиров XIX века.
В дамских нарядах уже начиная с 20-х годов XIX века с обращением к «историческому» костюму входят в моду украшения, некогда запечатлённые искусной кистью художников прошлых веков.
Кокетливые «фероньерки» обязаны своим названием хранящейся в Лувре картине, приписывающейся кисти то Леонардо да Винчи, то Больтраффио и имеющей название «La Belle Ferronnière», поскольку тогда считалось, что изображённая на портрете дама – отнюдь не Лукреция Кривели, фаворитка герцога Сфорца, а любовница французского короля Франциска I, ненасытного волокиты, прославившегося своими любовными приключениями. Несколько странным прозвищем «Прекрасная Ферроньера», по-видимому, обязана своему мужу, парижскому адвокату Жану Феррону. Поговаривали, что прелестница во время первого свидания с королём настолько возмутилась слишком предприимчивым поведением монарха, что у неё лопнула жилка на лбу, а поэтому пришлось на следующий день прикрыть кровоподтёк подаренным самоцветом.[18] Потому-то художник и запечатлел спущенную на лоб красавицы повязку-цепочку, украшенную в центре драгоценным камнем, отчего подобное украшение и стало называться «фероньеркой» (франц. «la ferronière»).
Кто хорошо знал эту гривуазную историю, на ушко шептали друг другу, каким образом муж восхитительной длинноногой синеглазой брюнетки хитроумно отомстил венценосному обидчику за поруганную честь. Адвокат Феррон специально ходил по всевозможным злачным местам, чтобы подцепить страшную «неаполитанскую болезнь», беспощадно приводящую к разрушению заражённого тела, в чем он и преуспел. Заметим, что парижане впервые столкнулись со столь «гнусным и зловонным» заболеванием, перешедшим в эпидемию, в 1496 году. От заражённой собственным мужем Прекрасной Фероньерки болезнь перешла к любвеобильному Франциску I, вскоре отдавшему Богу душу в 1547 году. Правда, ещё в 1512 году, будучи только наследником французского престола, чересчур ценивший радости Венеры принц Франсуа Ангулемский успел переболеть сифилисом, о чём горестно упомянула в своём дневнике Луиза Савойская, напрасно старавшаяся отучить сына «от идиотской тяги к постели».[19]
Фероньерки придавали юным лицам таинственную загадочность и невольно приковывали внимание к глазам чаровниц. Жемчужная «капелька» на лбу обворожительной жены А.С. Пушкина, Наталии Гончаровой, запечатлённая искусной кистью А.П. Брюллова, придаёт особое очарование нежному облику восхитительной красавицы и сразу заставляет вспомнить слова великого поэта: «Чистейшей прелести чистейший образец».
Характерным украшением для 1820-1840-х годов стала «сенсесиль» (франц. «la S-te Cécile»), заимствованная с изображения Св. Цецилии, целомудренной девы-мученицы, чьё нетленное тело случайно обнаружили в Риме в 1599 году при обновлении старинной подземной часовни, носящей имя святой. Христианская легенда рассказывала богомольцам о прекрасной деве, жившей в III веке. Повинуясь воле отца, Цецилия вышла замуж, но желала остаться верной Жениху Небесному. Её горячие мольбы тронули сердце супруга: Валерий согласился на судьбу номинального мужа, если воочию увидит ангела-хранителя своей жены. Вдруг в доме раздалась прекрасная музыка, а воздух наполнился дивным ароматом. Небесный гость принёс с собой два красивейших венка: лилии предназначались Цецилии, розы – Валериану. Благословенная чета вскоре претерпела мученичество за верность запрещённой и преследуемой вере в Христа.
Святая Цецилия, при жизни слышавшая пленительные божественные звуки невидимых небесных инструментов, стала почитаться христианской церковью покровительницей музыки и музыкантов, а в 1584 году её провозгласили патронессой Римской Академии музыки. На полотнах художников святая Цецилия – это прекрасная, увенчанная лилиями и розами юная дева, играющая на арфе или органе,[20] причём со временем всё чаще цветочный венок уступал место золотому венчику-обручу в виде нимба, то совершенно гладкому, то украшенному драгоценными камнями.
Сен-сесили становятся настолько модными в 1830-е годы, что Н.С. Лесков в рассказе «Тупейный художник», повествуя об ужасах крепостного права, описывает, как сластолюбивый барин требует от своего холопа-парикмахера по заведённому порядку убрать очередную жертву перед тем, как её вести в господские покои, «в невинном виде святою Цецилией», и, соответственно, голову девушки «причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить…».
Супруга Николая I подарила своей свекрови в день Ангела бирюзовую сен-сесиль (une S-te Cécile en turquoises), a через несколько лет владелица отписала сие модное украшение малышке-внучке, великой княжне Александре Николаевне. Забавно, но чиновник, не искушённый в тайнах дамского наряда, посчитал, что речь в духовной императрицы Марии Феодоровны идёт об иконе некоей святой, и под его пером французская «сен-сесиль» при переводе на русский язык превратилась в «образ св. Сицилии».[21]
В это же время появляются и «севинье» («la Sévigné») – сложные, похожие на бант, броши, напоминающие ту (откуда и название), что виднелась на портретах жившей в XVII веке маркизы Севинье, прославившейся своими интереснейшими письмами. Подобную брошь, дополненную непременной подвеской, украшали три очень крупных камня, причём два из них помещали по сторонам, а третий – между ними. Обычно этот солитер находился со своими «соседями» на одной прямой, хотя мог смещаться выше или ниже. Однако из-за схожести названий возникала путаница, и подчас «севинье» именовали «сен-сесилью».
Любительницей придумывания новых нарядов была супруга Николая I. Так, для всех дам царской семьи ею был создан фамильный костюм «в готическом вкусе», напоминающий о счастливых временах прекрасных дам и верных рыцарей «без страха и упрёка». Причёску же августейших особ украшала несколько изменённая сен-сесиль, поскольку «к золотому обручу, окружавшему косу, был добавлен второй, также в пол-вершка ширины» (=2,2 см. – Л. К.), «носившийся на лбу у самых волос».[22]
Примеру императрицы следовали и дочери. Ольга Николаевна вспоминала: «Промышленность начинала развиваться, пробовали торговать своими товарами. Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготовлял тафту и бархат. Ему мы обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского. Почти всегда мы, сестры, были одинаково одеты, только Мери разрешено было еще прикалывать цветы».[23]
А зимой 1843 года на одном из костюмированных балов дочери императора Адини, Ольга и еще несколько барышень появились «в средневековых костюмах из голубого шелка, отделанного горностаем, на голове лента, усеянная камнями, наподобие короны Св. Людовика». Когда же их спрашивали, что это за костюмы, шалуньи с апломбом отвечали: «Вы ведь знаете, это костюмы девушек из Дюнкерка!» – «О да, конечно! Известная легенда!». Никто не посмел сознаться, что он ничего не знал об этой легенде, так как её просто не существовало, а милые выдумщицы с удовольствием всех разыграли. Невинное плутовство затейниц заставило августейшего батюшку долго и от души смеяться над простодушными умниками, которые пытались выдавать себя за знатоков истории.[24]
Отличительной особенностью отрешившихся от мира монахинь ордена францисканцев, славившегося суровой строгостью иноческой жизни, была узловатая верёвка-«корда», которой они подпоясывали свои одеяния-балахоны из грубой шерсти. Из-за этого атрибута остроумные французы прозвали францисканок «кордельерами» («cordelière»), а в эпоху Позднего Возрождения именно так стали именовать витые пояса или толстые шнуры, небрежно обвивавшие гибкие талии красавиц.
Однако, подражая модницам XVI века, мать и супруга русского могущественного самодержца могли позволить себе цепь-«кордельеру», составленную из уподобленных узлам крупных жемчужин. Только теперь концы драгоценной «верёвки» закрепляли на предплечьях изящными пряжками, и жемчужные «чётки» свисали (да не в один, а в три-четыре ряда) тяжёлыми полуовалами почти до колен августейшей особы.[25] Светские же бонвиваны не преминули обыграть название модного украшения, французское слово «кордельера» означало также узловатую верёвку для лазания на неприступные вершины. Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала, как девятилетней девочкой стояла возле трона в Георгиевском зале Зимнего дворца, с любопытством разглядывая экзотическое персидское посольство во главе с принцем Хозрев-Мирзой. Не могла она насмотреться и на прекрасные подарки, поднесённые русскому государю: усеянные крупной голубой бирюзой чепраки и сёдла с серебряными стременами. Но ещё больше приковывали всеобщее внимание роскошные дары супруге Николая I: персидские шали, драгоценные ткани, дивная эмаль, маленькие чашечки для кофе английского вустерского фарфора с портретом бородатого шаха в тяжёлой восточной короне. Да и восхитительный «четырёхрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной», Александра Феодоровна впоследствии «охотно носила его на торжественных приёмах», а потом завещала эту изумительную, почти готовую кордельеру средней дочери Ольге.[26] Эти четыре «нитки из 596 жемчужин с бриллиантовыми замочками» стоили тогда 11 388 рублей.[27] Да и декольте вдовствующей императрицы Марии Федоровны непременно обвивали сказочно прекрасные «три нитки крупного жемчуга».[28]
Кстати, в перечни коронных драгоценностей вписано множество баснословной роскоши низок из жемчужин фантастической величины. Тут и двойная нитка из двадцати одного и двадцати трёх перлов, причём каждое зерно весило около четырнадцати с четвертью каратов.[29] Да и «севинье, переделанный к 1 января 1833 года», украшала «жемчужина подвескою продолговатая овальная» в 77 карат, а рядом с ней покоилась в оправе другая, «бутоном», хотя и в два раза меньше, но всё-таки в 38 карат.[30]
Жаль, что не указана длина каждой из четырёх других «ниток», рассортированных по величине составляющих их камней: в первой насчитывалось тридцать девять чистых жемчужин в 4–5 каратов каждая, во второй – шестьдесят пять, чей вес был в 3–4 карата. Третья была снизана из шестисот сорока восьми перлов, на сей раз от 11/2 до 3-х каратов. Наконец, четвёртую образовывали самые мелкие двести двадцать шесть зёрен, с массой «только» от 1/2 до 11/2 каратов каждое. В примечании к описи специально оговаривалось, что все «жемчуги снизаны в нескольких нитках, которые иногда перенизываются и потому число зерен в нитках изменяется».[31] При таком изобилии жемчуга неудивительны часто обновлявшиеся сказочные уборы членов императорской семьи, так как перлы, к сожалению, недолговечны, при старении они теряют свою красоту.
Однажды присутствовавшие на балу данном обер-церемониймейстером Станиславом Потоцким, не могли наглядеться на Елизавету Воронцову в розовом атласном платье и насмотреться на её кордельеру «из самых крупных бриллиантов», ослепительно сверкавших при сложных па мазурки, удивительно легко и с неподражаемым изяществом танцуемой графиней с ясновельможным хозяином вечера.[32]
Постепенно стали вноситься изменения в эсклаважи, причем новым содержанием наполнилось и само название этого украшения: на смену колье-ошейнику, знаменующему «рабство» у богини Венеры, сначала пришли ожерелья со звеньями, соединяемыми в прихотливом узоре изящными «цепями» в знак обуревающих узников сладостных чувств, а теперь превратившиеся в целую конструкцию, именуемую «сердечной неволей» и на сей раз украшающую не шеи, а руки влюблённых, изнывающих от жестокой страсти. «Дамский журнал» просвещал в 1833 году модниц: «Появился новый род эмалевых браслет. Сии браслеты, богато отделанные, соединяются с кольцом посредством небольшой цепочки, которая движется, извиваясь от кисти руки до одного из пальцев. Отделка цепочки и кольца должна быть в одном роде с браслетами». У некоторых красавиц, гордо демонстрировавших «эсклаважи» поверх перчаток, замок браслета выглядел сердечком, отпираемым маленьким ключиком. Но что говорить о дамах, если даже сам Александр Сергеевич Пушкин надевал (правда, под одежду) на левую руку соединённые друг с другом цепочкой два браслета с зелёной яшмой и какой-то турецкой надписью, причём один обруч располагался над локтем, а другой – у кисти.[33]
Чувствительные особы обожали помещать на украшениях всевозможную любовную символику и трогательные девизы. Да и нежная дружба не оставалась забытой. Знаменитая красавица Аврора Карловна Шернваль в день своей свадьбы, в знак расставания с любимой подругой, великой княжной Ольгой Николаевной, подарила той «слезу своего сердца» – «маленькое чёрное эмалевое сердце с бриллиантом».[34]
Дамы продолжали в избытке унизывать свои персты. На безымянном пальце правой руки великой княгини Марии Александровны, супруги престолонаследника, красовалось «множество колец; это были воспоминания её детства, юности, тут были кольца её матери; все недорогие и не имевшие даже особенного наружного достоинства. На левой руке она носила очень толстое обручальное кольцо и другое, такое же толстое, с узорчатою чеканкою, поперечник, такой же толщины, был прикреплен большим рубином. Это – фамильное кольцо, подаренное государем всем членам царской семьи».[35]
Костюмированные балы становились «гвоздём сезона» во всех европейских городах. Парижане долго вспоминали пышность маскарадов, данных Марией-Каролиной Неаполитанской, вдовой герцога Беррийского и невесткой французского короля Карла X: в 1828 году с большим успехом прошёл «турецкий бал». Спустя год светское общество окунулось во времена Марии Стюарт, королевы Шотландии и Франции, известной дивной красотой и своими злоключениями из-за прав на трон Альбиона, завершившимися казнью в 1587 году по приказу английской монархини Елизаветы I.
Даже обнищавшая Пруссия, ещё до конца не восстановившая финансовую стабильность, смогла позволить себе отличавшееся выдумкой пышное празднество 27 января 1821 года в честь дорогой гостьи, русской великой княгини Александры Феодоровны, вышедшей замуж за принца богатейшей страны и теперь ненадолго приехавшей к родным. Некогда прусская принцесса Шарлотта не носила ни одного бриллианта в Берлине из-за недостатка средств в казне разорённой при нашествии Наполеона страны. Став же русской великой княгиней, королевна могла удовлетворить любую свою фантазию и поразить окружающих на берлинском празднике баснословно роскошным нарядом.
Потому-то немецкие родственники решили представить в любительском спектакле сказочно богатую Индию во времена правления династии Великих Моголов, обратившись к воспоминаниям французского путешественника Тавернье, с благоговением созерцавшего в 1665 году богатства сокровищницы могущественного правителя Ауренгзеба. Невольно вспоминалось, как почти два века спустя, при разграблении Дели Надир-шахом в 1739 году, захватчики вывезли одних только оправленных в золото удивительных рубинов, изумрудов и бриллиантов более пяти тонн, мелких алмазов – до полутонны, а жемчуг и вовсе не стали считать. Вдохновляла и хранящаяся в Дрездене композиция из 123 фигурок из благородных металлов и пяти тысяч самоцветов, выполненных знаменитым ювелиром Иоганном-Мельхиором Динглингером и его братьями, представляющая «Придворный штат в Дели в день рождения Великого Могола Ауренгзеба». В день рождения государя виновника торжества помещали на чашу огромных весов, а другую для равновесия заполняли золотыми и серебряными монетами, жемчугом и зерном, – всё это раздавали затем придворным, слугам и беднякам. Придворный ювелир курфюрста саксонского и одновременно короля польского Августа II Сильного старался передать атмосферу диковинного праздника: «роскошные процессии спешащих на аудиенцию к восседающему на знаменитом Павлиньем троне падишаху, ржание красавцев коней и оглушительный рёв слонов, которых время от времени проводили перед государевыми очами, заставляя каждого великана склонять одно колено, задирать хобот и трубным рёвом салютовать повелителю».[36]
Итак, решено было провести в берлинском королевском замке не просто парад-показ экзотических индийских костюмов, а целое театрализованное действо, взяв за основу поэму «Лалла Рук», творение англичанина Томаса Мура. Быстро сочинили сценарий, заказали известному композитору Гаспаро-Луиджи Спонтини музыку к спектаклю, и работа закипела. 123 участника любительского спектакля усердно зубрили роли индийских и бухарских придворных. Сценографией занимался замечательный архитектор, живописец и театральный декоратор Карл-Фридрих Шинкель, спустя десяток лет создавший проект готической Капеллы-«Шапели», выстроенной Адамом Менеласом в петергофском парке Александрия – владении Александры Феодоровны, уже ставшей к тому времени императрицей.
Сюжет представления разворачивался стремительно. Бухарский эмир Абдалла решил через Индию направиться в Мекку на поклонение гробу пророка Мухаммеда. Своё государство мудрый старец передал сыну Алирису, а заодно решил сосватать в жёны престолонаследнику прекрасную царевну Лаллу Рук, дочь Ауренгзеба. В Дели высокопоставленные отцы поладили, и «тюльпаноликая» красавица (а именно так переводилось её имя) со свитой поехала в Кашмир, где царственную пару соединят узами брака. С замирающим от страха сердцем принцесса пытается представить себе, что за мужа уготовила ей судьба. Царевне всё немило, да ещё несносный камергер Фадладин вечно недовольно брюзжит. К счастью, в свите среди бухарских придворных оказался молодой красавец Фераморз, столь искусно сочиняющий поэтические строфы, что сами герои его прекрасных рассказов зримо разыгрывали свои интересные и занимательные истории. Последнее, четвёртое сказание Фераморз закончил, когда Лалла Рук оказалась на берегу озера, за которым возвышался прекраснейший дворец – конец далёкого пути. Но принцесса вовсе не рада и ещё больше скорбит о своём жестоком уделе выйти замуж за нелюбимого, поскольку теперь в её сердце царит сладкоречивый и нежный Фераморз. Со вздохами несчастная красавица поднимается по высокой лестнице навстречу жениху и видит спускающегося к ней нареченного, как две капли воды похожего на избранника души индийской царевны. Роль Фераморза, оказывается, разыгрывал бухарский эмир Алирис, за время путешествия страстно полюбивший свою суженую.
Естественно, что дочь прусского властелина представляла обворожительную Лаллу Рук. Наряд её был заткан золотом, многочисленные драгоценные каменья сверкали на шее, на груди и на руках русской великой княгини Александры Феодоровны, а её кокетливые башмачки были просто унизаны изумрудами.[37] Восхищение вызвали великолепные жемчуга «индийской принцессы»: с плеч свешивалась ниже пояса четырёхрядная кордельера, ещё четыре нитки отборных перлов сияли на шее красавицы. Пышные локоны ниспадали из-под унизанной самоцветами шапочки, отчасти напоминающей великокняжеский венец. Некогда скромная королевна Шарлотта теперь смогла преобразиться в возлежавшую на паланкине восточную царевну, всю покрытую розами и бриллиантами, «окружённую многочисленными немецкими кузинами, похожими, скорей, на субреток, с завистью считавших крупные бриллианты и броши своей госпожи».[38]
Томного поэта Фераморза, преобразившегося в Алириса, молодого повелителя Бухары, сыграл великий князь Николай Павлович, давно увидевший в обожаемой супруге «счастье своей жизни». Брат русского императора Александра I, как, впрочем, и другие дети Павла I и Марии Феодоровны, прекрасно рисовал и поэтому сам продумал костюм Алириса. Ни о каких халатах, одетых один на другой и стянутых объёмным поясом, и речи быть не могло. Бухарский владыка появился в синей черкеске, препоясанной пёстрым жёлто-зелёно-красным шарфом, под которым был пояс с грозным кинжалом, блистающим, как и криво изогнутая изящная сабля, ослепительно искрящимися разноцветными каменьями. Другой разноцветный шарф был лихо намотан на шапку. Довершали сие великолепие красные, плотно обтягивающие ноги «бухарского эмира» чулки и жёлтые туфли.[39]
На празднике присутствовал наставник великой княгини в русском языке Василий Андреевич Жуковский, поражённый не только изысканным зрелищем, но и грацией и очарованием его высокопоставленной ученицы. Поэту-романтику показалось, что та, когда её пронесли на паланкине в процессии, провеяла над ним, «как Гений, как сон; этот костюм, эта корона, которые только прибавляли какой-то блеск, какое-то преображение к ежедневному, знакомому». Жуковский никак не мог забыть берлинский праздник, и в его памяти вставала «эта толпа, которая глядела на одну: этот блеск и эта пышность для одной; торжественный и вместе меланхолический марш; потом пение голосов прекрасных и картины, которые появлялись и пропадали, как привидения, живо трогали, еще живее по отношению к одному, главному, наконец, опять этот марш – с которым все пошло назад, и то же милое прелестное лицо появилось на высоте и пропало в дали – все это вместе имело что-то магическое! Не чувство, не воображение, но душа наслаждалась…» Из-под его пера вылились вдохновенные строки, обращённые к Лалла Рук:
Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты: Лишь порой он навещает Нас с небесной высоты.[40]Даже через двадцать два года Жуковский упомянул незабвенный праздник 1821 года в посвящении к написанной им «индийской» повести «Наль и Дамаянти», адресованном очередной его ученице, юной великой княжне Александре Николаевне, самой младшей дочери «Лаллы Рук».
Теперь берлинцы так назвали свою королевну Шарлотту, блеск и богатство костюма в сочетании с её красотой произвели тогда в зале подлинный фурор, а благодаря вдохновенным стихам Жуковского и петербуржцы так стали называть супругу будущего русского самодержца Николая Павловича.
Вот и Александр Сергеевич Пушкин, описывая цвет общества на балу в Аничковом дворце, увековечил в XXVII строфе VIII главы «Евгения Онегина» незабываемое впечатление от появления Лалла Рук «в зале яркой и богатой»:
Когда в умолкший, тесный круг, Подобна лилии крылатой, Колеблясь, входит Лалла-Рук. И над поникшею толпою Сияет царственной главою, И тихо вьется и скользит Звезда – харита меж харит, И взор смешенных поколений Стремится, ревностью горя, То на неё, то на царя…Кстати, императрицу Александру Феодоровну ещё с девичьих времён называли также «Белой розой» или «Белым цветком», так как в семье её сравнивали с Бланшефлур – одноимённой нежной и прекрасной героиней, но не французского куртуазного романа «Флуар и Бланшефлор», а «Волшебного кольца» – творения барона Фридриха де ла Мотт Фуке, лишь стилизованного под средневековые сказания. В Потсдамском парке Сан-Суси для приехавшей погостить к родным русской царицы в день её рождения, 13 июля 1829 года, устроили своеобразный рыцарский поединок «Турнир Белой Розы», после которого Александра Феодоровна свято сохраняла в петергофском Коттедже дивный серебряный цветок и памятный кубок, исполненные Иоганном-Георгом Хоссауэром, придворным ювелиром прусского короля.[41] А помещённый на рыцарском щите меч в венке из белых роз стал гербом Петергофской Александрии.
И.Г. Хоссауэр. Ветка розы. 1829 г. Серебро. ГМЗ «Петергоф»
Да и в Петербурге высший свет при любящей веселиться августейшей чете то и дело выдумывал очередные костюмированные балы, прихотливо перебирая прошедшие времена и костюмы самых разных стран, причём порой совершенно фантастические.
В 1833 году на масленицу обратились к восхитительной Индии. Маскарад «Магическая лампа» начался в доме князя Петра Михайловича Волконского, а затем участники костюмированного бала переместились в Зимний дворец. «В Концертном зале царской резиденции поставили трон в восточном вкусе и галерею для тех, кто не танцевал. Зал декорировали тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, волшебство этого убранства буквально захватывало дух. <…> Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей. Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом, был гвоздём вечера». Вначале никто не узнал было в нём Григория Волконского, сына министра двора».[42] «Одетый в чародея и неся на голове лампаду», сей загадочный «горбун» торжественно вёл через дворцовые залы блестящую вереницу танцующих церемонный полонез. «За ним шёл так называемый белый кадриль, составленный из восьми фрейлин… На них были белые платья, украшенные голубым атласом и брильянтами, а сзади у каждой висел вуаль из белого крепа. Далее шёл кадриль императрицы… Все были одеты в Индейских платьях. У мужчин были длинные бархатные камзолы и тюрбаны, украшенные брильянтами и белыми перьями. У Воронцова одного было на 1 500 000 алмазов. Но всех превосходила императрица богатством своего наряда. Её один башмак стоит 75 000 рублей. Всё платье было усыпано драгоценными камнями; необыкновенной величины алмазы, яхонты, изумруды украшали её тюрбан, от которого шёл до низу длинный вуаль».[43] Александру Феодоровну сопровождали обе её старшие дочери, Мария и Ольга, «в застегнутых кафтанах, шароварах, в острых туфлях и с тюрбанами на головах».
На «Праздник Боб», устроенный в следующем году в самый канун Крещения, почти все надели наряды галантного XVIII века. Среди нашедших боб в пироге и оттого ставших королём или королевой праздника оказались младшие дети Николая I, «Адини и Кости», явившиеся перед собравшимися «с пудреными волосами и в костюмах прошлой эпохи».
На очередном «бобовом» празднике его участники преобразились в «китайцев». Всех приятно удивило, что «высоко зачёсанные и завязанные на голове волосы очень украшали дам, особенно тех, у кого были неправильные, но выразительные черты лица». Весьма забавно, но никто из присутствовавших на балу так и не смог узнать всесильного русского самодержца в высокопоставленном чиновнике-мандарине с косой на голове, прикрытой презабавной розовой шапочкой, да ещё «с искусственным толстым животом». Проказливая старшая дочь Николая I разыграла вместе с прусским дядюшкой Карлом целую «очаровательную и остроумную пантомиму», протанцевав па-де-де в духе прославленной балерины Тальони, сводившей тогда публику с ума своими незабываемыми па. Китайский костюм очень пришёлся к лицу старой графине Разумовской, оказавшейся Бобовой королевой. Достойную пару ей составил старый граф Пальфи с его смешным трубообразным носом, выделявшимся на вечно красном лице. Сей никогда не унывающий венгерский магнат по прозвищу «Тинцль», завсегдатай бульваров и театральных кулис, ещё со времён Венского конгресса сохранивший не только свои многочисленные знакомства, но также импозантную внешность и великосветские замашки, очень удачно разыграл роль сказочного комичного короля. Да и не удивительно. Весельчак и жуир, вхожий во все аристократические дома, он появлялся на петербургских улицах в любую жару и мороз всегда с непокрытой головой, «с волосами, зачёсанными ежом», облачённый в экзотическую и живописную мадьярскую одежду.[44]
А иногда экзотические костюмы и не требовались, достаточно было избытка драгоценных украшений на августейших особах. При посещении Одессы царским семейством в 1837 году каменья, блиставшие на дамах на балу, и роскошь нарядов были предметом разговоров несколько лет. Про императрицу говорили, что она «в этот день горела в огне бриллиантовом».[45] Современники, присутствовавшие на балу, заметили, что великая княжна Мария Николаевна, «в лёгком белом платьице с бриллиантовой диадемой, была удивительно как хороша». Императрицу же отличало просто фантастическое количество бриллиантов не только в «огромной диадеме, с огромными солитерами на голове», но и на роскошном пунсовом платье, сверху донизу расшитом алмазами. Невольно приковывало внимание ожерелье на шее монархини из жемчужин, «величиною, право, почти с грушу».[46]
О других самоцветах в XIX веке также не забывали. Даже деловитый австрийский канцлер Меттерних, мастер политических интриг, потеряв голову от страсти к красавице графине Саганьской, послал желанной возлюбленной усыпанный драгоценными каменьями браслет, объяснив в приложенном письме, что «бриллиант – символ любви, изумруд – лунный камень мужчины, аметист – лунный камень женщины, рубин – символ верности». А в конце не преминул многозначительно напомнить: «Люби и будешь верной».[47]
При Николае I продолжали традицию украшений с зашифрованными надписями из камней. Сам самодержец подарил на серебряную свадьбу супруге ожерелье из 25 отборных бриллиантов, к которым через десять лет на очередную юбилейную годовщину вручил возвратившейся из поездки за границу супруге ещё десять солитеров, стоивших баснословную сумму в 30 625 рублей, вместе с браслетом работы Карла Болина, усеянным диамантами и рубинами.[48] Каждая же из дочерей в 1842 году получила «счастье», им он вручил «по браслету из синей эмали со словом „bonheur“ в цветных камнях», отделяемых друг от друга жемчужинами. «Такова жизнь, – сказал он, – радость вперемешку со слезами. Эти браслеты вы должны носить на семейных торжествах».[49] «Фамильный» браслет «шириной 1/2 вершка (=2,22 см) состоял из разных драгоценных каменьев в форме параллелограммов одинаковой величины; каждый камень был оправлен отдельно и мог быть отстёгнут от другого».[50]
Все же семеро детей императрицы Александры Феодоровны тогда поднесли матери браслет с семью сердечками, из драгоценных камней, которые составляли слово «respect»,[51] чтобы показать, как они её почитают. Скорее всего, ослепительную череду самоцветов начинали алый рубин (Rubis), травянисто-зелёный изумруд (Emeraude), лазурный сапфир (Saphir), далее выделялся своим цветом, напоминающим только что проклюнувшиеся из почек листочки, перидот (Peridote) (современное название хризолит-оливин. – Прим. Н. Боровковой), контрастирующий с насыщенными оттенками летней листвы другого смарагда (Emeraude) и тоном незрелого яблока, отличающего хризопраз (Chrisopraze). Завершало же «довольно пёструю компанию избранных минералов» сердечко из золотистого топаза (Topaze).
Загадочный язык камней как в николаевскую эпоху, так и позже становится популярным и в других слоях общества. Александр Дюма-отец, побывавший в России в 1858 году, описывая свои путевые впечатления, не удержался и заметил, что русские люди очень любят «говорящие кольца», «это изысканная форма выражения чувств, почти что неизвестная у нас. По расположению камней и первым буквам их названий можно прочесть в кольце имя дорогого вашей памяти человека». А далее знаменитый романист пояснял: «Предположим, его зовут Ганс – вы записываете его имя с помощью гиацинта, аметиста, нефрита и сапфира. Составьте начальные буквы названия этих камней», то есть: Hyacinthe, Améthyste, Néphrite, Saphir, a в результате и по-французски, и по-немецки получится нужное: Hans.[52]
Кстати, москвичи тоже не отставали от моды. Когда в Первопрестольную приехала знаменитая балерина Фанни Эльслер, то благодарные зрители преподнесли чаровнице на её бенефис 2 марта 1851 года ветку камелий с калачом, знаменовавшим собой «хлеб-соль». В калаче же таился браслет с шестью драгоценными камнями: малахитом, опалом, сапфиром, аметистом и двумя гранатами, которые составляли слово «Москва».[53] Самое забавное, что имя Белокаменной можно прочитать как на русском, так и на немецком языках, особенно если учитывать, что прославленная артистка была австрийской подданной. Чтение же в обоих случаях обеспечивали гранаты, один из которых наверняка был травянистого цвета. Название Первопрестольной по-русски давала цепочка: Малахит, Опал, Сапфир, красный гранат-Карбункул, зелёный гранат-Вениса, Аметист. Немецкое же слово «Moskau» составлялось из: Malachit, Opal, Saphir, Karfunkelstein (красный гранат), Amethyst, Uvarovit (зелёный гранат).
Традиция дарить близким табакерки с понятными лишь им акрограммами из каменьев сохранилась и во времена Александра II. В одном частном собрании Северной столицы мне довелось увидеть подобную вещь.
Сама золотая коробочка, похоже, исполнена в немецком городе Ганау Гессен-Дармштадтского герцогства, на ювелирной фабрике «К.М. Вейсхаупт и сыновья», особенно прославившейся в третьей четверти XIX века золотыми табакерками в стиле предыдущего галантного столетия. Основатель предприятия, Карл-Мартин Вейсхаупт (Carl-Martin Weishaupt), происходил из династии мюнхенских серебряников, продолжавших в родном городе дело предков вплоть до середины XX века.[54] В окружённом алмазным ободком овале на фоне синей, кажущейся муаровой, «королевской» эмали красовался усыпанный бриллиантами вензель «А» под короной цесаревича Александра Николаевича. С обеих сторон по триаде самоцветов. Слева сверкали два сапфира (Saphir), а между ними сиял тоже синий камень, явно заменивший какой-то другой самоцвет. Справа же, между очень похожим на сапфир кордиеритом (Cordierite) и интенсивно-голубым аквамарином (Aigue-Marine), краснел то ли гиацинт (Hyacinthe), то ли, скорее, гранат-гессонит (Hessonite). Из первых букв названий камней, если начинать с нижней вставки слева, по дуге-«подкове» складывалось: S?SCHA. Похоже, что зашифрованное слово – не что иное, как «Саша», то есть написанный по-немецки уменьшительный вариант имени «Александр». Значит, заменённый камень в первой триаде не только должен был для симметрии быть тоже подобного красного цвета, но и наименование его начиналось с «А». Это мог быть аметист (Améthyste), но, скорее всего, то был александрит (Alexandrite), найденный финским минералогом Нильсом-Густавом Норденшильдом 17 апреля 1834 года, в день совершеннолетия будущего Александра II и оттого названный в честь цесаревича. И надпись из камней должна читаться: SASCHA, а произноситься «Саша», так как немецкое буквосочетание SCH даёт именно русскую букву «ш». Столь фамильярно подписался наследник русского престола. Кстати, после убийства 1 марта 1881 года императора Александра Николаевича народовольцами вошло в моду носить перстни с александритом между двух бриллиантов, олицетворявшие самого самодержца-мученика и два блестящих деяния его царствования: освобождение крестьян от крепостного права и учреждение нового судопроизводства.[55]
Правда, пока совершенно не известен владелец таинственной табакерки, но, может быть, последующим исследователям удастся раскрыть этот секрет. Рокайли свидетельствуют о времени второго рококо, так ярко проявившегося в 1840–1850-е годы. Табакерка заставляет вспомнить о невесте русского престолонаследника, обретённой именно в Гессен-Дармштадтском герцогстве в 1839 году. Вероятно, табакерка была приобретена в Ганау, а затем в Петербурге дополнена разноцветными каменьями, образующими акрограмму. Однако отсутствие в шифре-вензеле Александра того же рисунка, что и последующие буквы «А», но без цифры «II», – всё, как и уменьшительно-ласкательный вариант имени «SASCHA», говорит о том, что табакерка была подарена наследником престола, то есть до 1855 года.
Сама она не только по своей форме, но и по расположению на крышке шести драгоценных камней очень похожа на золотую табакерку, пожалованную в 1856 году ставшим уже к тому времени императором Александром Николаевичем Андреасу Доннеру за заслуги в Крымской войне. Вероятно, вторая вещь также вышла из стен фирмы «Вейсхаупт и сыновья» в Ганау, однако на сей раз алмазную монограмму императора на крышке окружают только крупные диаманты.[56] То, что при русском Дворе использовали работы иноземных ювелиров, совсем неудивительно. В августе 1813 года, когда шла кровопролитная война с Наполеоном на немецких землях, обер-гофмаршал граф Толстой приобрёл у «прусского ювелира Жордана и компании восемь золотых табакерок за 348 червонных», поскольку Александр I распорядился «покупать на счёт Кабинета» именно такие вещи, причём «сколько оных нужно».[57]
Интересно, что при петербургском Дворе излюбленной формой жалованных табакерок был прямоугольник со срезанными углами, центр акцентировал медальон с портретом или «вензелевым именем» августейших дарителей, а по бокам располагались шесть драгоценных камней, по три с каждой стороны. Именно так выглядит строгих классических очертаний награда, данная в 1819 году вдовствующей императрицей Марией Феодоровной ментору её младшего сына Михаила, Ивану Фёдоровичу Паскевичу.[58] А золотую табакерку с эмалью, презентованную около 1876 года Александром II известному финскому поэту Йохану-Людвигу Рунебергу, хотя и отличают «капризные» изгибы корпуса, характерные для стиля рококо, но зато шесть алмазов её декора сияют на своих привычных местах.[59]
Глава II Ювелиры братья Барбе
Петербургские мастера, братья Барбе, были уроженцами г. Франкенталя близ Франкфурта-на-Майне. Сначала в 1794 году в Северной Пальмире появился младший, совсем ещё подросток, Иоганн-Христиан, который родился 27 февраля 1780 года. Четырнадцатилетний мальчик смог устроиться в ученики к галантерейному мастеру Августу-Вильгельму Рейнгардту. Юноше так понравилось в Петербурге, что он вызвал в столицу Российской империи своего старшего брата. Карл-Хелфрид Барбе (1777 – после 1832) уже через год присоединился к Иоганну-Христиану, чтобы вместе постигать сложное ремесло. Оба талантливых брата в 1799 году получили статус подмастерьев. Однако Иоганн-Христиан Барбе уже в 1804 году стал успешным галантерейным мастером столичного иностранного цеха ювелиров. Он не страдал отсутствием клиентов, что позволило довольно быстро стать богатым человеком. Во всяком случае, с 1820-х и вплоть до 1870-х годов «золотых дел мастеру Ивану Барбе» и его наследникам принадлежал дом на Большой Морской (№ 15), на месте которого в 1914 году поднялось возведённое архитектором М.М. Перетятковичем здание Русского торгово-промышленного банка.[60] Скончался Иоганн-Христиан Барбе 12 января 1843 года, причём вдова его, урождённая Шарлотта-Амалия Александр (1798–1873), пережила своего мужа на три десятка лет.[61]
Карл Хелфрид Барбе
Что же касается Карла-Хелфрида Барбе, то он, выдержав положенные испытания, только в 1806 году вступил мастером в столичный иностранный цех, где благополучно числился пять лет, а затем, поменяв подданство на русское, предпочёл стать с 1811 года членом русского серебряного цеха. Поскольку работы Карла-Хелфрида отличались высоким качеством исполнения, то ему часто поручались заказы от Кабинета.[62] Ведь именно табакерки продолжали оставаться любимым пожалованием – наградой придворному от Высочайшего Двора.
Табакерка цветной эмали
Эпоха, когда нюхательный табак был в моде, ушла в прошлое. Теперь табакерки, всё чаще называемые «шкатулками», становятся, скорее, вожделенной вещью, пополняющей собрания коллекционеров, пленяющихся то изящной формой этих коробочек, то восхитительной чеканкой, то тончайшей гравировкой, то изумительной красоты эмалями, а зачастую и раритетными каменьями. Внутри теперь скрывались драгоценности, наборы для шитья, всевозможные шпильки и булавки – короче, всё, что было мило сердцу владелицы.
Некий владелец лавочки, где продавались несессеры и шкатулки, желая привлечь солидных покупателей, решил приманить их «галантерейным» обхождением и знанием французского языка, на коем изъяснялись аристократы. Посему над входом в магазинчик разместилась вывеска: «Marchand de necessaires et chatouilleur de S.M. Tlmpératrice des français», объявляющая на «французско-нижегородском» диалекте, что его хозяин – не кто иной, как «торговец несессерами и шкатульщик Её Величества Императрицы французской». И всё бы ничего. В конце концов, не так уж страшно, что вместо термина «marchand» следовало бы употребить слово fournisseur – «поставщик». Но парижане, говоря о шкатулках, употребляли слова «cassette», «coffret» или «baguier», совершенно не подозревая, что, оказывается, есть ещё словечко «chatouille». Ведь глагол «chatouiller» означает «щекотать», и получается, что предприимчивый купчик пышно поименовал себя «щекотальщиком» французской императрицы![63]
Вот и золотая, покрытая пестроцветными ромбами табакерка с букетом в овальном медальоне крышки поражает не столько качеством эмали, сколько своеобразным образцом кварца, образующим «бек»-затвор (см. рис. 1 вклейки). Прихотливому порождению природы искусные руки гранильщика придали форму гладко ошлифованного и прекрасно отполированного выпуклого челночка-кабошона. Кажется, что, учитывая царившую тогда любовь к минералогии, и коробочку-то мастер Карл-Хелфрид Барбе исполнил ради выигрышной демонстрации выглядящего единым и оттого столь необычным, наполовину розовым, наполовину жёлтым, прозрачного самоцвета, чей цвет и блеск усиливаются фольгой, выстилающей дно золотого каста и обеспечивающей нужный эффект.[64] Однако подобное соседство двух разных каменьев обычно обозначало соединение мужчины и женщины в брачном союзе. Да и цвета самоцветов не случайны: розовый обозначал молодость, любовь и нежность возлюбленной, в золотистый – великолепие, блеск и богатство жениха. К тому же сочетание ярко-красного с интенсивно-жёлтым свидетельствовало о полном счастье. Поверхность табакерки как будто покрывает пёстрый восточный ковёр, но те, кто знал тайный язык красок, мог увидеть в различных эмалях благопожелания супружеской чете: карминно-алая сулила здоровье, белая – чистоту и откровенность, фиалковая – дружбу и постоянство, а соседство ярко-жёлтой с зелёной говорило о щедрости.[65]
В музее Хиллвуд в Вашингтоне хранится сделанная тем же Карлом-Хелфридом Барбе табакерка, сплошь покрытая ровными рядами кабошонов бирюзы.[66] Подобное изобилие голубого минерала, составляющего единственный декор коробочки, неудивительно: этот камень считался могущественным оберегом и символом счастливого супружества.
Недаром попутешествовавший по России Александр Дюма-отец подивился, увидев в Москве, как прекрасную бирюзу, «редкость и предмет вечных поисков русских», продавали торговавшие драгоценными камнями «персы и китайцы, в оправах и без, если в оправах, то, как правило, серебряных», причём «чем больше напоминает она густую лазурь, тем ценнее». Знаменитый романист даже всерьёз поверил байке, что «если в отсутствие любимого человека бирюза, подаренная им, начнёт терять цвет, значит, человек этот заболел или изменил», и даже описал увиденный им подобный «умерший» камень, из небесно-голубого превратившийся в мертвенно-зелёный. Въедливый француз с любопытством узнал также, что «бирюза у русских не просто драгоценный камень, она предмет суеверия: друг дарит бирюзу другу, любовник – любовнице, любовница – любовнику, это дар на счастье при разлуке». Но оказывается, главное, бирюза – отличный талисман, тем более могущественный, чем гуще её цвет. Однако Дюма не удержался, чтобы рационально не подытожить: «Уверен, что на бирюзе можно хорошо заработать», купив её в Париже, а затем продав в Золотых рядах в Москве или на Миллионной улице в Петербурге, так как отношение к лазоревому минералу «как к живому и симпатическому камню, удваивает её цену» в обеих российских столицах.[67]
Практичный француз не ошибался. На улицах Северной Пальмиры в первой четверти XIX века часто видели появлявшегося в весьма живописном наряде индуса-ростовщика, промышлявшего и торговлей драгоценными каменьями. Богатства не принесли купцу особого счастья: он трагически погиб в Москве, в номерах Черкасского подворья, от руки загадочного, так и оставшегося неизвестным, убийцы, не тронувшего лежащих вокруг сокровищ, зато похитившего векселя некоей графини. Когда несколько лет спустя продавались с аукциона принадлежавшие покойному индийцу редкости, одной только бирюзы раскупили около четырёх пудов. Однако лучшие, высокого качества лазоревые минералы на торгах отсутствовали: они, как объясняли интересовавшимся нужным товаром, куда-то исчезли. Но тайна, как и полагалось, вскоре выплыла на свет. Оказывается, приглашённый оценщик, заботливо и кропотливо просматривавший каждый из мешков с нешлифованными кусками бирюзы, забрал вместо денежной оплаты за свои труды самые редкостные образцы. Живительно, но всё было сделано с ведома квартального надзирателя, совершенно не представлявшего ценность камней весьма непрезентабельного вида. Зато в Татарской слободке хитроумный «эксперт» выстроил себе на полученные барыши около десятка прехорошеньких домов.[68]
Мемориальная табакерка графа И.Ф. Паскевина-Эриванского
Именно Карлу-Хелфриду Барбе доверили исполнить по заказу Двора табакерку для пожалования её графу Ивану Фёдоровичу Паскевичу-Эриванскому в память о кончине вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Флигель-адъютант императора Павла I и «отец-командир» будущего самодержца Николая Павловича был почти три десятка лет хорошо известен императрице-матери Марии Феодоровне, отнюдь не случайно десятилетие назад доверившей ему воспитание младшего сына, порфирородного великого князя Михаила Павловича, с чем, к её удовольствию, военачальник, снискавший лавры ещё в годы войны с Наполеоном, великолепно справился.
Табакерка снаружи покрыта пластинками перламутра, так как слово «Perlmutter» в немецком языке обозначает «мать жемчуга», причём слово «перл» употреблялось и в переносном смысле и тогда переводилось как «сокровище» (см. рис. 2 вклейки). Добродетельная супруга Павла I была матерью десятерых детей, а два её сына взошли на русский престол. К тому же, по древнему обычаю, французские королевы во время траура облекались во всё белое, а поэтому традиционная «печальная» чёрная эмаль узенькой полоской окантовывает лишь рёбра коробочки. На крышке табакерки прорисована золотая арка готического храма с пьедесталом с инициалом «М» и ступенями, ведущими к погребальной урне, выполненной из стекла и увенчанной императорской короной. Здесь находился локон волос покойной монархини. Надписями на оборотной стороне крышки табакерки были увековечены «печальные числа»: «24 октября 1828 года» и «в 2 часа по полуночи» – день и час смерти императрицы Марии Феодоровны.[69]
Иоганн Христиан Барбе
Золотой кубок – дар кавалергардов генерал-адъютанту графу С.П. Апраксину
Ещё больше повезло в России младшему из братьев, Иоганну-Христиану, обычно ставившему на своих работах подпись: «J.C. Barbé», а на счетах – «JoChBarbe».
Волей судеб сделанный этим петербургским мастером золотой, высотой 34,3 см, кубок в 1965 году оказался в далёкой Америке, будучи куплен у некоей антикварной фирмы госпожой Марджори-Меривезер Пост, владелицей и основательницей частного музея Хиллвуд в столичном Вашингтоне. И как, наверно, удивилась бы экс-супруга американского посла в СССР, если бы узнала, что сия весьма увесистая вещь в 6 фунтов 49 золотников (=2683 г) была в смутное время русской революции и кровавой Гражданской войны предметом гордости и надежды Агафона Карловича Фаберже, до того уважаемого эксперта Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца и успешного оценщика Ссудной казны.
Октябрьская революция 1917 года «поставила крест» на существовании знаменитой фирмы отца. Сам Карл Густавович, разом потерявший дело всей своей жизни, покинул голодный Петроград 24 сентября 1918 года. Через два месяца оказались в безопасности его жена и сын Евгений. А в бывшей столице рассыпавшейся Российской империи вовсю свирепствовал «красный террор». К массовым казням заложников в изобилии добавились участившиеся регулярные официальные реквизиции частной собственности у «буржуев» и бандитские налёты-«экспроприации». Напрасно Агафон Карлович надеялся, что ему (долго) позволят владеть достаточно прибыльным художественно-антикварным магазином, открывшимся 16/29 июня 1918 года ради поддержки семьи, к счастью, оставшейся в теперь независимой Финляндии. Уже 31 мая 1919 года хозяина арестовали, а через полгода ему наконец-то вынесли «удивительно мягкий» приговор, послав обвинённого «за спекуляцию художественными ценностями» на «общественные принудительные работы до конца гражданской войны». Пока он в полной мере познавал «прелести» тюрьмы, чекисты тщательно, простукав стены и полы, обыскали не только принадлежавшие Агафону Карловичу жилище, антикварный магазин и дачу в Левашово, но и знаменитый особняк на Большой Морской, 24. Всё более или менее ценное, не говоря уже об обнаруженном в тайниках, тут же конфисковали. В заключении Агафон Фаберже серьёзно заболел тифом, но «нет худа без добра», поскольку именно болезнь спасла беднягу от расстрела. А вскоре правительству потребовались знающие оценщики ювелирных изделий. Потому-то вместо лагеря пришлось столь редкостного специалиста отправить на свободу. 7 октября 1920 года исхудавший и измождённый Агафон Карлович прописался на квартире Марии Алексеевны Борзовой, а через некоторое время вступил с этой бывшей бонной своих детей даже в законный брак по обряду евангелическо-лютеранской церкви. Но тем более следовало исполнить долг перед первой семьёй, с которой сын знаменитого ювелира мечтал опять соединиться при первой же возможности.
На счастье, перед арестом Агафон Фаберже успел спрятать у надёжных друзей несколько драгоценных полотен и большой кубок из золота высокой – 80-й (современной 833-й) пробы. Да и покупатель, с которым тогда почти удалось договориться, подтвердил желание приобрести предлагаемые вещи. К тому же он согласился выложить только за раритетную вещь из благородного металла 100 000 долларов. Агафону Фаберже пришлось поверить на слово, что как только швейцарец Георг Эд. Брёмме, уехавший из Петрограда 21 октября 1920 года, окажется за границей, обязательно и безотлагательно отдаст в устойчивой американской валюте деньги, вырученные за заранее подготовленные сделки, Лидии Александровне Фаберже. Больше Агафон Карлович этого купца, оказавшегося столь непорядочным, не видел, а потом уже от друзей с негодованием узнал, что бессовестный обманщик, оказывается, на всех углах «сожалел», что якобы доверенные ему картины оказались копиями, роскошные бриллианты – фальшивыми камушками, а массивный золотой кубок вдруг превратился в устах вруна в ничего не стоящую «медяшку».
Только в декабре 1927 года многострадальный А.К. Фаберже смог с помощью местных жителей пересечь по льду на финских саночках Финский залив и добраться со второй женой и крошкой-сыном Олегом до спасительных Териок. Золотой же кубок зажил своей жизнью, многократно переходя от очередного маклера в руки следующего владельца, пока не попал в США.
Век назад сию раритетную вещь, судя по надписи на тулове, вручили 25 июня 1833 года офицеры Кавалергардского полка на прощание своему командиру генерал-адъютанту графу Степану Фёдоровичу Апраксину. Тот почти три десятка лет прослужил в этом полку влившись в дружеский коллектив в 1804 году ещё безусым двенадцатилетним юнкером, а потом бок о бок с сотоварищами храбро сражался в битвах при Кульме, Лейпциге, Фер-Шампенуазе и под Парижем. С августа 1824 года Степана Фёдоровича, получившего за боевые заслуги ордена Св. Владимира с бантом и Св. Анны (правда, не высших степеней), назначили командиром полка и не ошиблись в выборе. Граф оказал 14 декабря 1825 года неоценимую поддержку Николаю I, поскольку кавалергарды благодаря Апраксину не только без колебаний присягнули новому императору, но и затем по Высочайшему приказу атаковали восставших на Сенатской площади. На следующий день благодарный монарх произвёл Степана Фёдоровича в генерал-майоры. Теперь же, через два года после успешного подавления Польского восстания граф Апраксин расставался по Высочайшему приказу со своими сотоварищами-подчинёнными, и августейший покровитель сделал заслуженного военачальника командующим Гвардейской Кирасирской дивизией, а вскоре пожаловал любимцу ещё и чин генерал-лейтенанта. Потому-то кубок, по обычаю поднесённый на добрую память благодарными кавалергардами своему покидающему полк командиру, увенчивает форменная шапка императорских кирасир, искусно выполненная мастером И.-Х. Барбе из благородного металла.[70]
Бирюзовый браслет, пожалованный Николаем I великой княгине Марии Павловне на Пасху 1832 года
В начале 1832 года Николай I повелел исполнить для русской великой княгини Марии Павловны, супруги великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского, браслет со своим портретом. Однако почему всемогущий монарх вдруг решил пожаловать родной сестрице столь престижный подарок, вручаемый обычно в знак наивысшего благоволения? В поисках ответа пришлось поломать голову.
Императрица Мария Феодоровна незадолго до смерти, по духовной от 21 января 1827 года, отписала два памятных червонца-дуката с многозначительной надписью: «Wohl dem der an seinen Kindern Freude erlebt» («Благополучие тому, кто испытывает радость за своих детей»), доставшихся ей от матери, именно дорогим Николаю и Марии. Правда, августейшая матушка в 1812 году предназначала одну из монет любимому первенцу Александру «в благодарность за счастие, доставляемое им мне, и в знак моей радости, что он достигнул высшей степени славы как своими военными победами, так и своим нравственным превосходством». Шла тяжёлая кровопролитная Отечественная война, Петербург чуть не оказался в смертельной опасности, но французы не смогли надолго удержаться в спалённой пожарами Москве и вынуждены были спешно покинуть старую столицу, а теперь русские войска громили ослабевшие полчища захватчиков. Старая царица молила Господа Бога о сыне-императоре, «чтобы с каждым днем крепли и развивались Им высокие и прекрасные качества, которыми Он наделил моего сына; чтобы Он даровал ему силу с твёрдостью и достоинством перенести ниспосланное ему испытание и горе; чтобы он, надеясь на Божью помощь, не падал духом, победил бы своих врагов и прославил бы свою державу, так что народ любил бы и благословлял его, называя своего государя Освободителем угнетенных народов. Господь услышал мою мольбу и предчувствие мое сбылось. Надеюсь также на милосердие Божье, что он исполнит и теперешнюю молитву мою, дарует императору силу привести его труд к желаемой цели, чтобы во всех частях администрации водворилось правосудие и любовь к добру, чтобы народ его благоденствовал и был бы так счастлив, как того желает его монарх, и чтобы наконец прекрасное прозвище „Благословенный" данное ему народом, осталось за ним вовеки».
Теперь, спустя 15 лет, заботливая матушка просила следующего сына-самодержца беречь сей червонец «как фамильную вещь» и искренне желала: «Дай Бог, чтобы на священную особу императора Николая перешли все те благословения, которые я ниспосылала на его брата, дай Бог ему окончить дело, начатое императором Александром, и чтобы он неусыпно заботился о счастье, благоденствии и нравственности своего народа, тогда он будет благословлен Господом точно так же, как и я благословляю его ежедневно, и будет любим своим народом».
Другой же дукат августейшая матушка, помимо драгоценностей, завещала дочери: «любезной Марии, оказавшейся во всех случаях жизни достойной моей любви и заслужившей всеобщее уважение», чтобы «высказать ей еще раз, как я люблю её и как я довольна ею». Конечно же, вдовствующая императрица очень сожалела, что у неё были «только два такие червонца», она желала бы дать счастливую монету-талисман «каждому из моих детей, так как все они одинаково дороги для меня и всех их я одинаково благословляю».[71]
Дукат действительно принёс дочери императрицы Марии Феодоровны счастье в детях. Оправдалось предвидение Екатерины II о столь твёрдом характере внучки, что той следовало бы «родиться мальчиком», поскольку «она сущий драгун, ничего не боится, все её склонности и игры мужские», а «любимая её поза – упереться обоими кулаками в бока и так расхаживать».[72] Отличная шлифовка графиней Шарлоттой Карловной Ливен поведения, манер и характера принцессы превратила Марию в прекрасно воспитанную и чрезвычайно вежливую особу, скорее хорошенькую, нежели красивую. «Она знала, как обращаться с людьми. Ее вежливость по отношению к окружающим, включая самых простых людей, с которыми она встречалась, не знала пределов. Она никогда не забывала поблагодарить за малейшую услугу. Когда она выходила из экипажа, она поворачивалась, чтобы кивком головы поблагодарить кучера, и это было отнюдь не формальностью, а сердечной потребностью. Она всегда думала о тех, кто ей оказывал внимание, чтобы ответить им тем же».[73]
В 1804 году молодую царевну соединили узами не очень-то равного брака с недалёкого ума великим герцогом Карлом-Фридрихом Саксен-Веймар-Эйзенахским (1783–1853), не случайно прозванным родственниками «Кикерики». В маленьком Веймаре русскую принцессу встретили восторженно, сразу отметив её невыразимое обаяние и умение «соединить прирождённое величие с необыкновенной любезностью, деликатностью и тактом в обращении».[74] Для Российской империи Мария Павловна (1786–1859) всегда оставалась русской великой княгиней, а для новых подданных – герцогиней Саксен-Веймарской. Третья внучка императора Павла I родила мужу двоих сыновей и двух дочерей, Марию-Луизу (1808–1877) и Августу (1811–1889). К великому горю, первенец Пауль-Александр (1805–1806) скончался, прожив всего восемь месяцев. Опустевший отчий престол с 1853 года занял принц Карл-Александр (1818–1900).
Долгое пребывание на троне крошечной европейской страны сделало умную Марию Павловну чересчур прагматичной и практичной. Непременные интриги и нескончаемые сплетни при маленьком Дворе, желание любыми способами быть в курсе всего, что делалось вокруг, привели к тому, что внучка Екатерины II стала считать совершенно нормальным наушничество и соглядатайство. Как же была поражена великая княжна Ольга, когда веймарская тётушка, будучи в Петербурге в гостях, выразила недовольство покоями племянницы: «Неужели у вас здесь нет ни одной комнаты, в которой нельзя было бы подслушивать?» Русская великая княгиня, воспитанная в заветах и правилах православной веры, теперь была готова нарушить строжайшие запреты, лишь бы добиться своей цели. Как ей хотелось женить своего ненаглядного сыночка на одной из дочерей Николая I! И как ей не пытались петербургские родственники напомнить о церковном запрете на браки даже троюродных, Мария Павловна неизменно возражала собеседникам: «Это предрассудки. Это отсталые взгляды».[75] Предприимчивая тётушка всё-таки соединила сына-престолонаследника узами брака с его кузиной Софией, дочерью самой младшей своей сестры Анны Павловны, голландской королевы.
Что же касается собственных дочерей русской великой княгини, то ещё в 1826 году заботливой маменьке удалось пристроить старшую, совершенную, но довольно бесцветную красавицу Марию-Луизу (1808–1877) за принца Фридриха-Карла Прусского, брата супруги Николая I. А затем случай помог герцогам Саксен-Веймарским уже во второй раз породниться с династией Гогенцоллернов.
Принц Вильгельм (ставший в конце жизни первым германским императором), второй сын прусского короля Фридриха-Вильгельма III, страстно полюбил княжну Елизавету (или, как её чаще называли родные, Элизу) Радзивилл и, испытывая к ней серьёзное и глубокое чувство, добился помолвки с прелестной девушкой. Та происходила из известной аристократической семьи, обаятельная красавица Барбара из этого прославившегося в истории польско-литовского рода стала в 1547 году законной супругой короля Речи Посполитой Сигизмунда II Августа. Да и мать самой Елизаветы Радзивилл была сестрой принца Луи-Фердинанда Прусского. Влюблённые уже пять лет терпеливо ждали разрешения на брак. Даже отец принца Вильгельма, смирившийся с католическим вероисповеданием невесты, решил похлопотать о её адаптации в члены Гольштейн-Готторпского Дома, чтобы сделать её более равной династии Гогенцоллернов. Миссию обратиться с этим предложением к русскому самодержцу Александру I Фридрих-Вильгельм III возложил на своего зятя, великого князя Николая Павловича, приехавшего в гости. Тот, участвуя в манёврах, проводившихся как в окрестностях столицы Пруссии,[76] так и в самом Берлине, настолько удачно продемонстрировал великолепную воинскую выправку что тесть сделал ему подлинно драгоценный подарок.
Став российским императором, Николай I заказал «совершенно модному живописцу» Францу Крюгеру картину, запечатлевшую бы для истории «Парад в Берлине 23 сентября 1824 года на Унтер ден Линден». На датированном 1830 годом полотне художник увековечил эпизод, когда не какой-то там третий сын Павла I, а (хотя это и сохранялось в строгой тайне) грядущий преемник русского трона, горячо приветствуемый берлинцами, торжественно проводит свой Кирасирский Прусский полк перед королевской резиденцией. Ведь ещё за год до достопамятного парада 1824 года император Александр I (Павлович) поделился со своим задушевным другом, прусским принцем Вильгельмом, династическим секретом: следующим на русском престоле будет не Константин, а Николай. Потому-то венценосный тесть и вручил тогда супругу своей горячо любимой дочери столь дорогой подарок – «табакерку из оникса в стиле рокайль», созданную берлинскими искусниками около 1770-го года и некогда принадлежавшую Фридриху II, – чтобы тем самым пожелать великому князю Николаю Павловичу стать таким же славным полководцем, каким был первоначальный владелец табакерки. Полотно Крюгера долго украшало кабинет Николая I, а в 1913 году Николай II Александрович любезную сердцу августейшего прадеда картину подарил внуку прусского принца Вильгельма, германскому императору Вильгельму II, на память о былых династических связях Романовых и Гогенцоллернов.
Полученную же от тестя табакерку Фридриха Великого, украшенную алмазами и другими драгоценными каменьями, которую знаменитый король-солдат «всегда хранил при себе», Николай присоединил к предметам собственной коллекции оружия, размещавшейся в Царскосельском Арсенале.[77]
Композиция рисунка крышки достопамятной табакерки, выточенной из агата-агатоникса, несомненно, принадлежит руке прославленного Жана-Гийома-Георга Крюгера. «Ювелиры короля» воспользовались редкостным рисунком самого камня, он на срезе напоминает план фортеции с бастионами, из-за чего подобная разновидность так и называется «крепостным агатом» (Festungsachat). Сию мощную «крепость», как будто обведённую тройным рядом укреплений, окружает по контуру крышки роскошный венок из пышных садовых цветов, причём крупные бриллианты играют роль лепестков и сердцевинок творений Флоры. Хотя среди алмазов встречаются камни с розовым и желтовато-золотистым нацветом, большинство своей окраской обязано фольге. Нежную гамму их оттенков подчёркивают вкрапления рубинов цвета «голубиной крови» и цепочки густо-зелёных нефритов, образующие фестоны, напоминающие собой гирлянды из лавровых листьев. В декоре прелестной вещицы знатоки символов сразу же улавливали зашифрованный смысл, состоящий в достаточно банальной истине, что мощь государства способствует его процветанию.[78]
Однако император Александр I в 1824 году не внял заступничеству младшего брата и отказался возвысить княжну Елизавету Радзивилл. Влюблённые продолжали покорно ждать решения судьбы. Когда же в один совсем не прекрасный день врачи заявили, что кронпринцесса Елизавета Баварская (1801–1873), с 1823 года ставшая женой кронпринца Фридриха-Вильгельма, никогда не сможет иметь детей, статус принца Вильгельма изменился. Теперь именно к нему должен перейти прусский престол в случае смерти старшего брата. Узнав об этом, король Фридрих Вильгельм III, совершенно не желавший видеть на троне протестантской страны королеву-католичку, после пятилетнего ожидания даты грядущей свадьбы взял обратно своё согласие на брак второго сына с польско-литовской княжной. Вскоре Элиза, зачахнув от тоски и утраченных иллюзий, умерла, а злосчастному Вильгельму, хотя и страдавшему всю оставшуюся жизнь от перенесённого горя, предстояло теперь, ради обеспечения преемственности династии, поскорее жениться без всякой любви на первой же невесте, которую ему предложили.
Вот тут-то и проявила чудеса дипломатии великая княгиня Мария Павловна. Она решила пристроить за другого брата своего зятя младшую принцессу Августу (1811–1890), очень подвижную, притом держащуюся достаточно естественно, прехорошенькую и весьма пикантную девочку с соблазнительными ямочками на щёчках. Конечно же, милая дочь заслуживала лучшей доли, но всё-таки впоследствии, хотя и после смерти заботливой матушки, её прелестную головку украсили сначала королевская, а затем и императорская короны.[79] Не очень-то радостная свадьба состоялась 11 июня 1829 года. С этого времени прошло около двух лет, а 18 октября 1831 года Августа Саксен-Веймарская осчастливила всю прусскую королевскую фамилию появлением на свет долгожданного мальчика, теперь обеспечившего преемственность династии Гогенцоллернов и ставшего в 1888 году, пусть всего на 99 дней, германским императором Фридрихом III. Да и в Петербурге августейшая чета пришла в восторг от новости о рождении племянника.
Потому-то обрадованный Николай I решил на Пасху, которая в 1832 году приходилась на 10 апреля,[80] пожаловать любимой сестрице свой портрет, вставленный в золотой браслет, унизанный многочисленными алмазами, бирюзинками и мелким жемчугом. Избранные каменья должны были обеспечить владелице супружескую любовь, долголетие и защиту от всего дурного.
14 января 1832 года Николай I повелел Кабинету обеспечить дамское украшение, достойное императорского подарка. В тот же день во 2-е отделение Кабинета был прислан рисунок – овал, окружённый рамкой из бриллиантов. Однако сразу начались затруднения. Готовой миниатюры такого размера с ликом царствующего государя не оказалось. Правда, существовала подобная, исполненная неким художником «Фомой Врейтом», но, к несчастью, только что, 14 января 1832 года, её успели вставить в новёхонькую табакерку. Правда, автограф сего живописца в одной из архивных бумаг завершался подписью: «Wright»,[81] то есть под довольно странным и явно исковерканным именем скрывался англичанин Томас Райт (1792–1849), оказавшийся в России благодаря своему родственнику, художнику Джорджу Доу (1781–1829), работавшему над портретами героев баталий 1812–1814 годов для Военной галереи Зимнего дворца. Ведь супруг Мэри Доу давно зарекомендовал себя отличным гравёром, а в Петербурге он рискнул попробовать свои силы в рисунке акварелью и даже в живописи.[82]
Вот и было решено: чтобы не портить казённую вещь, «Фома Врейт» должен безотлагательно и «с тщанием» сделать авторское повторение со своей же чрезвычайно удавшейся миниатюры, ибо, начав копировать уже с 15 февраля, «доколе будет находиться браслета в работе, он будет иметь для сего достаточно времени».
Не заладилось и с самим браслетом. Две недели никак не могли в императорском Кабинете исполнить приемлемый эскиз заказанного драгоценного украшения. Наконец, удручённый министр Двора, окончательно потеряв терпение, повелел подчинённым: «Прикажите в Английской лавке и у других ювелиров взять на уговор несколько разных рисунков Браслетов золотых, оправленных мелким Жемчугом и бирюзами, и ко мне представить».
Но ни в «Английском магазине», ни, к сожалению, у других столичных ювелиров не оказалось ничего похожего. Тогда Петр Михайлович Волконский «словесно приказать изволил» заказать петербургскому «золотых дел мастеру Барбье сделать рисунок означенной браслете». Присланный эскиз понравился. И уже 6 февраля (искуснику) исполнителю отпустили из Кабинета «на сделание браслета» просимые им «казённые» бриллианты, жемчуг и бирюзу. Однако небесно-голубого камня не хватило, и через месяц ювелиру Иоганну Христиану Барбе (фамилию коего теперь уже не искажали) выдали затребованные дополнительно 655 штук бадахшанской бирюзы. Барбе также вставил в браслет недостающие, но зато подобранные им самим «собственные» алмазы, огранённые «розой».
Между тем императорская чета торопила. Уже 5 марта последовал запрос: «Когда поспеет браслета Великой Княгини Марии Павловны?» Желая подстраховаться, г-н Петухов, начальник отделения Кабинета, прислал мастеру небольшую цидульку: «Покорнейше прошу надписать на этой записке, к каковому времени может быть готова браслета с жемчугами и Бирюзами». Иоганн-Христиан Барбе быстренько приписал: «Сим имею честь вас уведомить, что в течении 18 ден я думаю готовым быть с Браслетом», подписался и уже по-немецки проставил дату: 6 марта 1832.
Обрадованный чиновник тут же настрочил письменный отчёт высокому начальству, что «браслета», по отзыву мастера Барбе, «может быть готова через две с половиной недели».
Ювелир не подвёл. 6 апреля он передал в Кабинет счёт на проделанную работу, возвратил туда же неиспользованные камни и вручил начальнику отделения Петухову готовую драгоценную и долгожданную вещь (см. рис. 3 вклейки).
Кабинетские оценщики Яннаш и Ян оценили честность Иоганна Христиана Барбе и отметили умеренность его претензий в стоимости оплаты труда, мастер в представленном счёте оценил свою работу только в 1000 рублей. Небольшое огорчение ожидало мастера при оплате алмазов, огранённых розой и принадлежавших самому Барбе: по распоряжениям от 29 марта и 9 апреля 1830 года из суммы стоимости «частных» камней вычли 10 %. Потому-то вместо ожидаемых 1196 рублей 80 копеек мастер получил лишь 1177 рублей 12 копеек.
И только тут выяснилось, что готовый браслет нельзя посылать сестрице Николая I: министр Двора заметил явное несходство монаршего портрета с чертами лица самодержца. Увы, Томасу Райту с выполнением придворного заказа не повезло. Роковую роль здесь сыграло государево пожелание, переданное в Кабинет министром Двора, князем П.М. Волконским: «Остеречь Райта, чтобы голова у портрета была не так велика, как он сделал на портрете для табакерки 14 января 1832».
Неудачно повторённую миниатюру англичанину возвратили под расписку, а «для оной браслеты портрет Его Величества» по первоначальному портрету работы Райта поручили «точную копию», притом «в том мундире и с лентою, как на оригинале» написать на сей раз «живописцу Вимбергу». «Назначенный в академики» Иван Андреевич Винберг 6 апреля, совсем незадолго до случившегося с родственником Джорджа Доу скандального казуса, представил в Императорский Кабинет чрезвычайно удавшийся портрет императрицы Александры Феодоровны «без короны и без ленты с причёскою в волосах».
Теперь миниатюрист, гордясь оказанным ему Высочайшим доверием, постарался исполнить престижный заказ в самые сжатые сроки: всего за две недели, с 12 по 27 апреля. Со вставкой лика царствующего государя в браслет не задержались, и уже 28 апреля столь долгожданная наградная вещь оказалась наконец-то в руках императора Николая I.[83]
Дар брата-императора, конечно же, порадовал Марию Павловну и, может быть, даже смог смягчить (чуть притупившееся) горе потери ею 22 марта 1832 года верного друга и советника, знаменитого Иоганна-Вольфганга фон Гёте.
Глава III Завещание императрицы-матери Марии Феодоровны и судьба её драгоценностей
О сапфировом и бирюзовом уборах, диадеме из колосьев, завещанных дочерям, Елене Павловне и Екатерине Павловне
В своём завещании, датированном 1 ноября 1826 года, вдова Павла I заботливо и скрупулёзно перечислила всех, кому она оставляла на память свои драгоценности. Материнское сердце старой императрицы особенно переживало за судьбу внуков, оставшихся сиротами. Особенно беспокоили Марию Феодоровну дети её второй дочери Елены Павловны, вышедшей в 1799 году за герцога Мекленбургского. Разорённое нашествием Наполеона Бонапарта герцогство нуждалось в деньгах.
В IX пункте завещания Мария Феодоровна писала: «Моя корона принадлежит государю. Все же прочие бриллианты мои, жемчуга и драгоценные камни, подаренные мне покойной государыней и покойным императором Павлом, а равно и приобретённые мною лично, исключая тех, которые будут распределены мною по завещанию, должны быть в точности оценены по моей смерти, и затем разделены на четыре равные части, из которых две части принадлежат детям моих дочерей Елены и Екатерины, которые наследуют после своих матерей, а остальные две части моим дочерям Марии и Анне. Всё то, что придётся на долю моим внучатам, принцам Мекленбургским, Ольденбургским и Виртембергским, должно быть продано, а деньги, вырученные с каждой части, следует разделить поровну между наследниками, а именно: часть, принадлежащую моей дочери Елене на две части, а часть дочери моей Екатерины на четыре части, и помещены в кассу воспитательного дома: проценты будут присоединяться к капиталу до совершеннолетия принцев и замужества принцесс; достигнув же совершеннолетия и вступив в брак, они будут пользоваться процентами с этих денег, но самые капиталы останутся в вечное обращение в России. <…> Я желала бы, чтобы император Николай и великий князь Михаил Павлович купили для своих супруг бриллианты, достающиеся на долю моим дочерям Елене и Екатерине, и поэтому желала бы, чтобы на долю великих княгинь Елены и Екатерины Павловны пришлись, по мере возможности, мой сапфировый и бирюзовый уборы и моя диадема из колосьев, а из остальных двух частей, достающихся моим дочерям Марии и Анне, каждая закреплена временным завещанием за той линией, которой она принадлежит; они не могут быть ни проданы, ни подарены и перейдут по кончине их старшему принцу, а за отсутствием его, старшей принцессе их дома, причем допускается, разумеется, делать изменения в форме и фасоне их, по личному усмотрению. <…> По смерти всех наследников всех моих дочерей, мои бриллианты достанутся, на тех же условиях, законным наследникам моих сыновей».[84]
Особым пунктом вдовствующая императрица оговорила: «Я желаю, чтобы каждый из моих детей сделал себе кольцо или перстень с моими волосами и с вырезанным на нём числом моей кончины. Надеюсь, что они будут постоянно носить их в память горячо любившей их матери».[85]
Бриллиантовая корона Марии Феодоровны, стоившая 48 750 рублей, поступила в Кабинет 22 января 1829 года, чтобы потом, «в своё время», сделать «убор для великой княжны Ольги Николаевны».
Однако дочерям великой княгини Екатерины Павловны от второго брака с вюртембергским королём Фридрихом-Вильгельмом I – ни старшей принцессе Марии-Фредерике-Шарлотте (1816–1887), вышедшей впоследствии замуж за графа Альфреда Нейперга, ни младшей Софии (1818–1877), взошедшей с мужем Вильгельмом III на трон Нидерландов, – любимая бабушкина диадема, видно, не приглянулась. Зато дивную тиару «из шести колосьев, в средине белой Сапфир и тридцать семь мелких груш Индейской грани» не преминули сразу же присоединить к русским коронным бриллиантам.[86]
А вот детям великой княгини Елены Павловны, великому герцогу Паулю-Фридриху Мекленбург-Шверинскому (1800–1842) и его сестре Марии-Луизе (1803–1862), окончательно осиротевшим ещё в 1819 году после ранней смерти отца, очень нужны были деньги. Потому-то не только сапфировый, рубиновый и бирюзовый гарнитуры скончавшейся русской вдовствующей государыни, но и заботливо ею отписанные внучатам бриллианты, жемчуга и цветные камни, были уже 7 февраля того же 1829 года куплены за 210 830 рублей.[87]
Через полторы недели, 25 февраля все три убора доставили в Императорский Кабинет. Но пролежали они там совсем недолго. Дольше всего среди казённых вещей задержался рубиновый гарнитур супруги Павла I, предназначавшийся одной из дочерей Николая Павловича.
В Рождественские дни, 26 декабря 1829 года, венценосный деверь порадовал великую княгиню Елену Павловну, владелицу Михайловского дворца, получением как «севинье с одною бирюзою» в 650 рублей и пары прелестных серёг с четырьмя бирюзами в 1200 рублей, так и трёх частей склаважа, первоначально составленного из 64-х штук разной величины бирюзы. Оставшиеся другие три части того же склаважа, также оценённые в 8680 рублей, достались за восемь месяцев до того, 20 мая, отроку-цесаревичу Александру Николаевичу.
Интересна дальнейшая история сапфирового гарнитура, оценённого в 140 100 рублей. В него входили диадема, два склаважа, накладка на гребёнку и пара серёг. И все эти украшения заботливый супруг постепенно подарил обожаемой жёнушке. Вначале, на Рождество 1829 года, 24 декабря, Александра Феодоровна получила от мужа «накладку на гребёнку с пятью сапфирами» (7550 р.) и «пару серёг с двумя сапфирами» (6950 р.). В следующем году, в день рождения 1 июля, совпадающий с очередной годовщиной бракосочетания, императрица появилась в только что подаренной «диадеме с пятью сапфирами» (49 000 р.) и «склаваже большом с шестнадцатью сапфирами» (63 400 р.). Наконец на Рождество, 24 декабря 1831 года, «Муффи», как её нежно называл любящий супруг, смогла примерить и оценить красоту последнего предмета драгоценного убора покойной свекрови – ожерелья-«склаважа поменьше с одиннадцатью сапфирами» (12 800 р.).[88]
Прошло тридцать лет. Владелица дивных украшений состарилась, её одолевали хвори и, чувствуя скорую кончину, императрица Александра Феодоровна отписала своей невестке, будущей императрице Марии Александровне, среди прочих вещей «диадему с 5 сапфирами» и «склаваж с 16 сапфирами», прибавив к ним «самый красивый сапфировый фермуар», причем она специально оговорила, чтобы её снохе эти роскошные уборы принадлежали лишь при жизни, а затем отправились бы к коронным драгоценностям.[89]
Как и было предрешено, в опись коронных бриллиантов, ведущуюся с 1865 года, под № 364 внесли поступившие по духовному завещанию императрицы Марии Александровны «диадему с сафирами и бриллиантами» в 27 100 рублей, под № 365 – «ожерелье с сафирами и бриллиантами» в 39 300 рублей, а под № 366 оказался «фермуар с большим сафиром», оценённый в 88 300 рублей. Все три восхитительные вещи, прельщающие своей красотой, тут же забрала к себе новая императрица Мария Феодоровна, супруга Александра III,[90] знавшая толк в драгоценностях. После Февральской революции дивные украшения матери Николая II реквизировали из Аничкова дворца. А когда окончилась братоубийственная Гражданская война, эксперты под руководством академика-минералога Александра Евгеньевича Ферсмана наконец-то разобрали великолепные творения ювелиров, принадлежавшие членам августейшей семьи Романовых. Вскоре появились на свет и выпуски каталога предметов Алмазного фонда СССР, содержавшие помимо описаний и чёрно-белые фотографии.
Яков Дюваль. Диадема из Сапфирового убора императрицы Марии Феодоровны, супруги Павла I
Соотнеся эти материалы с архивными сведениями, стало ясно, что диадема с пятью сапфирами не только принадлежала императрице Марии Феодоровне, но и абсолютно бесспорно входила в состав сапфирового убора супруги Павла I, исполненного для своей патронессы Яковом Дювалем.[91] Завораживающая своей красотой диадема императрицы Марии Феодоровны вся как бы соткана из лавровых ветвей и лент, обвивающих тяжело клонящиеся на стебельках лазоревые цветки, окружившие сверкающий в центре глубокой синевой с чуть заметным зеленоватым прицветом громадный сапфировый панделок в 70 каратов, увенчанный алмазным сердцем, и оттеняемые полоской лазурной эмали на ободке.
Недаром супруга Николая I оставила унаследованную ею дивную фамильную драгоценность жене своего первенца, а императрица Мария Александровна, в свою очередь, завещала диадему вместе с колье и фермуаром сапфирового гарнитура свекрови присоединить к коронным вещам.
По описи вещей Русской Короны, заведённой в 1898 году и пропавшей после 1922 года, порядковый № 351/343 соответствовал диадеме с сапфирами, рядом, под № 352/344, числилось «колье бриллиантовое с сапфирами», а под соседним № 353/345 оказался сапфировый фермуар. Под порядковыми номерами 343–345, указанными в знаменателе дроби, эти три вещи сапфирового гарнитура императрицы были занесены в промежуточную опись коронных вещей, когда при новом императоре Александре III придворные оценщики заново проверили в 1883 году состояние коронных сокровищ.
Теперь пришлось с повышенным вниманием просматривать и другие выпуски сокровищ Алмазного фонда СССР, педантично всматриваясь не только в чёрно-белые фотографии, но и в комментарии к ним опытных и знающих экспертов ферсмановской комиссии.
Даже не сразу верится, что «сапфировый фермуар» – не что иное, как великолепнейшая брошь с самым большим сапфиром Алмазного фонда.[92] Традиционно в этом камне в 25225/32 дореволюционных каратов видели подарок Александра II его дражайшей половине, купленный на Всемирной выставке 1862 года в Париже. Ведь при переводе из старых мер в метрические (то есть умножая первоначальное число на 1,03, поскольку принятый в столице Российской империи вес карата составлял 206 миллиграммов) и получается цифра, соответствующая современной массе камня – 260,37 метрического карата. Наконец-то мне стало ясным, почему не удавалось ничего похожего «выудить» из описаний редкостей, представленных на парижской выставке.
Бриллиантовая брошь-фермуар с сапфиром
Уникум, оказывается, дар скончавшегося в 1855 году императора Николая I, считавшего любимым камнем (как, впрочем, и супруга его первенца) именно сапфир. Один из крупнейших в мире, к тому же дивной красоты и прелести, очень чистый и прозрачный цейлонский синий корунд, ровного бархатистого густо-василькового тона, покрыт в верхней части, согласно старинной индийской огранке, множеством шестиугольных мелких фасеток-граней, заставляющих дробиться лучи света, погружая его в мягкое марево полыхающих искр.
Академик Александр Евгеньевич Ферсман, подробно рассмотревший при разборе коронных вещей дивный яхонт, оценённый в 88 600 рублей, видя в нём прекраснейший из признанных в Европе сапфиров, по праву включил уникум в число семи знаменитых камней Алмазного фонда СССР.[93]
Остающийся пока неизвестным петербургский ювелир умело поместил редкостный сапфир в брошь, отличающуюся благородством, строгостью и изяществом рисунка, да к тому же окружил уник трёхуступчатым кольцом из бразильских бриллиантов, чтобы обыграть и одновременно замаскировать излишнюю высоту раритета. Но на оправе «броши», вначале служившей фермуаром, отчётливо видны колечки, за которые застёжку некогда прицепляли к низке из самоцветов.
Яков Дюваль. Склаваж с шестнадцатью сапфирами
Даже чёрно-белая фотография колье позволила увидеть, как выглядело изделие «Собственного Императорского Ювелира» Якова Дю валя. Сколько раз приходилось всматриваться в чётко выстроенный рисунок этого ожерелья, так напоминавшего эсклаваж убора великой княжны Александры Павловны, исполненного Дювалем в 1795 году![94] В обоих композиция строится на пяти медальонах, соединённых и окружённых цепочками бриллиантов-солитеров. Теперь только эти изящные оковы напоминали прелестницам об их «рабстве»-«esclavage» и повиновении богине любви и красоты Венеры ради привлечения внимания желанных особ противоположного пола. Впрочем, на рубеже галантного и меркантильного веков в моде были во всей Европе ожерелья именно подобного вида. Кстати, Неаполитанская королева Каролина, покинувшая свои владения из-за измучивших её дерзостей Мюрата, оказавшись в 1813 году в Одессе на пути морем в Австрию, подарила на память о себе матери фрейлины Александры Россет «то, что называли тогда склаваж, то есть цепочки, связанные вензелевым шифром (инициалом имени дарительницы. – Л.К.) из крупных бриллиантов» на застёжке-фермуаре, причём всех поражало, с каким искусством жемчуга звеньев были перевязаны бриллиантами.[95]
По сравнению со склаважем 1795 года, сапфировый казался чересчур перегруженным, чему способствовали не только применённые ювелиром два типа медальонов и дополнительные тяжёлые подвески к ним, но и два варианта соединительных звеньев, а также очень сложного рисунка (причём зачастую даже двойные) обрамления центральных камней. Но больше всего меня смущало заключение экспертов ферсмановской комиссии, отнесших создание «сапфирового колье» ко второй половине XIX века.[96]
Теперь же всё связалось воедино: вне всякого сомнения, на фотографии запечатлена работа знаменитого придворного ювелира и оценщика Якова Дюваля, исполненная им в 1797–1801 годах, и к тому же украшают этот эсклаваж, первоначально принадлежавший императрице Марии Феодоровне, супруге Павла I, именно 16 сапфиров. Васильковые цейлонские яхонты удивительно подобраны, восхищая своим интенсивным цветом и размерами. Когда же члены ферсмановской комиссии в 1922 году сравнительно легко смогли вынуть камни из их ажурных оправ и затем взвесить, много на своём веку видевших экспертов невольно поразил вес красавцев-самоцветов: общая масса четырнадцати сапфиров составила 150 каратов, грушевидный панделок сказочной красоты в одной из подвесок весил 15,5 каратов, а обработанный полусферическим кабошоном центральный овальный камень – 159,25 карата.
Как тут не вспомнить придворного врача обожаемой супруги Николая I. Когда Мартин Мандт впервые оказался в 1837 году в спальне августейшей пациентки, он увидел в одном из ларцов, стоящих вдоль стен, роскошные уборы из опалов, рубинов, изумрудов, бирюзы и сапфиров. Каждый гарнитур-«парюру» составляли диадема, серьги, эсклаваж, брошь и браслет, причём «самый красивый и дорогой драгоценный камень комплекта», как заметил немецкий доктор, «помещали в центр ожерелья, чтобы он сверкал на груди первой дамы Империи». Созерцая изысканные украшения императрицы Александры Феодоровны из редкостных сапфиров, Мандту оставалось только удивляться, «как такие поразительно крупные драгоценные камни могут существовать».[97]
Восхитительное ожерелье легко разобрать на отдельные элементы и сцепить при желании по-новому, так как они соединяются друг с другом крошечными петельками и крючками.
Вскоре на обложке случайно мною увиденной брошюрки, посвящённой жёнам русских царей, оказался воспроизведённым портрет императрицы Марии Феодоровны в одном из её «императорских доспехов» (именно так дочери Ксения и Ольга называли парадные уборы венценосной матери).[98] Шею супруги Александра III закрывали две низки крупных бриллиантов, образующих вошедший в моду «собачий ошейник», весьма напоминающий «эсклаважи» середины – третьей четверти галантного XVIII века.[99] Голову венчала похожая очертаниями на кокошник, обрамлённая вверху низкой жемчугов диадема с семью крупными сапфирами, окружёнными «кружевом» из бриллиантов. На корсаже золотистого платья, опушённом кружевом полоски-«берты», красовалась брошь с самым крупным сапфиром, но только она была дополнена сапфировой подвеской в алмазном обрамлении. А на белоснежной груди покоился тот самый эксклаваж с лазоревыми яхонтами, причём оба камня в ажурных боковых кругах с каплевидными подвесками, уютно, напоминая собой своеобразные эполеты, устроились на плечах августейшей чаровницы (см. рис. 4 вклейки).[100]
Не прошло и месяца, как неожиданно, при внимательном рассматривании доселе виденного-перевиденного, написанного живописцем Жаном-Луи Вуалем портрета жены Павла I, мне вдруг бросилось в глаза то, чего доселе просто не замечала (см. рис. 5 вклейки). Сложную пышную причёску монархини увенчивали не только её императорская корона и воткнутое слева белое страусовое перо, но и закреплённое на локонах сапфировое ожерелье сложного рисунка. Автоматически подсчитала синие камни, окружённые алмазными оправами. Их оказалось одиннадцать. Место пробора акцентировал самый крупный сапфир, от которого ниспускалась каплевидная подвеска со сверкающим бриллиантом, а по сторонам красивыми фестонами расходились алмазные низки, соединяя третий и пятый яхонты, также дополненные свисающими «грушками». Над цепочками-фестонами царили отдельные большие сапфиры, похоже, соединённые с центральным и боковыми самоцветами почти невидимой цепочкой. Бесспорно, то оказался запечатлён искусной кистью художника так называемый «головной» склаваж, входивший в убор императрицы Марии Феодоровны, как «склаваж поменьше с одиннадцатью сапфирами», стоимостью в 12 800 рублей.90
О диадемах Якова и Франсуа Дювалей
Как же приятно бывает, когда мои атрибуции становятся основанием для научных поисков других исследователей. Оказывается, в фондах Государственного Исторического музея хранятся поступившие туда ещё в 1923 году рисунки с эскизами диадем, сделанными в первой четверти XIX ювелирами мастерской братьев Дюваль.
По одному из набросков старший из них, Яков Дюваль, исполнил в годы правления Павла I диадему сапфирового убора для императрицы Марии Феодоровны. С небольшими изменениями в рисунке «Собственный ювелир» в это же время создал диадему для заранее заготовляемого приданого великой княжны Екатерины Павловны. Те же стебли, густо опушённые удлинёнными листочками, между которыми «расцвели» дивные крупные «тюльпаны», а в месте схода веточек удлинённых «катетов» помещён наверху маленький камешек (в диадеме Марии Феодоровны – панделок, направленный широкой стороной вверх и похожий скорей на узкий сегмент круга), соприкасающийся с другим грушевидным панделоком, на сей раз крупным и направленным широкой стороной вниз. Только в тиаре вюртембергской королевы уже не пять, а семь вставок, каждая из боковых, поставленных вертикально, с обеих сторон фланкируется камнями поменьше. К счастью, эта диадема оказалась запечатлена на портрете внучки Павла I и Марии Феодоровны, принцессы Софии-Фредерики-Матильды Вюртембергской.
При Павле I для супруги самодержца «Императорский Собственный Ювелир» исполнил другую бриллиантовую диадему, одновременно напоминавшую убор императриц античного Рима и очелья русских цариц. В смещённом вниз центре диадемы привлекает взоры редкостный «плоский алый» алмаз «лишь» в 10 каратов, чем-то напоминающий фантастический, пышно распустившийся цветок, обрамлённый своими более мелкими собратьями, завершающими причудливые завитки веточек, сплошь унизанных бразильскими бриллиантами. На «катетах» вытянутого треугольника аккуратно возвышается частокол из великолепных грушевидных панделоков, напоминавших собой изысканные зубцы, а вниз свисают ослепительно сверкающие и искрящиеся всеми цветами радуги под алмазными фестонами бриолеты «старой индийской грани, некоторые немного желтоватые».[101]
Диадему с боков вначале дополняли съёмные части, ниспускавшиеся у висков наподобие рясн и «состоящие каждая из пяти рядов бриллиянтовых, оканчивающихся кистью», при разборе коронных вещей в 1922 году ошибочно принятые ферсмановской комиссией за два эполета для придерживания орденских лент на плече.
Императрица Мария Феодоровна пришла в восторг, увидев свой новый головной убор «греческой формы». Он ей так нравился, что супруга самодержца однажды позировала в нем художнику.
Да и в XIX веке эту красивую диадему столь активно использовали при бракосочетании невест Дома Романовых, что в мае 1868 года её пришлось реставрировать, вставив вместо потерянного камня бриолет, заимствованный с одной из давно снятых боковых частей. В 1922 году эксперты внимательно рассмотрели «алый» бриллиант. Выяснилось, что он, «вставленный в серебряную фольгу, весит 13,35 метрических карата и имеет цвет очень слабо-розовый, при большой чистоте и красоте камня, пленяющего всех, кто видел этот уник в восхитительном обрамлении в одной из витрин выставки Алмазного фонда» (рис. 6 вклейки).[102]
Совсем иначе выглядела бриллиантовая диадема, сделанная Франсуа Дювалем для одного из уборов великой княжны Марии Павловны, вышедшей в 1804 году за наследного принца Карла Саксен-Веймар-Эйзенахского. Здесь ещё сохранились растительные мотивы, но в основном царят геометрические формы, поскольку, согласно эскизу, её должны были украсить семь цветных драгоценных камней, огранённых узкими вертикальными овалами, уменьшающимися в размерах от самого крупного в центре к краям диадемы, а размещающиеся между ними алмазные ромбы посверкивали цветными же серединками.
Рисунок подписан «А. P. Duval», скорее всего, автором его был А. Филиппен (Philippin) Дюваль, родственник Ф. Дюваля, который с самого начала XIX века неоднократно приезжал в Петербург, хорошо знал дела фирмы и не случайно после 1816 года именно он вёл работы в Петербурге.
Эскиз диадемы. Ювелирная мастерская Дювалей в Санкт-Петербурге. Начало XIX в.
Однако в окончательном варианте все цветные каменья сменились более дорогими сверкающими алмазами, а верхняя часть тиары стала напоминать «частокол» из грушевидных алмазных панделоков, скорее похожих на направленные вниз равнобедренные треугольники. Сплошь усыпанная драгоценными диамантами тиара очень пригодилась владелице, когда после наполеоновских оккупаций и реквизиций Саксен-Веймарское герцогство оказалось в стеснённых финансовых обстоятельствах, отчего эту диадему в 1813 году пришлось заложить во франкфуртский банк Бетманов, чтобы на полученные средства ещё и устроить госпитали для русских солдат.[103] В начале XX века эту прелестную диадему носила принцесса Каролина-Елизавета-Ида, дочь князя Генриха XXII Рейсского, вышедшая замуж в 1903 году за великого герцога Вильгельма-Эрнста Саксен-Веймар-Эйзенахского. В 1976 году диадема появилась на женевском аукционе Сотби, но в каком плачевном виде: крупные бриллианты исчезли, а часть других алмазов была заменена не только менее крупными диамантами, но и синими сапфирами.[104]
Эскиз диадемы. Ювелирная мастерская Дювалей в Санкт-Петербурге. Начало XIX в.
По другому сохранившемуся до наших дней рисунку Я. Дюваль исполнил две диадемы, сплошь унизанные только многочисленными алмазами.[105]
Скорее всего, этот эскиз «Собственный Императорский ювелир» разработал для диадемы, предназначавшейся для супруги Александра I. Вероятно, фрагмент её и запечатлён на портрете императрицы Елизаветы Алексеевны, написанном художником Георгом Доу. Вскоре после смерти августейшей особы принадлежавшие ей драгоценные уборы, согласно завещанию владелицы, были проданы, дабы вырученные средства пошли на благотворительные цели финансовой поддержки опекаемых воспитательных институтов. Роскошную диадему «почившей в Бозе» монархини, несомненно, сделанную в основном из казённых камней, наверняка сломали, так как новая императрица Александра Феодоровна, конечно же, не пожелала бы надевать вещь, дотоле украшавшую голову неприличной особы: в сожжённых Николаем I дневниках многие страницы свидетельствовали о недостойной любовной связи «фальшивой скромницы» с красавцем кавалергардом Алексеем Яковлевичем Охотниковым.
Доу Дж. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. До 1824 г. ГРМ
А в 1803 году Яков Дюваль по просьбе патронессы исполнил для супруги её брата очень похожую диадему. Благо герцог Людвиг Вюртембергский со своей законной половиной, принцессой Генриеттой Нассау-Вальбургской, недолго погостил в Петербурге у августейшей сестры. Сделанная вещь опять оказалась не только роскошна, но и восхитительно красива. Да и неудивительно. Ведь столь тщательно отрабатывались подбор и размещение каменьев на восковой модели будущего ювелирного шедевра, чтобы под мозаикой из алмазов металл основы становился совершенно не виден. Потому-то количество мелких камней, указанных на эскизе, редко совпадало с числом украшающих готовое произведение.
Бесспорно, обе диадемы различались в деталях. Достаточно только сравнить рисунок листочков между свободно свисающими подвесками. Риск же появиться на одном балу владелицам одинаковых украшений был сведён к нулю, в начале XIX века русские императрицы и не мечтали выбраться за границу повидать родных: только с окончанием Наполеоновских войн (1800–1815) супруги самодержцев стали посещать западноевропейские державы.
Через три четверти века творение «собственного ювелира» Павла I оказалось у другой герцогини Вюртембергской – великой княгини Веры Константиновны (1854–1912). На крестины маленькой принцессы 6 февраля 1854 года мать девочки, великая княгиня Александра Иосифовна, получила от своей царственной свекрови прелестную «браслету с одиннадцатью рубинами и жемчугами».[106] В 1874 году дочь великого князя Константина Николаевича, казалось бы, благополучно вышла замуж за иноземного принца Вильгельма-Евгения Вюртембергского. Однако уже через три года она осталась вдовой с двумя дочерьми-близнецами. Нуждаясь в деньгах, внучка Николая I была вынуждена дивной красоты венец предложить богатым родственникам. Куплен он был 4 января 1908 года и сразу вошёл в собрание фамильных драгоценностей русской императорской семьи.[107]
Императрица Александра Федоровна. Фотография 1890-е гг.
Диадема очень близка по композиции к тиаре с розовым бриллиантом. Опять, как и полагалось в пору господства ампира, во всём царит симметрия, а центр чётко выделен. Те же идущие по верху крупные бриллианты, возвышающиеся на алмазных уголках, как бы зависают в воздухе, потому что серебряная оправа с золотой подпайкой совершенно незаметна. Так же с плавных, высоко взмывающих вверх, дуг «катетов» вытянутого треугольника свисает вниз вереница отдельных камней, но на сей раз не капелек-бриолетов, а алмазных грушек-панделоков, отделяемых друг от друга вместо фестончиков парочкой-тройкой листиков. Под самым большим толстеньким панделоком, похожим, скорее, на равнобедренный треугольник со скруглёнными углами (отчего камень напоминает «Око Провидения»), переливается разноцветными огнями овальный бриллиант в 11 карат, обрамлённый в сверкающую рамку напоминая громадную звезду ослепительно сияющую на фоне густого частокола пылающих радужными сполохами алмазных лучей восходящего солнца, правда, ещё не появившегося над горизонтом-«гипотенузой» диадемы.[108] Когда смотришь на этот «лучистый» венец, вспоминается пушкинская «прекрасная царевна Лебедь», у которой «Месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит». Что же касается «месяца под косой», то поэт не раз видел в причёсках красавиц гребни с самыми различными завершениями. Вероятно, такие гребни в форме полумесяца украшались белым жемчугом, с радужным переливом, что и напоминало ночное небесное светило.
Яков Дюваль. Лучистая диадема. 1803 г.
Кстати, эта форма диадемы, в которой сплелись черты русского очелья и головного убора супруг повелителей императорского Рима и Византии, настолько полюбилась ювелирам, что довольно часто повторялась в дальнейшем, получив название «русской тиары».[109]
Яков Дюваль, Жан-Франсуа Лубье. Диадема «Колосья». 1808 г.
Уподоблен был солнцу и большой прозрачный, с лёгким винно-жёлтым оттенком, 37-каратный лейкосапфир, ослепительно сверкавший в изумительно красивом венце вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, ласково называемом владелицей «моя диадема из колосьев» (mon diadème en épis) и занявшем с 1829 года почётное место среди русских коронных вещей. Для своей августейшей патронессы Франсуа Дюваль сделал в союзе с Лубье поистине «исключительный по оригинальности замысла и ювелирному исполнению» шедевр. Тонкий золотой ободок изящно поддерживал у висков триады золотистых тучных колосьев, туго набитых алмазными «зёрнами» с отходящими от них усиками остей. Между ними слегка покачивались серебряные стебельки льна с алмазными листочками и вот-вот готовыми раскрыться цветками, чьи бутоны имитировали помимо крупных бразильских бриллиантов тридцать семь сказочной красоты грушевидных бриолетов, покрытых не совсем обычной сеточкой индийской грани и весивших «всего» 130 каратов. Эти диаманты «удивительной воды» поражали редчайшей обработкой: одни отличались двухконечной заострённостью, а некоторые из них – ещё и слабой округлостью фасеток. Дивный венец оказался, как это ни печально, в 1927 году на лондонском аукционе Кристи.[110]
Кстати, украшения, заставляющие вспомнить о дарах человечеству Цереры, богини растительных сил природы, оставались модными всю первую половину XIX века. Потому-то Николай I повелел 16 января 1826 года выплатить ювелиру Римплеру (Рёмплеру – Römpler) 12 070 рублей из Кабинета за взятые в комнату императора «три бриллиантовые колосья». [111]
Глава IV Династия Кейбелей
Отто-Самуил Кейбель – основатель династии петербургских ювелиров, златокузнецов и серебряников
Родоначальники некоторых семейств мастеров, прославившихся в XIX веке, появились в Петербурге ещё в последние годы царствования Екатерины II, а затем успешно работали для её внуков.
Долгое время считалось, что Отто-Самуил Кейбель, родившийся 2 сентября 1768 года в маленьком прусском городке Пазевальке, приехал в столицу Российской империи в 1797 году, где он сразу вступил золотых дел мастером и ювелиром в иностранный цех. Прусский умелец так быстро приобрёл достаток, а заодно и уважение коллег по профессии, что всего через десять лет те избрали его цеховым старостой-«алдерманом» (на англосаксонском Ealdorman, т. е. старший).
Но впервые Отто-Самуил Кейбель, оказывается, появился в Петербурге одиннадцатью годами ранее. И тому были веские причины. Для молодого немецкого мастера, выучившегося в 1783–1789 годах ремеслу не где-нибудь, а в самом Берлине у Франсуа-Клода Термена, известного мастера дивных эмалей, судьбоносным оказался год его двадцатилетия – 30 мая 1788 года, когда на свет появился сын-наследник Иоганн-Вильгельм. Однако родительское счастье омрачалось скудостью средств из-за малого количества достойных заказов. Пришлось новоиспечённому отцу, не откладывая, отправиться искать Фортуны в далёкий Петербург, где ему «хорошо подфартило»: вскоре по приезде кто-то из земляков рекомендовал талантливого ювелира цесаревне Марии Феодоровне.
Той хотелось приготовить сюрприз к праздновавшемуся 20 сентября 1788 года дню рождения своего благоверного, избежавшего опасностей на войне со шведами. Поскольку Екатерина II весьма неохотно отпустила сына на арену боевых действий, то престолонаследник Павел Петрович, отправившийся 1 июля в поход для присоединения к его Кирасирскому полку, уже через два с половиною месяца, 18 сентября вернулся в Северную Пальмиру.[112] Дабы возблагодарить Бога за удачный исход опасной кампании, любящая супруга решила сделать богатый вклад в один из наиболее почитаемых храмов.
Она сама выточила из слоновой кости и янтаря целый литургический набор, состоявший из потира, дискоса, звездицы, двух тарелей, лжицы и копия. (Правда, уже в XX веке выяснилось, что великая княгиня использовала в этих изделиях не слоновую, а «отечественную» мамонтовую кость.) Оставалось только дополнить все эти вещи золотой оправой и драгоценными камнями. Казалось бы, исполнить заказ цесаревны должен был придворный ювелир Малого двора. Но занимавший много лет это престижное место Луи-Давид Дюваль неожиданно скончался 12/23 января 1788 года, а на его старшего сына и наследника, двадцатилетнего Якова (Жакоба-Давида), помимо обязанностей ювелира при Кабинете Ея Императорского Величества, свалились все хлопоты не только об овдовевшей матери, двух входивших в брачный возраст старших сёстрах и четырёх младших братьях и сёстрах, но, главное, по приведению в порядок дел, связанных с работой обширной отцовской мастерской.
Расстроенной цесаревне кто-то порекомендовал молодого талантливого Отто Кейбеля, и она доверила прусскому мастеру отделку золотом сделанных ею предметов драгоценного церковного прибора. В работе над потиром Кейбелю потребовались все его знания и навыки. Мало того, что на золотой чаше сосуда для причастия между живописными изображениями Деисуса «цвели» накладные травы и кресты, так ещё и на рубчатом ободке расположились шестнадцать четырёхконечных крестов, набранных из кроваво-красных гранатов, таивших в середине посверкивающий радужными искрами алмазик. Да и каждую дробницу отнюдь не случайно обрамляли те же камни. Ведь гранаты напоминали о крови, пролитой мучениками за веру, а уподобленные прозрачной слезе алмазы символизировали чистоту христианской церкви.
Костяная белая ножка выглядела скромнее: лишь на её стояне золотились три янтарные обоймицы, да поддон в три ряда окольцевали матовые золотые ободки с чеканными листьями аканта. Зато на ней красовалась гравированная надпись, увековечивавшая деяние цесаревны: «На память благополучного возвращения моего любезного супруга из похода против шведов, сентября 18-го 1788 года, собственных трудов моих. Мария».
Изысканную парадность готовому литургическому набору придавало не только сочетание блеска великолепно полированного матового золота, перекликающегося по цвету с «медовым» янтарём, поскольку к золотистым оттенкам добавлялся изысканный гармоничный аккорд чуть желтоватой белизны кости и разноцветных огоньков драгоценных камней. Не случайно мастер, довольный своей работой, гордо вырезал на металле гладкого дна ножки свою фамилию: KEIBEL.
Все вещи набора, положенные в специально сделанный деревянный футляр, изнутри обитый зелёным атласом, а снаружи – красным сафьяном, цесаревна передала митрополиту Московскому Платону в Успенский собор Московского Кремля, где проходили молебны в честь побед русского оружия над шведами. Но дар супруги будущего российского императора Павла I сильно пострадал во время нахождения наполеоновских войск в Первопрестольной. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна, чтобы придать прежний вид драгоценным сосудам и восстановить утраченные самоцветы, распорядилась увезти литургический прибор в Петербург. В 1819 году отреставрированный церковный комплект был возвращён в Успенский собор князем Александром Николаевичем Голицыным. В 1895 году драгоценный вклад вдовы Павла I передали на хранение в Патриаршую ризницу. Это оказалось для него роковым.
В неспокойное послереволюционное время даже мощные стены Московского Кремля и святость места не уберегли церковную сокровищницу. Воры проникли в, казалось бы, достаточно защищённое помещение через пролом окна и железной ставни в углу у колокольни Ивана Великого. Всё самое ценное налётчики похитили, оставшиеся вещи разбросали, причём многое испортили и переломали. Из-за того, что святые отцы не озаботились внести в опись Патриаршей ризницы львиную долю хранившегося, поиск пропавших уников чрезвычайно осложнился. Несмотря на трудности, вскоре бандитскую шайку братьев Полежаевых удалось задержать и вернуть множество бриллиантов и жемчуга, россыпи различных самоцветов, а также часть золотых и серебряных предметов. Уже через две недели после ограбления, 13 февраля, в Оружейную палату передали одиннадцать закрытых и опечатанных корзин с сокровищами Патриаршей ризницы.[113] Однако потир с подписью Отто Кейбеля пропал.
К счастью, остальные предметы литургического прибора 1788 года из-за скромности декора не привлекли внимания налётчиков, и с 1920 года эти вещи вошли в собрание Государственной Оружейной палаты Музея-заповедника «Московский Кремль». Тщательная проработка костяных деталей и янтаря, использование как полированного, так и матового золота в поясках-ободках, изящно гравированных листьями аканта, рождают впечатление гармоничности и особой парадности.[114]
Будучи в Петербурге, Отто Кейбель оценил возможности карьеры и, вероятно, попытался завести полезные знакомства. Вернувшись в родную Пруссию, он в 1789 году закончил обучение таинствам эмалей у их знатока Франсуа-Клода Термена.
Когда же на русском престоле оказались Павел I с Марией Феодоровной, Отто Кейбель перевёз семью с подросшим сыном из Германии в Петербург, где 12 октября 1797 года был записан золотых дел мастером и ювелиром в столичный цех ювелиров. Дела его пошли очень хорошо благодаря высокой квалификации, умелой технике и отличному знанию тонкостей своего ремесла. Он стал весьма востребованным ценителями и быстро разбогател. Все свои навыки искусник передавал не только своему сыну Вильгельму, но и другим ученикам. Не напрасно был продлён у прусского посланника на 1804–1808 годы заграничный паспорт. В 1804 году коллеги избрали Отто Кейбеля помощником старосты цеха, а в 1807–1808 доверили ему пост старосты, или, как тогда говорили, альдермана.
Всё складывалось отлично. Множество заказов, состоятельные клиенты, уважение коллег по работе. Да и сын порадовал: в 1808 году двадцатилетний Вильгельм получил статус подмастерья. Теперь уже, казалось бы, можно осуществить давнюю мечту: завести, подобно семейству Дювалей, собственную фирму, расширив мастерскую. И вдруг совершенно неожиданно, 15 апреля 1809 года Отто Кейбель умирает.[115] К счастью, до нашего времени дошла одна из поздних его работ. Современники считали Отто Кейбеля одним из лучших ювелиров и отличным золотых дел мастером.
Загадочный именник «K&S» на знаках Андреевского ордена из коллекции великого князя Алексея Александровича
После смерти великого князя Алексея Александровича в 1908 году к драгоценным вещам Эрмитажа присоединилась приобретённая за 500 тысяч рублей изысканная и любовно подобранная коллекция из 397 предметов, заботливо собранная родным дядей Николая II. В бумагах разбиравшего её хранителя Императорского Эрмитажа Армина Евгеньевича фон Фёлькерзама среди перечня собрания великого князя за № 36 значились особенно привлекавшие своей элегантностью и ослепительным блеском великолепно подобранных камней «бриллиантовые звезда и крест ордена Св. Андрея Первозванного, принадлежавшие Государыне Императрице Марии Александровне», оценённые в 7 тыс. рублей.[116]
Оба знака полностью соответствуют установлениям статута о русских орденах, прочтённого в 1797 году Павлом I с амвона Успенского собора сразу же после окончания церемонии коронации. Орденский крест «синего цвета в двуглавном и тремя коронами увенчанном орле, представляющий распятого на нем» ученика Христа, «и по четырём концам имеющий четыре золотые латинские буквы S.A.P.R.», расшифровывающиеся как Sanctus Andreas Patronus Russiae», то есть «Святой Андрей Покровитель России». Императорская корона и хищная птица российского герба сплошь «вымощены» алмазами самых разнообразных форм огранки и величины, а в глаза орла вставлены огненно-красные рубины. С короны свисает крупный бриллиант. В диске же звезды виден появившийся с 1800 года «голубой гладкий» косой крест Св. Апостола Андрея на груди помещённого на привычном золотом фоне чёрного гербового двуглавого орла с тремя коронами, сжимающего в когтях перуны и лавровые ветви победы. Оправы алмазных букв девиза «За веру и верность» напоминают о том, что литерам в тёмно-голубом эмалевом обруче-«окружности» полагалось обычно быть золотыми. Правда, сплошная «вымостка» алмазами заставила убрать не только ангелов, поддерживавших корону над крестом, но и саму корону. Чуть заметны ушки для пришивания, характерные именно для XVIII – начала XIX века. Да и уменьшившиеся размеры сих знаков Андреевского ордена позволяют датировать их началом XIX столетия.[117]
Тем же установлением Павла I дозволялось «украшенные алмазами или другими драгоценными каменьями» знаки русских орденов носить лишь тем, кому они были пожалованы самими самодержцами. Членам же династии Романовых доводилось довольно часто получать орденские знаки, некогда принадлежавшие более ранним представителям императорской семьи.
Судя по прекрасному подбору бриллиантов и безукоризненной закрепке их в изящной серебряной оправе, а также по отличной полировке и тонкой чеканке металлических деталей, не говоря уже о безукоризненности написания букв русскоязычного девиза на звезде, оба знака высшего русского ордена явно вышли из рук высококлассного петербургского ювелира, оставившего на обороте как звезды, так и креста выгравированную надпись: «K&S» с номерами 2636 и 2637 соответственно (см. рис. 7 вклейки).[118]
Обычно так обозначалась фирма, принадлежащая ювелиру и его компаньону. Под литерой «S» традиционно скрывалось немецкое слово Sohn, подчёркивающее, что ювелир работал совместно со своим сыном. Но кто из мастеров Северной Пальмиры, близких к императорскому двору в 1800-е годы, мог сократить свою пишущуюся латиницей фамилию до инициала «К»?
Сразу отпали Иоганн-Готтлиб «Кало»-Калау (Calau), чья фамилия хотя даже на французский лад произносилась с «К», но писалась с «С»,[119] и скончавшийся ещё в 1801 году Иоганн-Христиан Кайзер (Keyser).[120] Да и ювелир Иоганн-Георг Краутведель (Krautwedel), сделавший в августе 1799 года по повелению Павла I мальтийский крест с бриллиантами, предназначенный для награждения генерал-майора князя Петра Ивановича Багратиона, перестаёт упоминаться уже в первые годы правления Александра I.[121] Серебряник же Фридрих-Йозеф Кольб (Kolb) исключительно занимался искусным исполнением разнообразных предметов утвари и сервировки стола.[122] К тому же у всех перечисленных мастеров неизвестны сыновья-наследники, продолжавшие (бы) дело отца.
Вильгельм-Готтлиб Классен, подписывавшийся в счетах W. Klassen, переселился в Петербург с паспортом, выданным в Дерпте 9 февраля 1805 года, в 1810 году значился членом иностранного цеха, а со второй половины 1810-х годов создал для вдовствующей императрицы Марии Феодоровны множество табакерок, предназначенных для подарков.[123] Казалось бы, что отцом этого любимца фортуны вполне мог бы быть золотых дел мастер Георг-Готтлиб Классен, родившийся 1 сентября 1771 года в Ревеле от законного брака каменщика Johann-Dettlow Classen с Anna-Dorothea Vogel. На Пасху 1785 года покинул родительский дом, затем успешно выучился в родном городе мастерству у Отто-Вильгельма Франкенштейна и 1 апреля 1791 года уже получил статус подмастерья. По достижении брачного возраста взял в жёны Марию Кирмин. В поисках фортуны он перебрался в Петербург, где уже в 1799 году стал работать золотых дел мастером. Однако в церковных и кладбищенских книгах фамилия Георга-Готтлиба Классена везде начинается с «С», а не с «К» – Classen.[124] Посему оба столичных мастера были однофамильцами, да и то лишь в русскоязычном написании, никак не могли приходиться друг другу отцом и сыном, а соответственно, создать, объединившись, в Северной Пальмире ювелирную фирму K&S.
Казалось бы, претендовать на создание семейной фирмы K&S могли отец и сын Кёниг. Георг-Генрих (Андреас) Кёниг (Georg König), родившийся в 1756 году, исполнявший как наградные золотые шпаги и табакерки, в основном, после поездки в Англию, чтобы поучиться на керамической фабрике Джозайи Веджвуда, больше работал со стеклом и стеклянными массами, одновременно будучи гравёром, резчиком, чеканщиком, ювелиром, составителем эмалей и стеклянных сплавов, знатоком красящих составов, лепщиком, причём он не только чувствовал и создавал форму как художник, но всё время находился в поиске средств выражения. Мастер высочайшей квалификации, Кёниг мог воплощать такие сложнейшие композиции, как портреты и натюрморты, в самых различных материалах: от мягкого и пластичного воска, стекла, мрамора, до твёрдых камней и даже бронзы и стали, что было необходимо при работе с медалями. 29 февраля 1788 года по именному указу Екатерины II Георг Кёниг принимается ко двору на жалованье в 1200 рублей в год от Императорского Кабинета делать слепки и отливки-«паты» с гемм коллекции герцога Орлеанского, только что приобретённой самодержицей во Франции, а затем и с других резных камней-«антиков» собрания императрицы.[125] В начале правления Александра I, с 1802 по 1805 годы, по сложившейся традиции, к Пасхе в числе служащих «при особых по Ермитажу должностях» причиталось выплатить своеобразные премиальные: «при делании пат художнику Григорию Кениху» 150 рублей, а состоящему «при нём Ивану Кениху» – 100 рублей.[126] Не исключено, что сей Иван мог быть сыном и помощником Георга-«Григория» Кёнига. Однако вряд ли они могли располагать большими деньгами, чтобы создать собственную фирму и исполнять столь сложные вещи, как эрмитажный бриллиантовый Андреевский орден.
По сведениям Александры Васильевны Алексеевой, долгие годы проработавшей хранителем мебели Государственного музея-заповедника «Павловск» и отдавшей много лет архивным изысканиям, Георг Кёниг умер в 1815 году, в июле этого года вдове художника Кёнига, Ревекке Кёниг (скончавшейся 12 октября 1832 года), была установлена пенсия в 1200 рублей в год. Кстати, тогда же установили пенсию в 400 рублей Майе Фай, вдове токарного мастера Фая, так много помогавшего вдове Павла I в работе над изделиями из кости и янтаря.[127]
Итак, единственными, кто из петербургских ювелиров начала XIX века действительно бы мог претендовать на именник K&S, остаются Отто и Иоганн-Вильгельм Кейбели.
Мысль о создании фирмы, подобной Дювалям, окрепла и созрела у Отто Кейбеля с получением Вильгельмом статуса подмастерья в 1808 году. Учитывая незаурядный талант сына и его подготовленность к ремеслу, Отто не сомневался, что вскоре он станет мастером иностранного цеха. К тому же содружество отца и сына приветствовалось, разрешалось иметь мастерскую с таким названием. Однако не прошло и года, как 15 апреля 1809 года Отто неожиданно умирает. Его сын и наследник, хотя и достиг совершеннолетия, ещё не получил статуса мастера, то есть не имел права на собственное клеймо, на обучение учеников. Ему пришлось не менее двух лет помечать собственные вещи клеймом отца, выдавая их за сделанные ранее работы, чтобы не вступать в какую-либо из купеческих гильдий, исходя из стоимости имущества, и не потерять, таким образом, право стать мастером иностранного цеха.
Однако выгравированный именник K&S говорит о том, что эти знаки ордена Св. Андрея Первозванного выполнены до 15 апреля 1809 года. Но для кого они могли быть предназначены? Как раз в апреле 1809 года состоялось венчание великой княжны Екатерины Павловны с принцем Георгом Ольденбургским. Ещё раньше, 28 ноября 1808 года состоялся сговор будущей четы, а на торжественное официальное обручение в январе 1809 года в Петербург пожаловали король Пруссии Фридрих-Вильгельм III с супругой, обворожительной красавицей Луизой. Вероятно, скорее всего, в связи с грядущими торжествами, праздниками и визитами, были сделаны новые дополнительные знаки высшего русского ордена для императрицы Елизаветы Алексеевны.
Своему самому младшему сыну, великому князю Михаилу Павловичу, Мария Феодоровна оставила «мой орденский знак и бриллиантовый крест Андрея Первозванного, полученные мною от покойного императора Павла», выразив пожелание, чтобы «эти две w 190 вещи прошу его сохранить в своем семействе».[128]
«Мою орденскую звезду и крест св. Екатерины» вдовствующая императрица Мария Феодоровна завещала любимой невестке Александре Феодоровне.[129] Другой невестке, великой княгине Елене, хозяйке Михайловского дворца, августейшая свекровь предназначила «Орденский крест св. Екатерины, возвращённый после смерти моей матери, который император Павел соблаговолил подарить мне», приписав: «Я желаю, чтобы этот крест всегда переходил к супруге старшего члена их дома».[130] Еще одни «орденские знаки св. Екатерины, покойной великой княгини Елены Павловны» достались средней внучке Ольге Николаевне.[131]
После смерти вдовы Александра I эти знаки работы Кейбеля-отца, попавшие в хранилища драгоценных вещей императорской фамилии, могли потом оказаться у императрицы Марии Александровны, завещавшей (?) их сыну Алексею. Ведь Александра Феодоровна, супруга Николая I, вряд ли бы стала носить атрибут, принадлежавший грешной «скромнице»-предшественнице на престоле.
Иоганн-Вильгельм Кейбель
Иоганн-Вильгельм Кейбель прожил долгую жизнь. Родился он 30 мая 1788 года в Пазевальке, а скончался в Петербурге 25 мая 1862 года, не дожив пяти дней до своего семидесятичетырёхлетия. Вместе с отцом Иоганн-Вильгельм в 1797 году из родного прусского городка перебрался в столицу Российской империи. Неожиданная смерть отца 15 апреля 1809 года стала для его сына и наследника подлинной трагедией. Как уже говорилось, Вильгельм, хотя и достиг совершеннолетия, но статуса мастера получить не успел и в течение двух лет помечал готовые вещи батюшкиным клеймом. Лишь в 1812 году В. Кейбель получил статус ювелира, а также золотых и серебряных дел мастера петербургского иностранного цеха. Отец так хорошо выучил его, что исполненные Кейбелем-младшим изделия сразу же начинают цениться, как некогда работы его отца, и Вильгельм решил и дальше проставлять на своих работах (но уже на законных основаниях) клеймо-именник отца: Keibel, из-за чего изделия обоих мастеров часто путают между собой.[132]
Уже в сентябре-декабре того же 1812 года «у золотых дел мастера Кейбеля» приобретаются в 3-е отделение Кабинета две золотые табакерки: «осьмиугольная с голубою и красною эмалью и с живописным ландшафтом» и «тупочетвероугольная с синею эмалью с живописью и с жемчугами», а также «шпага золотая пехотная с надписью за храбрость».[133]
А далее Кейбель-младший сделал прекрасную карьеру в чём мастеру помогло начавшееся ещё со времён отца личное знакомство с августейшими особами.[134] Несомненно, памятуя о заветах отца, Вильгельм Кейбель стремился повторить карьеру Якова Дюваля. В их биографиях есть удивительные совпадения: оба потеряли отцов в двадцать лет, получили в наследство по обширной мастерской, оба пользовались покровительством августейших особ. Подражание сопернику даже привело Вильгельма Кейбеля к вступлению в масонскую ложу Пеликана.[135]
С воцарением Александра I просвещённые слои русского общества перестали скрывать увлечения идеалами равноправия и справедливости. Образованная в 1802 году ложа Соединённых друзей объединила аристократов, в неё не преминул вступить даже великий князь Константин Павлович. Благодарные молодому императору вольные каменщики, распевавшие французские гимны и канты[136] на слова Василия Львовича Глинки под музыку, написанную знаменитым в то время композитором Катарино Кавосом, положили даже праздновать день рождения первенца Павла I, «яко истинного Благодетеля и высокого Покровителя нашего». А через два года (в 1805) возобновилось действие старой ложи «Пеликана и благотворительности», разделившейся в 1809 году на три новых, одна из которых также отнюдь не случайно теперь получила уточнённое название «Александра и благотворительности коронованного Пеликана». Её знаком являлся иоаннитский[137] крест с исходившими от него солнечными лучами, а в перекрестии – буква «А» и пеликан с птенцами. Вдохновляемые милосердием, братья, чтобы помочь финансово пострадавшим в Отечественную войну 1812 года, основали многотиражную газету «Русский инвалид». В 1815 году, когда в Петербурге уже насчитывалось около тридцати лож, некоторые из них, в том числе и «Александра и благотворительности коронованного Пеликана», работавшая на русском и немецком языках, объединились в Директоральную ложу Астреи. Кстати, сам русский монарх присоединился к вольным каменщикам то ли в 1808 году в Эрфурте, то ли в 1813 году в Париже, то ли после окончания войны с Наполеоном, по шведскому обряду, в стенах Зимнего дворца. Неслучайно братья по Ордену распевали в своих собраниях: «Днесь с Александром на престоле / Сама Премудрость восседит! / Она свой взор к нам обращает / И с видом благостным вещает: / Я знаю ваших цель работ! Она священна и полезна…». Но узнав о противоправительственных настроениях, возобладавших в ложах вольных каменщиков, в 1822 году Александр Павлович издал Высочайший рескрипт о запрещении всех масонских лож и не возобновлении впредь любых вольнокаменщических работ.[138]
Иоганн-Вильгельм Кейбель, унаследовав родительскую мастерскую, долгое время размещавшуюся в собственном доме в Гусевом переулке, достаточно быстро зарекомендовал себя отличным специалистом, до тонкостей овладевшим секретами работы не только с драгоценными камнями и золотом, но и с серебром, а потом и с платиной. В мастерской Кейбеля из этого серебристого металла, отличающегося очень высокой температурой плавления, делали прелестные табакерки, дополняемые сложным накладным орнаментом из золота.
Успешная карьера Иоганна-Вильгельма Кейбеля началась при Александре I, но по-настоящему звезда ювелира взошла при Николае I. К тому времени мастер по праву с 1825 по 1828 год занимал выборную должность сначала помощника старосты, а затем и старосты цеха.[139] 31 марта 1841 года за успешную работу его удостоили звания «Придворного золотых дел мастера» и разрешения помещать на вывесках и изделиях изображение государственного герба,[140] а в 1859 он получил орден Св. Станислава 3-й степени и звание потомственного почётного гражданина, перешедшее к его потомкам. Скончался Иоганн-Вильгельм Кейбель 25 мая 1862 года, его потомки успешно продолжали семейное дело, преобразовав мастерскую в фабрику, существовавшую ещё в 1910 году.
А во втором десятилетии XIX века совсем ещё молодого ювелира, лично известного членам августейшей семьи, всё чаще привлекали к исполнению весьма ответственных заказов от Двора.
Шкатулка и табакерка Александры Феодоровны с анаграммами
Скорее всего, именно к нему обратился незадолго до (вожделенного дня) женитьбы на прусской принцессе брат самого самодержца. Николаю Павловичу 25 июня 1817 года наконец-то исполнился двадцать один год – возраст совершеннолетия. А накануне состоялся переход его прелестной невесты в православие, и отныне она носила титул великой княжны Александры Феодоровны. День рождения жениха совпал с обручением с желанной наречённой, впервые надевшей розовый сарафан, сверкающие бриллианты и даже отважившейся слегка нарумяниться. Торжественная церемония закончилась роскошным «обедом и балом с полонезами».[141] Венчание назначили на 1/13 июля, совпадавшее с днём рождения новобрачной.
В знак любви и преданности жених преподнёс невесте изящный браслет-«сантиман» как напоминание любимой об их первых встречах и о незабываемом 23 октября 1815 года, дне помолвки влюблённых в далёком Берлине. Подобные, чрезвычайно тогда модные, браслеты носили на левой руке как признак чувствительного сердца, откуда и их название «sentiment». Однако это зарукавье украшали только ослепительно сверкающие алмазы.
Александра Феодоровна, пережившая множество невзгод в детстве и ранней юности во времена господства Наполеона в Европе, хорошо знала «язык камней», при Дворе Гогенцоллернов им пользовались, но по скудости средств не так часто, как хотелось бы. Ведь только «поход армии Наполеона в Россию нанёс Пруссии ущерб в 1236 миллионов франков».[142]
Уже будучи русской монархиней, она как священную реликвию бережно хранила в любимом Аничковом дворце ларец-памятку о любимых братьях и сёстрах – прелестную шкатулку розового дерева, украшенную на крышке картиной на фарфоре.[143] Глядя на загородную резиденцию бабушки, вдовствующей королевы Фредерики-Луизы Прусской, в горном городе-курорте Фрайенвальде, Александре Феодоровне вспоминались не только счастливые часы, когда, будучи совсем малышкой, резвилась в саду с обоими старшими братьями, кронпринцем Фридрихом-Вильгельмом и Вильгельмом, заодно ухаживая за росшими там разнообразными растениями, но и последнее «прости», сказанное Шарлоттой любимым местам детства при отъезде в 1817 году на новую родину. Перебирая дешёвенькие сувениры, лежащие в ларце, супруга Николая I вспоминала дорогие её сердцу события прошлого, особенно проказы шаловливого кронпринца, с его неожиданными прыжками из кустов тенистого парка, пугавшими церемонных придворных, или громкими серенадами из опер Моцарта под окнами придворных дам, извлекаемыми из гнусаво звучащей шарманки.
Однако отнюдь не случайно, что памятная шкатулка запиралась на бронзовую цепочку, пропущенную через шесть перстней и скрепляемую замком, запирающимся специальным ключом. Звенья цепочки символизировали узы родства и непреходящей дружбы, объединяющие навечно детей прусского короля Фридриха-Вильгельма III и его красавицы супруги Луизы Мекленбург-Стрелицкой. Когда Александра Феодоровна открывала ларец, в её памяти как живые вставали пятеро милых братьев и сестёр, поскольку камни колец соответствовали их именам, а в шестом перстне было зашифровано девичье имя счастливой супруги русского императора Николая I. Начинала вереницу самоцветов крайняя слева бирюза, за ней следовали жемчужина, сапфир, хризолит, изумруд, а завершал разноцветный ряд лазурит.[144]
Однако не так-то просто оказалось понять, каким же образом названия этих каменьев заменяют инициалы имён прусских принцев и принцесс. Именно секрет позволял таить от посторонних глубоко личные переживания.
Легко поддались расшифровке последние три камня. Не приходилось сомневаться, что под лазуритом (Lazurit) таилась самая младшая принцесса Луиза (Louise-Augusta-Wilhelmina, 1808–1870), отдавшая свою руку принцу Фридриху Нидерландскому второму сыну короля Вильгельма I. Изумруд, по-немецки называемый смарагд (Smaragd), обозначал принцессу Александру (Frederica-Wilhelmina-Alexandra, 1803–1892), вышедшую в 1822 году замуж за Карла Мекленбург-Шверинского (Стрелицкого). Ведь Прусскую королевну Александру в семье обычно ласково называли Сандрой. Третьего сына короля Фридриха-Вильгельма III, принца Карла (Friedrich-Carl-Alexander, 1801–1883), взявшего в жёны принцессу Марию Саксен-Веймарскую-Эйзенахскую, старшую дочь русской великой княгини Марии Павловны, символизировал желтовато-зелёный хризолит (Chrisolit).
Однако с расшифровкой значений трёх левых камней пришлось повозиться. Стало понятно, что они должны соответствовать первым буквам имён трёх старших королевских детей, причём сапфир (Saphir) приличествует Шарлотте (Frederika-Louisa-Charlotta-Wilhelmina, 1798–1860), жемчужина (Perl) – Вильгельму (Wilhelm-Friedrich-Ludwig, 1797–1888), а бирюза (Türkis) – кронпринцу Фридриху-Вильгельму (Friedrich-Wilhelm, 1795–1861). Казалось бы, ничего похожего… Однако потом, по размышлении, всё встало на свои места. Зашифрованы были, оказывается, не имена, данные при рождении, а «домашние имена», употребляемые только в кругу семьи.
Первой, как ни странно, поддалась разгадке жемчужина. Во французском языке слово perle означает не только «жемчуг» или «бисер», но также каплю росы на цветах, а, самое главное, в переносном смысле, ещё и «сокровище».[145] Да и неудивительно. Второй сын прусского монарха Фридриха-Вильгельма III был поистине «сокровищем» королевской семьи. За легендарные отвагу и неустрашимость, проявленные в 1814 году этим семнадцатилетним юношей, увлекшим за собой в победную атаку Калужский полк в кровопролитной битве при Бар-Сюр-Об с наполеоновскими войсками, принц удостоился русского Георгиевского и прусского Железного крестов. Своим характером он напоминал средневекового рыцаря, особенно когда много лет был подлинным и верным паладином своей дамы сердца, прелестной княжны Элизы Радзивилл, а затем пережил подлинную трагедию, оставившую навсегда след в его душе, так как по государственным соображениям влюблённым пришлось навеки расстаться. Во время неизлечимой и страшной болезни старшего брата младший взял на свои плечи бремя правления Пруссией. Оказавшись после смерти Фридриха-Вильгельма IV на отчем престоле, Вильгельм I проявил железную волю, знание людей, умение использовать их таланты. С помощью «железного» канцлера Отто Бисмарка он объединил немецкие земли в Северогерманский союз, а после полного разгрома при Седане французского императора Наполеона III был провозглашён 18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версаля первым германским императором.
В 1812 году оба старших королевича и их сестра, называвшие себя «юным населением Шарлоттенбурга», так зачитывались творением барона Фридриха де ла Мотт Фуке «Волшебное кольцо», что кронпринц, отправляясь в «крестовый» поход против тирана и оккупанта Наполеона Бонапарта, сунул в походную сумку столь любимый роман. Одной из героинь этой литературной сказки выступала нежная, чистая и благородная, похожая на белую розу Бланшефлур, чей «ангельский девичий образ с ясным приветливым взором, с бесконечной грацией в каждом движении стройного стана» являлся в волшебном видении очарованному рыцарю. Братья находили в ней поразительное сходство с милой сестрицей, и, даже когда Шарлотта, выйдя замуж за великого князя Николая Павловича и перейдя в православие, стала русской императрицей Александрой Феодоровной, для родных она всегда оставалась незабвенной Бланшефлур. А белая роза, поскольку имя чарующей красавицы Blancheflour в переводе с французского обозначало «Белый цветок», стала своеобразным символом прелестной высокородной пруссачки.[146]
И.-В. Кейбель (?). Браслет эмалевый с бриллиантами
Всё бы хорошо, но оба инициала, причём ни «В» (Blancheflour), ни «С» (Charlotta) никак не ассоциируются с «S» – первой буквой названия василькового сапфира (Saphir). Казалось бы, опять тупик. В какой-то момент меня озарило: ведь в 1812–1815 годах вышли в свет ставшие сразу популярными сказки братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Среди них невольно привлекли моё внимание две – «Schneewittchen» («Белоснежка») и «Schneeweisschen und Rosenrot» («Беляночка и Розочка»), их героини обладали столь нежной кожей, что своей белизной она напоминала снег (по-немецки Schnee), а поэтому имена красавиц, соответственно, начинались с буквы «S». Почему бы теперь прусским принцам не обращаться к любезной сестрице на родном языке, уточнив, что «цветок» не просто «белый», а «белоснежный», и тогда калькой с французского будет «Schneeweisse Blume». Вот и появилась буква «S», с которой начиналось домашнее имя русской императрицы, совпадающее с названием лазоревого яхонта.
Уверенность в правильности моего предположения окончательно окрепла, когда в описании Берлинского праздника 1829 года в честь высокой гостьи – прусской принцессы Шарлотты, а ныне русской императрицы Александры Феодоровны, мне встретились строки, как торжественно, под звук фанфар и дробь барабанов «под руку с королём-отцом появилась Она – Бланшфлур, Белая Роза – в шитом жемчугом и бриллиантами „средневековом“ платье, белоснежном, как её символ».[147]
Более всего пришлось помучиться над загадкой соответствия бирюзы «вензельному имени» кронпринца Фридриха-Вильгельма. Но даже уменьшительно-ласкательные варианты имён от «Фридрих» «никак не желали» начинаться с буквы «Т». Правда, из-за того, что королевич был чересчур толстоват, за ним закрепилось домашнее прозвище «Камбала», но он не обижался и зачастую вместо подписи рисовал эту плоскую рыбу[148] или её немецкое название «Butt». Кстати, на Берлинской королевской фарфоровой мануфактуре в 1832–1837 годах по рисунку престолонаследника для его любимой резиденции в Шарлоттенхофе исполнили целый сервиз с красочными изображениями камбалы.[149]
Но как же неожиданно, бывает, приходит разгадка, причём там, где её и не ожидаешь найти. При чтении автобиографических воспоминаний фрейлины Александры Осиповны Смирновой-Россет мне вдруг бросилась в глаза одна фраза. «Черноглазая Россетти», как её называл А.С. Пушкин, помнила не только проведённые под Одессой детские годы, но даже потрясающее изобилие рыб, царившее тогда в Чёрном море, а потому (вот оно, счастье исследователя!) теперь заботливо перечисляла: «ловили камбалу (le turbot), были сельди, бычки, очень костлявая рыба вроде наших ершей, но вкуснее, были превосходные устрицы, а снетки вдруг наплывали в таком количестве, что их ловили простыми ситами и чем попало, и готовили впрок».[150] Итак, всё встало на свои места, французское название камбалы «turbot» (тюрбо) по первой литере «Т» абсолютно соответствовало бирюзе «turquoise» (тюркуаз).
Казалось бы, всё разгадано. Но у русской императрицы было четыре брата и две сестры, то есть на шкатулке, где не осталось свободного места, не хватает ещё одного перстня. Название самоцвета в нём должно бы начинаться с литеры «А», пропущенным оказался принц Альберт Прусский (1809–1872). Почему же такая немилость? Ведь принц Фридрих-Георг-Альбрехт (а таково полное имя королевича) неоднократно гостил в России у своей сестрицы. Зимой 1828 года он сделался завсегдатаем балов в Аничковом дворце, где обожал, беседуя с дамами, позволять себе неприличные шутки и жесты.[151] Его имя носил один из кирасирских полков, размещавшихся в южных военных поселениях. А сопровождая августейшего свояка в марте 1830 года в поездке-инспекции по военным поселениям гренадерского корпуса, самый младший брат императрицы Александры Феодоровны побывал и в древней Москве.
Но ведь принц Альберт стал последним, родившимся в 1809-м, ребёнком Фридриха-Вильгельма III и красавицы королевы Луизы, скончавшейся в следующем году. А на драгоценном ларце в крайнем правом перстне сияет синевой лазурит в честь принцессы Луизы, появившейся на свет в 1808 году. Значит, памятную шкатулку сделали в конце 1808 – начале 1809 года, конечно же, для супруги прусского короля. И, скорее всего, действительно кронпринц Фридрих-Вильгельм, впервые посещая Петербург в 1818 году, привёз с собой милой сестрице Шарлотте напоминание о драгоценной матушке и дорогих братьях и сёстрах.[152]
А за год до приезда дорогого «Камбалы» как же обрадовалась Александра Феодоровна, получив от новой родни накануне дня свадьбы «прелестные подарки, жемчуг, брильянты». Даже через много лет она не забыла свои тогдашние впечатления, записав: «… меня всё это занимало, так как я не носила ни одного брильянта в Берлине, где отец воспитал нас с редкой простотой»[153]
Потому-то её избранник, хорошо знавший о финансовых сложностях прусского Двора, и поднёс обожаемой невесте браслет, поражающий изобилием и высоким качеством алмазов, огранённых мерцающей розой или ослепительным бриллиантом. А в центре каждого из крошечных овальных медальонов, окольцованных сверкающими поясками диамантов, красиво выделялась на синей эмали набранная из мелких камней либо одна цифра, либо буква. Из вереницы сих звеньев на цепочке браслета складывалась легко читаемая надпись «Le 23 Octobre 1815», поскольку разделителями слов служили достаточно крупные круглые бриллианты в отдельных шатонах. В застёжке же портрет великого князя Николая Павловича заменяла алмазная первая литера имени Nicolas.[154]
Конечно же, досадно, что клейма на браслете отсутствуют, но ведь существовавшие тогда правила позволяли не относить подобные вещи в Пробирную Палатку, благодаря чему ювелир на законных основаниях смог сэкономить. Зато алмазные надписи точно так же закреплены на синей эмали, как сплошь усыпанные сверкающими диамантами листочки и вензель «&» на украшенной клеймом Иоганна-Вильгельма Кейбеля табакерке с пёстрым рядом самоцветов, образующих столь модную, но понятную только посвящённым в её секрет акрограмму.
Табакерка с надписью-акрограммой, пожалованная Марией Феодоровной Матвею Ивановичу Ламздорфу
В тот же день, 1/13 июля 1817 года, когда Николай Павлович сочетался браком с прусской принцессой в день её рождения, счастливая императрица-мать на радостях подарила воспитателю сына, генералу Матвею Ивановичу Ламздорфу, называемому при Дворе просто «Papa Lambsdorf», табакерку с драгоценными камнями, расположенными так, что составлялось слово «Reconnaissance», в переводе с французского означающее «признательность» или «благодарность». Однако на этом благодеяния и награды, излившиеся на царедворца в сей радостный день, отнюдь не закончились. Достойный сын августейшей матушки, император Александр I даровал за заслуги ментору своего младшего брата титул графа Российской империи да вдобавок ещё пожаловал не только перстень со своим ликом, но и табакерку с портретом четы венценосных родителей и надписью из алмазов: «Богъ благоволилъ ихъ выборъ».[155]
Столь утончённый подарок вдова Павла I презентовала отнюдь не случайно. Семнадцать лет назад её супруг избрал генерала Ламздорфа ментором своих младших сыновей Николая и Михаила, будучи уверен, что педантичный вояка не сделает из них «таких оболтусов, какими бывают немецкие принцы».[156] Императрица же Мария Феодоровна, надеясь, что Ламздорфу удастся отвлечь своих подопечных от страсти к фрунтомании, была вполне довольна его педагогическими способностями, питала к нему чувство глубокого уважения и считала его вторым отцом августейших воспитанников. Однако курляндец по-своему понимал методы педагогики: стремясь переломить вспыльчивый характер Николая Павловича, без особых церемоний колачивал великого князя не только линейкой, но и ружейным шомполом, а подчас, особенно разозлившись на неповиновение, хватал строптивца за воротник и со всего размаха чувствительно ударял о стену. Тем не менее 25 июня 1811 года, когда обожаемому «Никошу» исполнилось 15 лет, счастливая августейшая мать послала «доброму, дорогому и почтенному Ламсдорфу» драгоценное кольцо по случаю дня рождения воспитанника, написав в сопроводительной записке: «… надпись на перстне выражает чувство, которое я к вам питаю и которое прекратится только с моим существованием. Продолжайте ваши заботы о Николае, ваши поистине отеческие заботы, и они оправдают все наши ожидания».[157] Вероятно, на перстне читалось французское слово «recoinnaissance», означавшее «благодарность», или «признательность». Потому-то, по завершении воспитания будущего императора Ламсдорфа ожидала табакерка с зашифрованной фразой из разноцветных камней, где к «благодарности» добавилась «дружба» – «amitié», испытываемая признательной вдовой Павла I ко «второму отцу» её младших сыновей.
Секреты подобных надписей оказывались, за редким исключением, утрачены, если только сам владелец такой вещи не раскрывал их потаённый смысл. К счастью, давно было известно, что аккуратные овалы образцов царства кристаллов на крышке красивой золотой табакерки, цепочкой расположенные на фоне синей «королевской» эмали, как раз и образуют фразу «Amitié & reconnoissance».[158] Непривычное в слове «reconnoissance» буквосочетание «oi» вместо современного «ai» объясняется ещё господствовавшими во французском языке в начале XIX века, правда, вскоре устаревшими правилами правописания. Но какие же минералы послужили своеобразными буквами?
Чтение начинается с крайнего красновато-фиолетового аметиста (améthyste), дающего инициал «А». С ним, подменяя букву «М», соседствует зелёный малахит (malachite), своим цветом и рисунком, как считали греки, давшие камню название, действительно напоминающий листья мальвы. Рядом помещён прозрачный, своим красновато-рыжим оттенком похожий на червонное золото, минерал, чьё название должно начинаться с «I» или «J». В нём видели яшму (jaspe), но она непрозрачна. Скорее, считали, что это гиацинт-«джасинт» (jacinthe, хотя во французском языке подобное написание слова обычно относится к цветку с одноимённым названием) – минерал из цирконов-«жаргонов» (jargon). Достижения современной науки о драгоценных камнях, теперь чаще называемой «геммологией», позволили уточнить породу самоцвета, но при этом нарушили его предназначение в надписи: выяснилось, что сей кристалл принадлежит к группе гранатов и, исходя из цвета, должен называться либо гессонитом (hessonite), либо, скорее, гроссуляром (grossular).
Между двух новоявленных гранатов-гроссуляров вклинился жёлтый топаз (topaze), обеспечивающий «Т». Травянисто-зелёный прозрачный изумруд (émeraude), подменяющий литеру «Е», завершает образование первого слова «AMITIE», отделяющегося от следующего соединительным союзом «и» («&»), набранным из мелких алмазов.
В начале второго слова алеет пламенно-красный рубин (rubis), замещающий букву «R». А далее с насыщенным тоном изумруда, подменяющего «Е», контрастирует просвечивающий, нежного оттенка зелёного яблока хризопраз (chrysoprase), имитирующий литеру «С». Следом переливается радужными бликами молочный опал (opale), дающий «О». Почти чёрными кажутся две вставки тёмно-зелёного нефрита (néphrite), обеспечивающего «N». А после опала (О) и бывшего «жаргона» (j) синеют васильковые сапфиры (saphir), замещающие двойное «S». Следующие далее аметист (А), нефрит (N), хризопраз (С) и изумруд (Е) окончательно обеспечивают прочтение слова «RECONNOISSANCE».
Кстати, вдовствующая императрица Мария Феодоровна вплоть до смерти свято сохраняла сделанный по её повелению, вероятней всего, А. Филиппен-Дювалем, золотой ажурный браслет, украшенный плетёнкой из прядей волос графа-наставника её сыновей и вензелем «CL» (Comte Lambsdorf), отписав по духовной сей памятный предмет своей невестке, супруге Николая I.[159]
Сам же высокопоставленный ученик не озлобился на воспитателя за столь жёсткую муштру и никогда не упрекал его в излишней строгости, зато в день коронации, 22 августа 1826 года, прислал Ламздорфу с особым фельдъегерем свой портрет.[160]
Церковная утварь и сервизы
К 15 января 1824 года уже достаточно известный при дворе золотых дел мастер закончил из позолоченного серебра зеркало «со всей чеканной, скульптурной и собственною Кейбеля работою», предназначенное для великой княгини Елены Павловны. Одновременно он также из позолоченного серебра исполнил туалетный прибор из 28 предметов для её супруга, порфирородного великого князя Михаила Павловича. На создание этих вещей, за которые Иоганн-Вильгельм получил 44 000 рублей, ушло более 40 кг драгоценного металла. А в следующем году Кейбелю довелось, на этот раз из 10 кг казённого золота, отпущенного с Монетного двора, сделать для великокняжеской четы кофейно-чайный сервиз дежене (от фр. le déjeuner – завтрак). В обязательный прибор для утренней трапезы входили поднос, полоскательная чашка, кофейник, чайник, сливочник, сахарница, ситечко, две ложечки и щипцы для сахара. С небольшими различиями в рисунке мастер, как и предписывалось условиями заказа, повторил аналогичный чайно-кофейный сервиз для завтрака, выполненный несколько лет назад для ставшего впоследствии императором великого князя Николая Павловича.[161]
История создания хрустального ложа для монарха Персии Фатх-али-Шаха
1–2 августа 1817 года русское посольство во главе с боевым генералом Алексеем Петровичем Ермоловым дважды являлось в Султанин пред пресветлые очи Фатх-али-Шаха, повелителя Персии. Владыке Гюлистана весьма по сердцу пришлись драгоценные подарки от императора гяуров, состоявшие «из прекраснейших стеклянных и фарфоровых вещей, из больших зеркал, бриллиантовых вещей и других игрушек, чтобы забавлять его шахское величество. <…> Бриллиантам он не удивлялся, а стекло и фарфор ему очень понравились. <…> Часы со слоном три раза заставлял играть».[162] Не остался незамеченным и изящный бассейн.
Довольный Фатх-али-Шах пригласил спустя три недели, 24 августа, членов русского посольства во главе с Ермоловым во дворец, дабы те лицезрели сокровища династии Каджаров, насчитывавшие множество «огромных бриллиантов, изумрудов, яхонтов и сапфиров, расположенных без вкуса на кальяне, щите, кинжале, короне и нескольких других вещах. Богатства сии может быть первые на свете. Алаиархан, который их показывал нам, поднес посолу два портрета шахских во весь рост, писанные весьма дурно, грубо, нелепо и непохоже. Один был для государя, а другой для посла».[163]
Дабы поддержать дружеские отношения, Александр I презентовал через два года «любезнейшему брату» дивный стеклянный бассейн, а для сборки диковинки в Тегеран специально посылался мастер Императорского Стекольного завода Никитин.[164]
Но вскоре персидско-русские отношения опять обострились. Подзуживаемые англичанами, жаждавшие реванша вояки во главе с наследным принцем Аббас-Мирзою, то и дело тревожили приграничные земли. Учитывая советы Ермолова, отлично знавшего нравы не только персидского двора, но и пожелание, слышанное из уст самого восточного владыки, Александр I распорядился в пару к ранее доставленному стеклянному бассейну сделать совершенно необычный подарок для шаха, на сей раз подлинно чудо чудное, диво дивное – хрустальное ложе с фонтанами.
В это время вся Европа сходила с ума от вещей из этого чрезвычайно эффектного материала. Бесцветное стекло с большой примесью свинца своей прозрачностью, твёрдостью и блеском напоминало красивейший камень, называемый хрусталём. Англичанин Джордж Равенскрофт, получивший в 1976 году патент на состав такого стекла, недолго думая, простенько назвал новый материал «хрусталём», отчего теперь к обозначению природного кварцевого самоцвета пришлось добавлять уточняющее прилагательное «горный». Но подлинная слава пришла к хрусталю лишь спустя век, когда светлые головы в той же Англии додумались вращающимся «железным» или «каменным» колесом наносить на поверхность стекла геометрическую резьбу, а затем тщательно полировать узор сначала абразивом, потом последовательно свинцовым, деревянным, пробковым и, наконец, войлочным кругами. После сих операций хрусталь ослепительно блестел, а рисунок искрился и переливался всеми цветами радуги. В 1807 году на смену ножным приводам изобрели паровую машину. Индивидуальность мастера теперь не приветствовалась, ценились лишь точность и чёткость исполнения отдельных операций механического воспроизведения требуемого эскиза в дорогом и изысканном материале.
С новинками в стеклоделии хорошо ознакомился ведущий мастер Императорского стеклянного завода Ефрем Карамышев во время командировки в Англию. А вскоре, в 1807 году туда же посылают «первого заводского мастера 9-го класса Левашева», причём не только «для приобретения лучших сведений в обработке стеклянных изделий», но, главное, для приобретения машин и механизмов, необходимых при реконструкции казённого предприятия.[165]
И вот уже входит в моду «алмазная грань», продуманные пересечения глубоких бороздок приводили к появлению из толщи хрусталя четырёхгранной пирамиды, весьма похожей именно на алмаз с плоским основанием, обработанный «розой», поскольку природный квартет граней, сходящийся наверху в одну точку, напоминал формой бутон цветка. Талантливые русские работники изобретали всё новые и новые разновидности резьбы, чтобы получать ещё не ведомый художественный эффект. Попутно их тянуло создавать из стекла диковинно крупные, дотоле не виданные вещи.[166]
И тут подоспело повеление Александра I «о приготовлении для Шаха Персидского хрустальной кровати». Воля императора – закон. Уже 30 октября 1822 года управляющий Кабинетом повелел заняться составлением рисунков будущей диковины, а после утверждения эскизов немедленно «приступить к самому выполнению». Создатель эскизов, а по сути дела, автор проекта хрустального ложа – художник Иван Алексеевич Иванов (1779–1848), племянник прославленного архитектора И.Е. Старова, занимавший с 1815 по 1848 год должность «инвентора», то есть художественного руководителя Императорского Стеклянного завода.[167]
Воспитанник Императорской Академии художеств, которому покровительствовал чрезвычайно эрудированный писатель и общественный деятель Николай Александрович Львов, наверняка слышал, а может быть, и читал записки французского путешественника Жана-Батиста Тавернье, видевшего при дворе Великих Моголов знаменитый Павлиний трон. Из описания следовало, что похож он был «на европейскую походную кровать, длиной примерно 6 (= 180 см), а шириной 4 фута (=120 см), на четырёх больших и высоких ножках в 20–24 дюйма (=50–60 см), с четырьмя продольными брусами» для поддерживания нижней части трона. А на этих брусах, шириной более 18 дюймов (=45 см), в свою очередь, стояли 12 опор, с трёх сторон поддерживающих балдахин и осыпанных восхитительными белоснежными жемчужинами, почти идеально круглыми, да ещё столь крупными, что каждый перл весил от шести до десяти каратов.
Как ножки, так и брусы были сплошь покрыты золотом и эмалью, усеяны многочисленными алмазами и изумрудами. В центре каждого бруса виднелся тусклый рубин в окружении четырёх изумрудов, образующих четырёхконечный крест. С боков трона по всей длине располагались подобные кресты на белой основе, только, чередуясь, в иных изумруд оказывался среди четырёх тусклых рубинов. Пространство же между рубинами и изумрудами заполняли чрезвычайно плоские алмазы, самые крупные из которых по весу превышали 10–12 каратов. Кое-где местами матовым блеском переливались жемчужины, вставленные в золотую оправу.
Изумила опытного француза внутренняя часть балдахина, сплошь покрытая алмазами и жемчужинами, да ещё с бахромой из жемчуга, а под самым сводом прельщал взоры золотой павлин с распущенным хвостом из голубых сапфиров и прочих драгоценных каменьев. Тело волшебной птицы блистало эмалью и жемчугом, а на груди алел большой рубин, напоминавший о сострадании и бдительности.
Кстати, в отличие от буддизма, в индуизме павлин был не только эмблемой восхитительной Сарасвати, богини мудрости, музыки и поэзии, но и средством транспорта для других важных небожителей, причём бог любви Кама, оседлавший дивную птицу, символизировал нетерпеливое желание. В исламе же павлин с распущенным хвостом напоминал почитателям Пророка Мухаммеда о красоте небесного света, а его зоркий глаз сравнивали с Оком Сердца.[168]
По обе стороны павлина, окружённого нитками слегка желтоватого жемчуга, виднелись высокие кусты, усыпанные множеством листьев из литого золота и украшенные драгоценными камнями. Из числа 108 самых крупных кристаллов рубинов, казавшихся тусклыми, поскольку не были обработаны, самый маленький весил около 100 каратов, а другие достигали двухсот и более каратов. 160 дивных четырёхугольных изумрудов, от 30 до 60 карат каждый, яркого травянисто-зелёного цвета напомнили иноземному путешественнику своей чересчур ровной окраской из-за отсутствия видимых пороков обычное стекло.
Правитель поднимался на трон по четырём ступенькам и удобно устраивался на подушках, подложив под спину большую и круглую, плоские же размещались по бокам. Тавернье отметил, что «ступеньки и подушки как на этом, так и на шести других тронах украшены драгоценными камнями подобающим образом и каждый в своей манере».
Когда же заезжий путешественник осторожно поинтересовался, сколько же может стоить Павлиний трон, его уверили, что цена сокровища Двора Великих Моголов «составляет 107 тыс. рупий», соответствуя 160,5 млн франков французской валюты при Людовике XIV.[169] Павлиний трон пропал после взятия Дели в 1739 году Надир-шахом, захватившим иранский престол.
Возможно, Иванов знал, что впоследствии владыки Персии не раз пытались воссоздать Павлиний трон, чтобы украсить им шахскую резиденцию – Гулистанский дворец в Тегеране. Осуществить мечту удалось в 1812 году Фатх-Али-Шаху, второму правителю из каджарской династии, решившему возродить былое величие и блеск неограниченной власти. В Иране павлинов изображают стоящими по обе стороны Древа Жизни, они символизируют монаршую мощь, нетленность души и двойственность человеческой природы.[170] Новый трон называли не только Павлиньим, но и Солнечным: на спинке красовался золотой диск – эмблема солнца.[171]
Итак, главный «инвентор» казённого Стеклянного завода Иван Алексеевич Иванов решил сделать для иранского владыки ложе, напоминавшее о знаменитых тронах, Павлиньем и Солнечном. Для создания своеобразного ансамбля мебельного гарнитура художник выполнил проекты оправленных в серебро двух четырёхаршинных, то есть почти трёхметровых канделябров и восьмиугольного столика на низеньких ножках, на котором должны были разместиться компотьеры, дюжина столовых фонарей и сорок восемь чаш «в персидском вкусе», а также две дюжины стеклянных и столько же фарфоровых вазочек-цветников. Долго ли, коротко ли, но лишь в апреле 1824 года эскизы хрустальной кровати рассмотрел Александр I. Проект показался самодержцу дороговатым, только серебра на отделку предполагалось истратить восемь пудов (почти 128 кг), а это «удовольствие» обошлось бы в 24 320 рублей. Монарх потребовал уменьшить количество драгоценного металла почти вдвое, до четырёх с половиной пудов, а сопутствующие канделябры, не говоря уже о столике с вазочками и чашами, вообще исключить. Хрустальное ложе и так получалось слишком разорительным для казны. Но уж очень хотелось поразить августейшего соседа чистотой стеклянной массы, изысканными формами, зеркальной шлифовкой, искусными гранью и резьбой, не говоря уже о восхитительных узорах из серебра.
Прочная кровать должна была иметь сборно-разборную конструкцию, да к тому же в ней предусматривалась система фонтанов. На императорском Стеклянном заводе даже заказали некоему «вольному столяру» за 325 рублей вырезать по утверждённому рисунку деревянную модель «в настоящую величину, со всеми принадлежностями». Отважился воплотить сверхсложное в техническом отношении сооружение в предусмотренных материалах «золотых дел мастер Вильгельм Кейбель».
Может быть, его «вдохновил на подвиг» успех заказных портативных шкатулок. И, действительно, когда смотришь на походный литургический прибор, невольно восхищаешься тщательным расчётом и чрезвычайно аккуратным исполнением, позволяющим рационально разместить в небольшом (всего-то 19,7×12,5×4,8 см) деревянном футляре, похожем на книгу в кожаном переплёте с золотым тиснением, пять необходимейших предметов, причём для каждого продумано соответствующее гнёздышко. Ярко сияет полированное золото потира и вкладывающейся в него воронки. Хороша и коробочка с крышкой на шарнире. Рукоятка из благородного металла дополняет стальное копие, а съёмная крышечка столь искусно притёрта к золотому ободку хрустального флакона, что ни одна капелька святой воды не может случайно просочиться или нечаянно вылиться. Всё выглядит классически скромно и элегантно, и лишь неброские чеканка и гравировка несколько оживляют гладкие поверхности золота в вещах, предназначенных для священного таинства причастия.
Иоганн Вильгельм Кейбель. Прибор для причастия. 1818–1826 гг. Золото, хрусталь, сталь, дерево, ткань, бумага, кожа; полировка, чеканка, пунцирование, тиснение, гравировка. ГЭ
Как бы то ни было, 31 мая 1824 года «золотых дел мастер Вильгельм Кейбель» заключил с Кабинетом Его Императорского Величества специальное условие на дело для Шаха Персидского Хрустальной кровати, или «дивана с фонтанами», и поставил под документом свою подпись: «J. Wilhelm Keibel».
Прежде всего, следовало «по показанию мастеров Стеклянного завода сделать каркас нижнего основания на стойках из 45 пудов брускового железа так, чтобы все части благодаря выточенным из того же металла связям, винтам и гайкам могли легко соединяться и разниматься». К тому же, чтобы «каркас «на предназначенное употребление действительно был годен», то для прочности и надлежащего укрепления брусковое железо закреплялось внутри крестообразно.
На решётку верхнего основания хрустального ложа ушло 50 пудов более дешёвого полосового железа. Металлический каркас и основание скрыли толстые прямые, гладко отшлифованные непрозрачные стеклянные доски бирюзового цвета, образующие настил под тюфяк, на коем мог нежиться владыка Персии.
Сделанный к 17 марта 1825 года каркас поражал искусностью и точностью работы. Какая же сноровка требовалась, чтобы заключить в него умело сделанные из 10 пудов красной меди фонтанные трубы, соединяемые многочисленными, тщательно подогнанными винтами. Швы затем заботливо пролудили, дабы вода не могла просочиться наружу. Зато её прозрачные струи красиво извергались из дополненных серебром ваз, поставленных на хрустальные постаменты-поддоны. Вазы ослепительно сверкали как алмазной, так и прочими видами грани, причём медные трубки внутри них специально покрыли слоем благородного металла. Стержни железных конструкций, проходящие в хрустальных колоннах и в оформляющих углы, «шлифованных листьями» пьедесталах, также замаскировали посеребрением.
Изогнутые по лекалам из лазоревого стекла боковые доски и три ступеньки, по которым шах взбирался на ложе, аккуратно вмонтировали в листы более мягкой и пластичной зелёной меди. Поскольку нижний ярус поручней исполнили из покрытого сложными узорами прозрачного хрусталя, то в фальцы вложили высеребренные медные прокладки. Всё делалось для того, чтобы железный каркас не был виден, поэтому серебро не только закрывало малейшие швы, но и укрепляло соединения отдельных частей.
Самым сложным как для сотрудников Императорского Стеклянного завода, так и для золотых дел мастера Вильгельма Кейбеля оказалось воплощение в капризном материале фантастических узоров, придуманных Ивановым. Художник преобразовал традиционные пальметки и волюты так, что их сильно видоизменённый рисунок заставлял вспомнить о прославленных Павлиньих тронах. Во всяком случае, силуэт павлина с распущенным хвостом угадывался в резьбе на полукруглой хрустальной пластине изголовья, как и в очертаниях верхних частей поручней просматривался вырезанный из прозрачного хрусталя павлин с длинным свёрнутым серебряным хвостом, искрящийся и переливающийся радужными огоньками.
Уже 15 мая 1825 года директор казённого предприятия Сергей Комаров отправил в Кабинет рапорт о том, что «все принадлежности в заводе сделаны совершенно и сданы серебряных дел мастеру Кейбелю для дальнейшей обработки», и «железный каркас, по которому вся кровать должна быть собрана, отделан со всею прочностью; из серебряных украшений большая часть сделана, и вообще вся работа идёт с желаемым успехом, и потому надеюсь, что к Высочайшему прибытию в Петербург всё будет готово». В середине июня Александр I возвратился из Варшавы в Царское Село, но уже 1/13 сентября государь покинул столицу, направившись, как оказалось, в свою последнюю поездку в далёкий Таганрог. Вряд ли ему довелось полюбоваться на хрустальное ложе, исполненное по его повелению для подарка персидскому шаху. Правда, дивная вещь, согласно очередному рапорту Комарова, датированному 9 сентября, привозилась ко Двору для показа и «поставлена была, готовая во всех частях, сперва в Зимнем, а потом и в Таврическом дворцах».[172]
Хрустальное ложе персидского шаха
Зрелище действительно было великолепным. Голубое покрытие основания «дивана с фонтанами» изящно сочеталось не только с глубокой прозрачностью бесцветного хрустального стекла, но и с ослепительным блеском полированного серебра. Каждую пару поставленных одна на другую «шлифованных листьями и гранями» колонн увенчивала бирюзовая капитель, дополненная обработанным алмазной гранью шаром, перекликающимся с хрустальными гранёными «маленькими вазиками в ногах кровати». Тихо пела вода в семи фонтанах, невольно навевая сладкую истому.
После «вернисажа» драгоценное ложе разобрали и перевезли на Стеклянный завод, чтобы сборку мог видеть и запомнить порядок операций «тот, кто будет отправлен в Персию, а мастер Кейбель обязан подпискою серебро вновь вычистить и уложить в сундук или два, которые и заказаны ему для сего сделать».
Вступивший на престол Николай Павлович сразу крепко взял в свои руки бразды правления. России грозило обострение отношений с шахом из-за разграничения земель, уступленных Персией по Гюлистанскому миру 1813 года. Успешность работы российских дипломатов на Востоке была в прямой зависимости от роскоши преподносимых подарков. Император срочно призвал ко двору князя Александра Сергеевича Меншикова и, зачислив 3 января 1826 года генерал-майора в свою свиту, поручил ему отправиться с дипломатическим поручением к правителю Ирана, а помимо Высочайших Грамот преподнести владыке Полистана, его воинственному сыну Аббас-Мирзе и прочим нужным людям дорогие подарки. К хрустальному ложу монарх велел добавить великолепные пистолеты, роскошную шубу и сорок соболей. Но даже этого показалось мало. В это время на Стеклянном заводе срочно делаются по просьбе Нессельроде «большой овальный поднос, богато выграненный, длиною 1 аршин 9 вершков (почти 110 см), и к оному разных форм хрустальных чаш для варенья и фруктов, сколько примерно можно на сем подносе уместить»; две восьмиугольные, «богато выграненные столовые доски»; до десяти пар корзин и цветников «разных форм отличной отработки», да по полудюжине хрустальных кальянов, подсвечников, чаш и кувшинов «наилучшей отработки в Азиатском вкусе».
Между тем решили отправить хрустальное ложе через Астрахань и Каспийское море в Гилянь, «а оттуда в местопребывание Его Величества Шаха Персидского». Было испрошено предписание Астраханской таможне, «дабы ящики за печатью Императорского Стеклянного завода с вещьми пропущены были без досмотра и пошлин». Сопровождавшим драгоценный груз мастеровым временно придали новый статус, наименовав «Григорья Жирнова мастером, а Ивана Зыкова подмастерьем», а чтобы они не волновались в дальней стороне о своих близких, начальство решило в течение восьми месяцев выделять по сорок рублей на каждое семейство.
Издержки Императорского Стеклянного завода по созданию Хрустального ложа, как выяснилось, составили 16640 руб-лей. И тут просчитался Вильгельм Кейбель, который не привык выполнять сложные слесарные работы из железа и меди, а потому превысил предусмотренную в пятьдесят тысяч рублей смету на громадную по тем временам сумму в 2850 целковых. По условиям же договора мастер не имел права требовать дополнительной оплаты. Чиновники же привыкли беречь государеву казну. К счастью, выручил сам император Николай I, Высочайше повелевший в начале февраля 1826 года «заплатить Золотых дел Мастеру Кейбелю» недостающую сумму.
Наконец, от Министерства иностранных дел 12 февраля прибыл титулярный советник Иван Носков, назначенный начальником экспедиции. Отправляемые вещи уложили в 48 ящиков, запломбировали казенной свинцовой заводской печатью и сдали чиновнику. Под тяжеленные ящики, весившие 517 пудов 7 фунтов, выделили 41 лошадь, причём по тройке выделили Носкову и стекольным мастерам.
Князь Меншиков выехал из Петербурга в Тифлис ещё ранее, 9/21 февраля. А 27 февраля выступили из Петербурга два батальона, сформированные из провинившихся на Сенатской площади нижних чинов Московского и Гренадерского полков, чтобы присоединиться к войскам на Кавказе ввиду близившейся войны с Персией.[173] Дипломат (а на самом деле поручик Генерального штаба) Носков с драгоценным грузом выехал из Петербурга в прекрасный Полистан на неделю раньше, 21 февраля.
На санях путешественники быстро добрались до Рязани. Начиналась весенняя распутица, дороги развезло. На счастье, рязанский гражданский губернатор помог с телегами, и транспорт отправился в Астрахань. И опять незадача. По Волге две недели шёл такой ледоход, что спустить военное транспортное судно на воду смогли лишь 17 апреля. Только 10 мая экспедиция оказалась у персидского берега возле местечка Зинзилей, но только на третий день пришло позволение высадиться на сушу. Местное начальство заявило, что они ничего не знают и будут дожидаться известий из Тегерана.
Наконец, 1 июня 1826 года появился полномочный начальник шахской «артиллерии на верблюдах» Гаджи-Магмет-Хан и тут же занялся постройкой арб «под своз тех тяжестей, которые по величине своей оказались неудобными для навьючивания на лошадей». Заодно вельможа объявил, что шах пожелал увидеть роскошный дар северного соседа в городе Султанин. Под предлогом личного принесения почтения малолетнему шах-заде Аяге-Мирзе дипломату-разведчику Носкову удалось съездить в областной центр Рящ и оценить как укрепления этого места, так и дурную дорогу вдоль побережья, «неудобства которой были главнейшею причиною, препятствовавшею в 1805 году нашему военному отряду овладеть этим городом». Приехавший из Тавриза 21 июня официальный переводчик, тифлисский армянин Шиош, доставил предписание князя А.С. Меншикова следовать в Султанию.
Только 27 июня путешественники погрузились на плоскодонные лодки, чтобы доплыть до селения Менджиль. Тут-то и довелось российским посланцам изведать все «прелести» гилянской земли и схватить лихорадку, так как дневная жара до 35 градусов чередовалась с сильной сыростью и прохладой по ночам, к чему прибавлялись гнилые заразительные испарения от болот. Да и само путешествие искусственно затягивалось хозяевами, почувствовавшими приближение войны с «неверными». В догнавшем титулярного советника Носкова втором предписании князь А.С. Меншиков теперь приказывал из-за переменившихся политических обстоятельств следовать с вещами прямо в Тегеран, не заезжая в Султанию.
В Менджиле задержались на восемь дней, поджидая прибытия из Ряща готовых повозок. Но они оказались такими хлипкими, что при трудном и опасном недельном переходе через горную цепь Хорзан почти полностью изломались. Сопровождающим пришлось большую часть обоза перетаскивать на руках. По прибытии в город Казбин «гяуры» уже по-настоящему почувствовали ненависть мусульманского населения. Чернь била окна, бросала камни и грозила всех умертвить. А однажды «отличился» и сам Гаджи-Магмет-Хан, с кинжалом бросившийся в исступлении на Носкова. Однако, почувствовав, что натолкнулся не на изнеженную руку дипломата, а на железную длань воина, больше таких «вольностей» себе не позволял. По его приказу сопровождающих драгоценные подарки шаху поместили от греха подальше в башню стены одного городишка, стоящего на дороге от Казбина в Тегеран, и там продержали три недели. Истощённые изнурительной болезнью, подвергаемые ежедневно угрозам, ругательствам и насмешкам, они уже почти потеряли надежду возвращения на родину. Поскольку «гостеприимные» персияне любили нагло рыться в чемоданах «неверных», забирая себе понравившееся, Носкову поневоле пришлось уничтожить некоторые опасные предметы, могущие выдать его подлинные интересы. Нужнейшие же бумаги и записки дипломат-разведчик, «разделив на части, сохранил в седле, в платье и внутри других вещей, представившихся к тому удобными».
Важный Гаджи-Магмет-Хан явился только 18 августа, привезя обоз новых повозок. В тот же вечер груз повезли в Тегеран. Из-за сильной жары караван шёл ночами. «Гяуров», настолько обессилевших, что они не в состоянии были держаться в седле, везли в носилках. Наконец, 22 августа прибыли в Тегеран. В течение последующих двух недель оба сотрудника Императорского Стекольного завода и личный слуга Носкова скончались «от усилившейся лихорадки при чрезвычайном кровотечении».
Как раз в эти дни Аббас-Мирза, несмотря на драгоценный подарок, доставленный его венценосному отцу, со своим 120-тысячным войском вторгся в пределы Российской империи и занял Ленкорань и Карабаг. Николай I в полнейшем отчаянии написал своему «отцу-командиру» Ивану Фёдоровичу Паскевичу: «Неужели я так несчастлив, что едва я только коронуюсь, и даже персияне уже взяли несколько наших провинций; неужели в России нет людей, которые бы смогли сохранить её достоинство?»[174].
Об отъезде князя А.С. Меншикова «титулярный советник» И.А. Носков узнал от английского поверенного Вилока, но он, к сожалению, не смог передать в британскую миссию несколько предназначенных для того вещей, все без исключения ящики безвозвратно забрали в шахский дворец. Правитель Тегерана, сын шаха Али-Шах-Мирза, передал руководителю русской экспедиции повеление отца: «избрать во дворце приличное и удобное место для установления привезённой хрустальной кровати», а заодно выучить «двух персидских мастеров искусству составлять и разбирать её».
К счастью, ещё в Петербурге «титулярный советник» Нос-ков сделал зарисовки и составил опись всех частей необыкновенного ложа. Смышлёный поручик не оплошал и «установил многосложную эту вещь, приведя в надлежащий вид все части её, из которых ни одной не было повреждено ни в дороге, ни при собирании». Чудо-кровать вначале была собрана в помещении, примыкающем к парадной аудиенц-зале, пышно именуемой Амафет-Хоршид, то есть «Храмом солнца». Но потом хрустальное ложе установили в шахских покоях дворца Гулистан, прямо напротив палаты с хрустальным бассейном, присланным из России в 1819 году. Принц Али-Шах-Мирза удивлялся совершенству работы петербургских мастеров. Лучшие же придворные персидские мастера, наблюдая сборку и разборку сложной конструкции, единогласно соглашались, что «примера ещё не было столь превосходному произведению в сём роде».
А затем для Носкова потянулись долгие дни ожидания приезда повелителя Персии. Тем временем сменивший Алексея Петровича Ермолова Паскевич нанёс иранским войскам поражение при Шамхоре, а 13/25 сентября одержал блестящую победу под Елизаветполем, за что полководцу довольный монарх пожаловал шпагу с алмазами. Теперь отношение к Носкову переменилось. Поскольку сам шахский сын часто, да ещё часами ласково разговаривал с «неверным», теперь многие из придворных стали наносить визиты представителю русского императора. Отныне Носков, несколько успокоившись, мог прогуливаться за городом и в окрестностях, посещая загородные дворцы и сады шаха. Фатх-Али-Шах прибыл в свою столицу только 2 ноября, но по настояниям придворных астрологов остановился в загородном дворце Негаристане, задержавшись там на 10 дней.
Оказавшись в Гюлистанском дворце, шах тут же осмотрел хрустальное чудо и был удивлён и поражён «при виде вещи, с давнего времени занимавшей его», но «превзошедшей всякие его ожидания». Среди изобилия похвал повелитель сказал придворным: «Поистине великолепная сия вещь есть лучшее украшение моего дворца; я уверен, что и китайский падишах не имеет у себя подобной редкости. Желательно бы знать, на каком ложе покоится сам император российский». Но если бы персидский шах узнал правду, то, без сомнения, весьма бы удивился.
Даже немецкий врач Мартин Мандт, в 1837 году впервые оказавшийся в спальне своей августейшей пациентки, императрицы Александры Феодоровны, был поражён. Сама комната выглядела квадратной, и потолки в ней были «такие же высокие, как в гостиной», а за «кристально чистыми зеркальными стёклами окон» виднелось красивое здание Адмиралтейства. Справа от двери стояла «огромных размеров императорская двуспальная кровать» без балдахина, зато роскошно отделанная бронзовыми украшениями. У её изголовья виднелась узкая походная металлическая кровать с простым волосяным матрасом, покрытым белой льняной простынёй и простым одеялом, а также с кожаной подушкой, набитой каким-то измельчённым наполнителем. Покрывалом же чересчур спартанского ложа русского самодержца служил поношенный, но тем не менее весьма красивый турецкий плед.[175]
В 1853 году ту же стоящую за ширмами простую железную кровать покрывало «белое тканьевое одеяло», а в головах лежала «сафьянная зелёная подушка».[176]
Даже великая княжна Ольга, средняя дочь Николая I, на склоне лет вспоминала, как её отец «любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и по-настоящему ел только раз в день, запивая обед водой». «Он не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты; его единственной страстью была военная служба», а любимой одеждой – мундир без эполет, протертый на локтях от работы за письменным столом. Приходя вечерами к жене, он кутался в старую военную шинель, которая была на нём еще в Варшаве и которой он до конца своих дней покрывал ноги, хотя был щепетильно чистоплотен и менял белье всякий раз, как переодевался. Можно было посчитать роскошью только «шелковые носки, к которым он привык с детства».[177]
Персидский шах вряд ли поверил бы такой скромности могущественного повелителя-соседа. В восторге от присланного ложа он повелел впредь называть аудиенц-залу с дивным русским подарком «Храмом хрустального престола» (Амарет-тахте Булур).[178]
Дабы выразить лично своё удовольствие, он дал аудиенцию Носкову 24 ноября, присовокупив к похвалам о сказочной прелести чудо-кровати, что «редкое это произведение может служить доказательством, до какой степени совершенства доведено в России искусство в отделке хрусталя. Потом долго расспрашивал о заводе, в котором она была делана, припоминая, что имеет уже многие прекрасные изделия его, в разное время от высочайшего двора ему дарованные», и под конец разговора прибавил: «Я не могу равнодушно взирать на все сии доказательства приязненного расположения ко мне императора российского, и с чувством глубокого сожаления представляю себе настоящие с ним мои отношения, против собственного моего желания между нами последовавшие».
На следующий день Носкову принесли подарки от повелителя Персии. Но помня о чести русского офицера, во время военных действий, он не принял присланные дары. Шах принял основательность отказа и в знак благоволения передал русскому дипломату другое пожалование – несколько сотен попавших в плен солдат.
7 декабря Носков откланялся Фатх-Али-Шаху и пустился в обратный путь. Исхудавшие ратники бодро кутались в новенькие дорожные тёплые одеяния. Теперь возвращающихся на родину россиян персияне встречали чрезвычайными почестями и знаками глубокого уважения. Однако подносимые подарки Носков неизменно отвергал.
Ненадолго задержал Носкова в Тавризе воинственный и недобро настроенный Аббас-Мирза. Русского дипломата чуть не арестовали прямо в английской миссии, где он остановился, но пришлось ограничиться приставленным безотлучным караулом. К счастью, вскоре распространились слухи о переходе через Араке военного отряда под командованием князя Мадатова. После двукратной не очень-то ласковой аудиенции, принцу Аббасу-Мирзе пришлось отпустить Носкова не только с пленными русскими солдатами, но и с караваном тифлисских купцов. Правда, двигались «путешественники» теперь не через Карабаг, а к Эривани. Там к покидавшим Персию россиянам присоединились задержанный курьер князя Меншикова и двое пленных солдат, бывших в услужении у коменданта крепости. А тут ещё обильный снег завалил дороги в горах. С чувством глубокой благодарности Провидению дипломат-разведчик Носков 12 февраля 1827 года пересёк границу.
Николай I был очень доволен как исполнительностью Носкова, так и его щепетильностью в отношении к чести русского офицера. Не оставил государь в забвении и освобождение из плена трёхсот солдат. Поэтому титулярный советник, удостоившись награждения орденом Св. Владимира IV степени и премией в 500 рублей, опять очутился на службе в Гвардейском генеральном штабе. Когда же в 1828 году, по заключении Туркманчайского мира с Персией, принц Хозрев-Мирза доставил в Северную Пальмиру среди прочих драгоценных вещей те, которые некогда не принял «чиновник Министерства иностранных дел», император дозволил поручику Носкову забрать тысячу туманов и подаренные шахом шали, а также разрешил «по уставлению» носить пожалованный восточным монархом орден Льва и Солнца.
Паскевич, умело командуя русскими войсками, 1/13 октября 1827 года после недолгой осады овладел Эриванью, за что удостоился награждения орденом Св. Георгия 2-й степени, а через полгода Николай I пожаловал герою графский титул и почётную приставку «Эриванский» к фамилии, причём император распорядился ещё выдать заслуженному военачальнику миллион ассигнациями из персидской контрибуции.[179]
Через несколько лет директору Стекольного завода вручили велеречивое и витиеватое благодарственное послание от шаха, восхищённого изысканными вещами, присланными с дивным ложем: «В то время как вельможный блистательный, благородный наилучший из посланников, подпора старейшин христианских генерал Дюгамель, полномочный министр блистательной Российской Державы, прибыл в небесам подобный шахский чертог наш, принеся с собою в подарок хрустальный прибор с фабрики Его Императорского величества, понравившийся нам по чистоте отделки и блеску своему, узнали мы, что успешность работ этой фабрики принадлежит стараниям Высокостепенного, Высокоместного, благородного, знатного, подпоры вельмож христианских Коллежского Советника Языкова. По силе единодушия между двумя могущественнейшими державами мы считаем обязанностью своею оказать ему наше благоволение и вследствие того жалуем ему орден «Льва и Солнца» второй степени, осыпанный драгоценными камнями. Да возложит он на себя знаки сего ордена и преуспевает в стараниях об устройстве упомянутой фабрики, за сим определяем, чтобы высокостепенные, благородные, знатные приближенные особы императора, главные правители Августейшего Дивана записали смысл сего фирмана в реестры и, храня его от забвения, постоянно принимали его к сведению».[180]
Только бедные вдовы, потерявшие мужей, погибших в персидской командировке, продолжали оплакивать своих кормильцев. Начальство Стеклянного завода помогло им, сохранив их месячное содержание, правда, уменьшив его с 40 до 33,33 рублей. Теперь 34-летней Ольге Васильевне Жирновой и её детям, семилетнему Михайле и трёхлетней Ольге, как и 24-летней Наталье Афанасьевне Зыковой, оставшейся с двухлетней Марьей и с убитой горем престарелой свекровью, определили «производить в пансион по 400 рублей в год каждой по смерть».[181]
Так окончилась история с необычным подарком двух российских государей могущественному повелителю Гюлистана.
Корона императрицы Александры Феодоровны
Коронацию Николая Павловича в Успенском соборе Московского Кремля назначили на 22 августа 1826 года. Однако ещё до наступления Нового года, в декабре, после подавления военного бунта на петербургской Сенатской площади, Иоганн-Вильгельм Кейбель подготовил к грядущей торжественной церемонии большую императорскую корону. Мастер разобрал священную регалию, почистил металл оправы, аккуратно промыл все камни, а затем тщательно собрал драгоценный венец, позаботившись при этом, чтобы нижний ободок достаточно плотно держался на голове нового монарха. Самодержец был доволен: благодаря усилиям ювелира, корона была «очень хороша и великолепна» и «блистала как кусок льду». Вскоре стали выглядеть как новенькие скипетр и держава. Инсигнии императорской власти уже в апреле подготовили к перевозке в Белокаменную. Вместе с ними туда же отправлялись необходимые для расходов и традиционной раздачи собравшемуся восторженно глазеть на древний обряд народу серебряные монеты и золотые червонцы, заботливо упакованные в ящики, обошедшиеся казне в 270 рублей 35 копеек.[182]
Однако ещё не была готова корона для супруги Николая Павловича. Новая государыня не могла воспользоваться венцом своей предшественницы, царицы Елизаветы Алексеевны, покинувшей земной мир 4 мая того же 1826 года в провинциальном городе Белёве Тульской губернии, поскольку её Императорский венец передали на хранение в Кабинет, чтобы сделать «в своё время убор для великой княжны Марии Николаевны»[183], но драгоценная вещь пригодилась и для другого.
Николай I поручил «верному другу своего семейства», князю Александру Николаевичу Голицыну, некогда собственноручно написавшему секретный манифест Александра I о перемене порядка престолонаследия, просмотреть старые документы, касающиеся коронации старшего брата. Царедворец, не откладывая дела «в долгий ящик», доложил новому самодержцу: «Для Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны, ко дню коронования Ея Величества, сделана была от Кабинета в 1801-м году Бриллиантовая корона, которая, по ценам того года на бриллианты, стоила 63 410 рублей».[184] А далее Голицын предлагал: «Ежели Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволит приступить к заготовлению для Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны ко дню священнейшего Ея Коронования такой же точно Короны, то потребные на оную бриллианты употреблены быть могут из имеющихся в Кабинете с небольшой только прикупкою, и по существующим ныне ценам на бриллианты, обойдётся ценою со всеми расходами до 125 000 рублей». Николай, не раздумывая, тут же начертал на докладе Голицына резолюцию: «Быть по сему. С.Петербург, 24 февраля 1826 года».[185] Правда, при создании Малой, или императрицыной, короны из сметы немного выбились, стоимость новой инсигнии составила 132 070 рублей 621/2 копейки.
Как только скопированный, как считается, Иоганном-Вильгельмом Кейбелем с короны супруги Александра I венец для новой императрицы был готов, Николай I устно распорядился о выплате 1137 рублей 90 копеек исполнительному князю Голицыну, отправленному в июле 1826 года в Москву с Императорскими Коронами, для «выдачи прогонных в оба пути и кормовых отряженным с ним для конвоирования четырём кавалергардам и одному унтер-офицеру».[186] Для транспортировки же в Первопрестольную бриллиантовых и золотых вещей, дел и канцелярских припасов специально приобрели сундуки с замками, причём предусмотрены были даже расходы «за укупорку оных и другие мелочи», на что израсходовали 357 рублей 15 копеек.[187]
В июле же 1826 года золотых дел мастер Вильгельм Кейбель исполнил по изустному повелению Николая I позолоченный серебряный кубок весом 4 фунта 58 золотников, то есть без малого почти 2 кг, не забыв о футляре, за что и получил 2171 рубль.[188] Можно предположить, что столь весомый сосуд предназначался для торжественной трапезы в Грановитой палате Московского Кремля, проводившейся в день коронации после священного обряда помазания самодержца в Успенском соборе.
После московских праздников в честь коронации Малая корона поступила в покои Александры Феодоровны вместе с четырьмя булавками, необходимыми для закрепления императорского венца в причёске, а также с использованными при торжественной церемонии бриллиантовыми знаками и золотой цепью ордена Св. Апостола Андрея Первозванного.[189]
Более трёх десятилетий «маленькая бриллиантовая корона» служила своей владелице, а когда хозяйка 20 октября 1860 года скончалась, корона 16 февраля 1861 года была передана на хранение в Кабинет Императорского Двора. Спустя три года драгоценный венец разобрали, алмазы потребовались на создание других вещей.[190]
О кресте с коронационного венца Николая I
У отрекшегося от престола цесаревича Константина Павловича никакого желания присутствовать на коронации младшего брата не было. Тем не менее, ему пришлось приехать в Москву для участия в пышных торжествах, чтобы весь народ мог убедиться в том, что отказ от трона был действительно его добровольным выбором, его решением. Генерал-адъютант Бенкендорф вспоминал: «Во время священного обряда и утомительных его церемоний цесаревич тронул всех нежной попечительностью об императрице; а минута, в которую старший брат принял шпагу от младшего, приступившего к св. причастию, извлекла у всех слезы. При выходе из церкви бесподобное лицо государя под драгоценными камнями императорской короны сияло красотой. Молодая императрица и наследник возле императрицы-матери также обращали на себя взоры всех. Нельзя было создать воображением более прекрасного семейства».[191]
Однако после торжественной церемонии мастеру Кейбелю пришлось тем не менее провести небольшую реставрацию императорской короны.
Как вспоминал на склоне лет московский обер-прокурор и поэт Михаил Александрович Дмитриев, он, будучи в 1826 году камер-юнкером и присутствуя по долгу службы с другими придворными в Успенском соборе, увидел, что миропомазанник, когда после завершения священного ритуала «бросился обнимать Константина Павловича (а его было за что благодарить), чем-то зацепился за его генеральские эполеты, и насилу могли расцепить их!» Это «что-то» оказалось крестом, увенчивающим корону и оказавшимся в результате не совсем удачной операции распутывания августейших особ «погнувшимся набок». Странным показалось мемуаристу, что символ святыни венца нечаянно пострадал от цесаревича, кому Николай I, его младший брат, был обязан именно короной. К тому же выяснилось, что в этом злосчастном кресте, состоявшем «из пяти больших солитеров, основный, самый нижний камень выпал, и весь крест держался только на пустой оправе». Тогда случившееся посчитали дурным предзнаменованием, и Дмитриев, вспоминая через четыре десятилетия сей казус, комментировал в конце 1860-х годов, что «подлинно всё царствование Николая Павловича было без основного камня; благодаря его правлению, государство пошатнулось, оттого и теперь оно почти на боку».[192]
Как ни забавно, но казус с императорским венцом, произошедший на коронации Николая I, нашёл продолжение в истории реставрации иконы «Святой Николай и Святой Александр Невский», исполненной в конце 1820-х годов. На иконе восседающий на облаках Христос Пантократор благословляет небесных угодников-предстателей обоих сыновей императора Павла I, царствовавших на русском престоле. По правую руку от алтаря стоит в пышной одежде с палицей архиепископ Николай Мирликийский с Евангелием в левой руке. Святой покровитель Петербурга, Александр Невский, закованный в кольчугу и латы, с мечом у пояса, касается алтаря десницей с зажатым в ней жезлом. Своим жестом великий князь как будто указывает на лежащую корону напоминая, что Александр I передал трон младшему брату Николаю.
Павел Кудряшов. Икона «Святой Николай и Святой Александр Невский». СПб., 1820-е гг. Дерево, темпера, серебро, позолота, чеканка, чернь, резьба, канфарение. 54 × 53 см. ГЭ
Петербургский мастер Павел Кудряшов (1788–1872) поработал на славу. Серебро иконы великолепно проработано резьбой. Кажется, что струится богато вышитая ткань одежд Св. Николая, а стоящий на узорчатом полу алтарь покрыт мягкой, собирающейся красивыми складками скатертью со свисающей внизу бахромой. Мех горностаевой мантии великого князя, пройденной чеканом-канфарником, оставляющим лёгкие точечные вмятинки, выглядит пушистым, а аккуратные вкрапления черни придают доспехам Александра Невского вид стальных. Чернь применена и в пояснительных надписях. Но (увы!) слой позолоты оказался тонковат. Поэтому, когда икону расчищали от загрязнений, его протёрли до серебра. При этом от рук неумелого «реставратора» пострадала и корона: венчающий её накладной крест оказался лежащим на боку и сдвинутым в сторону, а яблоко под крестом и вовсе исчезло.
Табакерка с «секретом»
Как для коронации Николая I, так и впоследствии петербургские ювелиры создали много табакерок, дополненных портретом или вензелем этого самодержца. Исполняя заказ императора, Иоганн-Вильгельм Кейбель украсил крышку золотой, прекрасно отполированной табакерки «с секретом» искусно исполненным лавровым венком, окаймляющим выбитую на Петербургском Монетном дворе по проекту Владимира Ефремовича Алексеева медаль на коронацию третьего сына Павла I. Медаль же скрывает под собой сердоликовую камею с портретом Александра I в чёрной эмалевой рамке с надписью «Наш Ангел в небесах»,[193] поскольку этими, переведёнными с французского словами, ставшими крылатыми, начиналось послание императрицы Елизаветы Алексеевны к свекрови с горестным известием о кончине в Таганроге дражайшего супруга (см. рис. 8 вклейки).
Отнюдь не случайно запечатлел для Истории на гемме черты лица императора-предшественника именно Иван Анфимович Шилов (1783/8–1827). Ещё учась в медальерном классе Академии художеств, скромный подросток, присланный из Екатеринбурга, поражал большими способностями и редким трудолюбием. С 1808 года И.А. Шилов начал трудиться на Петербургском Монетном дворе, а через два года ему за вырезанный на стали портрет Александра I присудили звание академика. Во время Отечественной войны 1812 года художник, зачисленный сотенным командиром XVI дружины Петербургского ополчения, попал в апреле 1813 года после неравного боя под Нерунгой в плен, где пробыл до ноября, пока Данциг не был взят русскими войсками. Но и в плену мастер не сидел сложа руки. Восковые портреты начальника и генералов Данцигского гарнизона, исполненные И. А. Шиловым, позволили улучшить положение русских военнопленных. После освобождения медальер продолжал воевать в IV сводной дружине Ополчения вплоть до её роспуска в июне 1814 года, а затем сразу вернулся на столичный Монетный двор, успешно сочетая с работой преподавание в медальерном классе своей бывшей aima mater. В августе 1820 года И.А. Шилов перешёл на Петергофскую шлифовальную мельницу, где спустя четыре года стал её главным мастером, но горловая чахотка вскоре унесла талантливого художника в мир иной.
Ещё при жизни он прославился портретными изображениями Александра I на своих медалях. Современники, не говоря уже о медальерах последующих поколений, считали их наиболее схожими и достоверными и видели в них образец для воспроизведения. Сохранились свидетельства современников, что И. А. Шилов делал предварительные наброски, подмечая характерные особенности облика венценосца во время богослужений в соборе Зимнего дворца, стоя на хорах и стараясь оставаться при этом незамеченным.
Вырезая из твёрдого сердолика голову Александра I, мастер, уподобившись скульптору и убирая всё лишнее, как и в медалях, умело подчеркнул благородство её формы и чуть заметно исправил «непропорционально мелкие в натуре черты лица» самодержца,[194] которому своим восшествием на трон Николай I был гораздо более обязан, нежели цесаревичу Константину Павловичу.
Императрица Александра Феодоровна вспоминала, как в бытность её пребывания с супругом в маленьком домике во время манёвров в Красном Селе в 1819 году Александр I, «отобедав однажды у нас, сел между нами обоими и, беседуя дружески, переменил вдруг тон и, сделавшись весьма серьезным, стал <…> говорить нам, что он остался доволен поутру командованием над войсками Николая и вдвойне радуется, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, так как на него со временем ляжет большое бремя, так как Император смотрит на него как на своего наследника, и это произойдет гораздо скорее, нежели можно ожидать, так как Николай заступит его место ещё при его жизни.
Мы сидели словно окаменелые, широко раскрыв глаза, и не были в состоянии произнести ни слова. Император продолжал: „Кажется, вы удивлены, так знайте же, что брат Константин, который никогда не помышлял о престоле, порешил ныне, твёрже чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомкам. Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностях и удалиться от мира. Европа теперь более чем когда-либо нуждается в Государях молодых, вполне обладающих энергией и силой, а я уже не тот, каким был прежде, я считаю долгом удалиться вовремя“. <…> Видя, что мы готовы разрыдаться, он постарался утешить нас и в успокоение сказал нам, что это случится не тотчас и, пожалуй, пройдёт еще несколько лет прежде, нежели будет приведён в исполнение этот план».[195]
Памятная табакерка «с секретом», сделанная Иоганном-Вильгельмом Кейбелем, удостоилась чести попасть в Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, перестроенного и расширенного при Николае I.
Вечером 17 декабря 1837 года начался пожар в Зимнем дворце. Пламя бушевало более тридцати часов. Зналось полностью отстоять Эрмитаж и вынести большую часть убранства, однако дивные интерьеры императорской резиденции стали добычей огня. Спасённые коронные бриллианты и прочие драгоценности после недолгого их пребывания в кладовой бриллиантовых вещей Кабинета оказались в Собственном Аничковом дворце, откуда 30 июня 1839 года их перевезли в отстроенный Зимний дворец и поместили под расписку камер-фрау императрицы Александры Феодоровны в Бриллиантовую комнату, располагавшуюся по старинному обычаю (чтобы Бог хранил сокровищницу) над Малым (Сретенским) собором, где ныне находится библиотека отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.
Там их видела леди Блумфильд, записавшая 2 июня 1846 года в своём дневнике: «Мы осматривали <…> императорские регалии, которые сохраняются в стеклянных ящиках. <…> и в этой же комнате хранятся великолепные ожерелья, серьги и уборы из изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчуга, отделанных бриллиантами; словом, почти все драгоценности, кроме тех, которые императрица увезла с собою в Италию».[196] Те украшения, которые можно было надевать, супруги самодержцев забирали обычно к себе в стоящие в спальне застеклённые шкафчики, под присмотр доверенной камер-фрау. Недаром одна из Екатерининских институток вспоминала, как после успешно выдержанного экзамена ей с подругами показали Зимний дворец, а в опочивальне супруги Николая I «заставили обратить внимание на великолепнейшие брильянты в коронах и парюрах в стоящих по углам витринах».[197]
Да и Мандт, врач царицы Александры Феодоровны, восторженно описывал «пять или шесть ларцов», надёжно прикрытых крышками из толстого стекла, позволяющего ясно видеть «их содержимое, даже предметы величиной с крошечные головки булавок». В ближайшем к кровати хранилось «множество больших бриллиантов. Там же около сотни отдельных бриллиантов, уложенных один за другим, наименьший – по размеру с фундук. Эти сверкающие бриллианты предназначались для украшения платья, причёски или шеи императрицы. Кто бы отважился подсчитать стоимость содержимого этого ларца?». В другом «ослепляло собрание миниатюрных, трудно различимых жемчужин, ценность которых была очень высока. Со всех концов мира, самые редкие и прекрасные сокровища морей повергались к стопам красавицы императрицы. В следующем ларце притягивали внимание «опалы, рубины, изумруды, сапфиры и бирюза», украшающие дивные гарнитуры, состоящие каждый из тиары-диадемы, серёг, ожерелья, броши и браслета.
Остальные витрины заполняли всевозможные браслеты, которых у супруги Николая I было около пятисот. Августейшая владелица ценила их отнюдь не за стоимость, «а за связанные с ними личные воспоминания». Доктор Мандт часто заставал свою высокопоставленную пациентку «склонённой в задумчивости над ларцами с драгоценностями, будто бы перелистывающей страницы своих кратких дневников. Вероятно, в такие моменты она предавалась воспоминаниям о прошлых днях».[198]
Поручив в 1838 году мюнхенскому архитектору Лео фон Кленце разработку проекта здания для публичного музея, что значительно увеличивало экспозиционные площади под сокровища частного собрания российских императоров, Николай I решил, что в связи с частичной перестройкой кваренгиевского здания необходимо расширить и Бриллиантовую (или Алмазную) комнату Эрмитажа.
Самодержец и его супруга уже в 1839 году лично пересмотрели драгоценные раритеты 2-го отделения Эрмитажа, а в следующем году императрица даже забирала ненадолго к себе какие-то «бриллиантовые вещи». Чтобы обеспечить безопасность сокровищ Алмазной комнаты Эрмитажа, их первоначально перенесли в фойе Эрмитажного театра, а в 1844 году «действительному статскому советнику Лабенскому» поступило даже предписание «относительно постановки в двух окнах, в переходе из Большого Эрмитажа в театр, где хранятся драгоценности, железных ставень и содержании дверей в этом переходе запертыми».
Наконец в 1847 году Николай I повелел коллекцию ювелирных изделий разместить в примыкающей к Павильонному залу половине восточной галереи Малого Эрмитажа, отчего та, как и сама предполагаемая экспозиция, получили название «Галлереи драгоценных вещей Императорского Эрмитажа». Уже в следующем году туда поступили «с препровождением» предметы, отобранные «Государем Императором из числа старинных, хранящихся в кладовой Кабинета».[199]
Дошла очередь и до коронных бриллиантов. Просмотрев их, Николай I решил давно уже не употребляемые аксессуары костюма (то есть те предметы, которые стало невозможно носить, а уничтожить их, переделывая на новые, более модные, было жаль) передать в Эрмитаж. Они поступили туда двумя большими партиями. Отобранные «золотые вещи без бриллиантовых украшений» препроводили в музей в 1849 году через обер-гофмаршала графа Андрея Петровича Шувалова».[200]
Гay Э.П. Кабинет императрицы в Новом Эрмитаже. 1856 г.
Что же касалось унизанных ослепительно сверкающими алмазами и прочими великолепными самоцветами подлинных шедевров ювелирного искусства, некогда принадлежавших к уборам российских монархов, то их под расписку передали непосредственно хранителю готовящейся экспозиции – барону Бернгарду Кёне, и тот разместил коллекцию изысканных ювелирных вещей в одном из залов на втором этаже Нового Эрмитажа.
Там по распоряжению Николая I, обожавшего свою хрупкую жену, устроили комнату, обставленную удобной мебелью, чтобы уставшая от созерцания музейных сокровищ императрица могла отдохнуть и заодно полюбоваться изяществом керченских античных золотых украшений и роскошью любимых мемориальных коронных вещей.
После смерти царицы Александры Феодоровны осенью 1860 года интерьер вскоре переделали: на стенах появились Палатинские фрески школы Рафаэля, привезённые из Италии, а блистающие бриллиантами предметы, убранные из этого зала, наконец-то вписали в инвентарь Галереи драгоценных вещей, и они уже не формально, а по-настоящему стали частью её экспозиции.
По повелению Николая I в Московском Кремле близ Боровицких ворот в 1844–1851 годах архитектор Константин Андреевич Тон возвёл новое здание под сокровища Оружейной палаты, поскольку старое, построенное по проекту архитектора Ивана Васильевича Еготова в 1808–1810 годах на месте дворца Бориса Годунова, стало неудобным и тесным для «Палатских достопримечательностей». Отныне мастера-ремесленники получили возможность в просторных музейных залах основательно знакомиться с работами своих предшественников.
Платиновая табакерка с золотым узором
При слове «платина» сразу вспоминаются лихие испанские конкистадоры, искавшие золото в захваченной ими Колумбии. Промывая прибрежные пески на американских реках Пинто и Тинто, предприимчивые старатели вместе с вожделенным благородным металлом находили другой, очень похожий на серебро, но гораздо тяжелее, да вдобавок упорно не поддающийся обработке и плавлению, из-за чего его ценили вдвое дешевле драгоценного собрата. По-испански серебро – «плата», и новый металл окрестили презрительно-уменьшительным существительным «платина», означающим «серебришко». Когда случайно выяснилось, что платина прекрасно сплавляется с более лёгким по весу золотом, фальшивомонетчики первыми оценили выгоду, и в испанскую казну потоком потекло платинированное «подделанное» золото. Чтобы избавиться от чрезвычайно нежелательной примеси, портящей золото, король Филипп V издал в 1735 году указ, в соответствии с которым повелевалось тщательно отделять «серебришко» от благородного металла, а затем под надзором королевских чиновников топить эту самую «платину» в самых глубоких местах реки Пинто, из-за чего та сменила своё привычное название Рио-дель-Пинто на Платино-дель-Пинто. Оказавшееся в Испании гадкое «сребрецо» прилюдно и торжественно бросили в пучину моря. Всего потопили около четырёх тонн платины, пока в 1778 году Карл III не отменил запрет на её ввоз ради тайной экономии золота в чеканившихся на монетном дворе королевских луидорах, в которые стали добавлять тяжёлую платину.
Однако испанцы так и не смогли узнать секрет древних инков. А те ещё до открытия Америки Христофором Колумбом умели обрабатывать «чумпи». Могущественный индейский вождь Монтесума ещё в 1520 году прислал в подарок испанскому королю Карлу V отлично отполированное платиновое зеркало. Однако лишь в XX веке археологи, нашедшие изумительные старинные изделия из своеобразного золото-платинового сплава, подчас с примесью серебра, восстановили технологию их создания. Выяснилось, что инки, нагревали паяльной трубкой помещённую на кусок древесного угля небольшую порцию зёрнышек платины, смешанных с золотой пылью. Окружённый расплавившимся золотом, спёкшийся кусочек платины неоднократно проковывался при очередном нагревании, что превращало его в практически однородный сплав серебристого цвета, но теперь поддающийся ковке, чеканке и прочим способам обработки металла.[201]
Как ни странно, «непокорная платина» была известна ещё в Древнем Египте, куда её привозили из Эфиопии. Античные греки и римляне знали белый ковкий металл из Иберии, имеющий в брусках «вес золота», но называли его «белым свинцом».[202]
Секрет обработки платины в России удалось в 1797–1800 году раскрыть Аполлосу Аполлосовичу Мусину-Пушкину вице-президенту Берг-коллегии и почётному члену многих иностранных академий наук. В растворённую в царской водке платину добавляли нашатырь, а полученный осадок неоднократно промывали, прокаливали и вываривали в соляной кислоте, чтобы убрать нежеланные примеси. Платиновый порошок растирали с ртутью до состояния амальгамы, выдавливали затем в деревянных формах деревянными штемпелями, после чего эти «футляры» сжигались, а превращённая в бруски платина, несколько раз прокаливавшаяся, приобретала «твёрдость и звонкость металлическую», а при осторожной ковке приобретала нужную плотность. Подготовленную таким способом платину можно было ковать с теми же предосторожностями, что и привычное серебро.[203]
В 1819 году на Урале, недалеко от Екатеринбурга, нашли отечественную платину, а через пять лет поисковая партия под руководством Н.Р. Мамышева, начальника Гороблагодатских заводов, обнаружила на реке Орулихе богатейшую россыпь нового металла да ещё со скромным количеством золота, пышно названную Царёво-Александровской. Теперь над платиной, переданной в лабораторию Кушвинского завода, начал колдовать талантливейший инженер Александр Николаевич Архипов (1788–1836), выпускник петербургского Горного кадетского корпуса. Воспользовавшись методиками французских и немецких химиков, ему удалось, убрав из самородного металла сначала все излишние примеси с помощью добавки мышьяка, а затем, подвергнув отжигу сплав, получить платину, подвергающуюся проковке, из которой сделал шестерёнку, кольцо, чайную ложечку, колечки и прочие мелкие поделки. Но на этом инженер-химик не остановился. Неугомонный исследователь начал эксперименты по добавке платины к меди и железу.[204]
Особенно выигрышной оказалась платинистая сталь, не случайно прозванная «алмазной», так как, «будучи выточена и закалена, без отпуска, она резала стекло, как диамант, рубила чугун и железо, не притупляясь».[205]
Архипов придумал исполнить из самого первого «намыва» платины изящную вазочку-чернильницу, высотой в 17,5 см для отсылки в Петербург. Тут ему пригодилось и недолгое пребывание на казённом Локтевском заводе, где тщательно вытачивали по присланным из Петербурга проектам восхитительные вещи из местных цветных камней, дополняемые потом уже в столице бронзовым декором. Во всяком случае, заведующий лабораторией Кушвинского завода воспользовался, отчасти переработав, понравившимся эскизом, по которому вполне могли в самом начале XIX века исполнить две парные вазы из красного порфира.[206]
Создатель необычной вазочки задумал в одной чернильнице соединить богатства Урала, славного платиной, золотом, медью, а особенно железом, из которого выплавляют чугун и сталь.
С полуяйцевидным, кажущимся матовым, платиновым туловом контрастирует подпирающий его изящный «воротничок» из аккуратно вырезанных из воронёной стали листочков, нахлобученный на тонкую ножку, так великолепно отполированную, что голубоватые блики пробегают по её поверхности, раскрывая всю красоту стали. Плоская крышка с конусовидным выступом в центре исполнена также из привычно серебристой, не менее ослепительно обработанной, скорее всего, «алмазной» стали. Конус завершает целая композиция, выполненная из золота: в пучок листьев заключён трубчатый цветок, в сердцевинке таящий изящно проработанную чешуйчатую шишку. Дивная «вазочка» закреплена на элегантном постаменте-плинте, вероятней всего, исполненном из платинистой красновато-фиолетовой меди с голубыми пятнами, украшенном тонко гравированной пространной надписью, напоминающей о месторождении российской платины: «Царево-Александровский Рудник / Обретен 1824 г. августа 30 дня / Гороблагодатские Заводы / Кушва».
Чернильница. 1825 г. Платина, золото, сталь; чеканка, гравировка, полировка, воронение. Высота 17,5 см, диаметр чаши 6 см. ГЭ
Конечно же, самодержец был приятно поражён, что платину, которую он держит в руках, нашли именно в день его тезоименитства, когда повсюду отмечался праздник Св. Александра Невского.
Императору Александру I настолько понравился элегантный подарок, присланный от уральцев, что 16 февраля 1825 года он повелел передать «чернилицу» на вечное хранение в Эрмитаж.[207]
Уже в 1828 году на Урале добыли почти 1600 кг платины. Однако промышленность в ней пока не нуждалась, а ювелиры брали лишь по 1–2 кг в год. Слишком уж строптивым оказался похожий на серебро металл. Ведь в то время ни одна из существовавших плавильных печей не могла нагреть платину до её температуры плавления в 1773,5 С°.
Теперь помог своими исследованиями петербургский инженер П.Г. Соболевский, основатель «Соединённой лаборатории Департамента горных и соляных дел, Горного кадетского корпуса и Главной горной аптеки», получавший по повелению Николая I сверх жалованья, «доколе на службе пребывает», по 2500 рублей в год «в примерное вознаграждение».[208] Благодаря его изысканиям в России с 1828 по 1845 год успели отчеканить из 899 пудов 30 фунтов (почти 15 тонн!) платины монет, достоинством в 3,6 и 12 рублей, на сумму в 1,4 миллиона.
Долго не давалась платина ювелирам. Но вот табакерку из неё 30 июня 1829 года, накануне берлинского праздника «Белой Розы», преподнёс русской императрице Александре Феодоровне прусский мастер Иоганн-Генрих «Госсауэр» (Хоссауэр), за что удостоился от неё получения золотых часов стоимостью в 300 рублей.[209] В то время маститый придворный ювелир прусского короля уже располагал собственной «Фабрикой изделий из платины, золота, серебра, бронзы, позолоченной и серебряной меди в английском вкусе», и его работы пользовались большой популярностью не только на родине, но и далеко за её пределами.[210]
Вскоре и Иоганну-Вильгельму Кейбелю удалось освоить непокорное «серебришко», секретом обработки которого в середине XIX века владел ещё только петербургский мастер Жан Берель. Прибыл он в Петербург из Франции в 1800-е годы, вписался в цех мастером золотых дел и ювелиром. Считался одним из лучших мастеров Петербурга и первым, кто освоил работу в платине. Своему ремеслу он выучил сына Арманда, получившего в 1832 году статус подмастерья, а вскоре на законных основаниях вступившего в иностранный цех золотых дел мастером Армандом Берелем. Обычно Жан Берель выгравировывал на своих изделиях: «BEREL A S-t PETERSBOURG». В 1838 году исполнил кофейник и молочник для Аничкова дворца, а в 1841 году создал из платины для императорского охотничьего сервиза 13 ложек и баночек для горчицы.[211]
В мастерской Иоганна-Вильгельма Кейбеля из этого серебристого металла делали прелестные табакерки, дополняемые сложным накладным орнаментом из золота.[212]
Такова прямоугольная коробочка, отмеченная клеймом мастера и, судя по рокайльным мотивам, исполненная в 1840-е годы (см. рис. 10 вклейки). Выпуклый золотой «кружевной» узор красиво выделяется на серебристом фоне. На передней стенке играет парочка шаловливых амуров, причём один из них сокрушает твердыню, вероятно, каменного сердца. На боковой же виден павлин – птица царицы богов Юноны. Ревнивая супруга «тучегонителя» Юпитера весьма неодобрительно относилась к многочисленным романам своего благоверного и жестоко мстила пассиям неверного мужа-громовержца. Поэтому можно предположить, что на дне табакерки, где среди пейзажа с каким-то волшебным замком возлежат пасущиеся коровы, стоящая в некотором отдалении одинокая белоснежная рогатая красавица – это несчастная царевна Ио. Правда, до полного сходства не хватает стоглазого Аргуса. Но ведь бедный Аргус пал жертвой коварства бога Меркурия: хитрый покровитель торговли и изворотливых торгашей усыпил чересчур бдительного стража нежными звуками лиры, а затем лишил головы. Разъярённая же Юнона поместила все очи верного великана, погибшего при исполнении служебных обязанностей, на длинный роскошный хвост павлина, и они превратились в восхитительные «глазастые» радужные пятна, украсившие красавицу-птицу.
На крышке табакерки весьма романтично запечатлена сцена из другого мифа. На пригорке под деревом крепко заснула усталая охотница, сжимающая в левой руке копьё. Рядом с хозяйкой свернулась верная собака. Другая же девица, склоняясь над спящей, нежно поглаживает кудри хотя и воинственной, но обольстительной прелестницы. Скорее всего, перед нами Каллисто, спутница богини охоты Дианы, и подбирающийся к восхитительной нимфе волокита Юпитер, принявший для обмана вожделенной добычи вид её целомудренной патронессы.
Табакерка поражает тщательностью выполнения пунцирования платины и золота, чтобы многочисленные ровные ямки от чекана-«пуансона» придали металлу нужную бархатистость. Что уж говорить об удивительном искусстве умелой чеканки, тончайшей гравировки и ослепительно блестящей полировки.
Шпага «За храбрость» с бриллиантами и изумрудами для младшего брата Николая I
Николай I не переставал заказывать Кейбелю самые разнообразные вещи. По изустно выраженной воле государя мастер исполнил в ноябре 1826 года «две серебряные сабли с поясами и темляками для Киргизского Султана Аллия и старшины Санамакова», обошедшиеся в 1080 рублей.[213]
Вероятнее всего, именно Вильгельм Кейбель исполнил в 1831 году наградное бриллиантовое оружие для великого князя Михаила Павловича, командовавшего тогда Гвардейским корпусом, с большим трудом сражавшимся с восставшими поляками. Золотая шпага с бриллиантами и лавровыми венками из изумрудов, да ещё с надписью «За храбрость», выполненной из золотых букв, должна была стать чудом искусства оружейника и ювелира. И работа закипела. Уже 20 мая Министр Императорского двора кн. П.М. Волконский просил доставить ему «в непродолжительное время» лучший булатный клинок работы Златоустовской фабрики. Таковой, ценою в 20 рублей, обнаружили в музее Горного кадетского корпуса. Но вскоре от него отказались, поскольку металл выглядел слишком просто. Наградной шпаги оказался достоин лишь клинок, стоивший 300 рублей. Ослепительно сверкали бриллианты на дужке и ободках эфеса. Лавровые веточки, искусно исполненные зелёной эмалью, обвивали серебряную ручку эфеса, упиравшуюся в золотую чашку, выглядевшую изнутри восхитительно. На каждой из её половинок восседал усыпанный алмазами двуглавый орёл Российского герба, его приподнятые и полураспущенные крылья прекрасно вписывались в чашку, в левой лапе он сжимал перуны, а в правой держал изумрудный лавровый венок. Возле рукояти изгибалась вырезанная на золоте надпись «За храбрость».
Ради создания этого великолепия мастер золотых дел отобрал из закромов Императорского Кабинета почти на 27 000 рублей бриллиантов и изумрудов, нужных для декора. Николай I желал, чтобы оружие было достойно младшего брата императора. Он даже повелел поставить на верх затыльника шпаги объёмный бриллиант-солитер, определив стоимость изделия от 20 до 30 тысяч рублей.
В результате общая цена бриллиантовой шпаги для великого князя Михаила Павловича, законченной в августе 1831 года, достигла почти 45 тысяч рублей. По желанию счастливого обладателя столь престижной награды, она не была отправлена на поле военных действий в Польшу, а дожидалась своего порфирородного владельца в Петербурге.[214]
Искусному придворному ювелиру доводилось и дальше выполнять для Двора самые разнообразные работы: от реставрации оружия, хранившегося в личной коллекции Николая I в Царскосельском Арсенале[215] до оправки в 1841–1846 годах в золото резных камней из коллекции Императорского Эрмитажа для удобства их экспонирования и хранения.[216]
Навершие для скипетра российских императоров к коронации Николая I на польский престол
Когда с помощью Екатерины II на польский трон был возведён Станислав-Август Понятовский, соседняя славянская держава, оплот католицизма, фактически стала вассалом Российской империи, а после третьего раздела в 1795 году и вообще перестала существовать как государство, будучи поделена между Россией, Пруссией и Австрией. Несчастному королю ничего не оставалось делать, как отказаться от престола. Однако его бывшая возлюбленная намеренно не стала принимать титул польской королевы, объясняя это тем, что, поскольку, как и при предыдущих разделах, присоединяла некогда утраченные земли древнерусских княжеств, возвращая их тем самым России, то теперь только довершила начатое.[217]
Её обожаемому внуку Александру, воспитанному Лагарпом в республиканском духе, не по душе была расправа с вольнолюбивой Польшей, но своё возмущение, пока он сам не оказался на императорском престоле, приходилось тщательно скрывать.
По Тильзитскому договору Наполеон провозгласил захваченные им польские территории Пруссии великим герцогством Варшавским, назначив туда управителем своего вассала, саксонского короля Фридриха-Августа I Веттина, возобновившего в 1807 году польский орден. На Венском конгрессе победитель Бонапарта смог вернуться к юношеским мечтаниям, и Адам Чарторыйский, искренне восхищаясь своим державным другом Александром I, писал, что «его твёрдость и непоколебимость относительно Польши служат для меня предметом удивления и уважения. Все кабинеты против него; никто не говорит нам доброго слова, не помогает нам искренно».
Лишь 20 апреля (Змая) 1815 года были подписаны трактаты между Россией, Австрией и Пруссией, и отныне герцогство Варшавское почти целиком присоединено к России под наименованием Царства Польского. Александр I теперь смог спокойно сказать графу Михаилу-Клеофасу Огинскому, президенту польского сената, а также великолепному писателю и музыканту, автору знаменитого полонеза «Прощание с родиной»: «Я держу моё слово и исполняю все мои обязательства как честный человек, для которого обещание стоит клятвы. <…> Я создал это королевство и создал его на весьма прочных основаниях, потому что принудил европейские державы обеспечить договорами его существование».
9 (21) июня Варшава торжествовала, присягая в верности своему государю и данной им конституции, а все общественные здания украсили знамя и Белый Орёл польского герба.[218] Правда, как поговаривали между собой магнаты, после торжественной церемонии самодержец, сменив синий мундир на русскую военную форму, изволил произнести: «Сыграв комедию, актёры сбрасывают костюмы!»[219]
Однако, доверив власть в новом царстве Польском своему брату, цесаревичу Константину Павловичу, Александр I прекрасно осознавал, что столь большую территорию содержать слишком накладно, а поэтому, может быть, стоит превратить Польшу в независимое государство наподобие Речи Посполитой, сделав его форпостом против Западной Европы и объединив его лишь унией с Российской империей. Для безопасности на западной границе империи с севера до юга планировалась цепь военных поселений, отчасти напоминавших казацкие станицы. Самодержец намеревался восстановить Великое княжество Литовское, объединить его с Царством Польским, присоединив к ней территории, отошедшие в конце XVIII века к России по разделам Польши. Во всяком случае, 8 февраля 1816 года Александр I подписал закон «Об определениях в Виленской губернии и в других губерниях исправников и заседателей земских судов по выбору дворянства». Казалось бы, весьма справедливый указ, так как местные чиновники, зная особенности и чаяния населения своей губернии, гораздо лучше могли исполнять свои обязанности. Однако на русско-польских землях с 12-милионным населением существовало численное превосходство шляхтичей, а поэтому суд и расправа велись бы поляками.
Этого не могли допустить аристократы-государственники. Их категорически не устраивало то, как император-самодержец хочет отдать уже ставшие российскими земли прежним владельцам-полякам, да ещё пообещав освободить крестьян от крепостной зависимости. Такая политика их вовсе не устраивала. Недаром М.Ф. Орлов и М.А. Дмитриев-Мамонов, чьи родные получили от Екатерины II большие земельные наделы при разделах Польского королевства, организовали тайный «Орден русских рыцарей» с уставом, основанным на клятвах, предусматривающих слепое повиновение старшим в иерархии, беспощадное применение при расправе над жертвами суда не только насильственных методов, но и смертоносных кинжала или яда. А 9 февраля, на следующий же день после выхода указа Александра I, собрались С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, А.Н. Муравьёв и создали тайный «Союз спасения», иначе называвшийся «Обществом Истинных и верных сынов Отечества», поскольку те, как и члены «Ордена русских рыцарей», отныне храбро обязывались «греметь против диких учреждений».
Между тем Александр I продолжал дольше воплощать свои планы по восстановлению Польши фактически в границах Речи Посполитой. 1 июля 1817 года создан особый Литовский корпус для служения в нём сорока тысяч уроженцев Виленской, Гродненской, Минской, Волынской и Подольской губерний, а также Белостокского округа. В этот полк откомандировывались и русские гвардейцы, имевшие в перечисленных землях поместья. Мало того, воины корпуса обмундировывались по польскому образцу, и герб его также оказался необычным: на груди двуглавого российского орла вместо Святого Георгия, поражающего копьём змия, разместился заимствованный с государственного герба Литвы так называемый «погонь» – всадник с мечом в деснице. Русские военные были в ярости, особенно негодовал генерал-майор М.Ф. Орлов. Появились предположения, что самодержец готов воплотить свои планы в жизнь на очередном сейме в 1818 году. Тогда члены «Союза спасения», собравшиеся в Москве в 1817 году, незадолго до намеченного события, решили упредить нежелательные действия Александра I. Завесу тайны над случившимся тогда в Белокаменной, приоткрыл А.С. Пушкин в сохранившихся XIV и XV строфах написанной болдинской осенью 1830 года Десятой главы своего романа в стихах «Евгений Онегин»:
Витийством резким знамениты, Сбирались члены сей семьи У беспокойного Никиты, У осторожного Ильи… Друг Марса, Вакха и Венеры, Тут Лунин дерзко предлагал Свои решительные меры И вдохновенно бормотал. Читал свои ноэли Пушкин, Меланхолический Якушкин, Казалось, молча обнажал Цареубийственный кинжал.Однако то, что конспираторы из московского Союза Спасения решили в 1817 году прибегнуть к убийству государя, выплыло на свет только при допросах декабристов. И тут судьи с удивлением узнали, что преступные заговорщики, оказывается, защищали и отстаивали интересы дворянского сословия до такой степени, что решили кинуть жребий, кому выпадет честь убить императора Александра I. Поскольку Якушкин готов был покончить с собой из-за несчастной любви, то он решил принести свою жизнь в жертву на алтарь Отечества. В петербургском отделении Союза Спасения, узнав о чересчур опасных планах, «устрашились или образумились», тут же дезавуировав толки о «польских» замыслах государя. Недовольный и разочарованный Якушкин тогда покинул тайное общество. Однако самодержец, узнав в первой декаде января 1818 года о замыслах заговорщиков и вызове Якушкина на цареубийство, резко упал духом и сделался очень мрачным. Речь Посполитая восстановлена не была.[220] Всё как бы вернулось на круги своя.
Но 19 ноября 1825 года Александр I скончался в далёком Таганроге, и на российский престол взошёл Николай I. Несмотря на то что в конституции, дарованной Польше его старшим братом, параграф 45 гласил: «Все наши преемники в королевстве Польском обязаны короновать себя королями польскими в столице по обряду, который мы установили, и они будут приносить следующую присягу: „Я клянусь и обещаю перед Богом и на Евангелии поддерживать и всей моей властью побуждать к выполнению конституционной хартии“», при Александре I так и не успели выработать нужный церемониал. В апреле 1826 года в Варшаве провели символический ритуал погребения усопшего в Таганроге императора. Во главе траурного шествия несли исполненные польским ювелиром Александром-Жаном-Константином Норблином (1777–1828) бронзовые, но от обильной позолоты казавшиеся чисто золотыми, скипетр, а также ослепительно сверкавшие цветными стёклами корону, державу и меч. С 1832 года эти знаки монаршей власти оказались в Оружейной палате Московского Кремля, а через девяносто лет выданы в Варшаву по требованию польского государства. Считается, что при разрушении Королевского замка в годы Второй мировой войны корона погибла.[221]
Обряд коронования «наияснейшего Николая I-го Императора Всея России Короля Польского» был назначен на 12/24 мая 1829 года.
Для священной церемонии обязательно нужны были корона, скипетр и цепь высшего польского ордена Белого Орла для императора, а также корона и ещё одна орденская цепь для его супруги.
Николай I возложил на себя в Варшаве Большую корону императрицы Анны Иоанновны, отнюдь не случайно доставленную из Оружейной палаты Московского Кремля, где она и сейчас хранится.
Сравнительно недавно московские исследователи обнаружили в столичном архиве документы: 12 марта 1730 года алмазных дел мастеру Самсону Ларионову поручили делать новую корону «при доме Ея императорского величества» Анны Иоанновны, избранной на русский престол. Талантливый придворный ювелир исполнял за какие-то восемь лет уже третий драгоценный монарший венец.
Первую императорскую корону, предназначенную для будущей императрицы Екатерины I, Самсон Ларионов создал за девять месяцев, начав работу 1 июля 1723 года и закончив её 30 марта следующего. Однако всего лишь месяц после коронации супруга Петра I наслаждалась блеском алмазов императорского венца, поскольку потом от него остался лишь серебряный остов, потому что все драгоценные камни сняли, чтобы пополнить ими государственную казну, изрядно опустошённую в связи с заключительным этапом Северной войны.
Корона юного императора Петра II также «была работы русских мастеров», и вряд ли дело обошлось без того же Ларионова. Из-за огромной цены самоцветов, усыпавших венец и поражающих ослепительным сверканием искрящихся радугой диамантов, лазорево-синих сапфиров, травянисто-зелёных изумрудов, матовым поблёскиванием жемчугов и поразительным эффектом непременных алых шпинелей (называемых тогда «водокшанскимилалами»), как будто загорающихся изнутри огоньками пламени, стоимость инсигнии оценивалась в 122 108 рублей.
Теперь же, в 1730 году, на создание большой и малой корон к священному обряду «поставления на царство» императрицы Анны Иоанновны отведено было всего два месяца, а поэтому главному мастеру Самсону Ларионову помогал не только придворный ювелир Никита Милюков, но и целый коллектив разных специалистов. В январе 1732 года небольшие изменения в декор большой короны государыни внёс «золотых дел мастер Готфрит Дункель».[222]
В 1829 году корона грозной русской самодержицы Анны Иоанновны призвана была напомнить о событиях столетней давности, когда после кончины 1 февраля 1733 года польского короля Августа II сразу оживились интриги по выбору преемника. Россия в союзе с венским двором стояла за очередного курфюрста Саксонского Августа, сына умершего короля, а Франция желала восстановить в королевских правах Станислава Лещинского. Бывший соперник Августа II, покинувший польский трон после сокрушительного разгрома Карла XII Шведского под Полтавой, теперь поскорей прибыл из Нанси в Варшаву, где и был 9 сентября 1733 года вновь избран на утраченный престол подавляющим большинством сейма. Однако не прошло и месяца, как вдруг 5 октября на польском троне оказался очередной избранник – курфюрст Август Саксонский, принявший при коронации имя Августа III. Его менее счастливому предшественнику хотя и удалось бежать в Данциг, но город, вскоре осаждённый союзными саксонскими и русскими войсками, подвергавшийся ежедневным бомбардировкам, смог продержаться только четыре месяца. Его не спасли ни мужество защитников, ни помощь французского отряда, присланного Людовиком XV. Покорённому Данцигу пришлось за проявленную «дерзость» не только заплатить императрице Анне Иоанновне контрибуцию в один миллион червонцев, но и прислать к российской самодержице депутацию, дабы нижайше и покорнейше исходатайствовать прощение в случившемся «мятеже».[223]
Супруга Николая I императрица Александра Феодоровна на торжественный акт в Зал Сената прибыла в короне, созданной для варшавской церемонии польским ювелиром Павлом Сенницким.[224]
Российский скипетр на этот раз увенчивало специально выполненное для ритуала официального восшествия Николая I на варшавский королевский трон навершие с двуглавым орлом, на груди которого был щит с серебряным одноглавым польским гербовым орлом.
Важнейший символ польской государственности требует небольшого экскурса в историю его появления.
Легендарный прародитель поляков Лех основал свою столицу Гнезно на том месте, где увидел парящего над гнездом белого орла на фоне багрового закатного неба.[225] По другой версии, белый орёл, впервые появившись на стяге Казимира II Справедливого, затем в 1224 году «нашёл пристанище» на печатях Генриха Набожного, а при Пшемысле II в 1295 году серебряный или белой эмали орёл с короной стал гербом королевства Польского и династии Пястов.[226] Казалось, он должен был бы выражать наступившую со второй половины XII века зависимость Польши от правителей «Священной Римской империи германской нации», поскольку при императора Людвиге XIII решили, что только кайзер пользуется эмблемой чёрного двуглавого орла в жёлтом поле, а короли-вассалы могли изображать в своих гербах лишь одноглавого повелителя птичьего царства, да ещё и в противоположных цветах.
Однако благодаря до тонкостей знавшему правила гербоведения составителю эмблемы польского королевства, хотя «польский орёл и не был геральдически противоположен императорскому немецкому», однако во всём «спорил» с ним. По положениям геральдики белый цвет в гербах обозначал серебро, в то время как чёрный – всего лишь такого цвета окраску финифти-«тинктуры». Поскольку же металлы считались на ранг выше эмалей, то серебряный польский орёл оказывался «выше» имперского чёрного. Вдобавок, белый цвет чистоты и благородства как бы противопоставлялся чёрному цвету – символу мрака и смерти. К тому же красное поле говорило не только о священном, регальном праве польских королей на независимость, но и взывало к отмщению, к полю брани с немецким чёрным орлом. Эта символика, по сути дела, была пронесена сквозь века через всю польскую историю, и поляки дорожили своим гербом как национальной святыней, как эмблемой их борьбы за национальную независимость.[227]
Вильгельм Кейбель несколько изменил «внешность» двуглавого орла, выполненного в 1771 году Леопольдом Пфистерером для навершия императорского скипетра.[228] Чёрный российский орёл даже «постройнел» благодаря изящной золотой сетке, «наброшенной» на его тело и крылья, чтобы выделить прорисовку пёрышек. Алмазный скипетр теперь завершался крупным крестом, а звенья цепи ордена Св. Апостола Андрея Первозванного из эмалевых стали чисто золотыми. Да и сама цепь обвивалась вокруг гербового щита, где на красном фоне восседал серебряный польский одноглавый орёл (см. рис. 11 вклейки).
Цепи польского ордена Белого Орла для императора Николая I и его супруги
По легенде, Владислав Короткий («Локеток»), предпоследний король из рода Пястов, отпраздновал учреждением в 1325 году первого польского ордена брачный союз своего малолетнего сына Казимира и Анны, дочери литовского князя Гедимина, учреждением первого польского ордена. Однако как именно он выглядел в XIV веке, никто не знает, хотя к тому времени в гербе королевства уже красовался белый орёл в красном поле.
В 1634 году папа Урбан VIII утвердил статут польского ордена Непорочного зачатия Девы Марии, учреждённого Владиславом IV Вазой по инициативе коронного канцлера Юрия Оссолинского. Только двенадцать кавалеров, избранных из польских благородных рыцарей и знатных иностранцев, могли стать членами ордена, причём каждый давал присягу, что верует в непорочное зачатие Богородицы и обязуется это защищать до последней капли крови.[229] Из-за местнических споров магнатов и вечных раздоров шляхты орден вскоре угас, даже ношение его знаков встречало сильную оппозицию. Сейм окончательно отверг идею этого ордена в 1638 году.
Однако, борясь за власть и популярность, саксонский курфюрст Фридрих-Август I, избранный на польский престол под именем Августа II (Сильного), восстановил старый орден, поскольку основанный им 1 ноября 1705 года, в день визита в замок Тыкочин своего союзника Петра I, орден Белого Орла был поставлен под покровительство Девы Марии. Знак ордена вначале походил на медальон с изображением священной птицы польского герба, сопровождаемым латинским девизом: «PRO FIDE, REGE ET LEGE» («За веру, короля и закон»). Но вскоре его вид изменился: белый эмалевый орёл теперь гордо распростёрся на кресте, похожем формой на мальтийский и наложенном на восьмилучевую звезду, символизировавшую рыцарские добродетели. На церемонию награждения кавалеры приходили в красных одеждах, а король возглашал три тоста: за орден, за награждённых и за следующую встречу.
Кавалеры носили знак ордена Белого орла на голубой ленте, перекинутой через левое плечо, а король подвешивал крест к цепи, в звеньях которой чередовались белые орлы и медальоны с изображениями Святой Девы. К тому же на знаках королей слово «REGE» в девизе заменялось на «GREGE», и тем самым венценосец-правитель давал обет сражаться за веру, паству-народ и закон.
Сам Август II возложил 30 ноября 1712 года в местечке Лаго в Мекленбурге польский орден на Петра I, своего союзника по Северной войне, а вслед за ним немало русских вельмож удостоилось в XVIII веке подобной чести.
Александр I, повелитель нового Царства Польского, стал первым кавалером ордена Белого Орла, восстановленного им в очередной раз для награждения уроженцев Польши.[230] Да и Николай Павлович стал кавалером ордена Белого Орла ещё в 1818 году и в нужных случаях надевал через левое плечо голубую ленту с орденским знаком. Теперь же ему, королю польскому, приличествовала орденская цепь.
Для торжественной церемонии восшествия на польский престол русского императора Николая I в 1829 году Иоганн-Вильгельм Кейбель исполнил две практически одинаковые цепи «Польские Белого Орла», слегка различавшиеся только весом (одна была потяжелее – 1 фунт 491/2 золотника (=620 г), другая – только 1 фунт 45 золотников (=601,2 г)), вошедшие затем в число российских регалий.[231]
Мастер специально воспользовался золотом 80-й пробы, отчего металл имел не только необходимые жёсткость и прочность, чтобы части цепи не деформировались, но и надёжно скреплялся при обжиге с разноцветной эмалью.
На обороте ордена-подвески выгравировано имя Богоматери и чуть изменённый для цепи венценосца девиз: «Pro Fide, Rege et Lege», что переводится, скорее, как «За веру и законного короля». Особенно изменилась сама цепь. Регалия, исполненная в 1764 году к коронации Станислава-Августа Понятовского, состояла из 24-х звеньев: на двенадцати красовался белый орёл герба польского королевства, на шести была помещена Мадонна с младенцем, а на оставшихся шести царила королевская монограмма АР.[232]
Сделанная Кейбелем цепь восстановленного Александром I ордена тоже состоит из звеньев трёх типов, но как же они изменились! К семи эмалевым белым орлам польского герба теперь добавились девять чёрных, увенчанных тремя коронами, двуглавых орлов, у которых на груди в красном поле щитка раскинулся, как и на дополнительном завершении императорского скипетра, серебряный орёл, напоминая, что Царство Польское, пусть и автономно, являлось частью Российского государства. Место же медальонов с изображением Пресвятой Девы заняли семь окружённых знамёнами, пиками и пушками синих щитков с вензелем «А I» восстановителя ордена Белого Орла – русского самодержца Александра I (см. рис. 12 вклейки).
Как и полагалось по церемониалу, обряд священного коронования совершился точно в намеченный день в зале Сената Варшавского королевского замка. На одном конце его воздвигли трон, а в центре поставили крест. Затем торжественно и в оговорённом порядке внесли необходимые регалии: орден Белого Орла, государственную печать, королевское знамя, королевский меч, державу, скипетр и корону. Облачённый в мантию русский император Николай I сам возложил себе на голову Большую корону Анны Иоанновны, поднесённую примасом-архиепископом после молитвы. Затем новый король, взяв цепь ордена Белого Орла, вручил её своей супруге. Теперь Александра Феодоровна законно получила статус польской королевы, а посему придворные дамы тут же закрепили мантию на плечах государыни. Наконец, Николаю I вложили в руки повелительный скипетр и означающую полноту власти державу.[233]
Однако когда по принесении присяги монархом примас, как полагалось издревле, троекратно провозгласил: «Vivat rex In aeternum» («Да здравствует король вовек»), присутствовавшие сенаторы, нунции и депутаты воеводств намеренно не повторили сих установленных обычаем слов, сославшись на то, что их об этом не предупредили.[234]
В результате Польского восстания 1830–1831 годов сейм низложил с польского престола не только Николая I, но и всю династию Романовых. После жестого подавления поляков самодержец 17 ноября 1831 года причислил польский орден Белого Орла к российским царско-императорским орденам. Отныне, подобно одному из звеньев орденской цепи, сделанной в 1829 году Вильгельмом Кейбелем, одноглавый белый орёл подчинённо располагался на фоне двуглавого орла, а польскую королевскую корону сменила императорская. Теперь сей «Императорский и Царский орден Белого орла», следующий в порядке старшинства сразу за орденом Св. Александра Невского, давался лицам генеральского звания или гражданским чинам не ниже тайного советника.[235]
Поскольку, согласно введённому Николаем I в феврале 1832 года «Органическому статуту» Польшу объявили неотъемлемой частью Российской империи», то отдельной процедуры коронации последующих самодержцев на польский трон больше не требовалось.
Правда, 17 апреля 1856 года Александр II издал манифест о предстоящей через четыре месяца коронации, назначив её на август этого же года. Однако планы нового самодержца вскоре изменились, и уже в начале мая он выехал вместе со всеми тремя своими братьями в Варшаву. Там он 11 мая принял дворянских предводителей, сенаторов и высшее католическое духовенство и по-французски произнёс не оставлявшую им никаких иллюзий речь: «Итак, господа, прежде всего оставьте мечтания. <…> Счастье Польши зависит от полного слияния её с народами моей Империи. То, что сделано моим отцом, хорошо сделано, и я поддержу его дело. <…> Польша должна пребывать навсегда в соединении с великою семьею русских Императоров. <…> Счастье поляков зависит единственно от полного их слияния со святою Русью».[236]
Священная церемония интронизации русского монарха на польский престол теперь окончательно и навсегда отменялась. Александр II узаконил появление в гербах в качестве «польской» Большой короны императрицы Анны Иоанновны, а сделанные Иоганном-Вильгельмом Кейбелем навершие в виде белого орла,[237] навинчивающееся в случае необходимости на скипетр над алмазом «Орлов», а также обе цепи «Польские Белого Орла», предназначенные для императора-короля и его супруги, продолжали храниться в русских коронных вещах среди прочих «золотых Орденских цепей».[238]
Орден Белого Орла, как и другой изначально польский орден Св. Станислава, просуществовал в Российской империи вплоть до 1917 года. Правда, в 1883 году эти два ордена чуть было не исчезли из числа российских орденов. Царедворец С.А. Танеев, управляющий Собственной Его Величества канцелярией, выслушал на Особом совещании мнение, что будет полезно упразднить эти ордена «нерусского происхождения», а потому не имеющие ни национального, ни церковного значения, из-за чего их носить «для истого русского и православного человека неудобно», поскольку орден Св. Станислава был создан в честь краковского епископа, всю жизнь бунтовавшего против королевской власти и отличившегося лишь верностью папскому престолу. Не пощадил докладчик и орден Белого Орла, так как тот «был основан в честь непогрешимого зачатия Пресвятой Богородицы», а этот догмат католической церкви православной признаётся «за величайшую ересь». К чести Особого совещания, участники его оставили без внимания подобные доводы.[239]
В 1922 году в Гохран передали обе цепи ордена Белого Орла, однако уже в очередном томе каталога экспонатов Алмазного фонда СССР, вышедшем в 1926 году, числился только «один из двух известных экземпляров огромной исторической ценности», и до сих пор остаётся загадкой судьба второй, более тяжёлой цепи.[240]
С 1836 по 1841 год Вильгельм Кейбель по поручению Капитула Императорских и царских орденов исполнил вместе с мастером Кеммерером множество всевозможных орденских знаков.
Загадочный «готический» браслет-«сантиман»
Золотой, длиной в 20 см, браслет, искусно выполненный из повторяющихся тонких звеньев изящной, похожей на кружево, плетёнки, да ещё восхитительно изукрашенный разноцветной эмалью, таит множество загадок (см. рис. 13 вклейки).
Дивный браслет не случайно именуют «готическим», поскольку он изобилует элементами декора средневековых храмов: тут и двускатные фронтоны-«вимперги», и башенки-«пинакли», и стрельчатые арки, шпили-«фиалы», увенчанные распускающимися бутонами «крестоцветов» и дополненные листочками-«краббами».[241]
В центре браслета царит прикрытая плоским алмазом-«тафельштейном» акварельная миниатюра, тщательно воспроизводящая портрет Александра I, написанный Джорджем Доу. Лик императора скопирован с отличающейся большим сходством черт лица монарха работы Жана-Анри Беннера. Гадать об авторе миниатюры браслета, написанной на слоновой кости, не приходится, так как он внизу, прямо на фоне, весьма разборчиво начертал свою фамилию «Winberg», чтобы не оставалось ни малейших сомнений, что это работа Ивана Андреевича Винберга.
Спинка золотого каста, аккуратно и бережно окружившего драгоценный красавец-алмаз, украшена каллиграфической надписью: «Благословеннаго Императора Александра Перваго», напоминающей, кто же именно запечатлён на миниатюре. Но родительный падеж поневоле заставляет домысливать начало заботливого пояснения, которое так и хочется дополнить впереди торжественным словом «образ».
Заключённая в золотое обрамление, сверкающая зеркальным блеском, точно отполированная с обеих сторон, пластина индийского алмаза с фасетками, идущими по краю, поражает не только редкой чистотой и необычной сердцевидной формой, но и удивительными размерами. Она невольно притягивает к себе взоры, оправдывая слова Плиния: «Величайшую цену между человеческими вещами, не только между драгоценными камнями, имеет алмаз, который долгое время только царям, да и то весьма немногим, был известен. Подобно золоту, находим был в рудниках весьма редко, спутник золота, и казалось, якобы родится в золоте».[242]
Конечно, самым прославленным плоским диамантом издавна считалась знаменитая «Большая таблица» площадью больше 12–14 квадратных сантиметров и весившая 2425/16 карата, виденная в 1642 году французским путешественником Тавернье в Голконде. К сожалению, диковинка, ценимая в полмиллиона рупий, была чересчур дорога. Следы её затерялись. Правда, некоторые исследователи сейчас считают, что дивный тафельштейн чуть розоватого оттенка когда-то случайно раскололся на две части: одна, в 167 карат, получила название «Дарья-и-Нур», а другая, «Нур-ул-Айн», массой в 67 карат, оказалась в шахской тиаре.[243] Прочие знаменитые плоские, или «портретные», алмазы Иранской сокровищницы в Тегеране имеют массу 15 и 20 каратов. Интересно, что какой-то крупный камень под названием «Алмазное стекло Великого Могола», принадлежавший сразу троим западноевропейским владельцам, продавался в Петербурге в 1860-х годах за 150 000 рублей, но дальнейшая его судьба неизвестна.[244]
Высота же сердцевидного портретного алмаза в «Готическом» браслете – 4,0 см при ширине в 2,9 см. Вес уника считают равным 27 каратам. К сожалению, точное определение веса раритета невозможно, так как ещё в 1771 году Иван Никифоров, искуснейший подмастерье придворной Алмазной мастерской, плотно закрыл мягким золотом две выбоинки края, чтобы хрупкий камень не крошился далее. Ведь дивный диамант «заместо стекла» прикрыл тогда лик государыни Екатерины II в её втором наградном портрете, дарованном князю Григорию Григорьевичу Орлову за подвиг спасения Москвы от эпидемии чумы, а на самом деле для смягчения горести фаворита из-за предрешённой уже отставки его от ложа монархини. Когда любезный «Гришенька» скончался, специальным рескриптом самодержица предписала носить оставшийся без хозяина портрет другому Орлову, графу Алексею Григорьевичу, в знак благодарности за славные деяния. После кончины героя Чесмы в 1809 году портрет «Минервы Севера» под сказочной красоты алмазом оказался в Императорском Кабинете.[245]
Настало время, когда сердцевидный алмаз опять пригодился. На этот раз алмазное сердце прикрывает пластинку слоновой кости с увековеченным изображением любимого внука Екатерины Великой, победителя Наполеона и Освободителя Европы.
Браслет с портретом персоны, дорогой сердцу владелицы, называли в первой половине XIX века «сантиманом» (sentiment) в знак чувствительности, а потому носили на левой руке. Но «Готический» браслет украшен портретом императора, а подобные украшения носили обычно законные супруги венценосцев.
В 1853 году, во время очередной поездки на родину в Россию, нидерландская королева Анна Павловна показывала владыке Троице-Сергиевой лавры свой браслет, надеваемый ею в важные дни жизни: в центре находилась миниатюра с портретом её покойного мужа, а на золотых медальонах, образующих цепочку, были «начертаны имена и числа всех сражений в Испании и Португалии до сражения при Ватерлоо, в которых участвовал будущий король Вильгельм II.[246] Но был и другой случай: в феврале 1855 года овдовевшая императрица Александра Феодоровна, увидев у гроба усопшего Николая I молившуюся Варвару Аркадьевну Нелидову нежно обняла и поцеловала фаворитку своего мужа, а затем, сняв с руки браслет с портретом обожаемого супруга, надела эту вещь ей на руку, как бы награждая за долгую искреннюю и бескорыстную любовь к покойному монарху.
Однако для кого предназначался «Готический» браслет и по какому поводу было заказано его изготовление? Ведь императрица Елизавета Алексеевна, судя по перечню её драгоценностей, вплоть до смерти владела лишь живописным портретом императора Александра Павловича, осыпанным бриллиантами, который после её кончины 27 апреля 1827 года поступил в собственность Кабинета Его Величества с оценкой в 10 тысяч рублей.[247] Но никакого браслета с портретом мужа у неё не было. Да и вдовствующая императрица Мария Феодоровна своим завещанием отписала ближайшим родственникам принадлежавшие ей портреты её первенца: висящий возле её кровати предназначался цесаревичу Константину Павловичу, младшему брату покойного властелина, «писанную Изабеем» (то есть французским художником Жаном-Батистом Изабе) миниатюру получил следующий по старшинству сын, под именем Николая I сменивший Александра Павловича на русском троне, а его жене – императрице Александре Феодоровне, любимой невестке вдовы Павла I, достался портрет августейшего деверя, гравированный самой душеприказчицей.
Вдобавок одни исследователи считали, что «Готический» браслет исполнен в 1820 году, ещё при жизни Александра I. Конечно, можно бы было предположить, что государь (как это ни странно) решил пожаловать браслет со своим портретом дражайшей невестке Александре Феодоровне после того, как в ходе доверительного разговора поведал ей и её мужу, что преемником русского трона станет не бездетный Константин, а следующий по старшинству брат Николай, поскольку в 1818 году у этой великокняжеской четы родился мальчик, наречённый Александром в честь августейшего дяди и обеспечивший преемственность династии.
Однако эту гипотезу сразу приходится отмести, поскольку Иван Андреевич Винберг (?—1851), гордо подписавшийся на созданной им миниатюре «Готического» браслета, стал выставлять свои работы на выставках Академии художеств только с 1824 года, а кто доверил бы начинающему живописцу написать вставку под плоский алмаз с портретом правящего монарха? Необходимых знакомств и связей у сына работавшего в Петербурге в 1791–1816 годах небогатого шведского ювелира Андрея Винберга не было, рассчитывать приходилось лишь на свой талант и прилежание. Это и принесло свои приятные плоды, и Ивана Андреевича в 1830 году признали «назначенным» в академики, а в 1846-м удостоили звания академика акварельной миниатюрной портретной живописи. И сын его, Иван Иванович Винберг, тоже стал миниатюристом.[248]
Правы оказались те, кто полагал, что загадочный браслет, хотя и украшен портретом Александра I, но создан в правление императора Николая I. Как обыкновенно и бывает, подтверждение нашлось неожиданно в архивных документах. Овдовевшая императрица Александра Феодоровна завещала своему первенцу, императору Александру II Николаевичу принадлежавший ей бесценный «Браслет с портретом Императора Александра 1-го под плоским бриллиантом». В отличие от прочих отписываемых вещей, эта оценки не имела.[249]
Супруга Николая I обожала браслеты, поскольку они, как вспоминал её придворный врач Мартин Мандт, «играли для Государыни ту же роль, что для нас, обыкновенных людей, играют дневники». В общей сложности у неё было около пятисот браслетов, которые Императрица ценила не за их значительную стоимость, а за связанные с ними личные воспоминания. Самой первой «записью» в этом необычном «меморандуме» является очень простой, совсем недорогой узкий золотой браслет. Августейшая госпожа получила его ещё ребенком от престарелого родственника, герцога Мекленбург-Стрелицкого.
С помощью браслетов императрица меняла стиль одежды. Её часто можно было видеть склонённой в задумчивости над ларцами с драгоценностями, будто бы перелистывающей страницы своих кратких дневников. Вероятно, в такие моменты она предавалась воспоминаниям о прошлых днях. А «Готический» браслет она бережно хранила среди больших бриллиантов в застеклённой витрине, стоявшей в спальне.[250]
Стало ясным, почему было не найти «Готический» браслет в перечнях драгоценностей Русской Короны. Браслет этот хранился затем среди фамильных вещей императорской семьи, причём передавался от императора к императору, а после национализации поступил в Алмазный фонд Гохрана. Там миниатюру Винберга вынули из-под алмаза, и она находилась среди экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля вплоть до 1967 года. Перед открытием экспозиции Алмазного фонда СССР портрет Александра I, воссоединённый с браслетом, занял своё законное место под уникальным алмазом.[251]
Несмотря на то что даже на замке памятного браслета нет никаких клейм мастера, исполнителем его почти без сомнений можно считать Вильгельма Кейбеля. Как помнит внимательный читатель, Отто-Самуил Кейбель научил отрока-сына тайнам работы не только с драгоценными металлами и самоцветами, но, главное, и с эмалями, потому что в то время лишь немногие умельцы владели сложной техникой финифти. Ещё в 1812 году «у золотых дел мастера Кейбеля»-сына купили в Кабинет предназначенные для подарков две табакерки, украшенные синею, голубою и красною эмалью.[252]
В «Готическом» же браслете золото расцвечивает не только эта триада, но и белая, а также настолько изумительного тона прозрачная зелёная, что её «капельки» иногда принимали за изумруды. Вильгельм Кейбель вполне мог сделать из золотой проволоки ажурные звенья браслета и искусно закрепить громадный сердцевидный алмаз-тафельштейн в сложной формы оправе.
Выдержанный в стиле неоготики, столь характерном для начала правления императора Николая I, браслет, несомненно, был заказан к какой-то важной дате, связанной с Александром I. Скорее всего, это был 1834 год, когда торжественно праздновались несколько важных годовщин.
Вильгельм Кейбель отнюдь не случайно сделал золотую оправу миниатюрного портрета виновника торжеств похожей на открытый портал средневекового европейского собора, в глубине которого, освящённого покровительством Всевышнего, можно было в магическом зеркале кристалла алмаза созерцать императора Александра Павловича, главу Священного союза монархов в Европе. К тому же храм считался олицетворением религиозных отношений между Богом и человеком.
В избытке представлена и зашифрованная символика, повествующая о добродетелях государя, аллегорически изображённых на Александровской колонне. Однако в браслете их обозначает цвет эмали: синий – истину и мудрость, зелёный – изобилие и процветание, ярко-зелёный – добрые дела, белым акцентируются очищение и спасение целостной души, четырёхлистник же напоминает о справедливости. На первый взгляд, несколько нарочито смотрится трилистник с иссиня-чёрной эмалью. Однако он не только символизирует христианскую Троицу, но также благоразумие, объединение и равновесие, а ведь монархи России, Австрии и Пруссии уподобились в своём союзе против Наполеона благородным предводителям средневековых крестовых походов против неверных. Да и красный цвет напоминает как о силе и неустрашимости, так и о рвении в вере. Любопытна окраска и башенок-«фиалов», венчаемых золотым цветком с листочками. Каждый синий фиал чередуется с белым. Однако на синюю, «королевскую» эмаль нанесены белые крапинки, намекающие на духовное прозрение монарха, синие же пятнышки на белом фоне поневоле заставляют вспомнить о мехе горностая, символизирующем как королевское достоинство, так и правосудие.
Пряжка-застёжка браслета похожа на башенку-«пинакль» с толстыми стенами и большим вертикальным витражом, но если присмотреться внимательнее, то стены уподоблены колоннам. Такие же пинакли воздвигнуты по боковым сторонам алмаза. И это не случайно. Две колонны олицетворяют прохождение между ними, символизирующее переход к новой жизни, или в иной мир, в вечность. Сердце обычно обозначало религиозное рвение, а алмаз – искренность, неподкупность и непобедимое достоинство, а их соединение рождало новый смысл, близкий к понятию «алмазного сердца» в буддизме, где оно символизирует столь несокрушимого в своей духовной чистоте «человека, которого ничто не может «повредить».[253]
Браслет, сделанный «в готическом духе», предназначался для супруги Николая I, императрицы Александры Феодоровны, урождённой принцессы Шарлотты Прусской. Впервые она могла надеть браслет с портретом Александра I уже в торжественный день празднования двадцатилетнего юбилея незабвенного 19/31 марта 1814 года, когда, как велеречиво писали, «французская столица отворила ворота и приняла простёртую к ней рукою Российского монарха мирную ветвь». В Париж тогда вошли «промыслом Всевышнего и с помощью десницы Его, по преодолении бесчисленных трудов, путеводимых твёрдостью и мужеством» войска российские и союзные и «победоносным шествием своим погасили пламенник всемирной войны и положили начало процветшему в колеблющейся Европе благотворному для всего рода человеческого спокойствию и тишине».
Бесспорно, этот браслет красовался на руке императрицы и 30 августа 1834 года, когда в день Св. Александра Невского, небесного покровителя Петербурга и патрона Александра I, в присутствии многочисленных гостей из-за рубежа и толп верноподданных открылась Александровская колонна – памятник победителю Наполеона.
Однако браслет, блистающий на левой руке супруги Николая I, преследовал и другую цель. Он должен был заглушить толки о самодержце, вовсе не умершем в Таганроге, а отрёкшемся как от власти и престола, так и от светского мира, да ещё и ушедшем в монахи, чтобы замаливать свои грехи и молиться о благоденствии Российского государства. Тогда правление Николая I при живом помазаннике юридически считалось бы узурпаторством со всеми вытекающими последствиями для последующих прямых наследников этой ветви династии Романовых.
Тайна двух крошечных записок в золотом футляре для зубочисток
Подлинное же отношение императорской четы к Александру I отразилось, как ни странно, в двух крошечных записках, лежащих в прелестном игольнике. Неизвестный парижский мастер прекрасно прочеканил изящные фигурки птиц и зверей на искусно гравированном фоне, пленяющем красотой и прелестью гирлянд цветного золота.[254]
Текст на обеих бумажных этикетках плохо читался. На одной было написано только: «S.M.I. L'Empereur» (Е.И.В. Император), вторая же оказалась более пространной: «Etui à cure dent qui a servi de joujou à mes enfants et ma chere Alexandre qui a beaucoup joué avec lui». Итак, эта маленькая вещица являлась футляром для зубочисток, служившим «игрушкой моим детям и моей дорогой Александре, которая много играла с ним». Стало понятно, почему её тонкие золотые стенки оказались не только сильно потёртыми, но ещё и с разрывами от зубок многочисленной малышни. А ведь Павлу Петровичу и Марии Феодоровне Господь послал десять детей. Когда третий ребёнок престолонаследника появился на свет 20 июля 1783 года, царственная бабушка назвала новорождённую Александрой в честь старшего брата. Екатерина II любила первую внучку, мечтала видеть её шведской королевой. Однако планы старой императрицы сорвались из-за глупого каприза жениха-короля, не явившегося на торжественную церемонию обручения. Отец выдал красавицу-дочку за эрцгерцога и палатина Венгерского Священной Римской империи германской нации. Но «цесарский» император не желал потомства от православной русской княгини. Произведя на свет нежизнеспособную девочку, Александра Павловна в неполные 18 лет скончалась 4/16 марта 1801 года от последствий родов. Горестная весть пришла в Петербург, когда 12 марта Павел I пал от рук царедворцев-убийц, и императрице Марии Феодоровне пришлось оплакивать одновременно мужа и дочь.
Но аннотация меня удивила. Комментарий был более чем странным: «Эти записки позволяют предположить, что предмет находился среди личных вещей Павла I, был игрушкой великой княжны Александры Павловны и позднее был передан в собрание драгоценностей после разбора дворцовых кладовых.».[255] Трудно предположить, что император Павел I, хотя и был чадолюбив, сохранял среди личных вещей игрушку своих детей. А вот императрица Мария Феодоровна, свято относившаяся к материнским обязанностям, вплоть до своей смерти бережно сохраняла предметы, связанные с памятью о родных и близких.
Да и текст на втором бумажном клочке показался знакомым. Память меня не подвела. Искомое действительно нашлось в Завещании от 21 января 1827 года императрицы Марии Феодоровны[256] среди подробного перечня вещей, отписываемых заботливой матушкой на память своим драгоценным детям, причём часто указывающей, чем особенно ценен тот или иной предмет. «Футляр для зубочисток» отошёл императору Николаю I, а поэтому внутрь и была вложена крохотная записочка о принадлежности царствующему монарху, поскольку при русском дворе в это время изъяснялись по-французски.
Однако французский текст описания этой вещицы несколько отличался от запечатлённого на втором бумажном клочке, он гласил: «Letui à cure-dent, qui a servi de premier joujou à l'Empereur Alexandre, ainsi qua ses frères et soeurs».[257] Поскольку Николай I чувствовал себя российским государем, то уже в первые годы царствования повелел вести всю деловую переписку на родном языке. Завещание матушки государя также перевели на русский, и в переводе читалось: «Футляр с зубочисткой, бывший первой игрушкой императора Александра и его братьев и сестёр».[258]
После кончины Николая I в 1855 году и смерти его супруги в 1860-м особо памятные их личные вещи поступили на вечное хранение в Императорский Эрмитаж. Однако странно, что «первая игрушка императора Александра и его братьев и сестёр» вдруг превратилась в предмет, «служивший моим детям и моей дорогой Александре, которая много играла с ним». Но золотой футлярчик мог видеть только брат, наследовавший престол от своего старшего брата-предшественника, да его верная спутница жизни Александра Феодоровна. Чуть изменённая записочка о происхождении сего золотого «игольничка» невольно отразила подлинное отношение августейшей четы к императору Александру Павловичу. Если бы «Благословенный» действительно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года, то для своего преемника на троне он всегда оставался бы императором, но первенец Павла I тайно отрёкся от бренного мира и, добровольно сойдя с трона, стал старцем, окончившим свои дни только в 1864 году. Имена же Александр и Александра по-французски пишутся абсолютно одинаково – Alexandre, поэтому подмена и не должна была броситься в глаза последующим историкам (а круг учёных Эрмитажа очень ограничен), и тайна династии Романовых оставалась бы нераскрытой.
И тогда невольно на память приходят свидетельства о тождестве императора Александра I и старца Феодора Козьмича.
Табакерка князя А.Н. Голицына с видом крымского имения Гаспра
Работы, выходившие из мастерской Кейбеля, были столь хороши, что не удержался от соблазна заказать ювелиру табакерку с видом своего имения Гаспра в Крыму и князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844), старый друг императорской семьи и бывший паж Екатерины II, статс-секретарь Александра I, обер-прокурор Святейшего синода, президент Библейского общества, глава Министерства духовных дел и народного образования, главный попечитель и непременный председатель Императорского Человеколюбивого общества, содействовавший возникновению Общества любителей российской словесности. Александр I так ему доверял, что именно А.Н. Голицын собственноручно написал секретный манифест о перемене порядка престолонаследия в отношении императора и его братьев, а дети Николая I называли князя-мистика «дяденькой».[259]
Великая княжна Ольга Николаевна вспоминала, как «маленького роста» А.Н. Голицын, «в сером фраке, с палкой в руках и флаконом венгерского вина в кармане» появлялся по вторникам на обедах у её родителей, как князь, живший уединённо, всегда озабоченный здоровьем и окружённый друзьями, разделявшими его мистические взгляды, «любил всё розовое, женщин в ожидании и табакерки, которые он собирал». Прокурор святейшего Синода обладал острым умом и отлично владел чувством юмора, обожая настолько искусно и точно подражать голосам других людей, что в соседней комнате казалось, как будто рядом ведут разговор именно эти персоны. В старости А.Н. Голицыну грозила слепота, но он отважился на операцию катаракты и «благодарил от всего сердца Господа, когда снова смог увидеть свои горы, море и колодцы, расположенные крестообразно» в его поместье в Крыму, где князь и скончался.[260]
Неизвестный художник запечатлел на миниатюре, занимающей крышку табакерки А.Н. Голицына, панорамный вид на обширный господский дом в Гаспре, раскинувшийся перед ним сад и виднеющиеся вдали горы и лазурное от голубизны небес море. Поскольку князь гордился древностью своего рода, происходящего от Гедиминовичей, то, помимо мозаичного герба Голицыных на дне, гербовые щитки разрывали по борту цепь готических арочек, и на передней стенке виднелся скачущий на белом коне воин с поднятым мечом герба Великого княжества Литовского (см. рис. 9 вклейки).
Фельдмаршальский жезл графа Ивана Фёдоровича Паскевича-Эриванского, светлейшего князя Варшавского
Кейбель выполнял для Двора самые разнообразные работы, включая реставрацию оружия из личной коллекции Николая I, хранившейся в Царскосельском Арсенале[261] а в 1841–1846 годах занимался оправой в золото резных камней из коллекции Эрмитажа.[262]
В 1840 году к бракосочетанию первого внука Николая I мастер исполнил из золота 85-й золотниковой пробы ещё один дежёне из одиннадцати необходимых для завтрака предметов, общий вес которых составил почти десять килограммов благородного металла. Через четверть века, 28 октября 1866 года, драгоценный сервиз, верно послуживший цесаревичу Александру Николаевичу и его супруге Марии Александровне, стал их родительским подарком новобрачным в день свадьбы сына-престолонаследника Александра Александровича (будущего императора Александра III) с датской принцессой Дагмар, при переходе в православие принявшей имя Марии Феодоровны.[263]
В 1850 году мастер сделал новый фельдмаршальский жезл, пожалованный генерал-фельдмаршалу графу Ивану Фёдоровичу Паскевичу.[264] Прославленный военачальник, некогда сопровождавший юного великого князя Николая Павловича в завершающем воспитание будущего самодержца путешествии по России и Западной Европе, получил немало наград за успешные боевые действия. Любезный читатель, конечно же, уже вспомнил о победе над Аббас-Мирзой, что так облегчило ужасное положение русского посольства, доставлявшего от имени императора Николая I хрустальное ложе в подарок шаху. Тогда, в сентябре 1826 года, виновник торжества Иван Фёдорович Паскевич получил исполненную, скорее всего Кейбелем, золотую с бриллиантами и лаврами шпагу с надписью: «За поражение персиян при Елизаветполе», а через полгода, сменив Алексея Петровича Ермолова, стал командующим Отдельным Кавказским корпусом и главноначальствующим на Кавказе. За взятие Эривани в октябре 1827 года Ивана Фёдоровича наградили орденом Св. Георгия 2-й степени, а через полгода полководец смог заключить весьма выгодный Туркманчайский мирный договор, и к России отошли Эриванское и Нахичеваньское ханства. Довольный Николай I вскоре возвёл своего бывшего ментора и «отца-командира» с нисходящим потомством в графы Российской империи, да ещё с почётной титульной прибавкой «Эриванский». Вскоре разгорелась русско-турецкая война 1828–1829 годов. Одна за другой пали сильно укреплённые крепости Карс, Ахалкалаки, Хертвис, Поти и Ахалцык. За Эрзерум граф И.Ф. Паскевич-Эриванский получил орден Св. Георгия 1-й степени, а в день подписания Адрианопольского мира произведён в генерал-фельдмаршалы. Затем была восставшая Польша. За её усмирение, закончившееся взятием Варшавы, обрадованный властелин сделал победителя в сентябре 1831 года не только наместником Царства Польского, но и превратил в потомственного князя Российской империи с титулом Светлости и дополнительной почётной приставкой «Варшавского».
Николай I пожелал в назидание потомству устроить в Зимнем дворце Фельдмаршальскую залу, украсив её портретами «титульных» полководцев, удостоившихся почётной приставки к своей родовой фамилии: графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского и светлейшего князя Италийского, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова-Смоленского, графа Ивана Ивановича (Иоганна-Карла-Фридриха) Дибича-Забалканского и графа Ивана Фёдоровича Паскевича-Эриванского и светлейшего князя Варшавского. Остававшаяся свободной ниша должна была вдохновлять молодых воинов на грядущие подвиги, не менее славные, нежели свершённые прославленными героями предшествующих поколений.[265]
Известный русский художник Пётр Васильевич Басин успел выполнить эскиз порученного ему портрета Паскевича, однако в июле 1833 года самодержец лично пожелал, чтобы его «отца-командира» увековечил на холсте немецкий живописец Франц Крюгер. По заботливо присланным в далёкий Берлин нужным размерам будущей картины модный художник, особенно мастерски изображавший коней и всадников, написал заказанный ему «колоссальный и превосходно выполненный» портрет князя Паскевича, сразу же вызвавший восторженные отзывы на выставке, устроенной в столице прусского королевства перед отправкой готовой вещи в Россию. Видевшие полотно Крюгера, самим мастером оценённое в четыре тысячи экю серебром, восхищённо описывали эффектное творение иноземца: «Знаменитый полководец изображён на поле брани; он орлиным взором окидывает даль; в руках у него фельдмаршальский жезл, шинель брошена на пушку».[266]
В Пасхальную ночь 1849 года чрезвычайно торжественно, в присутствии императорской семьи, до четырёх часов утра проходило освящение Большого Кремлёвского дворца, возведённого по проекту архитектора Константина Андреевича Тона. По окончании красивой церемонии Николай I получил срочную депешу от юного австрийского императора. Франц-Иосиф умолял союзника о помощи, поскольку сам был не в силах справиться с венгерским восстанием, участники которого под командованием Гергея уже угрожали захватом Вены. Самодержец внял просьбам о спасении Австрийской монархии и тут же подписал приказ о походе русских войск[267] во главе с прославленным фельдмаршалом ветераном Паскевичем-Эриванским. После поражения под Коморном тридцатитысячная армия мятежников-венгров, борцов за независимость своей несчастной от засилья Габсбургов родины, сдалась Паскевичу, которому отныне должны были по повелению довольного Николая I воздавать воинские почести, ранее приличествовавшие по сану лишь государю. Не отстали в наградах победоносному предводителю русских войск и союзники. Вскоре приспел важный юбилей славного военачальника. 13 августа 1850 года министр императорского Двора предписал члену Кабинета Николаю Михайловичу Петухову срочно привезти утром следующего дня «рисунок фельдмаршальского жезла, по которому Его Величеству угодно сделать, для князя Варшавского, новый жезл с некоторыми изменениями за 50-летнюю службу». Чтобы не терять времени, Николай I собственноручно отредактировал текст будущей надписи на символе власти полководца. С первого взгляда, бумага архивного документа казалась небрежно заляпанной каким-то застывшим клеем, на самом деле это был слой специального прозрачного лака, которым покрывали, сберегая на века для потомства, все автографы и тексты, написанные рукой русского монарха.
Члены Императорского Кабинета 16 августа 1850 года выслушали монаршее повеление: новый жезл следует сделать привычного размера, однако цена его из-за алмазного декора должна составлять от 15 до 17 тысяч рублей. Не исключено, что сам Николай I, поскольку прекрасно владел рисунком, был автором эскиза будущей награды «отцу-командиру».
Жезл, как всегда, декорирован вьющейся по спирали ветвью лавра но вместо дубовой ветви переплеталась с ней такой же ширины георгиевская лента, – по рисунку она предназначалась для Георгиевского креста IV степени, однако здесь она напоминала о том, что фельдмаршал был кавалером 1-й степени этого престижнейшего ордена, знаки которого статутом предписывалось «никогда не снимать». Потому-то на одном из донышек крышек фельдмаршальского жезла помещён «государственный Российский герб из бриллиантов», а на противоположном – золотая полированная звезда, красиво выделявшаяся на матовом фоне. Обе крышки окаймлялись ободками из крупных бриллиантов. Привычные орлы и лавровые венки на одном из концов трубки жезла уступили место надписи из алмазов-роз, разделённой на две части двойными рядами бриллиантов: «за 50ти летнюю службу Генералъ Фельдмаршалу Князю Варшавскому Графу Паскевичу Эриванскому», продолжавшаяся на другой стороне: «за 24х летнее предводительствование победоносными Российскими Армиями въ Персии, Турции, Польше и Венгрии».
Заказ на исполнение передали Придворному золотых дел мастеру Вильгельму Кейбелю, причем предварительно тот должен был представить не только рисунок жезла в натуральную величину, но и выточить из дерева его модель, чтобы оценить вещь в объёме. Готовую модель должен был рецензировать министр Императорского Двора князь Волконский.
Однако Николай I не удержался и сам осмотрел 25 августа 1850 года деревянную модель жезла, после чего соизволил приказать: «Крест св. Георгия увеличить, как очерчено карандашом на моделе Жезла, собственною рукою Его Величества, а в надписи, если не будет места, то сократить слова и писать вместо Князю Кн., вместо Графу Гр.». К счастью, мастерам удалось разместить все титулы Паскевича без всяких сокращений, зато во второй части посвящения длинное и весьма сложнопроизносимое тяжеловесное выражение «предводительствование» заменили на «командование».
Победы и военные сражения не только шли «рука об руку», но, скорее, «устремлялись друг другу навстречу», а поэтому именно так направлены от противоположных концов череда веточек лавра и извивающаяся спиралью георгиевская лента, в знак равенства попеременно меняясь положением при пересечении.
Самодержец повелел не поскупиться на драгоценные диаманты, и к 16 сентября сотрудники Камеральной части Императорского Кабинета отобрали в хранилищах из поступлений последних двух лет шестьдесят крупных бриллиантов весом от 2 до 3,5 каратов, не говоря ещё о пятнадцати каратах бриллиантов поменьше. Правда, не все мелкие бриллианты пригодились Кейбелю при работе, и после её завершения Иоганн-Вильгельм вернул в Кабинет россыпь в 210/32 карата.
Ради предоставления мастеру нужных каменьев их выломали из нескольких вещей, в том числе и «из табакерки с портретом Его Величества», не говоря уже о неких серьгах «бутонами».
Мастер справился с Высочайшим заказом в кратчайшие сроки, и уже 20 сентября 1850 года представил готовую работу в футляре вместе со счётом. Поскольку Кейбелю не хватило «казённых» алмазов-роз, то к полученным двум тысячам штук он прикупил 60 крупных алмазов таких же огранки и качества, и каждый самоцвет обошёлся ювелиру в 45 копеек. Мастер использовал «собственное» золото, в основном применив металл современной 750-й пробы для прочности воинского жезла, а в декоре, когда требовался более пластичный сплав, то из 1,05 кг употреблённого золота примерно треть была 80-й (= современной 833-й) золотниковой пробы. Свою работу и футляр Кейбель оценил в 1700 рублей 26 копеек.
В тот же день в Кабинет вызвали обоих штатных оценщиков, и придворные ювелиры Яннаш и Кеммерер, внимательно осмотрев новенький, сверкающий золотом и многочисленными алмазами фельдмаршальский жезл и сверив данные счёта, письменно подтвердили, что всё исполнено отлично, абсолютно верно перечислено количество и качество камней и золота, да и цена последнего, как и потраченной работы, Кейбелем «назначена настоящая». Причитающиеся мастеру 2543 рубля 50 копеек серебром выплатили из Комнатной суммы, то есть из личных денег императора. А вместо двадцати семи рублей, потраченных ювелиром на докупленные им алмазы-розы, ему предпочли выдать под расписку столько же кабинетских камней, стоивших те же деньги.
В тот же знаменательный день чиновники Камерального отделения, чтобы не затруднять начальство излишними хлопотами, заботливо и быстренько подготовили для министра Двора Волконского текст рапорта Его Императорскому Величеству. Николаю I настолько понравился сделанный Кейбелем фельдмаршальский жезл, что он, изволив прямо на докладной начертать резолюцию «очень хорошо», повелел срочно отослать высочайшую награду юбиляру в Белую Церковь (город на Украине, где он тогда находился).
3 октября 1850 года, во время празднования памятного юбилея, титулованный виновник торжества получил звание генерал-фельдмаршала прусских и австрийских войск, а от русского самодержца – сделанный Кейбелем новый фельдмаршальский жезл с «особой бриллиантовой надписью».[268]
В 1859 году Кейбель по заказу Императорского Кабинета исполнил «про запас» ещё один «обычный», украшенный бриллиантами фельдмаршальский жезл. Владельцем сего знака отличия лишь 16 апреля 1878 года стал «окончательно покоривший Кавказ» великий князь Михаил Николаевич.[269] Брат Александра II во время русско-турецкой войны за освобождение Болгарии занимал пост главнокомандующего Кавказской армией, хотя и не обладал ни талантами военачальника, ни особой энергией в осуществлении тактических задач. Однако в октябре 1877 года он удостоился ордена Св. Георгия 1-й степени «за разбитие наголову» подчинёнными ему войсками «под личным предводительством Его Высочества армии Мухтара-паши на Аладжинских высотах и принуждение большей части оной сложить оружие»,[270] а через полгода – и фельдмаршальского жезла.
Оклад мерной иконы на рождение князя Сергея Максимилиановича Лейхтенбергского
Выполнялись в мастерской Кейбеля и драгоценные оклады для икон. 8 декабря 1849 года в семье герцога Максимилиана Лейхтенбергского, зятя императора Николая I, родился сын Сергей. Матушка новорождённого, великая княгиня Мария Николаевна, решила на следующий же день по старому обычаю заказать образ соименного младенцу небесного покровителя и защитника – Св. Сергия, игумена Радоженского, Чудотворца. Икона в высоту повторяла рост крошечного «Его императорского высочества князя Романовского, герцога Лейхтенбергского, князя Эйхштедского де Богарне», отчего и называлась «мерной». Не откладывая важное поручение «в долгий ящик», граф Матвей Юрьевич Виельгорский, шталмейстер Двора старшей дочери самодержца,[271] уже 10 декабря доставил в Камеральное отделение Кабинета долгожданную мерку, сразу же вручённую академику Николаю Аполлоновичу Майкову (1794–1873).
Этот живописец, как ни странно, был художником-самоучкой. Сын директора Императорских театров, как и полагалось дворянину, вначале служил отчизне на поле брани, и хотя получил серьёзное ранение под Бородином, но затем успешно дошёл до Парижа. Находясь на излечении в отцовском имении под Ярославлем, Николай Майков настолько увлёкся живописью, что потом предавался своей страсти даже на кратковременных стоянках и бивуаках. Уже в Париже он попробовал писать масляными красками. Армия теперь больше его не привлекала, в отставке Николай Аполлонович мог спокойно оттачивать своё мастерство. Он так талантливо написал в 1835 году запрестольный образ в Троицкий собор Измайловского полка, что строгая комиссия удостоила его звания академика. Хотя в работах Майкова чувствовался привкус увлечённости произведениями старых мастеров, но написанные его умелой кистью портреты нравились заказчикам, а их благодаря благоволению самого Николая I было немало. Особенно удавалось живописцу воплощение религиозных сюжетов. Именно Николаю Аполлоновичу Майкову поручили исполнить как образа для малых иконостасов столичного Исаакиевского собора, так и иконы «Сошествие Св. Духа», «Богоявление» и «Поклонение волхвов» для Малой (Сретенской) церкви Зимнего дворца, не говоря уже о священных изображениях Божией Матери и Спасителя, предназначенных для благословения на брак цесаревича Александра Николаевича с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской.[272]
Поэтому выбор царской дочери был неслучаен. И художник оправдал ожидания. Хотя заказчица ждала образ Св. Сергия Радонежского к 5 июля 1850 года, когда бы в первый раз отпраздновали день Ангела её крохи-сына, уже 16 февраля икона высотой «205/8 дюйма, или 127/8 вершка» была академиком Майковым благополучно окончена.
Днём ранее в Кабинет поступил и счёт на позолоченную ризу к готовому образу. На неё ушло 3 фунта 271/2 золотников серебра 84-й (=875-й) пробы, которое вместе с работой и футляром золотых дел мастер «Jоганнъ Вильгелм Кейбель» оценил в 360 рублей. Справедливость запрошенной суммы письменно, как полагалось, подтвердили оценщики Кабинета, придворные ювелиры Яннаш и Кеммерер, засвидетельствовав, что их коллега правильно указал вес благородного металла и проставил «настоящие» (то есть справедливые) расценки серебра и стоимости исполнения оклада к иконе.
24 февраля граф Матвей Юрьевич Виельгорский расписался в получении писанного «для князя Сергия Максимилиановича в его рост образа» святого покровителя малыша. В тот же день золотых дел мастеру Кейбелю выплатили из Комнатной суммы 360 рублей, а через месяц, 23 марта, получил из того же денежного фонда запрошенные 115 рублей и академик Майков.[273]
Жизнь князя Сергея Максимилиановича оказалась недолговечной. Служил он в привилегированном лейб-гвардии Конном полку а в апреле 1877 года в свите императора Александра II уехал на русско-турецкую войну за освобождение Болгарии. Числившемуся при главнокомандующем осиротевшему внуку Николая I доводилось выполнять и чрезвычайно опасные поручения. 12 октября 1877 года князь выехал на рекогносцировку в местечке Иован-Гифтлик близ Тырново и, отправленный в разведку был убит.[274]
Весьма приблизительное представление о серебряном окладе может дать созданная через 10 лет подобная мерная же икона, сделанная на рождение великой княжны Анастасии Михайловны.
Мерная икона Св. Анастасии Узорешительницы на рождение дочери великого князя Михаила Николаевича, внучки Николая I
Дочь великого князя Михаила Николаевича и его супруги Ольги Феодоровны, урождённой принцессы Цецилии Баденской, Анастасия Михайловна родилась 16 июля 1860 года в Петергофе. Решено было её назвать в честь жившей в IV веке святой Анастасии Узорешительницы, считавшейся исцелительницей телесных и душевных болезней, помогавшей при отравлениях, а также изгонявшей демонов. Отец её был язычником, а мать – тайной христианкой. Хотя совсем юную девушку насильно выдали замуж за язычника, но она смогла избежать «радостей брака». Переодеваясь нищенкой, целомудренная дева посещала темницы, кормила, лечила и выкупала из узилищ страдальцев за веру. После кончины мужа она раздала своё имущество нищим и стала странствовать, помогая мученикам-христианам. В конце V века мощи святой Анастасии поместили в константинопольском храме Воскресения, так как именно это великое таинство скрывается в греческом имени «Анастасия».[275]
Великий князь Константин Николаевич записал под счастливой датой появления на свет малышки-племянницы в своём дневнике: «Только что проснулись, получили по телеграфу известие, что у Миши родилась дочка Анастасия. Большая радость. В 10 часов ездили с жинкой к нему его поздравить. Видел Настю, которая редкой красоты ребенок». А на следующий день «все вместе поехали в Петергоф, где в большой церкви был молебен по случаю рождения Анастасии. В это время погода была хороша, но перед обедом испортилась, и весь остаток дня шёл дождь, и вечером была гроза».[276]
Как всегда, была заказана икона Св. Анастасии, небесной покровительницы новорождённой, причём высота образа увековечивала рост (51,5 см) высокопоставленной малышки в момент, когда она явилась на свет. Обычными атрибутами святой исцелительницы были непременный крест и сосуд с лечебным бальзамом, но здесь Св. Анастасия лишь держит в деснице орудие страданий Спасителя. Вильгельм Кейбель сделал очень элегантный оклад-раму из эффектно проработанного серебра, оживив узор шаловливыми херувимами, примостившимися на углах. Чеканка настолько хороша, что их детские личики как будто оживляет радостная улыбка, а пёрышки крыльев кажутся слегка трепещущими. Не забыта и поясняющая надпись на табличке, наложенной внизу на рамку оклада: «Великая княжна Анастасия Михайловна родилась 16 июля 1860 в Петергофе» (см. рис. 14 вклейки).
Жизнь великой княжны, справлявшей тезоименитство 22 декабря, совсем не соответствовала житию её небесной покровительницы. 12 января 1879 года Анастасия Михайловна благополучно вышла замуж за великого герцога Фридриха-Франца III Мекленбург-Шверинского (1851–1897). Её сын Фридрих-Франц IV (1882–1945) наследовал отцу, старшая дочь Александрина (1879–1952) в 1912 году стала королевой Дании, а младшая Цецилия (1886–1954) – кронпринцессой Германии. Овдовев, русская великая княгиня полюбила Владимира Александровича Пальтова, у них в 1902 году в Ницце родился сын Алексис-Луи. Чтобы скрыть скандал и погасить ненужные толки, малышу удалось дать громкий титул графа де Бандан.[277]
Придворный ювелир помимо окладов икон исполнял и другие, самые разнообразные, церковные вещи. Потиры и лампады отличались изяществом работы, тонкостью чеканки и радостным многоцветьем эмалей.
Прихожан же Смольного собора Воскресения Спасителя восхищала сделанная Кейбелем массивная дарохранительница, похожая на большую арку с размерами 3,5×2,8 м, всю в барельефах, с двумя дюжинами яшмовых колонн на цоколе. На это великолепие ушло пять пудов серебра.[278]
Неудача с погребальной короной для Николая I
В 1855 году ювелиру поручили создать ещё один, на сей раз погребальный венец для Николая I,[279] почившего вечным сном 18 февраля, но, к сожалению, даже опытного Вильгельма Кейбеля (как некогда Георга-Фридриха Экарта) постигла неудача, поскольку он не учёл деформации головы усопшего императора. Корона, стоившая 1900 рублей серебром, оказалась слишком мала, чтобы держаться на монаршем челе, а посему придворному золотых дел мастеру возвратили злосчастный венец, впоследствии использованный при изготовлении заказных орденов и медалей, которые Кейбель поставлял в Капитул Российских орденов.[280]
Цепь испанского ордена Золотого Руна
Однако в другом почти «анекдотическом конфузе» маститый Вильгельм Кейбель оказался невиноват. Поскольку «почивший в Бозе» Николай I был кавалером ордена Золотого Руна, то теперь следовало возвратить орденскую цепь, присланную ему ещё с грамотой о награждении от 20 апреля 1817 года, в Испанию. Остальные европейские государства, удовлетворённые возвратом их орденских знаков, давно прислали квитанции об их получении. Только испанское правительство весьма настойчиво требовало скорейшей отсылки драгоценной цепи в орденский капитул. Дальше медлить было нельзя. Но вот незадача! Как тщательно ни искали, все поиски ни к чему не привели. Злосчастная цепь как в воду канула.
Тогда решили сделать новую. Нашёлся и образец. В 1850 году испанский король удостоил орденом Золотого Руна Владимира Фёдоровича Адлерберга (1791–1884), личность действительно незаурядную.
Блестящая карьера будущего графа Адлерберга, до 1829 года носившего имя Эдуард, началась 2 мая 1817 года, когда он стал адъютантом великого князя Николая Павловича. Рабски преданный своему патрону, он неразлучно состоял при нём до самой кончины, в течение 39 лет всюду сопровождая государя, и добросовестно исполнял самые доверенные поручения, часто заменяя секретаря в походах и путешествиях. Свою верность он доказал ещё при воцарении Николая I. Утром 14 декабря 1825 года Адлерберг при первых же известиях о беспорядках в столице перевёз юного престолонаследника из Аничкова дворца в Зимний, где по просьбе императора успокаивал императриц до победного возвращения самодержца с Сенатской площади. В благодарность новый государь сделал ещё тогда Эдуарда Фёдоровича флигель-адъютантом, а заодно поручил ему вести дела по бунту декабристов в важной должности помощника правителя следственной комиссии. Затем уже как Владимир Фёдорович, Адлерберг почти 15 лет управлял почтовым департаментом, причём на этом посту ввёл в обращение почтовые марки. А 30 августа 1852 года самодержец назначил графа всесильным министром Императорского Двора. Николай I так ценил Адлерберга, что в своём завещании, называя его другом и товарищем, назначил весьма значительную пенсию в 15 000 рублей в год.
Узнав о неудовольствии испанского двора, Адлерберг тут же передал свою цепь ордена Золотого Руна в Камеральное отделение Кабинета, заодно повелев выяснить у ювелиров сроки изготовления копии и уточнить её стоимость. Цепь должна была весить 1 фунт 58 золотников. Решено было сделать её из золота 72-й (равной современной 750-й) пробы. Вначале хотели, как обычно, воспользоваться услугами Английского магазина Никольса и Плинке, обещавшего через месяц выполнить заказ за 1 050 рублей. Однако в конкурсе победил придворный ювелир Вильгельм Кейбель, обязавшийся представить готовую вещь через две недели и к тому же взять за работу лишь 800 рублей серебром. В июле 1855 года исполненную Кейбелем цепь ордена Золотого Руна наконец-то отправили в Испанию. Придворные счастливо вздохнули. Но не тут-то было. В октябре 1855 года испанский поверенный при русском дворе вернул знак ордена обратно с заявлением, что сия цепь не соответствует выданной. Оказывается, Николай I был награждён большой цепью ордена, а его приближённый Владимир Фёдорович Адлерберг носил присланную ему малую, хотя и весом в 656 г.[281] Такого «пассажа» никто не ожидал. Ведь орден Золотого Руна официально степеней не имел. Посему петербургскому двору пришлось-таки приносить Мадриду свои глубочайшие извинения.
Однако вся эта курьёзная история только упрочила положение министра Двора. Александр II по восшествии на престол удостоил графа высочайшим рескриптом с приложением украшенного бриллиантами портрета Николая I. Адлерберг, награждённый 26 августа 1856 года алмазными знаками высшего русского Андреевского ордена, через два с половиной месяца, 10 ноября, оказался на престижном посту канцлера российских и царских орденов, возглавляя при этом и Министерство уделов. За многолетнюю верную службу августейший сын Николая I прислал 8 сентября 1859 года заслуженному придворному при особом рескрипте высшую награду – второй украшенный алмазами портрет, чтобы присоединить клику «Незабвенного» и своё изображение. Только потеря зрения заставила старого служаку оставить 17 апреля 1870 года престижный пост министра Императорского Двора и удалиться в отставку.[282]
Таинственный мастер «КК»
Заказов в мастерскую Иоганна-Вильгельма Кейбеля поступало много, и, для того чтобы справиться с ними, приходилось привлекать петербургских мастеров. Одним из них был Александр Кордес.
Уроженец Риги, где серебряниками работали его предки ещё в середине «осьмнадцатого» века, быстро освоился в российской столице. В 1824 году он стал подмастерьем, а уже в 1828 году успешно выдержал экзамен на звание серебряных дел мастера Русского цеха. С 1836 по 1841 годы Кордес исполнил для Кейбеля множество различных орденских знаков, когда тому пришлось вместе с Генрихом-Вильгельмом Кеммерером выполнять почётное и ответственное поручение Капитула императорских и царских орденов по пополнению оскудевших запасов. Вскоре чиновники Императорского Кабинета заметили мастерство и аккуратность работ Кордеса, и уже с 1839 года один за другим стали поступать заказы от Придворной Конторы. Мало того, что Кордес лишь за один первый год успел сделать тысячу столовых приборов и шесть красивых подносов, но ему всё время поручали делать массу всевозможных починок. В 1840 году мастер осмелился вступить в борьбу с другими весьма сильными конкурентами за право золочения посуды Высочайшего Двора. Его исполнение порученных работ настолько нравится, что в том же году серебряника удостоили звания придворного мастера. А далее Кордесу довелось делать то 50 объёмистых чайников (каждый на 35 чашек), то 200 солонок, то «конфектные» приборы, а то и целые серебряные сервизы. Деньги мастеру выплачивались весьма приличные, и уже в 1849 году он обрёл не только собственную мастерскую с магазином, но и собственный дом на 4-й линии Васильевского острова. Неизвестно, когда скончался Кордес, но ещё в 1874 году престарелый мастер был полон сил и энергии.[283]
В течение трёх десятилетий, с начала сороковых годов XIX века, в столице работал Карл Кордес, также серебряных дел мастер русского цеха. По всей вероятности, он был сыном Александра Кордеса. Деньги позволили молодому серебрянику, женившемуся на Густаве Хольмберг, уже в 1849 году приобрести собственную мастерскую, разместившуюся в пассаже на Невском проспекте, она ещё существовала в 1870 году.[284]
Скорее всего, именно Карл Кордес был тем самым таинственным мастером, который оставил своё клеймо-именник «КК» на великолепной золотой солонке, сделанной в ателье Иоганна-Вильгельма Кейбеля[285] и преподнесённой петербургским купечеством 18 апреля 1841 года.[286] Во всяком случае, в перечне петербургских мастеров нет какого-либо другого ремесленника, кто также имел бы подобный именник в этом году.
Согласно русскому обычаю, наполненные солью солонки вместе с хлебом преподносили на красивом блюде монархам при коронационных торжествах, при «Высочайших» посещениях губернских городов или учреждений. Эту же солонку же преподнесло петербургское купечество 18 апреля 1841 года. В данном случае купцы постарались своим подношением отметить приятное для императорской семьи и всех верноподданных событие: бракосочетание престолонаследника.
Рисунок для солонки и блюда заказали прославленному художнику графу Фёдору Петровичу Толстому (1783–1873). Карьера его складывалась удивительно. Молодой гардемарин, с детства любивший рисовать, ещё учась в Морском корпусе, всё свободное время «проводил с карандашом или кистью в руках».[287] Он настолько удачно, «с помощью ножичка и булавки» скопировал из воска портрет Наполеона и бронзовую медаль, что офицеру посоветовали пойти в медальерный класс, где он познакомился с Иваном Анфимовичем Шиловым и перенял у будущего академика профессиональные навыки лепки из воска с натуры, а также попробовал в первую же неделю резать по стали. Профессор скульптуры Иван Прокофьевич Прокофьев настолько удивился деловой сноровке моряка, что спросил: «Скажите, как вы хотите учиться художеству – основательно, как художник, или, как все ваши братья-дворянчики, только для забавы?» От сих слов, как писал сам Фёдор Петрович, «я почувствовал настоящее призвание, и что в нём я могу по моему всегдашнему желанию быть обязанным самому себе и отвергнуть всякие покровительства и протекции, и с этих пор я решился посвятить себя в художники».[288]
Серьёзная учёба увенчалась успехом. Однажды Александр I, залюбовавшись искусными работами Фёдора Толстого из воска, среди похвал присутствующему автору произнёс: «Я обещал перевести вас в Кавалергардский полк, но так как у меня много кавалергардских офицеров, и я могу их нажаловать сколько захочу, а художников нет, то мне бы хотелось, чтобы вы при вашем таланте к художествам пошли по этой дороге».[289]
Воля государя – закон. 1 октября 1806 года появился указ об определении графа при Эрмитаже с приличным жалованьем 1500 рублей ассигнациями, что дало возможность ему вначале снять квартиру на Пантелеймоновской улице, недалеко от Летнего сада, а затем переехать на Васильевский остров, поближе к академической литейной.[290] Родные, конечно же, ворчали, что граф Фёдор Петрович занимается неблагородным делом и этим наносит бесчестие не только своей фамилии, но и всему дворянскому сословию», однако Толстой не обращал на подобные реприманды особого внимания.[291]
Большой успех ожидал художника за серию из двух десятков аллегорических медальонов, воспевающих знаменитые героические сражения 1812–1814 годов с наполеоновскими войсками. Императрицам нравились сделанные Толстым изысканные зарисовки цветов, фруктов, птичек и бабочек. При Николае I граф всё чаще обращался к проектам фонтанов и различных памятников.[292] В 1830 году Толстой, будучи уже два года вице-президентом Академии художеств, создал прелестные иллюстрации к поэме И.Ф. Богдановича «Душенька».
По рисункам и моделям Толстого создавались почти все вазы, кубки и чаши к всевозможным юбилеям. После успеха золотых блюд, подаренных столичным дворянством и купечеством на коронацию Николая I, на высокопоставленного художника посыпались заказы петербургского общества на эскизы для роскошных золотых подносов и солонок, традиционно преподносимых в день бракосочетания августейшим особам: не только некоторым сыновьям, но и всем дочерям и племянницам грозного императора.[293]
От комплекта, исполненного Вильгельмом Кейбелем и Карлом Кордесом к бракосочетанию цесаревича Александра Николаевича с принцессой Гессен-Дармштадтской, свершившемуся 18 апреля 1841 года, сохранилась лишь весящая почти 6 кг золотая массивная солонка, поддерживаемая двуглавыми орлами Российского герба и увенчанная лавровым венком (см. рис. 15 вклейки). Она поражает совершенством техники обработки как золота, так и серебра, а также виртуозной проработкой тончайших лепестков, из которых составлены изящные полураскрытые розы. Кстати, эти прелестные цветы в тяжёлых, сплетённых из них, гирляндах и лавровый венок привели к путанице. Когда триумфатор-победитель Наполеона вернулся из Парижа на родину, заботливая матушка уготовила дражайшему сыну 27 июля 1814 года приём в специально построенном в Павловске Розовом павильоне и примыкающем к нему зале, украшенном венками и гирляндами из роз – царицы цветов.[294]
Потому-то считается, что солонка подарена императору Александру I, увенчанному лаврами и осыпанному розами.[295] Но восхитительные любимицы богини любви и красоты Венеры означали женственность и очарование новобрачной Марии Александровны, а лавровый венец, украшенный зелёной эмалью, повествовал о воинских доблестях и героических наклонностях молодожёна, будущего императора Александра II.
Юлиус Кейбель
Исполнение двух фельдмаршальских жезлов для героев русско-турецкой войны 1877–1878 годов
Сын и внук Иоганна-Вильгельма Кейбеля, скончавшегося, как считают, в 1862 году, успешно продолжали семейное дело, а превратившаяся в фабрику мастерская существовала ещё в 1910 году, и в отечественных музеях сохранился целый ряд разнообразнейших вещей с клеймом «Keibel»: всевозможные орденские знаки, коробочки, солонки, чашечки, предметы церковной утвари. Дело придворного золотых дел мастера николаевских времён успешно продолжали его сын и внук, трудясь в основном над многочисленными орденами и наградным оружием. Мастерская Юлиуса Кейбеля (1825–1882) размещалась теперь на Большой Морской, но записан он уже в купцы первой гильдии и в 1880 году значился владельцем пяти домов и старшиной Демидовского дома призрения.[296] Юлиусу Кейбелю доверили исполнить в 1867 году к бракосочетанию великой княжны Евгении Максимилиановны оклад для иконы Богоматери.
В 1878 году к ювелиру поступил весьма ответственный и престижный заказ на два фельдмаршальских жезла, украшенных бриллиантами. Уже говорилось о том, что в 1859 году И.-В. Кейбель по заказу Императорского Кабинета исполнил «про запас» фельдмаршальский жезл, осыпанный бриллиантами. Лишь 16 апреля 1878 года высочайший знак военного отличия торжественно вручили великому князю Михаилу Николаевичу.[297]
Первый же из новых фельдмаршальских жезлов экономно сделали в мастерской Юлиуса Кейбеля к 20 июля 1878 года на сей раз из золота 56-й пробы, точно скопировав, не долго думая, работу отца хозяина, знаменитого Иоганна-Вильгельма Кейбеля. Он предназначался для великого князя Николая Николаевича, другого брата Александра II.[298] Правда, третий сын императора Николая I, «человек обаятельный, любивший войска и любимый ими», не был полководцем, поскольку начисто «у него отсутствовало первое и основное качество военачальника – сила духа». Великий князь терял голову при неудачах, а посему ответственнейшая должность главнокомандующего действующей Дунайской армией явно превышала силы и способности Николая Николаевича. Тем не менее своей храбростью он заслужил высшие воинские награды: за успешное форсирование Дуная великий князь удостоился ордена Св. Георгия 2-й степени, а за «овладение 28 ноября 1877 года твердынями Плевны и пленение армии Османа-паши, упорно сопротивлявшейся в течение пяти месяцев»,[299] стал последним, двадцать пятым кавалером первой степени этого военного ордена.
Уже 21 января 1878 года императором Александром II утвержден рисунок сабли. Она должна была украситься бриллиантами и лаврами из изумрудов. Александр II сделал на полях проектного рисунка замечание: «Уменьшить число бриллиантов и самый рисунок, чтобы не слишком выходить из цены, сравнительно с шашкою, пожалованною В.К. Михаилу Николаевичу» (напомним, что в 1864 году император также распорядился уменьшить число драгоценных камней на оружии для Михаила Николаевича, чтобы не выходить из пределов стоимости шпаги, пожалованной в 1831 году великому князю Михаилу Павловичу). Стоимость изготовленной сабли составила вместе с работой 8 168 рублей. До нашего времени она не дошла, но известно ее изображение, сделанное с натуры художником А.П. Сафоновым. По сравнению с проектом здесь несколько уменьшено количество драгоценных камней, вместо изумрудов лавры, видимо, были сделаны в зелёной эмали. Хранилась сабля после смерти владельца в полковой церкви лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. В настоящее время её местонахождение не известно. А в 1878 году Николай Николаевич получил долгожданный фельдмаршальский жезл. Отныне великий князь любил появляться на торжественных парадах, щегольски делая «заезд перед императором, салютуя своим жезлом, осыпанным бриллиантами, переливавшимися на солнце.[300]
Проектный рисунок наградной сабли великого князя Николая Николаевича старшего
Наградная сабля, украшенная бриллиантами, с надписью «За переход через Балканы в декабре 1877 г.» и фельдмаршальский жезл, принадлежавшие великому князю Николаю Николаевичу старшему. Акварель. Рисунок с натуры художника А.П. Сафонова
О владельцах фельдмаршальского жезла императора Александра II
Второй фельдмаршальский жезл (как две капли воды похожий на первый) был готов 22 января 1879 года. Он предназначался для самого императора, возложившего на себя это высшее воинское звание в ходе боёв в апреле 1878 года, а поэтому Юлиус Кейбель применил в работе золото 72-й (современной 750-й) пробы.[301] Однако вплоть до своей трагической гибели 1 марта 1881 года от рук народовольцев Александр II так и не затребовал себе почётный знак военачальника-полководца.
Только в декабре 1894 года эту принадлежность к высшему воинскому званию при отставке удостоился получить другой прославленный участник той же Балканской войны – генерал Иосиф Владимирович Гурко. В 1901 году фельдмаршал скончался, а его сын, известный военный историк, продал жезл отца в 1908 году в Императорский Кабинет.
Приближался полувековой юбилей пребывания на троне князя Черногории Николая Петровича Негоша (1841–1921), искусного интригана и прирождённого актёра. Его любимым занятием была политика, причём правитель крошечной страны обожал ссорить дипломатов разных стран «друг с другом, чтобы поочерёдно получать сведения об их коллегах». Подобное лицедейство помогло князю стать тестем двух русских великих князей («Стана» – Анастасия стала после развода с герцогом Лейхтенбергским женой Николая Николаевича-младшего, а Милица вышла замуж за Петра Николаевича) и добиться провозглашения в августе 1910 года королём Черногории, что сыграло немаловажную роль в награждении новоиспечённого монарха в том же году жезлом российского фельдмаршала, три десятилетия назад сделанного для самого императора-«Освободителя».
Затем жезл российского фельдмаршала, видно, переходил из рук в руки всевозможным антикварам, пока не оказался в октябре 2004 года на нью-йоркском аукционе «Кристи». Покупатели отчаянно торговались за редкостную вещь, и стартовая цена от 100 тысяч долларов возросла вдевятеро, пока резкий звук молотка оборвался при баснословной сумме в 904 тысячи долларов. И канул бы этот жезл в неизвестность, если бы не предпринял отчаянные усилия по возвращению исторической вещи на родину Российский национальный музей и не выкупил его через полгода у счастливого владельца.[302]
Закат фирмы
После смерти Юлиуса Кейбеля дело продолжал его сын Альберт-Константин, в 1881 году выполнивший «урок на звание мастера» и уплативший пошлину в 631 рубль. В 1891 году, в связи со специализацией фамильной мастерской, именно «золотых дел мастеру Кейбелю» доверили изготовление для нужд Кабинета «по особому образцу» целой серии знаков ордена Св. Апостола Андрея Первозванного «без бриллиантовых украшений, для нехристиан». Однако всё чаще право на исполнение заказов для Капитула царско-императорских орденов перехватывала у Кейбеля фирма «Эдуард», а вскоре долголетнее и чрезвычайно выгодное сотрудничество со всесильным ведомством и вовсе прекратилось. Тем не менее, ещё в 1905 году Альберт Юльевич Кейбель выполнил для Капитула 73 % всех знаков, в то время как на долю Д.Э. Дитвальда, владельца фирмы «Эдуард», пришлось лишь 20 %, а А.К. Адлер, хозяин предприятия «Д. Осипов», удовольствовался исполнением около 7 % заказов.[303]
В конце последнего десятилетия XIX века дела внука Иоганна-Вильгельма, вероятно, пошатнулись, в 1900 году Альберт-Константин Кейбель уже числился купцом лишь второй гильдии,[304] а после его смерти в 1910 году просуществовавшая немногим более века фирма «Кейбель» окончательно прекратила своё существование.[305]
Столичным ювелирам всегда хватало работы. Ведь даже в середине XIX века Дюма-отец, побывав в России, восхищался: «Русские мастера – лучшие оправщики драгоценных камней в мире, никто лучше них не владеет искусством оправки бриллиантов». Да это и неудивительно.
Глава V Династия Болинов
Почти век, вплоть до революционных потрясений и конфискаций, в Петербурге и в Москве работали ювелирные фирмы, принадлежавшие членам семьи Болин. Фамилия «Bolin» этих выходцев из Швеции, произносящаяся на родном языке «Булин», своим происхождением обязана предкам-мореходам. Ведь «булинем» называли «снасть на парусном судне для оттяжки шкаторины паруса к ветру. Судно на булинях идёт в бейдевинд, а с опущенными – плывёт без руля и без ветрил».[306]
Карл-Эдуард Болин
В апреле 1831 года потерпел крушение в Ла-Манше корабль Юнаса-Вильгельма Болина. Ценный груз отправился на дно, а все люди, включая капитана-владельца и его 24-летнего сына, погибли в волнах. Из-за этой катастрофы большая зажиточная семья Юнаса-Вильгельма Болина разорилась. Несчастной вдове Шарлоте-Вильгельмине, почти чудом сохранившей небольшую усадьбу в Стокгольме, надо было поднимать младших детей.
Третий сын Карл-Эдуард (03.08.1805–29.01.1864), выучившийся бухгалтерскому делу, решил искать фортуны в России, чтобы помочь матери и оставшимся десяти братьям и сёстрам. Сначала он безуспешно пытался устроиться по профессии в Борго (где записался в купеческое сословие) или в Гельсингфорсе. Не преуспев в делах, молодой бухгалтер переезжает из Великого Княжества Финляндского в Петербург, где вскоре становится компаньоном ювелира Готтлиба-Эрнста Яна, а в 1834 году – и его шурином, так как хорошо воспитанный, обладавший немалыми музыкальными способностями и приятным голосом красавец-швед сумел пленить своей особой Катерину-Эрнестину Рёмплер и взять её в жёны.
После безвременной и трагической гибели Яна фирма тем не менее продолжала своё существование, и последний раз её название «Ян и Болин» (с примечанием в скобках: «бывший Рёмплер») упоминалось в 1854 году в Адресной книге Петербурга.[307]
В 1839 году Карл-Эдуард Болин и его невестка удостоились звания «Придворных Ювелиров и Поставщиков Императорского Двора», так как «отец и муж Софии Ян, равно как она сама и зять её Болин действительно делали для Кабинета и для Ея Величества более двадцати лет разные бриллиантовые вещи, которые были выполняемы ими с изящностью, отличным тщанием и чистотою, так что в течение означенного времени не было причины оставаться ими недовольными».[308] Отныне преемники дела мастера Рёмплера смогли помещать на своих вывесках и изделиях изображение российского государственного герба.
Правда, ради обретения права именоваться Поставщиком Высочайшего Двора Болину пришлось перейти в русское подданство. Однако членов его семьи сочли наследственными русскими гражданами лишь в 1862 году благодаря тому, что их отец «всё это время надлежащим образом исполнял свои обязательства, <…> перед Короной, <…> не подвергался банкротству и не обвинялся в каком-либо преступлении», да к тому же давал деньги на благотворительность.[309] С 1851 по 1864 годы Карл Болин, служа оценщиком Кабинета, вместе с Брейтфусом и Зефтигеном участвовал в проверке и оценке коронных бриллиантов. За ревностное отношение к работе он в 1846 году получил золотую медаль с надписью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте, а в 1857 году удостоился такой же медали, но уже на Владимирской ленте.[310]
Ему поручаются ответственные заказы. При бракосочетании великого князя Константина Николаевича с великой княгиней Александрой Иосифовной Карл Болин нанизывал на брачную корону невесты казённые бриллианты, делал он бриллиантовые серьги и брошь с аметистом для самой императрицы, исправлял вещи к свадьбе великой княжны Екатерины Михайловны, а также непрерывно создавал унизанные бесчисленными алмазами, жемчугами, изумрудами и прочими каменьями различные диадемы, броши, браслеты, кулоны, аграфы, сен-сесили, табакерки, кресты, золотые часы.
Жемчужная диадема
В 1834 году Николай I издал вошедший в полное собрание законов Российской империи указ о придворном платье, и отныне головы дам и девиц при Дворе в обязательном порядке украсили дополняемые белыми вуалями кокошники и повязки «в национальном стиле». Маркиза де Кюстина настолько покорила прелесть этих обязательных костюмов, что он признал: «Национальный наряд русских придворных дам величественен и дышит стариной», а «парадные платья с длинными рукавами и шлейфом сообщают облику женщин нечто восточное и радуют глаз». Но особенно поразил француза увенчивающий головы статс-дам и фрейлин «убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадёжно вредит женщинам некрасивым».[311] К святкам нового 1842 года самодержец решил порадовать свою жену, обожавшую жемчуга, новой диадемой, которая, в отличие от старой, переделанной Яном в 1833 году[312] должна была напоминать унизанные перлами русские очелья допетровского времени.
К. Болин. Бриллиантовая диадема с жемчужными подвесками
Чтобы подобрать нужные камни, с разрешения монарха Карл Болин осмотрел коронные вещи. 5 декабря 1841 года из них «ювелиру Болину на сделание Диадемы» отпустили несколько украшений, отдельные камни, бывшие как в россыпи, так и в повреждённых предметах. Кроме них, Болин добавил 900 «собственных» алмазов-роз.
«2-го Генваря 1842 Года» исполненная Болином дивная «Диадема составленная из Коронных брилиянтов и Жемчугов» была занесена в опись коронных вещей. Придворный ювелир успел за чрезвычайно короткий срок исполнить к декабрю 1841 года дивную жемчужную диадему.[313] Тяжёлые капли матовых отборных жемчужных подвесок, напоминающих жёлуди, кажется, едва удерживаются бриллиантовыми «чашечками» и зависают над сверкающим алмазными искрами фестончатым, заставляющим вспомнить о готических арочках, бордюром, чуть не касаясь его.[314]
А. Картье. Диадема-кокошник. 1908 г.
Недаром её очарование так подействовало на Луи Картье. Тот, конечно же, во время своего первого визита в Северную Пальмиру на Рождество 1907 года не упустил возможности ознакомиться с хранившимися в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца коронными сокровищами, и совершенно очевидно, что ряд диадем французского ювелира, в особенности созданная в 1908 году диадема-кокошник,[315] представляет собой пусть отдалённый, но всё-таки несомненный вариант болиновского шедевра.
Исключительно прекрасный подбор необычайно редких по величине жемчугов поразил знатока камней академика Ферсмана, просматривавшего в 1922 году сокровища царской семьи.
Пройдя с молотка на аукционе Кристи в 1927 году (хотя официально лот № 117 остался непроданным из-за большой стартовой цены)[316] творение Болина промелькнуло на торгах той же фирмы в 1979 году как собственность английской вдовствующей герцогини Мальборо[317] а затем диадема оказалась в коллекции Имельды Маркос. К сожалению, супруга президента Филиппин даже не подозревала о подлинной исторической ценности диадемы, иначе она вряд ли (как говорят) размонтировала дивное украшение русских императриц, чтобы снятые редкостные перлы украсили ей собрание жемчуга.
Уже в наши дни золотые руки ювелиров Алмазного фонда СССР Виктора Владимировича Николаева и Геннадия Фёдоровича Алексахина, повторяя по старым фотографиям шедевры своих предшественников, воссоздали в 1987 году и эту диадему.[318] Правда, в отличие от оригинала, в реплике помимо платины, а не серебра, применён также вместо натурального, культивированный, а поэтому идеальной сферической формы и ровного тона жемчуг, прекрасно подобранный и по величине. Полную чарующей прелести копию старинной диадемы, напоминающей национальный праздничный головной убор, назвали «Русской красавицей».
Интересно, что в начале XX века в США, правда недолго, в женском костюме существовала мода на «тиары»-кокошники, что объяснялось бурным увлечением всем русским, в немалой степени обязанным фантастическим успехам гастролей русского балета.
С 1849 года мастерская Болина, где работало около полусотни человек, располагалась на углу Невского и Грязной (ныне Марата) улицы.[319] Дела шли успешно. Слава придворного ювелира росла, и вскоре от заказчиков не стало отбоя. В том же году в семье её владельца родился последний, восьмой ребёнок, причём крёстной крошки Александрины согласилась стать сама императрица Александра Феодоровна.[320]
Да это и неудивительно. Ведь Болин никогда не отказывался от выступлений в благотворительных концертах, устраиваемых при Дворе. У обоих братьев Болин были столь прекрасные голоса, что однажды кто-то из слушателей не удержался и спросил Карла-Эдуарда, не хочет ли тот сделаться оперным певцом? Поставщик Двора Его Величества гордо ответил: «Никогда я не буду петь за деньги!»[321]
Триумфальный успех работ Карла Болина на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне
Слава Карла Болина выросла и упрочилась на первой же Всемирной выставке, состоявшейся в Лондоне в 1851 году. Исполненные придворным ювелиром диадемы, браслеты и броши поразили знатоков как своей красотой и фантазией форм, так и изысканным подбором, казалось бы, традиционных камней: бриллиантов, жемчугов, рубинов и бирюзы, создававших подчас непривычную колористическую гамму. Особенно восхищала всех брошь, неповторимый эффект ей придавали жемчужины редкостного стального цвета. Но главным образом удивляло мастерство закрепки. Все представленные Болином работы «решительно превосходили совершенством оправы всё, что было на выставке, не исключая даже диадемы испанской королевы работы знаменитого парижского ювелира Лемонье».
Карл Болин, несомненно, пережил подлинный триумф, когда браслет работы его фирмы на следующий же день после открытия выставки купил считавшийся первым любителем и знатоком г-н Гоуп (Хоуп), владевший лучшим собранием драгоценных камней в Англии.[322]
Не скупились на похвалы и критики, и хотя в самой России многие считали «невозможным для нашего отечества первенствовать или даже соперничать с другими государствами, особенно с Францией, законодательницей моды и вкуса», англичанин Кристофер Хобхаус, описывая сокровища экспозиции Хрустального дворца, недвусмысленно высказался, что «русские ювелиры Болины были лучшими на выставке, как по дизайну, так и по качеству».[323]
Ему вторил автор статьи в газете «Английская иллюстрация»: «Всего более было обращено внимание на бриллианты… Величина их не чрезвычайна, отделка их превосходит всё по искусству, лёгкости и изяществу. Под одним стеклянным колпаком была прелестная бриллиантовая диадема с яхонтами и опалами. Рисунок этой диадемы превосходный, и отделка её так нежна, что серебряная вязка видна только с изнанки… Под другим колпаком находится ожерелье из бриллиантов и яхонтов в виде виноградной кисти. Отделка этой драгоценности самого изящного вкуса и так легка, что связи её едва видны, видны одни виноградинки. Все они нанизаны на одну нить. Им могут позавидовать лучшие парижские бриллиантщики».[324] Победа была полной. Фирма Болин на Лондонской Всемирной выставке 1851 года удостоилась высшей награды.
Бриллиантовый фермуар в виде двух подковок
В конце следующего, 1852 года, императрице Александре Феодоровне захотелось иметь новый прочный и красивый фермуар, который бы надёжно скреплял тяжёлое ожерелье, состоящее из трёх нитей-низок крупного жемчуга, подобранных таким образом, что они, не перепутываясь, образовывали единое целое. Высочайший заказ поступил к придворному ювелиру Карлу Болину, находившемуся после триумфа на первой Лондонской Всемирной выставке в зените успеха.
Карл Болин. Жемчужное колье из трёх ниток с бриллиантовыми застёжками. 1852 г.
Отобрав нужные для работы коронные бриллианты, в том числе из давно не употреблявшихся украшений, он сделал обе части застёжки, придав каждой форму подковки с как бы зависавшим внутри неё крупным грушевидным панделоком, отчего пространство вокруг последнего образовывало вторую «подкову». Столь, на первый взгляд, странный мотив придворный мастер выбрал неслучайно, эта эмблема удачи, по народным поверьям, должна приносить владелице счастье. К тому же, как известно, подкова (правда, вместе с наковальней) служила атрибутом Св. Элигия, покровителя ювелиров и кузнецов.[325] На сей раз пришлось пожертвовать одной из семи «буколь», чтобы взять из неё панделок-«подвеску», весившую, по определениям придворных оценщиков, «от 24-х до 26 гран».[326] После 1925 года это трёхрядное жемчужное ожерелье с драгоценным фермуаром неизвестно куда продали. Но сохранившаяся чёрно-белая фотография позволяет оценить не только неисчерпаемую фантазию Болина, но и справедливость высказываний о редком мастерстве, с каким делались оправы, потому что многочисленные алмазы зажаты в почти незаметных сверху «лапках»-крапанах и как будто «зависают» над серебряной с золотым низом основой, совершенно скрывая её.[327]
Некоторые клиенты Карла Болина, нуждаясь в деньгах во время Крымской войны, предложили ему купить у них за полцены когда-то приобретённые в его фирме драгоценности. Однако придворный ювелир, прекрасно зная, как выросли цены, ответил, что он сможет дать продавцам-аристократам лишь первоначальную цену. Согласно семейной легенде Болинов, это так устыдило высокопоставленных магнатов-клиентов, что они, «вместо того чтобы продавать фирме обратно свои украшения, начали покупать новые».[328]
Хенрик-Конрад Болин и его петербургские племянники
Почти два десятилетия помогал старшему брату перебравшийся в Северную Пальмиру в 1836 году из Стокгольма Хенрик-Конрад Болин (1818–1888), пока не почувствовал себя в силах, особенно после триумфального успеха фирмы на Всемирной Лондонской выставке, завести филиал семейного дела в Москве, куда он переехал в 1852 году. В «первопрестольной» Хенрик-Конрад (Генрик-Конрад), или, как его предпочитали именовать, Андрей Болин вступил в компанию с великобританским подданным, коммерсантом Джеймсом-Стюартом Шанксом, зарегистрировавшимся «владельцем магазина золотых и серебряных изделий в Москве». В открытом на Кузнецком мосту магазине фирмы, явно в пику столичному «Английскому магазину Никольса и Плинке» названном «Английский магазин. Шанкс и Болин», младший брат придворного ювелира возглавлял отдел серебряных и ювелирных изделий. Ставка делалась на серебро, так как Москва испокон веков славилась традиционными вещами из этого драгоценного металла.[329]
Целая группа московских мастеров работала на успешную фирму.[330] У Хенрика-Конрада было семеро детей: три дочери и четыре сына. Когда глава семейства скончался, выяснилось, что всё огромное состояние он завещал жене и дочерям. Шанкс тут же вышел из дела, основав собственный торговый дом. Сыновья, получившие солидное образование, должны были сами пробивать жизненную стезю.
Заправлявший делами отца и уцелевшими мастерскими Вильгельм-Джеймс Болин (1861–1934), изучивший тонкости ювелирного искусства в Париже, Лондоне и Амстердаме, обратился к петербургским кузенам, и в конце 1880-х годов в Москве появился элегантный магазин – филиал петербургской ювелирной фирмы «К.Э. Болин». Московское отделение торгового дома Болинов в основном выпускало серебряную посуду, предметы быта и туалета, широко используя как скопированные с экспонатов Исторического музея орнаменты, так и эскизы руки приглашённых из-за границы французских художников, внесших в работы фирмы черты модного нового стиля модерн. Между живущими в Петербурге и в Москве родственниками царили полнейшие взаимопонимание и дружба. Однако по деловым соображениям в 1912 году московский филиал выделился в самостоятельную фирму «В.А. Болин», руководимую вплоть до 1918 года Вильгельмом (Василием Андреевичем), которому активно помогал его младший брат Хенрик-Конрад-младший. Благодаря своей кипучей энергии Вильгельм Болин открыл конторы в Лондоне, Берлине и Париже, помогавшие ему для выполнения заказов европейских княжеских домов приобретать лучшие камни, учитывать изменения моды, безопасно пересылать драгоценности. Придворный ювелир, он мог бы стать русским дворянином, но Вильгельм Болин предпочёл сохранить шведское гражданство.[331] В Петербурге дело Карла Болина наследовали и продолжали его вдова и сыновья: Эдуард-Людвиг (1842 – после 1916), ставший сразу же после смерти отца, с 1864 года, оценщиком Кабинета, придворным ювелиром и поставщиком Высочайшего Двора, и Густав-Оскар-Фридрих (1844–1916). Их дом, где размещались мастерские и магазин, вначале находился на Мойке, 55, а в 1869 году братья перебрались поближе к Зимнему дворцу, купив у отставного подполковника Дементьева дом на Большой Морской улице, 12 (ныне – № 10). Архитекторы Ф.Л. Миллер и В.И. Шауб полностью перестроили здание в 1874–1875 годах, украсив фасад изображением двуглавого орла, фланкированным с обеих сторон фамилией владельцев, данной в написании на русском языке и на латинице.[332] И сейчас над окном слева от эркера можно прочитать высеченное на фасаде имя «BOLIN».
Клиенты поднимались на второй этаж дома и попадали в красивые, элегантно, но «по-домашнему» обставленные салоны, где их угощали чаем и потом демонстрировали украшения. Больших запасов готовых изделий не делалось, а в магазине приобреталось в основном серебро «московского» Болина. Всё изготовлялось по заказу, причём оговаривалось и использование конкретных драгоценных камней в новых моделях.[333] В 1871 году Эдуард и Густав Болины реорганизовали магазин и мастерские в торговый дом «К.Э. Болин» («Карл Эдуард Болин»), действовавший вплоть до 1917 года, соперничая с фирмой Фаберже.[334] Своеобразным кредо членов семьи ювелиров стали слова «московского» Болина: «Я не гонюсь за дешевизной, моя цель – изготавливать украшения, которые нельзя приобрести в другом месте и которые – от самых мелких до самых крупных – совершенны».[335]
Большая Морская ул., 10
Неоднократно изделия столичной фирмы Болина выставлялись на мануфактурных выставках, неизменно получая золотые медали и призы. На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года, проходившей в Петербурге на территории Соляного городка, работы фирмы наградили золотой медалью за «совершенную чистоту ювелирной работы, искусный подбор камней и изящество рисунков при долговременном существовании фирмы».[336] Все согласились, что именно Болину принадлежало «первое место, как по изяществу рисунка, совершенству работы, так и по высокой ценности изделий», причём «знатоки не могли довольно налюбоваться его большой диадемой из листьев плюща, исполненных только бриллиантами, чрезвычайно искусно сплетёнными, так что металл, их поддерживающий, совершенно исчезает».[337]
Столь же высокая оценка работы торгового дома «К.Э. Болин» повторилась и на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве, где внимание публики привлекли «необыкновенно изящные два золотых веера, отделанные бриллиантами и украшенные живописью во вкусе XVIII века», и роскошная диадема, изумляющая знатоков качеством жемчугов и бриллиантов. И опять все отметили поразительный эффект, когда кажется, что «камню не на чем почти держаться; он между тем укреплён плотно и составляет с гнездом как бы одно нераздельное целое. Солидность работы, не вредящая изяществу, блеск, не вредящий вкусу, отмечают произведения г. Болина в ряду других произведений того же рода».[338]
В аристократических кругах славились диадемы, браслеты, броши, серьги, переливающиеся многочисленными, сплошь унизывающими поверхность металла основы, бриллиантами, в которые искусно вкрапливались мерцающие влажным блеском жемчужины, посверкивающие фиолетовыми огоньками аметисты, пламенеющие алыми сполохами рубины. Считалось весьма престижным иметь в приданом вещи, приобретённые у Болина. Недаром Александр II подарил своей дочери Марии, выходившей в 1874 году замуж за герцога Эдинбургского, великолепную парюру с бриллиантами и рубинами, созданную в фирме Болина.[339] Великий князь Александр Михайлович вспоминал, что к его женитьбе в 1894 году все подарки императора, касающиеся ювелирных работ, «были заказаны у Булина, лучшего ювелира Санкт-Петербурга».[340] К свадьбе князя Феликса Феликсовича Юсупова (прославившегося потом убийством Григория Распутина) с великой княжной Ириной Александровной украшения, разместившиеся затем в специальных витринах, заказывались в первую очередь у Болина и только после этого «уже у Фаберже, Картье, Бушерона, И. Симнж и у «Колленвуд и Компании».[341]
Именно придворному ювелиру Эдуарду Болину выдали бриллианты на изготовление свадебного венца для датской принцессы Дагмар, выходящей замуж за цесаревича Александра Александровича,[342] ему же доверили исполнение обручальных колец Николая II и принцессы Алике Гессенской,[343] а несколько лет спустя – четырёх наперсных крестов, усыпанных хризолитами, аквамаринами, гранатами, аметистами и алмазами, к путешествию Их Величеств в Саровскую пустынь на канонизацию преподобного старца Серафима Саровского.[344]
Мастера, сотрудничавшие с фирмой Болинов
На фирму Болинов работало много талантливых мастеров. Около 1850 года началось семилетнее сотрудничество с прославленным петербургским ювелиром Александром-Францем Бутцем,[345] чья мастерская располагалась в доме Жадимировского (перестроенном в 1860-х годах) на Большой Морской, № 21.
В доме на Мойке размещалась мастерская «главного ювелира» фирмы Владимира Яковлевича Финикова. Там в 1897 году работали 15 человек, производя браслеты, броши, запонки, кольца и портсигары. Золотых и серебряных дел мастер Николай Андреевич Черноков, происходивший из крестьян Олонецкой губернии, трудился на Литейном, 40. Небольшие золотые предметы с камнями делал Эдуард-Вильгельм Шрамм, работавший и на фирму Карла Фаберже.[346] Затем главным ювелиром стал эльзасец Франс Вебер. Изящные вещи исполнял Василий Васильевич Цвернер (Свернер). В начале XX века в петербургской фирме Болинов насчитывалось около ста сотрудников.[347]
Особенно выделялся среди них своим незаурядным дарованием Роберт Шван (Швен), награждённый на Всероссийской выставке 1882 года серебряной медалью на Аннинской ленте.[348] В память коронации Александра III именно этот мастер исполнил в 1883 году несколько бриллиантовых брошей в виде императорской короны с портретами августейшей четы, предназначенных для датской королевы Луизы, матери счастливой царицы Марии Феодоровны, и для кронпринцессы Ловизы, дочери шведского короля Карла XV. Супруга датского престолонаследника в 1899 году получила в подарок от русского Двора и великолепную подвеску-сердечко, усыпанную алмазами и жемчугом, также работы Роберта Швана. После смерти ювелира мастерской не без успеха управляла его вдова София Шван.[349]
Изумрудный гарнитур последней императрицы
Около 1897 года, выполняя заказ молодой императрицы Александры Феодоровны, Болин создал диадему и ожерелье, входившие в великолепную алмазную парюру с крупными изумрудами. Украшение на корсаж, входившее в этот гарнитур, ввиду срочности работы, исполнил Кнут-Оскар Пиль, мастер московского отделения фирмы Фаберже. В ожерелье чередовались алмазные петли и бантики красивого рисунка, дополненные каплевидными подвесками, своеобразной подковкой окружающими изумрудные кабошоны. Те же элементы мастер Роберт Шван (Швеи) использовал и в диадеме, однако теперь исполненные из южноафриканских алмазов ленты, взмывая кверху, то свивались в тяжёлые петли, окружающие фантастический цветок с сердцевинкой из крупного изумруда, то прихотливо сплетались в капризно изогнутые банты. Мало того, что громадный травянисто-зелёный изумруд в центре диадемы весил 23 карата, но сей смарагд, найденный в копях Колумбии, для большего эффекта огранён высоким четырёхугольным пирамидальным кабошоном.[350] Дивная диадема настолько нравилась коронованной владелице, что художник Николай Корнилиевич Бодаревский запечатлел её на одном из портретов супруги Николая II.[351] Поскольку в это время не редкостью стали трансформирующиеся украшения, Роберт Шван сделал отдельные детали диадемы съёмными, отчего понадобилось их пронумеровать (см. рис. 16, 17 вклейки).
Кнут-Оскар Пиль. Пластрон из бриллиантового гарнитура с изумрудами
Карл Болин. Колье из бриллиантового гарнитура с изумрудами
Диадема супруги великого князя Михаила Михайловича
Из рук мастеров фирмы «К.Э. Болин» вышла и другая диадема со съёмными частями, при желании трансформирующимися (благодаря соответствующим креплениям) в самостоятельные украшения. Заказал её член семьи Романовых, вынужденный эмигрировать за границу из-за своей «глупой» женитьбы.
14(26) февраля 1891 года великий князь Михаил Михайлович (1861–1929), презрев мнение света и запреты родных, обвенчался в Сан-Ремо со своей любимой. Второй сын великого князя Михаила Николаевича, обладавший располагающей внешностью, благородным сердцем и незаурядными способностями танцора, служил в лейб-гвардии Егерском полку. «Миш-Миш» мечтал об уютном семейном гнёздышке во дворце на Адмиралтейской набережной, № 8, однако ему вовсе не нравились «равнородные» иноземные принцессы, предлагаемые ему в жёны, а посему он отверг и Ирэну Гессенскую (родную сестру Алике и Эльзы), и дочь будущего английского короля Эдуарда VII Луизу-Викторию. Причём британской принцессе 26-летний великий князь, приехавший свататься, не смущаясь, простодушно заявил, что он, конечно же, готов жениться на ней по династическим соображениям, но никогда не полюбит. Александр III, узнавший о столь скандальном афронте, даже не смог совладать с обуревавшими его чувствами и в порыве гнева выпалил: «Мишка – дурак!»[352]
Сердце своё романтичный внук Николая I отдал графине Софье Николаевне Меренберг (1868–1927). Избранница родилась от морганатического брака принца Николая-Вильгельма Нассауского и Натальи Александровны Пушкиной, дочери великого русского поэта, получившей в 1867 году от принца Георга Вальдек-Пирмонт титул графини Меренберг. Но если члены императорского Дома спокойно восприняли женитьбу брата той же графини Софьи Николаевны Меренберг, графа Георга-Николая, на светлейшей княжне Ольге Александровне Юрьевской, дочери императора Александра II от морганатического брака с княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой, то «Миш-Мишу» не повезло. Мать его, великая княгиня Ольга Феодоровна (урождённая принцесса Цецилия Баденская), узнав по пути на юг из покаянного письма сына о свершившемся месяц назад венчании, так расстроилась, что прямо на железнодорожной станции в Харькове супруга великого князя Михаила Николаевича 31 марта (12 апреля) 1891 года скончалась от удара. Принцу Вильгельму Нассаускому, тестю провинившегося великого князя, император Александр III вне себя от гнева послал телеграмму: «Этот брак, заключённый наперекор законам нашей страны, требующий моего предварительного согласия, будет рассматриваться в России как недействительный и не имевший места». Великому герцогу Люксембургскому, получившему такое же послание, оставалось лишь неловко оправдываться за подвластных ему родственников: «Я осуждаю в высшей степени поведение моего брата и полностью разделяю мнение Вашего Величества».[353]
Однако если в аналогичной ситуации, произошедшей почти через столетие, генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев, недовольный браком своей своевольной дочери с артистом Игорем Кио, приказал аннулировать запись в ЗАГСе и выдать разведённым (таким бюрократическим образом) супругам новые паспорта с чистыми страницами, то проштрафившегося великого князя августейший кузен-самодержец уволил со службы, лишил содержания и запретил возвращаться в Россию. Правда, новый император Николай II был гораздо либеральнее, разрешив Михаилу Михайловичу вернуться на родину (чем великий князь так и не воспользовался), возвратив «паршивой овце семейства» звание флигель-адъютанта и назначив шефом 49-го Брестского полка, хотя его «дядюшка» и написал скандальный, почти автобиографический роман «Never say die» («Не унывай»). Правда, сей опус, изданный в Лондоне в 1908 году, естественно, запретили в России. Через год после венчания графиня Софья Николаевна Меренберг перешла в православие. Когда же страсти чуть поутихли, великий герцог Адольф Люксембургский пожаловал племяннице титул графини Торби, придуманный самим «Миш-Мишем» в память о деревне Тори в боржомском имении своего отца. Великокняжеской чете пришлось жить за границей, долгое время на вилле «Казбек» в Каннах, а затем в Лондоне, где оба супруга и упокоились на Хэмпстедском кладбище.
Их вторая дочь, графиня Надежда Михайловна Торби (1896–1963), вышедшая замуж за лорда Джорджа Маунтбэттена (именовавшегося принцем Баттенбергом до германофобии Первой мировой войны), позднее ставшего 2-м маркизом Милфорд-Хэйвен, унаследовала исполненную Болином рубиновую диадему матери. Последней её владелицей стала маркиза Сара Милфорд-Хэйвен, находящаяся в родстве с английской королевской семьёй. Необходимое дополнение официального парадного придворного костюма русской великой княгини (пусть и непризнанной) имеет предписанную, напоминающую открытый кокошник, форму полумесяца. Золотую ажурную диадему неслучайно украшают помимо восьми сотен бриллиантов полусферические кабошоны великолепных алых яхонтов. Ведь на официальных придворных балах великие княгини «появлялись в своих фамильных драгоценностях с рубинами и сапфирами. Цвет каменьев должен был соответствовать цвету платья: жемчуга и бриллианты или рубины и бриллианты – при розовых материях, жемчуга и бриллианты или сапфиры и бриллианты – при голубых материях.[354]
Кстати, великий князь Михаил Михайлович заказал Болинам ещё одну такую же диадему, но с лазоревыми сапфирами. Та перешла по наследству другой дочери – графине Анастасии Торби, ставшей женой сэра Гарольда-Огастеса Уэрнера, владельца знаменитого замка Льютон Хуу в Бэдфордшире, где собрано много вещей, связанных с родом А.С. Пушкина. Однако нынешнее местонахождение сапфировой диадемы неизвестно.
Посетители Эрмитажа, видевшие диадему с рубинами в 2004 году, с трудом верили, когда им говорили, что восемь её частей при желании легко открепить от основы, превратив в пару серёг, пару застёжек браслетов, пару наверший шпилек, а также в кулон-брошь, напоминающий геральдическую лилию. Некоторые изображения в деталях рисунка намекали на генеалогические связи великокняжеской четы. Ведь другая брошь, располагающаяся в центре диадемы, была похожа на звезду высшего русского женского ордена Св. Екатерины, если бы на месте привычного круга с девизом не пламенел сердцевидный рубин. Сама же основа, лишённая снятых деталей, преобразовывалась в прелестное колье. Диадему, на которой виднеется чуть заметное клеймо, как и все работы петербургской фирмы Болин, отличают высокий уровень ювелирной работы, изящная закрепка камней, сложность монтировки и остроумное решение конструкции.[355]
Трансформирующиеся украшения были не редкостью в это время. Достаточно только вспомнить, как подобной вещи в пьесе Оскара Уайльда «Идеальный муж» отводится весьма важная роль при разоблачении великосветской воровки, поскольку о секрете возможного преображения присвоенной броши в браслет похитительница даже не подозревала. А таился он в крошечной, хорошо замаскированной пружинке.[356]
Судьба династии Болинов в XX веке
В 1906 году Эдуард Болин и Карл Фаберже опять объединили свои усилия, чтобы купить роскошную историческую подборку камней, хранившуюся в Камеральном отделении Императорского Кабинета, а теперь выставленную на продажу из-за финансовых затруднений, связанных с русско-японской войной 1904–1905 годов. Хотя эта своеобразная коллекция и была богата «редкими, дорогими экземплярами, из которых могли быть изготовлены разные ювелирные драгоценные вещи», последние десять лет она пролежала без употребления.[357] Болин и Фаберже в ходе своеобразного аукциона 14–16 августа предложили миллион рублей, что тогда соответствовало стоимости 750 килограммов золота высшей пробы, но окончательную продажу отложили, а на вторичных торгах победу одержал ювелир Закс (Сакс), увеличивший ставку всего-то на 75 тысяч рублей.[358] Эти «смешные» деньги решили исход торгов. На вырученную же сумму в 1075 тысяч рублей Николай II предписал образовать особый капитал, чтобы на проценты с него приобретать новые подарки.[359]
В Петербурге дела шли успешно. Придворный ювелир Густав Карлович Болин приобретает в 1881 году, вскоре после смерти матери, находившийся с 1872 года во владении И. А. Мерца участок на Каменном острове, где с 1834 года располагался выстроенный архитектором А.И. Штакеншнейдером дом «купеческой жены Ян». В 1896–1899 годах главный дом, укрепив фундаменты и заменив сгнившие брёвна, перестроили по проекту Г. де Брюера. Фасады сверкали свежей краской, нанесённой на обшивку из вагонки, блестели новые полы и печи. Но старая дача для разросшегося семейства придворного оценщика и ювелира вскоре стала мала, как и другой деревянный дом, выстроенный в 1896 году по проекту Г. Бюхтера. Оба они были разобраны в 1973 и 1976 годах.
Густав Карлович Болин, присоединив к своим владениям ещё два соседних участка, взятых в долгосрочную аренду в 1906 году, заказал академику архитектуры Л.Х. Маршнеру проект более просторной, двухэтажной деревянной дачи. Новоселье справили спустя два года. Дом был хорош, но особенно красива была большая застеклённая веранда с великолепным металлическим каркасом в стиле модерн, на фасадах красовались ажурные балконы, а оконные решётки, ограждения подоконных цветников и козырёк дополнялись изящными литыми деталями. Вокруг дубовой винтовой лестницы, устроенной в центре особняка, размещались парадные помещения первого этажа и жилые комнаты. В духе модерна были выдержаны украшавшие интерьеры зелёные и синие поливные изразцы, светло-коричневый глазурованный кирпич, вырезанные из дуба филёнчатые панели, не говоря уже о дубовой обшивке стен и потолка. Всё это удачно сочеталось с мебелью из красного дерева.
Революционные события разрушили мирное течение жизни семейства, осиротевшего после смерти в 1916 году Густава Карловича. В 1917 году дачи на участке Болина были опечатаны, что не уберегло их от многократных ограблений. Следующий же год принёс реквизицию имущества. В 1919 году многочисленные служебные постройки разобрали на дрова, а что уцелело, доломали в блокаду. В 1920 году в доме едва не разместился 10-й авиационный отряд истребителей. Только в 1923 году остатки уцелевших вещей семьи Болин перевезли сначала на дачу принца Ольденбургского, а затем в Елагин дворец, однако дальнейшая их судьба неизвестна. Почти четыре послевоенных десятилетия отремонтированная и перепланированная дача Болина служила спальным корпусом Клинического санатория, числясь по адресу: 2-я Берёзовая аллея, 28. Совершенно было обветшавший, находившийся в аварийном состоянии дом, некогда принадлежавший придворному ювелиру Густаву Карловичу Болину, в настоящее время отреставрирован, при разработке проектов использовали архитектурную графику архитектора Маршнера.[360]
За заслуги перед государством и Двором братьям Болин, Коммерции советникам и потомственным почётным гражданам, в 1912 году не только даровали звание потомственных дворян, но в Департаменте герольдии для них изобрели «говорящий» герб: под увенчанным тремя страусовыми перьями рыцарским шлемом в орнаментальных завитках, четыре жемчужины в нижней части фигурного щита крестообразно примкнули к огранённому изумруду, а вокруг перлов обвился тот самый трос-«булинь», благодаря которому корабль судьбы рода ювелиров Болинов отважно, преодолевая все препятствия, шёл на всех парусах намеченным курсом по волнам моря житейского к успеху. Густаву Болину так понравился эскиз, что прямо на нём он написал: «Прошу сей проект герба моего сохранить без изменений».[361]
Хотя у поздно женившегося Эдуарда Болина было четверо детей от Мариетты Майзер, а у Густава от Адины-Александрины-Генриетты-Софи Шаде – шестеро/[362] наследовать семейную фирму в Петербурге оказалось некому. Всё клонилось к переходу империи Болинов к «московскому» Вильгельму дела которого шли настолько блестяще, что с 1912 года тот открыл филиал своей фирмы «В.А. Болин» с непременно действующим в разгар сезона магазином в курортном германском городке Бад-Гомбурге близ Висбадена, куда съезжалось на отдых аристократическое русское общество.
Но Первая мировая война спутала все планы. В России стало неспокойно, начались стачки, забастовки, погромы. А тут ещё ограбили и убили в поезде представителя известной и уважаемой ювелирной фирмы «Бушерон», вместе с сыном возвращавшегося из Баку после показа большой коллекции драгоценностей. Эдуард, в свободное время увлекавшийся лошадьми и конным спортом, вскоре после кончины брата Густава в 1916 году предпочёл на яхте отправиться в Германию, где у него давно были куплены поместья.[363]
Вильгельму Болину как шведскому подданному удалось перевести денежные активы и вещи из Бад-Гомбурга в Стокгольм. Там ювелир при помощи банкира К. А. Валленберга организовал мастерские, где с помощью нанятых специалистов делались украшения из платины с бриллиантами, а в сентябре 1916 года Вильгельм Болин в присутствии короля Густава V открыл свой магазин. После Октябрьской революции всё имущество Болинов как в Петербурге, так и в Москве национализировали. Однако Вильгельму Болину даже в тяжёлые годы удалось сохранить своё дело в Стокгольме, где его потомки до сих пор являются придворными ювелирами короля Швеции.[364]
Глава VI Оценщики Императорского кабинета
Ювелир Готтлиб-Эрнст Ян
Долгое время оценщиком Кабинета работал вместе с Иоганном-Фридрихом Яннашем ювелир Готтлиб-Эрнст Ян. Саксонец из Эльсница ещё юным подмастерьем прибыл в Петербург, где ему посчастливилось с 1802 года поучиться ремеслу у придворного ювелира Кристофа-Фридриха фон Мерца, а через десять лет успешно выдержать экзаменационные испытания на звание мастера столичного иностранного цеха.[365] Второй большой удачей стала женитьба на Софии, дочери оценщика Кабинета Андрея Рёмплера. После смерти тестя в 1829 году молодой Ян унаследовал не только престижную должность при Дворе, но и лучший, как считалось в Петербурге, магазин бриллиантовых вещей. С 1831 года в компании с Яном начал работать уроженец Стокгольма Карл-Эдуард Болин, который в 1834 году женился на Катерине-Эрнестине Рёмплер, и, таким образом, компаньоны фирмы «Болин и Ян» стали свояками.[366]
Вещи, сделанные Яном, – фермуары, серьги, булавки, фероньерки, – неоднократно служили Николаю I для подарков домашним. В 1831 году мастер исполнил ожерелье, преподнесённое самодержцем супруге на крещение третьего сына, названного в честь счастливого отца Николаем. Склаваж усеивали камни такой величины и цены, что стоимость дара оказалась равной 169 тысячам рублей.[367]
Скорее всего, именно придворному оценщику Готтлибу-Эрнсту Яну доверили к 1 января 1833 года переделать жемчужную диадему императрицы Марии Феодоровны. Ведь вдова Павла I в своём завещании даже написала: «Моя корона принадлежит государю. Все же прочие бриллианты мои, жемчуги и драгоценные камни, подаренные мне покойной государыней и покойным императором Павлом, а равно и приобретённые мною лично», как и различные уборы, делятся между сыновьями и дочерьми (или их потомками), причём в унаследованных вещах «допускается, разумеется, делать изменения в форме и фасоне их, по личному усмотрению».[368]
Переделанная диадема получилась на славу. Хотя её завершение и сохранило форму треугольника, присущую началу XIX века, но триады крупных бразильских бриллиантов, чередующиеся с аккуратно закреплёнными на невидимых штырьках жемчужными грушками, невольно напоминали о модных элементах, заимствованных в искусстве готики. О временах Средневековья заставляли вспомнить и конструкции двойных арочек, с которых изящно свешивались подвижно закреплённые перлы изумительной красоты и величины, причём каждый тяжело покачивался над алмазным фестоном, похожим то ли на подкову, то ли на полумесяц. Сам же ободок формировали два бриллиантовых пояска с заключённой между ними вереницей почти идеально круглых «горошинок»-жемчужин, постепенно уменьшающихся от центра к краю.[369] Недаром дивную диадему столь любили как супруга Николая I, так и последующие русские императрицы.
Готтлиб-Эрнст Ян (?). Большая диадема с жемчугами. 1830-е гг.
К сожалению, уцелевшие от переделок ювелирные произведения XIX века мало ценились и безжалостно продавались через «Антиквариат» и «Торгсин» в 1920-е и 1930-е годы, в результате чего отечественные музеи сейчас обладают жалкими, к тому же в большинстве своём не атрибутированными, крохами прежнего богатства, причём особенно пострадали коронные драгоценности и лично принадлежавшие императорской и великокняжеским семьям изделия златокузнецов.
В 1835 году всех петербуржцев взволновало и привело в немалый трепет исчезновение в первых числах марта «бриллиантщика Яна». Стали поговаривать, что он мог броситься в воду от одолевающей его в последнее время хандры. Только в середине мая вскрывшаяся Нева принесла к Гутуеву острову тело Яна, а поскольку всё на нём оказалось цело: не только вся одежда, но и дорогие пуговки на рубашке, серебряные монеты и несколько каменьев в кармане, а также кольцо, то подтвердилось предположение, что мастер утопился в припадке «гипохондрии». Знавшие Яна искренне сожалели о его неподобающей христианину кончине, поскольку ювелир, по общему мнению, был добрым и порядочным человеком, аккуратно ведущим свои дела, и к тому же счастливым семьянином».[370]
Ещё при жизни Готтлиба-Эрнста Яна, вероятно, его мать, «купеческая жена» О.Н.Ян смогла в 1834 году приобрести у графа А. А. Мордвинова треугольный в плане участок на Каменном острове, расположенный на пересечении 2-й Берёзовой и Большой аллей. А уже в 1849 году на этой территории, принадлежавшей Софье Андреевне Ян, вдове ювелира, и занятой садом, возвышались три деревянных дачи, причём одна, самая большая, располагалась у Большого канала, а другая – по дороге к нему. Владелица огородничеством заниматься не желала, а лишь отдыхала на собственной, как считают, выстроенной модным архитектором А.А. Штакеншнейдером, двухэтажной даче, украшенной на лицевом фасаде четырёхколонным портиком. В 1881 году участок со всеми строениями перейдёт к младшему сыну родной сестры Софии Ян, придворному ювелиру Густаву Карловичу Болину, откупившему вожделенную землю родового гнезда у И. А. Мерца, внука оценщика Кабинета.[371]
«Шведский подданный» Иван Рудольф
В 1838–1839 годахчерез «вдову Софию Ян» или по её доверенности несколько раз получал придворные заказы «шведский подданный» ювелир Иван Рудольф.
В 1837 году 18-летняя Мери (как в семье Николая I ласково, на английский лад, называли Марию, старшую дочь императора) увидела на больших кавалерийских манёврах красавца-юношу, сразу поразившего её воображение. То был принц Максимилиан Лейхтенбергский, младший отпрыск пасынка Наполеона, Евгения Богарне, бывшего при знаменитом отчиме вице-королём Италии. Внук не только французской императрицы Жозефины, но одновременно и баварского короля, тоже не остался равнодушным к чарам русской великой княжны. Однако герцогство Лейхтенбергское было совсем крошечным, и страстно влюблённый Максимилиан Лейхтенбергский согласился переехать в Россию. Мери же удалось переубедить августейшего батюшку и тот согласился на не совсем равный брак. Ведь при баварском дворе принцу Максимилиану всё время напоминали, что он недостаточно знатен: сын принцессы Августы-Амалии от хоть и законного брака, но мезальянса, должен был сидеть на табуретке и пользоваться серебряными столовыми приборами, а все другие члены королевской семьи при этом занимали кресла и ели на золоте.[372] Однако дочь самодержца слишком упорно желала остаться на родине. В октябре 1838 года иноземный жених прибыл в Царское Село. Максимилиан и Мери не желали долго ждать и торопили со свадьбой, поскольку помолвка состоялась уже в декабре. Николай I поставил жёсткое условие: при обряде венчания никто из родственников жениха не должен присутствовать. Причину столь строгого запрещения самодержец объяснил сыну-наследнику: «Надо, чтоб Макс был здесь один в эту минуту и предстал бы пред русскими русским. Потом рады будем видеть здесь и Жозефину, и мать, и Теодолинду, но прежде наш Макс обрусей и искренно!»[373]
На торжественной церемонии бракосочетания высоконаречённых повезло присутствовать путешественнику Астольфуде Кюстину. Однако при выходе из коляски заезжий француз так неудачно зацепился о её подножку, что оторвал одну из шпор вместе с каблуком сапога, причём столь неприличную потерю заметил, лишь вступив на нижнюю ступеньку великолепной лестницы Зимнего дворца. Краснея от стыда и в душе проклиная великолепие и протяжённость огромных зал и богато украшенных галерей, где не укрыться от пристальных взоров придворных, маркиз наконец-то добрался до Большого собора, где «забыл обо всём, включая своё дурацкое приключение». Де Кюстин изумлённо созерцал «стены и потолки церкви, одежды священников и служек – всё сверкало золотом и драгоценными каменьями». При этом «позолоченная лепнина, вспыхивая в ослепительных лучах солнца, окружала своего рода ореолом головы государя и его детей. Дамские бриллианты сверкали волшебным блеском среди азиатских сокровищ, расцвечивающих стены святилища, где царь в своей щедрости, казалось, бросал вызов Богу, ибо поклоняясь ему, не забывал о себе». У французского маркиза, вспомнившего, что именно в сей день ровно полвека назад восставшие парижане разрушили Бастилию, подобное изобилие роскоши вызвало разлитие желчи. Ехидно констатируя, что «люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга», он скрепя сердце вынужден был признать: «Картина, представшая моему взору, не уступает самым фантастическим описаниям „Тысячи и одной ночи“, при виде её вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о волшебной лампе Аладдина – ту восточную поэзию, где ощущения берут верх над чувствами и мыслью».[374]
Приданое великой княжны Марии Николаевны должно было вызывать у созерцавших его подобные же чувства, чтобы богатством наряда, как говаривала в таких случаях Екатерина II, «мы у всех глаза выдрали».[375] Вспомнив, что ещё в 1836 году Иван Рудольф удачно исполнил фермуар с изумрудом и две жемчужные нити, предназначенные для подарка великой княжне Александре Николаевне,[376] именно этому ювелиру доверили срочно сделать для старшей дочери русского самодержца бриллиантовый, сапфировый и рубиновый уборы, причём алмазы были взяты из специально разобранной для этой цели короны покойной императрицы Елизаветы Алексеевны.[377] Для венчального наряда августейшей невесты была необходима великокняжеская корона. Иван Рудольф чрезвычайно успешно справился как с этим заданием».[378] так и с исполнением двадцати трёх бриллиантовых цветков[379] а четыре года спустя сделал брошь и букет[380] усыпанные ослепительно сверкавшими бриллиантами.
В это время ювелирам приходилось создавать модные цветы из самоцветов, повторяющие по форме своей природные оригиналы. Но иногда мастера, исполняя желания венценосцев, изысканно дополняли сияющими алмазами кажущийся слишком скромным наряд представителей царства Флоры.
В день рождения Николая I, 25 июня 1841 года, в саду Монплезира устроили «сельский праздник»: «Белое платье императрицы было украшено букетами из васильков (её любимый цветок), голова убрана такими же цветами. Белое платье цесаревны было вышито соломой, голова убрана красным маком и колосьями, платье украшено такими же цветами, в руках букет из таких же цветов. Костюмы остальных лиц, более или менее, носили характер простоты. Зато украшению драгоценностями не полагалось границ. Масса белых платьев производила большой эффект, но главную красоту им придавали бриллианты. У императрицы, у цесаревны и у других великих княгинь и княжон цветы были усеяны бриллиантами: в средину каждого цветка на серебряной проволочке был прикреплен бриллиант; он изображал как бы росу и эффектно колебался на своём гибком стебельке[381] К сожалению, можно только мысленно представить сделанные Иваном Рудольфом бриллиантовые цветы и букет, как и три драгоценных убора: бриллиантовый, рубиновый и сапфировый из приданого великой княжны Марии Николаевны. В них, вероятно, мастер искусно имитировал пышные садовые и скромные полевые цветы, как это было характерно и для произведений современных ему западноевропейских ювелиров.
Не исключено, что именно Иван Рудольф по воле самодержца исполнил к десятилетию проведённого при Берлинском Дворе знаменитого турнира в праздник Белой Розы дивный цветок, сплошь усыпанный алмазами.
Яков Оссоланус
После трагической смерти оценщика Кабинета Готтлиба-Эрнста Яна в 1835 году занять его весьма престижное место претендовали крупные столичные ювелиры, работавшие в Петербурге в середине XIX века.
Яков (Якоб) Оссоланус, освоивший «ювелирное художество», быстро стал полноправным членом давшего ему образование петербургского иностранного цеха и даже поднялся в нём до должности присяжного Старшинского цехового товарища. Несколько лет назад он уже пытался занять освободившуюся (после смерти Андрея Рёмплера) вакансию, но тогда повезло Готтлибу-Эрнсту Яну. Теперь мастер, сделавший несколько разных изделий по заказам Кабинета, уповал на свою известность чиновникам и посему почитал себя способным стать «ценовщиком драгоценных камней и вещей». В своём прошении от 3 апреля 1835 года соискатель покорнейше просил определить его в «таковую должность» и разборчиво подписался внизу: «Ювелиръ Яковъ Оссоланусъ». К заявлению, ради объективного подтверждения своей высокой квалификации, мастер приложил выданное ему ещё 17 мая 1829 года свидетельство старшины цеха Густава Алыптрёма (Gustav Ahlström) и «старшего товарища В. Раша» (Wilhelm Rasch), считавших ювелира достойным занять в Кабинете желаемую должность.[382]
Почти двумя неделями раньше, 21 марта 1835 года в придворное ведомство поступила «записка Санкт-Петербургского Купца и Ювелира Льва Брейтфуса», также претендующего на должность «Кабинетского ценовщика». Родившийся 28 декабря 1786 года в Кёнигсберге соискатель, став в Северной Пальмире ювелиром и золотых дел мастером иностранного цеха, завёл свой (не уступавший в 1830-х годах по роскоши блестящим лавкам Кейбеля на Большой Морской и фирмы «Ян и Болин» на углу Большой Морской и Кирпичного переулка) магазин на Невском проспекте, сначала у Казанского собора, а затем напротив Гостиного двора.[383] Лев Брейтфус смог не только «всегда изготовлять и обделывать для Кабинета разные драгоценные вещи», но и «так равно и для некоторых вельмож сей столицы с полным успехом».[384] Однако получить желанное место «ценовщика» не помогло ни это заявление, ни то, что мастер три года прослужил оценщиком в Ссудной кассе Санкт-Петербургского Воспитательного Дома и неоднократно привлекался городской Думой для консультаций при установлении цен на драгоценные камни и ювелирные изделия.
Впоследствии Кабинетом у ювелира приобретались серьги, перстни и орденские знаки, а в 1857 году за заслуги Льву Брейтфусу пожаловали медаль для ношения на шее на Станиславской ленте.[385]
Людвиг Брейтфус
Место оценщика при Дворе удалось гораздо позже, в 1851 году, занять его сыну, Людвигу Брейтфусу (1820–1868), с 1859 года ставшему и придворным ювелиром, получив право иметь на своих вывесках и изделиях изображение российского государственного герба.[386] В 1849 году Людвиг Брейтфус проживал по адресу: Невский проспект, Церковный дом.
Именно ему доверили совместно с Карлом Болином и Леопольдом Зефтигеном провести капитальную оценку коронных драгоценностей. В 1866 году Людвигу Брейтфусу пожаловали орден Св. Станислава, а в следующем году заслуженный ювелир удостоился звания потомственного почётного гражданина.[387]
Решил рискнуть и «Временный Золотого и Серебряного цеха Мастер, Ревельский уроженец Бернгардт Феодоров сын Бауер», подав поступившее 20 марта 1835 года в Кабинет прошение. Претендент, храбро подписавшийся на смеси французского и немецкого языков: «Juwelier et Goldt Arbeiter B.T. Bauer», мотивировал своё право занять освободившуюся вакансию тем, что имеет «по сим частям надлежащее сведение и дозволение С.-Петербургской Ремесленной Управы заниматься производством» бриллиантовых и галантерейных вещей, а кроме того, уже воспользовался случаем «в прошлом годе показать Кабинету» свою «работу, состоявшую в отделке золотом, порученной» ему «Антиковой Каменной табакерки». Надеясь на успех своего предприятия, Бернгардт Бауер заботливо приписал в конце своего прошения: «Жительство имею в доме Купца Погребова под № 117-м Литейной части 2-го квартала».[388]
Вильгельм Кеммерер
В конкурсе на звание оценщика Кабинета в 1835 году победил «саксонский подданный» и «Санктпетербургский 3 гильдии временной купец и Санктпетербургского Немецкого цеха Ювелирных, золотых, серебряных и граверных дел мастер» Вильгельм Кеммерер.
Вильгельм (Генрих-Вильгельм) Кеммерер родился в Саксонии 3 октября 1786 года. Его старший брат Фридрих-Антон Кеммерер в 1796 году гостил у своего деда Иоганна-Фридриха-Августа Рейнгарда, числившегося галантерейным мастером петербургского цеха ювелиров ещё в 1808 году и проживавшего «в Мещанской в Болиновом доме».[389] Вскоре Фридрих Кеммерер вместе с родителями и подросшим младшим братом Вильгельмом опять оказался в столице Российской империи.
Вильгельм, вероятно, какое-то время поучившийся началам ремесла у деда, в 1804 году стал подмастерьем у Карла-Генриха Рудольфа, а в 1810 – мастером иностранного цеха, причём даже в 1831–1832 годах избирался сотоварищами старостой-алдерманом.
С 1828 года Вильгельм Кеммерер записался временным купцом в 3-ю гильдию, а 19 декабря 1834 года получил от столичной «Градской Думы» билет-разрешение на купеческую лавку. Однако вряд ли ему удалось занять вакантное место в Императорском Кабинете, если бы не младший брат Александр.
Родился Александр Кеммерер в Саксонии, в тюринском городке Артерне, в 1789 году, а когда отроку исполнилось 8 лет, родители переехали в Петербург, где мальчик вначале посещал школу, а после обучения счёту и письму его отдали в ученики к аптекарю. Способный юноша на лету схватывал знания, и дела его пошли настолько успешно, что в 1812 году он открыл собственную аптеку. Но молодого человека всё время тянуло к науке. Талантливый аптекарь-провизор активно стал экспериментировать с лекарственными составами, а познакомившись со своими коллегами, принялся деятельно хлопотать об учреждении русского фармацевтического общества. Наконец, оно было основано в 1818 году, и вскоре Александр Кеммерер избирается его председателем, а с 1822 года – членом императорского Минералогического общества и Московского общества испытателей природы. В 1824 году горное ведомство предложило Александру Богдановичу Кеммереру место химика при лаборатории департамента горных и соляных дел, а через два года ему доверяется заведование только что основанной Главной горной аптекой. На этом посту Кеммерер наконец-то смог отдаться любимой минералогии, за заслуги в коей он избирается членом Данцигского общества естествоиспытателей и Минералогического общества в Иене, членом-корреспондентом Петербургской Медико-хирургической академии и доктором Гейдельбергского университета. По желанию Николая I именно Александру Богдановичу Кеммереру было доверено преподавание наследнику престола, будущему императору Александру II, части естественных наук, за что позже «берг-гауптман 6-го класса» (горный директор) получил чин действительного статского советника к 50-летию своей фармацевтической деятельности.
Русская великая княгиня и королева Вюртембергская Ольга Николаевна вспоминала на склоне лет: «Я была страстно увлечена химией и следила с большим интересом за опытами, которые производил некто Кеммерер, его помощник (преподавателя физики. – Л.К.). Он показывал нам первые опыты электрической телеграфии, изобретателем которой был Якоби. Опыты эти в 1837 году вызывали глубочайшее изумление и в пользу их верили так же мало, как и в электрическое освещение. Уже в то время мы получили понятие о подводных снарядах, впоследствии торпедах. Папа, интересовавшийся всем, что касалось достижений науки, приказал докладывать ему обо всем. Особо его интересовала техника гальванизации, столь необходимая для промышленности. Мой будущий зять, Макс Лейхтенбергский, в 1842 году основал в Петербурге первый завод, строившийся под руководством французских специалистов. Он существует ещё и сегодня, под именем завода Шопена».[390]
Но это – официальные вехи карьеры Александра Богдановича Кеммерера, а собратья по науке отметили заслуги подвижника фармацевтики и минералогии по-своему, они любили его как честного и доброго человека, талантливого учёного, страстного коллекционера. Норденшельд назвал в его честь «кеммемеритом» красивую разновидность клинохлора – минерал красного, фиолетово-красного, фиолетово-синего или зеленоватого цветов из породы хлоритов-серпентинов, найденных в хромистых железняках Кыштымского и Бисертского заводов.[391] Знаток минералов, Александр Кеммерер, вероятно, не раз помогал советами брату-ювелиру Вильгельму, тем более что в его редкостной по составу коллекции особенно обширно были представлены образцы из русских месторождений. Но, к сожалению, большая часть её вскоре после смерти в Александра Богдановича Кеммерера 1858 году оказалась в Лондоне.[392]
В отличие от других соискателей-конкурентов, Вильгельм Кеммерер написал 11 июля 1835 года прошение не в Кабинет, а прямо на «Высочайшее имя», адресовавшись непосредственно к «Всепресветлейшему, Державнейшему, Великому Государю Императору Николаю Павловичу, Самодержцу Всероссийскому, Государю Всемилостивейшему». Ювелир Wilhelm Kämmerer, горевший «ревностным желанием поступить на службу в Кабинет»,[393] предусмотрительно запасся нужными документами. Свидетельство «Санкт-Петербургского Купечества от дел Городовых Старост по гильдейскому управлению», данное 16 июля 1835 года, подтверждало, что Вильгельм Кеммерер, «из Саксонских подданных без вступления в подданство России», вёл себя как полагалось благонамеренному гражданину: не имел недоимок, не только состоял в законном браке, но и проявил себя хорошим семьянином, «поведения хорошего, в обществе в предосудительных поступках замечен не был».[394] А неделей раньше, 10 июля, присяжные «Старшины и товарищи Санктпетербургского Немецкого цеха Ювелирных, золотых, серебрянных и граверных дел» иностранного цеха гарантировали, что Вильгельм Кеммерер «в совершенстве знает всё то, что касается до ювелирного искусства».[395]
Чиновники Кабинета перечить высочайшей персоне не стали, и уже 18 июля 1835 года состоялось определение «Временного Санктпетербургского 3-й гильдии Купца Ювелирных, золотых и серебряных дел Мастера Вильгельма Кеммерера, представившего о благонадёжности своей и знании свидетельства, по прошению его, <…> на вакансию оценщика дорогих вещей, с жалованьем, положенным по Штату по восьмисот рублей в год».[396] Уже на следующий день управляющий Кабинетом, не замедлив, утвердил сие решение. Ещё через три дня, 22 июля, о поступлении Кеммерера на придворную службу уведомили и столичную Городскую Думу. Наконец, сам ювелир 10 августа, поклявшись на Евангелии и поцеловав крест, подписал клятвенное обещание о верном, ревностном и нелицемерном отношении к предстоящей службе. Нового оценщика привели к присяге генерал-супер-интендант Фёдор Рейнбот и пастор церкви Св. Анны.[397]
Теперь Вильгельм Кеммерер должен был наблюдать за состоянием не только хранящихся в Кабинете драгоценных предметов, предназначавшихся для «Высочайших подарков», но и за сохранностью личных бриллиантов царской семьи и коронных вещей. Вскоре к обязанностям оценщика Кабинета прибавилось ещё одно обязательство, и по поручению Капитула императорских орденов Василий Богданович Кеммерер изготовил с 1836 по 1841 годы вместе с Иоганном-Вильгельмом Кейбелем множество орденских знаков.
Дела шли успешно, обеспечивая хорошие доходы. Изделия в магазине Кеммерера славились очень хорошим подбором не только бриллиантов, но и других драгоценных камней, особенно уральских и сибирских самоцветов.
Много приходилось работать и для Двора, исполняя всевозможные броши, перстни, браслеты, пряжки, табакерки с портретами царствующих императора и императрицы, красивые броши (одна из них в 1850 году украсила французскую актрису Лежье). В том же году Кеммереру довелось выполнить не только крест с изумрудом к патриаршей митре, но и знак ордена Св. Станислава второй степени, украсивший драгомана Оттоманской Порты Нуреддин Бея, поскольку годом раньше ювелир, как и мастер Яков Оссоланус, удачно сделал с внесением нужных изменений бриллиантовые орденские знаки, предназначенные для пожалования турецким чиновникам.
Кеммерер великолепно справлялся и с более важными и ответственными заказами. В праздник Рождества Христова, отмечаемый в 1837 году, монарх смог преподнести обожаемой супруге искусно сработанный ювелиром небольшой гарнитур с гранатами, состоявший из изящных фероньерки, пары серёг и фермуара. Вскоре оценщику Кабинета поручили исполнить диадему с изумрудами в приданое старшей дочери Николая I к свадьбе с герцогом Лейхтенбергским, а почти два десятилетия спустя для той же великой княгини Марии Николаевны чародей Кеммерер сделал два жемчужных браслета «с бриллиантовым фермуаром при каждом».[398]
Диадема с жемчугами для венчания великой княгини Марии Александровны
Цесаревич Александр Николаевич, совершая в 1839 году вояж по Европе, чтобы выбрать себе невесту из намеченных родителями кандидатур, случайно остановился на ночлег в гостинице маленького немецкого городка Дармштадта и по приглашению великого герцога Людвига заехал в замок, где, увидев обворожительную четырнадцатилетнюю принцессу Марию, влюбился в неё без памяти и сказал сопровождавшим: «Вот о ком я мечтал всю жизнь. Я женюсь только на ней». Правда, эти планы чуть не разрушило чувство, вспыхнувшее было в душе юной английской королевы Виктории при знакомстве с оказавшимся в Лондоне цесаревичем, считавшимся тогда самым очаровательным из европейских принцев. Повелительница Альбиона даже не смогла скрыть от придирчивого высшего света своё неравнодушие к русскому престолонаследнику. Однако такой династический союз по политическим соображениям был невозможен. Да и сама британская монархиня не очень понравилась сыну Николая I, доверившему лишь своему дневнику отнюдь не лестную её характеристику: «Она очень мала ростом, талия нехороша, лицом же дурна, но мило разговаривает».[399]
Николаю I с супругой пришлось принять в семью племянницу (мать Марии, Вильгельмина Баденская, была младшей сестрой жены императора Александра I), хотя вначале и скрепя сердце, так как подлинным отцом принцессы злые языки называли барона де Граней, шталмейстера герцога Людвига. Однако вскоре наречённая цесаревича «завоевала сердца всех тех русских, которые могли познакомиться с ней. В ней соединялось врождённое достоинство с необыкновенной естественностью. Каждому она умела сказать своё, без единого лишнего слова, с тем естественным тактом, которым отличаются прекрасные души».[400]
После помолвки, объявленной 4 марта 1840 года в Дармштадте, великий князь с каждым днём всё больше привязывался к своей богоданной невесте. Да и августейший отец жениха теперь начинал свои письма к будущей невестке непременно со слов: «Благословенно Твоё Имя, Мария».[401]
А через два месяца русское императорское семейство срочно выехало в Берлин, чтобы успеть застать в живых тяжело заболевшего прусского короля. Престарелый Фридрих-Вильгельм III успел одобрить и поздравить внука (которого, признав достойным продолжателем династии Гогенцоллернов, шесть лет тому назад одарил любимой табакеркой знаменитого «короля-солдата» Фридриха II Великого)[402] с удачным выбором и со свершившейся помолвкой, прошептав: «И моя мать была из Дармштадта».[403] После торжественных похорон августейшая фамилия сначала заехала в Веймар, а затем приехала знакомиться с Гессенским семейством. Увидев раскрасневшуюся от волнения принцессу Марию, оценив её манеру себя держать и отпечатавшийся на её серьёзном личике ум, из-за чего она выглядела старше своих пятнадцати лет, довольный Николай I сказал дочери великого герцога: «Ты не можешь понять значения, которое ты имеешь в моих глазах. В тебе я вижу не только Сашино будущее, но и будущее всей России; а в моём сердце это одно».[404]
Несколько счастливых недель невеста провела на водах в Эмсе вместе с женихом, а также с будущей свекровью и одной из золовок. Наконец, 3 сентября путешественники прибыли в Царское Село под проливным дождём, что по народным толкованиям предвещало богатую жизнь. После нескольких суток отдыха, в сияющий солнечный день 8 сентября, золотая карета с зеркальными стёклами торжественно въехала в Петербург, где собравшийся народ радостными кликами приветствовал свою императрицу Александру Феодоровну, обеих её незамужних дочерей Ольгу и Александру, а также иноземную принцессу – наречённую цесаревича, одетых в розовые с серебром русские придворные платья.[405]
Через три месяца, 5 декабря, принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария Гессен-Дармштадтская на торжественной церемонии в церкви Зимнего дворца перешла в православие, оставив из своих многочисленных имён лишь последнее. Уже на следующий день пышно отпраздновали официальное обручение новоиспечённой великой княжны Марии Александровны с цесаревичем. Рожистое воспаление лица, к счастью, бесследно прошедшее, едва не помешало свадебному торжеству, намеченному на апрель следующего года. Болезнь прошла, как ни странно, благодаря старому народному средству: ничего не говоря принцессе, под её кровать положили на несколько дней язык лисицы, и уже после первой ночи краснота прошла.[406]
По ритуалу бракосочетания для невесты цесаревича полагался обязательный великокняжеский венец, знаменующий её титул. Поэтому 28 марта 1840 года «ювелиру Кеммереру» отпустили недостающие «пятнадцать бриллиантов на шатоны между солитерами к диадеме», отобранные им из тысячи шестидесяти девяти заключённых в оправы некрупных камней, весивших «от 21/4 крат и до семи на крату». Однако чем-то эти пятнадцать алмазов (общей массой в 122/32 карата) затем мастеру разонравились и были через две недели, 10 апреля, возвращены в число коронных бриллиантов.[407] Заказ тем не менее был выполнен в срок. Великокняжеская корона, одновременно похожая и на диадему, поражала своей красотой.
Великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии ставшая королевой Вюртембергской, так на склоне лет вспоминала свадьбу старшего брата: «Это было 16 апреля, канун двадцать третьего дня рождения Саши. Утром была обедня, в час дня официальный обряд одевания невесты к венцу в присутствии всей семьи, вновь назначенных придворных дам и трёх фрейлин. Мари была причёсана так, что два длинных локона спадали с обеих сторон лица, на голову ей надели малую корону-диадему из бриллиантов и жемчужных подвесок – под ней прикреплена вуаль из кружев, которая свисала ниже плеч. Каждая из нас, сестёр, должна была подать булавку, чтобы прикрепить её, затем на неё была наброшена и скреплена на плече золотой булавкой пурпурная, отороченная горностаем мантия, такая тяжёлая, что её должны были держать пять камергеров. Под конец Мама ещё прикрепила под вуалью маленький букетик из мирт и флёрдоранжа. Мари выглядела большой и величественной в своём наряде, и выражение торжественной серьёзности на её детском личике прекрасно гармонировало с красотой её фигуры».[408]
Дочери Николая I вторила камер-медхен (горничная) из придворных новобрачной, запомнившая свою госпожу в тот торжественный день облачённой в белый сарафан, богато вышитый серебром и обильно разукрашенный бриллиантами. «Через плечо лежала красная лента; пунцовая бархатная мантия, подбитая белым атласом и обшитая горностаями, была прикреплена на плечах. На голове бриллиантовая диадема, серьги, ожерелье, браслеты – бриллиантовые.
В сопровождении своего штата великая княжна пришла в комнаты императрицы, где ей надели бриллиантовую корону. Императрица сознавала, что не драгоценные алмазы должны в этот день украшать невинное и чистое чело молодой принцессы: она не удержалась от желания украсить голову невесты цветком, служащим эмблемой чистоты и невинности. Императрица приказала принести несколько веток живых померанцевых цветов и сама воткнула их между бриллиантов в корону; маленькую ветку приколола на груди. Бледный цветок не был заметен среди регалий и драгоценных бриллиантов, но символический блеск его умилял многих».[409]
Александра Феодоровна вспомнила, как сама два десятка лет назад готовилась к венцу. «Накануне 1 июля (воскресенье, день свадьбы. – Л.К.), который был в то же время и днём моего рождения, я получила прелестные подарки, жемчуг, брильянты; меня все это занимало, так как я не носила ни одного брильянта в Берлине, где отец воспитал нас с редкой простотой. <…> Меня одели наполовину в моей комнате, а остальная часть туалета совершилась в Брильянтовой зале, прилегавшей тогда к спальне вдовствующей императрицы. Мне надели на голову корону и кроме того бесчисленное множество крупных коронных украшений, под тяжестью которых я едва была жива. Посреди всех этих уборов я приколола к поясу одну белую розу».[410]
Блестящие свадебные торжества закончились, а диадему цесаревны причислили к коронным вещам. До наших дней эта работа Кеммерера не дошла, однако описи позволяют предположить, что над сверкающей полоской ободка, составленной из двадцати сравнительно маленьких бриллиантов, всего лишь по 0,25 карата, дополненных восемью более крупными, чуть более карата камнями, возвышались своеобразными зубцами громадные жемчужные грушки: шесть перлов весили по 12 карат, а ещё четыре – по 7 (то есть почти от полутора до 2,5 грамм каждая жемчужина).[411]
Портрет Николая I, пожалованный им дочери Ольге
В 1913 году камер-фрау Герингер, хранившая под своим присмотром драгоценности императрицы Александры Феодоровны, супруги Николая II, представила своей патронессе купленные за 53 700 рублей шесть лет назад у великой княгини Веры Константиновны, герцогини Вюртембергской, роскошную бриллиантовую «лучистую» диадему, сделанную Яковом Дювалем в первые годы XIX века, и дивной работы бриллиантовый медальон с портретом Николая I,[412] невольно приковывающий внимание своей красотой.
Лик самодержца прикрывал великолепный шестикаратный плоский бриллиант, заключённый в овал из мелких, но зато столь же искусно ограненных алмазов. По краю медальона располагалась дюжина чудесных бразильских бриллиантов, каждый по четыре карата, а промежутки между ними так плотно заполняли мелкие алмазы-розы, что овальный ободок казался лентой, прикрытой сверху толстым пушистым слоем искрящегося всеми цветами радуги инея, совершенно скрывающего серебряную оправу с золотой подпайкой. «Белизну» камней подчёркивал золотистый нацвет большого плоского овального бриллианта (как чаще принято говорить, «желтоватой воды»), массой в семь карат, располагавшегося над медальоном-подвеской. Но больше всего поражал тонкостью исполнения похожий на кружево алмазный узор между обоими овалами: две ажурные веточки лавра с алмазными листиками и «плодиками»-бриллиантами скреплял внизу пышный, изящно «вывязанный» бант.[413]
Вильгельм Кеммерер (?). Бриллиантовый медальон с портретом Николая I. Около 1840 г.
Учитывая, откуда прибыла эта изумительная подвеска с портретом русского самодержца, почти не приходится сомневаться, что это было пожалование от отца-монарха средней дочери Ольге, выходящей замуж за кронпринца Карла Вюртембергского.
В отличие от своих сестёр, великая княжна вначале засиделась в девках. Любящий отец дал ей право самой выбрать суженого, и долгое время царевне никто не приходился по сердцу. Многие немецкие принцы пытались с 1840 года свататься к красавице: и Фридрих Вюртембергский (брат супруги великого князя Михаила Павловича), и Макс Баварский, и Мориц Нассауский, и сын великой княгини-герцогини Веймарской Марии Павловны, и даже австрийский эрцгерцог Альбрехт. Но всё напрасно. «Олли» (как её называли в семье) уже два года мечтала о другом австрийском эрцгерцоге – Стефане, сыне венгерского палатина, первым браком женатого на русской княжне Александре Павловне. Казалось, желанный союз вот-вот свершится, но ожидаемое событие всё оттягивалось. Наконец из Вены пришло в 1841 году хотя и «обрамлённое всевозможными любезностями» послание канцлера Меттерниха со скрытым отказом, как изворотливо писал хитроумный дипломат, «браки между партнёрами разных религий представляют для Австрии серьёзное затруднение. Легковоспламеняющиеся славянские народности в Венгрии и других провинциях государства невольно наводят на мысль, что эрцгерцогиня русского происхождения и православного вероисповедания может быть опасной государству и вызвать брожения».[414] Но ещё несколько лет Ольга Николаевна продолжала платонически вздыхать о далёком австрийском принце, пока окончательно не разочаровалась в нём.
Правда, вскоре эти мечтания нарушил высокий и статный лейб-гусар Александр Иванович Барятинский, красавец с прелестными голубыми глазами и белокурыми кудрями, к тому же друг брата-наследника, богатый наследник майората с 8 тысячами душ крепостных, лихой товарищ для приятелей и обаятельный собеседник.[415] Великая княжна не смогла устоять перед чарами князя и всерьёз увлеклась блестящим царедворцем. Чувство оказалось взаимным.
Однако брачный союз дочери императора с российским подданным, хотя тот и принадлежал не только к Рюриковичам, но и к потомкам святого князя Михаила Черниговского, был невозможен, поскольку Николай I никогда бы не допустил подобного мезальянса. Все царедворцы накрепко запомнили «выволочку», устроенную самодержцем легкомысленному пажу. Тот на придворном балу подлетел к Марии Николаевне, замужней старшей дочери властелина, и, расшаркиваясь, известил, что один из посланников оказывает ей как герцогине Лейхтенбергской честь пригласить на танец. Разъярённый таким непочтением монарх громко выговорил юнцу, что дочь могущественного повелителя всегда остаётся русской великой княгиней, а поэтому лишь она сама может снизойти с высоты своего положения и оказать честь благожелательно пройти тур танца с официальным представителем иноземного государя. Да и позже, как страшилась батюшкина гнева та же Мери, когда, овдовев, рискнула тайно, чтобы только «не жить во грехе», обвенчаться с любимым Григорием Строгановым, и как тщательно скрывали тайну свершившегося брака брат-цесаревич и его супруга.
Но время шло, и приехавшие в Петербург в 1843 году кандидаты в женихи великой княжны Ольги Николаевны предпочли посвататься к другим: принц Фриц Гессен-Кассельский с первого взгляда влюбился в самую младшую дочь русского государя, а герцог Нассауский официально попросил руки кузины Елизаветы Михайловны. Николай I всерьёз обеспокоился и в 1845 году, дав князю Александру Барятинскому звание полковника, послал красавца на Кавказ, а Олли вместе с матерью отправил на лечение в Палермо.
По пути великой княжне представлялись многие немецкие принцы, но почти все они казались ей «безвкусными и узкими в своих взглядах и натурах» из-за воспитания, не требовавшего «от них ничего иного, кроме военных учений, выдержки и хороших манер в обществе, а также знания верховой езды и охотничьих приёмов». Прочесть хорошую книгу оставалось для этих плейбоев XIX века «ненужным и смешным, учёный был только предметом насмешек, на которого они могли, благодаря своему знатному происхождению, смотреть свысока».[416]
Осенью в Палермо пришла депеша от Меттерниха: Дом Габсбургов опять оказался «заинтересован в сближении, если австрорусская женитьба сможет облегчить положение Римской Церкви в русских землях» и если августейший отец великой княжны, «как представитель Православной Церкви, согласен примириться с Папой Римским», хотя для Николая I «не существовало ни спора, ни конфликта между обеими Церквями». Однако к концу года начались брожения и волнения в Венгрии и Богемии, да и сама Ольга окончательно охладела к эрцгерцогу Стефану. А тут ещё под Рождество из Венеции пришло послание августейшего отца, хвалившего благородство выдержки и манер представлявшегося самодержцу кронпринца Карла Вюртембергского, мечтающего о русской красавице-принцессе, хотя та и была старше соискателя её руки на полгода. В конце письма Николай I заботливо сделал приписку для любимой Олли: «Когда я ему сказал, что решение зависит не от меня, а от тебя одной, по его лицу пробежала радостная надежда».[417]
Предполагаемый жених был представлен великой княжне в первый день наступившего 1846 года, а уже в католическое Крещение Ольга Николаевна дала согласие на брак. Через шесть месяцев, 25 июня, в петергофской церкви состоялась помолвка, но чтобы обеспечить такой же счастливый брак, как у родителей невесты, свадьбу назначили на 1 июля, день рождения императрицы Александры Феодоровны, совпавший некогда с её венчанием с тогда только великим князем Николаем Павловичем. Оставшаяся неделя быстро пролетела «в примерках платьев, в выборе и раздаче сувениров и подарков, в упаковке и прощальных аудиенциях».
Настало 1 июля. Невесту одели в пышный наряд, а на плечи прикололи тяжёлую великокняжескую мантию. После православной свадьбы новобрачных ещё раз обвенчали в одном из залов Большого дворца, где была устроена лютеранская часовня. Лишь вечером, после заполненного церемониями и оттого кажущимся бесконечным дня, великая княжна, превратившаяся после церковных ритуалов в русскую великую княгиню и кронпринцессу Вюртембергскую, наконец-то смогла снять чересчур тяжёлое серебряное парчовое платье, а также алмазные корону и ожерелье. Когда в полночь все наконец стали расходиться, Николай I ещё раз благословил дочь и, может быть, тогда и передал ей на память о родительском доме свой усыпанный алмазами портрет.
Ольга Николаевна уехала с мужем в новое отечество. Там ей пришлось несладко: свёкор был капризен, а милый поначалу муж оказался грубияном и пьяницей. В 1864 году она стала королевой, но правление её оказалось недолгим, вскоре разгорелась война, затеянная Пруссией. Карликовые самостоятельные королевства и герцогства в её ходе были поглощены и вошли в новообразованную германскую империю, а бывшим владетельным государям, лишённым верных подданных, осталось утешаться сохранёнными титулами. В 1892 году семидесятилетняя бездетная королева Ольга умерла, «уважаемая и любимая всем вюртембергским народом».[418] Доходы герцогов-наследников резко сократились, пришлось потихоньку распродавать фамильные драгоценности. Так подвеска-медальон с портретом Николая I через шесть десятилетий снова вернулась в Россию и была присоединина к фамильным бриллиантам императорской семьи.
Кто же в Петербурге смог столь искусно и хорошо выполнить ответственный заказ самодержца? Судя по архивным документам, обычно наградные высочайшие портреты окружал алмазами придворный ювелир Вильгельм Кеммерер. Во всяком случае, только в 1848 году он представил ко двору один портрет Николая I и два – императрицы Александры Феодоровны, а кроме того, украсил алмазами шесть табакерок с миниатюрами императора и его супруги, причём три изображения грозного монарха написал «живописец Вимберг».[419] Поэтому не исключено, что именно Кеммерер в 1846 году умело и тщательно справился с поручением русского императора, чей образ в миниатюре запечатлел для потомков, скорее всего, признанный портретист Иван Андреевич Винберг. Лавры, окружающие портрет самодержца, не случайны: только что Николай I, считающий себя могущественным государем и победоносным воителем, расширившим границы империи, отпраздновал своё пятидесятилетие и двадцать лет успешного правления самым обширным государством.
Украшения для великой княгини Александры Иосифовны
Брат цесаревича, великий князь Константин Николаевич решил в двадцать лет поскорее жениться, «чтобы избавиться от ярма своего воспитания». Выбор его пал на принцессу Фредерику-Генриетту-Паулину-Марианну-Елизавету Ангальт-Саксонскую, чаще титулуемую Саксен-Альтенбургской. Внешность очаровательной немочки привела великого князя «в восторг и вызвала в нём страстные чувства, он любил её вначале слишком идолопоклоннически, чтобы замечать её ограниченность», недостаточные образованность и воспитанность, а также дурное владение французским языком. Однако, поскольку второй сын Николая I «прямо из детской попал в мужья, безо всякого опыта, без того, чтобы изжить свою молодость или побыть в кругу своих сверстников, совершенно неспособный не только вести жену, но и себя самого», то вскоре попал «под башмак своей очень красивой, но и очень упрямой» супруги, получившей в России имя Александры Иосифовны, а при Дворе называемой просто «Санни».[420] Великая княгиня, чрезвычайно походившая собой на прославленную красотой и злосчастной судьбой шотландскую королеву Марию Стюарт, была настолько хороша, что у воочию увидевшего «Юзефовну» поляка-террориста не поднялась рука убить сидевшего рядом с ней мужа – ненавидимого наместника Царства Польского в 1862–1863 годах. Однако через двадцать лет брака великий князь охладел к своей благоверной и так полюбил балерину Анну Васильевну Кузнецову что не только совершенно не скрывал скандальную связь, но и любил представлять свою возлюбленную подругу знакомым, приговаривая: «В Петербурге у меня казённая жена, а здесь собственная».
Но это будет потом. А тогда, в 1847 году, семнадцатилетняя восхитительная принцесса, избранная в спутницы жизни великим князем Константином Николаевичем и полная мечтаний о грядущем счастье, прибыла в Петербург. Родители одобрили выбор сына. Будущая невестка быстро овладела сердцами новых родных, поскольку в манерах и тоне чаровницы сквозили «весёлое молодое изящество и добродушная распущенность, составляющие её прелесть». Она заняла в императорской семье положение «шаловливого ребёнка», а её бестактность и неумение вести себя снисходительно считали «забавными выходками и мелкими шалостями». Даже в гортанном и хриплом голосе немки находили особый шарм.[421]
Тогда-то при переходе в православие невеста второго сына Николая I стала Александрой, а русифицированное отчество «Иосифовна» сохранило имя её отца. Обручение с суженым прошло 6 февраля 1848 года, а через полгода, 30 августа, состоялась свадьба великокняжеской четы. «Нанизание бриллиантов на корону к бракосочетанию великого князя Константина Николаевича с великой княгиней Александрой Иосифовной» исполнил Карл Болин.[422]
Однако в столь памятном красавице-принцессе году большинство сверкающих алмазами украшений для неё делает Вильгельм Кеммерер. Ещё до великокняжеской свадьбы придворный ювелир выполнил для наречённой две драгоценные головные булавки и бриллиантовые серьги с сапфирами. Подлинный чародей своего искусства сделал ещё бриллиантовую цепь, но, вероятно, она оказалась столь хороша, что августейшая свекровь решила оставить драгоценную вещь у себя.[423]
Вильгельм Кеммерер. Бриллиантовое колье с изумрудными подвесками. 1848 г. (?)
Счастливая же новобрачная получила созданные Вильгельмом Кеммерером два прелестных бриллиантовых склаважа, причём первое из ожерелий оказалось составлено из тридцати одного крупного камня, заключённого в отдельные шатоны, а в другом сверкающие алмазы дополняла небесно-голубая бирюза.[424] То ли для великой княгини Александры Иосифовны, то ли для самой императрицы Александры Феодоровны предназначались «четыре браслета с именем “Alexandra”» работы того же придворного ювелира.[425]
Вероятно, именно он вскоре исполнил великолепное и очень нарядное бриллиантовое колье с изумрудными подвесками. Длинная цепочка из чередующихся с овалами ромбов достигала 64 см. В центре каждого из одиннадцати ромбов ювелир закрепил по бриллианту. Общий вес сих одиннадцати бриллиантов составил 16 карат. От каждого овала отходили две цепочки из небольших бриллиантов в шатонах, зависающие красивыми фестонами под ромбами. Между этими цепочками-фестонами тяжело колыхались крупные подвески сложной конструкции. Бриллиант снизу окаймлял полумесяц из крошечных алмазиков, к нему был подвешен тюльпан с отогнутыми боковыми лепестками, а от этого «цветка счастья» отходила сверкающая алмазами-розами миндалевидная петля, окаймлявшая свободно подвешенный громадный кабошон изумруда, поддерживаемый алмазным куполом колокольчика. Недаром высота этого дивного ожерелья колебалась от 5,6 до 8,5 см. Серебряная ажурная оправа с золотой подпайкой совершенно не была видна из-под сплошь её усеивающих алмазов. Все детали соединялись вручную петельками и крючками. Хотя алмазы были применены и среднего качества, зато их масса превышала 150 карат.
Поражали своим качеством изумруды, чей суммарный вес достигал 260 карат. Даже на чёрно-белой фотографии видно отсутствие в камнях трещин, столь присущих смарагдам. Искусные руки огранщиков на два из одиннадцати кабошонов даже нанесли грань, чтобы лучше выявить красоту самоцвета, аккуратно закреплённого в золоте. Все изумруды были уральского происхождения.[426]
Не исключено, что к «казённым» камням Кеммерер мог добавить и принадлежавшие ему самому. Ведь современники ювелира отмечали, что все лучшие каменья отправляются «на Невский проспект к Римехеру, Кемереру и другим», а поэтому «на Невском проспекте скорее и вернее найдёшь то, что хорошее только случайно бывает» в самом Екатеринбурге и в тогдашней столице Сибири – Тобольске.[427]
Овдовевшая Александра Иосифовна в начале XX века уступила дивное ожерелье супруге Николая II.[428] К сожалению, как это колье, так и другие драгоценности императорской семьи, украшенные уральскими изумрудами, были проданы после Октябрьской революции, а поэтому посетители Алмазного фонда России сейчас почти лишены возможности видеть дивные отечественные камни, месторождения которых оказались практически выработанными ещё к началу XX века. Осталась только слава об их красоте да тёмная история со странно исчезнувшим, уникальным по величине и своим достоинствам изумрудом.
Таинственная судьба «фунтового» уральского изумруда
Ещё Плиний Старший упоминал о смарагдах, привозимых с «Рифейских» гор, случались и отдельные интересные находки, но открытие месторождений уральских изумрудов и их история тесно связаны с именем Якова Васильевича Коковина (Каковина). На берегу речки Токовой, где смолокур Максим Кожевников в корнях вывороченного дерева углядел «худые аквамарины», именно Яков Коковин 23 января 1831 года обнаружил первую изумрудную жилу, но эти же дивные камни вскоре и погубили его.
Самого Николая I поразили ярко-зелёный «тёплый» цвет отечественных смарагдов, их красота и чистота из-за небольшого числа видимых включений и трещин. Изумруды Урала ни в чём не уступали прославленным и признанным колумбийским камням, к тому же последние казались более холодного оттенка из-за лёгкого прицвета голубизны. Однако неравномерная присылка дивных кристаллов с далёкого Урала всё время волновала начальство Кабинета Императорского двора, боявшееся возможной утайки казённого добра, а посему решившее послать ревизора.
На беду, изумрудные копи незадолго до приезда проверяющего чиновника подарили столь уникальный смарагд, что Яков Коковин, тогда управлявший казённой Екатеринбургской гранильной фабрикой, никак не мог насладиться лицезрением диковинки, оттягивая миг расставания и отсылки чудесного кристалла в Петербург, говоря окружающим: «Ещё на этот камень полюбуюсь, ни прежде, ни после не было подобного». Ведь он, будучи подлинным художником и талантливым скульптором, любивший в минуты краткого досуга заниматься резьбой по камню, тонко чувствовал «душу» самоцвета.
Да это и неудивительно. Почти три десятилетия назад Яков Васильевич Коковин, внук камнереза, сын незаурядного крепостного мастера и сам крепостной, лишь благодаря покровительству мецената графа Александра Сергеевича Строганова попавший в петербургскую Академию художеств, настолько блестяще одновременно окончил медальерный и скульптурный классы, что получил не только золотую медаль, шпагу и личную свободу, но и был удостоен права на пенсионерскую поездку за границу. Однако та сорвалась из-за наполеоновских войн 1806 года, и новоиспечённый выпускник вскоре уехал на родину, где и сделал карьеру от художника до директора казённой фабрики.
Приехавший в июне 1835 года ревизор лично уложил в ящики подготовленную к отправке в столицу партию камней, в том числе и дивный кристалл «самого лучшего достоинства, весьма травянистого цвета, весом в фунт (тогда составлявший 409,512 грамма), <…> самый драгоценный и едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря». Проверяющий из Петербурга опечатал каждый ящичек как своей печатью, так и печатью Екатеринбургской фабрики, взял с собой в сопровождающие Григория Пермикина, чтобы привезти искусного камнереза (и будущего открывателя месторождений отечественного лазурита) работать на другом казённом предприятии, находящемся в Петергофе.
По благополучном прибытии в Северную Пальмиру опечатанные ящики доставили в служебный кабинет вице-президента Департамента уделов, которому непосредственно подчинялась Екатеринбургская гранильная фабрика. Важный пост занимал тогда энергичный и деловой Лев Алексеевич Перовский, столь прекрасно и с большим размахом поставивший дело на захиревшей было Петергофской шлифовальной фабрике, что современники считали: этому деятельному чиновнику «и вся русская наука» была обязана «за его почти тридцатилетнюю деятельность тем особым подъёмом внимания к камню, которое характеризует всю первую половину XIX века». Однако в душе деятеля николаевского времени гнездился хладнокровный, чёрствый и расчётливый карьерист, его снедала пламенная страсть коллекционера, и благодаря служебным возможностям в его собрании оседали все лучшие камни, поступавшие в Департамент уделов, и ради уникальных минералов он с неумолимой жестокостью шёл на подкуп и подлость. А тут такой раритет…
Всё прошло бы тихо, однако вскоре по столице поползли слухи о диковинной уральской находке, появились и вельможные охотники взглянуть на неё. Пропажа вскрылась в отсутствие Льва Перовского в Петербурге. Тот же ревизор удивлённо сверил свою опись с наличием: по документу числился 661 «гранёный изумруд разной величины», а налицо присутствовали 670 травянисто-зелёных смарагдов, зато нет уника, да ещё неизвестно, куда делись четыре лучших аквамарина цвета морской воды.
В начале ноября того же года министр Двора доложил о случившемся вернувшемуся из-за границы Николаю I. Скандал разгорался нешуточный, поскольку император подобных «шуток» не любил и был крут на расправу с виновными. Льву Перовскому пришлось пойти «ва-банк»: явившись к разгневанному самодержцу, он вызвался лично (только бы никто не вмешивался) заняться поисками исчезнувшего изумруда и, заручившись на свои грядущие действия именным высочайшим указом, прибыл в Екатеринбург.
Там высокопоставленный чиновник срочно арестовал и велел бросить в местную тюрьму, да ещё в строжайшее одиночное заключение, представленного ещё несколько месяцев назад, в августе, по итогам ревизии к награждению следующим чином Якова Васильевича Коковина, на которого «сиятельный негодяй» давно «имел зуб» за неподатливость на «левые сделки». Почти три года просидел бывший главный художник, главный мастер и управляющий Екатеринбургской фабрикой в отделении секретных арестантов без всяких сношений с внешним миром. 27 мая 1837 года посетивший тогдашнюю столицу камнерезного искусства русский поэт Василий Андреевич Жуковский, сопровождавший своего воспитанника, цесаревича Александра Николаевича, в поездке по России, записал в дневнике: «Четв./ерг/. Тюремный замок. Похититель изумрудов в остроге с убийцами. Шемякин суд».
Суд, действительно, был неправый, так как подчинялся он непосредственно оренбургскому губернатору Василию Алексеевичу Перовскому, а тому хотелось выгородить брата. Заподозрить Льва Перовского судьи не посмели, а совершенно оправдать Якова Коковина (который, сидя в одиночке, ломал голову, в чём же его обвиняют) было нельзя. Поэтому, поскольку об изумруде и речи на обвинительном процессе не шло, придрались к недостаткам в работе Екатеринбургской фабрики и, даже не выслушав объяснений несчастной жертвы, вынесли приговор о лишении бывшего управляющего «чинов, орденов, дворянского достоинства и знака беспорочной службы». И хотя в обвинительном вердикте не было ни слова о тюремном заключении, обесчещенного и тяжелобольного, сломленного клеветой Якова Васильевича Коковина не сразу выпустили на свободу. В последнем прошении об апелляции 9 декабря 1839 года несчастный писал: «Приводя на память и рассматривая поступки во всей жизни моей, я совершенно не нахожу ни в чём себя умышленно виноватым».
Пересмотра дела не было, и в глазах потомства один из самых талантливых художников-камнерезов и изобретателей, на чьих станках работали все отечественные гранильные фабрики вплоть до начала XX века, стал вором, пока хитроумно запрятанные документы не были найдены не прояснили истину.
Судьба покарала-таки ловкого царедворца-интригана: его родная племянница Софья Перовская, уйдя в революционные дела, стала одним из организаторов убийства Александра II на Екатерининском канале и закончила жизнь на виселице. А от Якова Васильевича Коковина остались его творения, в том числе и подлинный шедевр – украшающая Двенадцатиколонный зал петербургского Эрмитажа, выточенная по его эскизу из найденной им же глыбы калканской серовато-тёмно-зелёной яшмы чаша с вьющимися по ней виноградными лозами, освобождёнными из толщи необычайно твёрдого камня, и, хотя на ней высечено имя Гаврилы Налимова, однако тот с 1841 года лишь блестяще закончил работу своего талантливого предшественника.[429]
Но как же могут под давлением жизненного опыта меняться взгляды историков на события прошлого! Когда в последние два десятилетия XX века началась перестройка, разгулялась приватизация-«прихватизация», директора заводов и фабрик почувствовали себя хозяйчиками. И теперь в Якове Васильевиче Коковине те же исследователи стали видеть кровопийцу и безжалостного эксплуататора работников казённой Екатеринбургской гранильной фабрики, поделом пострадавшего за хищения.
Фунтовый же смарагд так и пропал.
Со временем «Изумрудом Коковина» назвали уральский камень в 2226 граммов весом – гордость Московского академического Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана. Когда-то в конце XIX века необычный по величине кристалл попал в коллекцию графа Кочубея, которая очутилась в Вене, где его оценили в 50 тысяч австрийских гульденов. После падения Австро-Венгерской монархии разорились многие магнаты, с молотка в 1920-е годы пошёл и редкостный смарагд, однако на аукционе диковинный самоцвет удалось приобрести по поручению Советского правительства за 150 тысяч рублей.[430]
Ожерелья к обновлённому жемчужному гарнитуру
Ювелир Готтлиб-Эрнст Ян, предшественник Василия Богдановича Кеммерера на посту оценщика Кабинета, исполнил к 1 января 1833 года восхитительную диадему, переделав её из предметов вышедшего из моды жемчужного убора, поскольку верхний слой камня, образовавшегося в раковине моллюска, постепенно разрушается и бесценный перл теряет сияние радужных переливов, скользящих обычно по его поверхности. Поэтому утратившие красоту жемчужины приходилось заменять. В пару к диадеме к той же дате придворного большого бала, скорее всего, тот же мастер закончил «севинье с большою Жемчужною подвескою» в 77 карат.[431] Вещь получилась богатой.
Вильгельм Кеммерер. Бриллиантовое колье с жемчужными подвесками. 1837 г.
А через четыре года, когда при Дворе готовились отметить грядущее двадцатилетие бракосочетания императорской четы, настал черёд Вильгельма Кеммерера попробовать свои силы и попытаться сравняться с мастерами прошлого. К 12 апреля 1837 года, скорее всего, именно он переделал «корсаж из трёх частей». Каждая из них называлась затем «севинье», и напоминала собой брошь, которую так любила носить знаменитая французская писательница нравоучительных романов – маркиза де Севинье. Среди многочисленных алмазов красовался бриллиант в 111/16 карат. Взгляды созерцающих императрицу в этом роскошном уборе притягивали и восемнадцать крупных жемчужин, поскольку масса девяти из них колебалась от 20 до 36 карат, а другие девять весили по 10 карат. Трудно даже представить себе великолепие этих трёх брошей, своеобразной лесенкой от самой крупной до самой маленькой спускавшихся по корсажу императрицы Александры Феодоровны, поскольку стоимость только украшающих их камней достигла 73 773 рублей.[432]
Кокошник на золотой парче с крупными бриллиантами и жемчужинами. Начало XX в.
Не прошло и недели, как 16 апреля 1837 года мастер закончил переделку роскошного колье. Рисунок его был удивительно прост, весь строился на повторении одного и того же элемента, но при этом поражал элегантностью. Теперь сплошь усыпанные бриллиантами звенья, похожие на двойные цветки лилии, служившие геральдическим гербом французских королей, отделялись друг от друга парой круглых жемчужин (каждая по 2,5 карата). От каждого из них отходили такие же алмазные петли, как десятилетием позже и в ожерелье великой княгини Александры Иосифовны, но только в них покачивались придерживаемые алмазным «колокольчиком» не изумруды, а крупные жемчужные подвески. Однако на сей раз украшение предназначалось для самой императрицы, а поэтому ничего удивительного, что только стоимость камней составила 118 660 рублей. Масса каждой из жемчужных грушек, постепенно уменьшавшихся от центра колье к краям, колебалась от 16 до 38,5 карат.[433]
Дивное колье в начале XX века отчасти размонтировали. От него сохранились лишь пятнадцать звеньев, соединявшихся друг с другом системой петелек и крючков.
Вильгельм Кеммерер, Константин Зефтиген (?). Брошь. 1830-е гг.
Четыре жемчужные грушки вместе с окружавшими их алмазными петлями, завершавшимися каждая крупным бриллиантиком, оказались в начале XX века на парчовом кокошнике, наскоро сделанном для придворного бала-маскарада. Разделяли их заключённые в оправу-шатон крупные бриллианты. Но при этаком-то богатстве декора края кокошника обшили искусственным жемчугом: то были стеклянные шарики, покрытые эссенцией из чешуи рыбки-уклейки, что придавало простому материалу вид драгоценных перлов. Однако пятерка алмазных петель, также окружающих жемчужные грушки-подвески, бриллиантиком не завершались. Эти пять деталей, скорее всего, сняли с другого колье, также, вероятно, исполненного Кеммерером в 1840 году. Ими в числе семнадцати «крупных жемчужин подвесками», весивших 170 карат, придворный ювелир-оценщик тогда дополнил «двадцать четыре бантика, оставшихся от большого склаважа, часть коего» уже употребили «в новый Жемчужный убор». В «бриллиантовой цепочке», длиной в 46,75 см, когда-то облегавшей шею императриц, чётко, в духе строгого классицизма конца «осьмнадцатого» века чередовались «прекрасной работы» одинаковые бантики с одинаковыми же овалами. Усеивавшие их алмазы закрывали серебро оправы. Концы крайних бантиков завершались припаянными для продевания ленты петлями, так и не заменёнными более привычными для XIX века застёжками-фермуарами. Новое ожерелье оказалось гораздо скромней по камням, их оценили в 7132 рубля.
Однако этому колье не везло. «Из двух кисточек, принадлежащих к цепочке» и, скорее всего, дополнявших крайние бантики, уже 5 декабря 1841 года вынули 22 бриллианта, отпустив камни ювелиру Болину на диадему – ту самую, которую в 1980 году повторили советские мастера, назвавшие её «Русской красавицей». Правда, «к несчастливому» ожерелью ещё до 1865 года присоединили декор из сотни мелких жемчужин.[434] Однако к 1914 году оно лишилось всех жемчужных дополнений, остались пустые ушки на алмазных бантиках, похожих на те, что были характерны для работ Якова Дюваля[435].
Эксперты ферсмановской комиссии посчитали, что в пару к жемчужному колье была исполнена и брошь (составляющая с ним и большой жемчужной диадемой 1833 года гарнитур), но гораздо более сложного, хотя и симметричного рисунка. Не исключено, что брошь могла быть исполнена вместе с помощником Кеммерера – Константином Зефтигеном.
История с ожерельем императрицы Александры Феодоровны
Как придворный оценщик, Вильгельм Кеммерер должен был наблюдать за состоянием не только хранящихся в Кабинете драгоценных предметов, предназначавшихся для «Высочайших подарков», но и за сохранностью личных бриллиантов царской семьи и коронных вещей.
Однажды только благодаря Кеммереру было быстро распутано дело о похищении камерюнгферой императрицы Александры Феодоровны нескольких жемчужин из роскошного жемчужного ожерелья, состоявшего из четырёх ниток, снизанных из постепенно уменьшающихся к концам зёрен. С жемчужной же застёжкой-фермуаром, причём жемчуг был так подобран по величине и нитки лежали так плотно одна к другой, что представляли «как бы нечто сплошное».
Заметили кражу совершенно случайно. Царица пожелала на торжественный выход надеть ожерелье, но, к крайнему изумлению, оно никак не хотело красиво «ложиться»: как его ни поправляли, верхняя нитка постоянно падала на следующую. Растроенной владелице пришлось надеть другие жемчужные бусы – длинную нить, спускавшуюся ниже пояса. Вероятно, то была модная «кордельера», закреплявшаяся на обоих предплечьях.
Огорчённая и недоумевающая доверенная камерфрау, хранившая драгоценности императрицы, сразу же вызвала оценщика Кабинета. «Придя, Кеммерер уложил ожерелье в ящик, в котором были сделаны четыре желобка, куда всыпаются зёрна, когда их нанизывают. Сейчас же обнаружилось, что тут не все зёрна; симметрическое распределение жемчуга по величине не было нарушено, а потому и было трудно определить, сколько и каких зёрен не хватает. По весу и справке в книге, ювелир объявил, что не хватает 8 жемчужин, стоимостью в 800 рублей».[436]
Камерфрау никак не могла понять, каким способом и когда могли извлечь из замкнутой на ключ витрины жемчуг, пока наконец крепостная горничная виновной камерюнгферы не призналась, что её госпожа принуждала её помочь ей перенизать ожерелье императрицы. Похищенные зёрна воровка заложила у ростовщика, чтобы ссудить деньгами своего возлюбленного, а когда поднялся шум, она поспешила выкупить жемчужины, чтобы тихо вернуть их на место, но полиция, уже следившая за ней, схватила преступницу с поличным. По признании и чистосердечном раскаянии в содеянном провинившуюся жертву любви в 24 часа выслали из Санкт-Петербурга в Новгород с запрещением показываться не только в столице, но и в её окрестностях, однако от себя императрица простила проштрафившуюся камерюнгферу и даже определила ей 400-рублёвую пенсию.[437]
Службой Вильгельма Кеммерера при Дворе были довольны: в 1839 году он получил звание придворного ювелира, а затем награждался золотыми медалями для ношения на шее сначала на Аннинской, затем на Владимирской и, наконец, на Андреевской лентах. К сожалению, у мастера прогрессировала болезнь почек, из-за обострения которой ему всё чаще приходилось брать краткие отпуска. В 1850 году он на три недели отправился в Выборг, на Марциальные воды, а в последующие два года по полугоду лечился за границей.
В периоды отсутствия Кеммерера место оценщика временно замещал ювелир Константин Зефтиген, которого с разрешения Управляющего Кабинетом ещё 11 июля 1846 года взяли без жалованья в помощь к двум штатным оценщикам. Однако по статье 602 Свода Законов «у всех чиновников гражданской службы, увольняемых в отпуск сроком долее 29 дней, удерживалось причитающееся им за время нахождения в отпуску жалованье». Согласно же статье 960, с 1851 года оклад Кеммерера на время его долгого отсутствия за границей производился «Зевтингену» в вознаграждение трудов того по исполнению обязанностей оценщика при Кабинете.[438]
Судя по всему, у Кеммерера с его временным заместителем сложились творческие отношения учителя и ученика, потому что в сотрудничестве с ним Зефтиген исполнил ряд произведений, выставленных не без успеха на Всемирной Лондонской выставке 1851 года. Там публика ахала от восхищения, любуясь усыпанными бриллиантами драгоценностями, но особый восторг «за благородство и изящество вкуса» вызывали гирлянда, где среди алмазов посверкивали изумруды, а также букет шиповника и ландышей.
Знатоки же толпились возле принадлежавшей графине Воронцовой-Дашковой так называемой «берты» – узкого воротничка, идущего по краю лифа платья, – удивляющей даже их «превосходным выбором рубинов».
Однако последняя поездка на воды Кеммереру не помогла. Придворный ювелир в сентябре 1852 года вынужден был вернуться в Петербург ранее на полтора месяца от просимого срока ввиду резкого обострения болезни. Однако буквально через неделю расхворавшегося ювелира, жившего в доме Суткова на Невском проспекте, потревожили повесткой от Санкт-Петербургской Купеческой Управы, требующей явиться к надзирателю 1-го квартала 2-й части для оценки золотых и бриллиантовых вещей. Кеммерер обратился за помощью к чиновникам Кабинета. Он написал, что стар, не встаёт с постели и «не в силах повиноваться сему приказанию», слабость здоровья препятствует ему даже в исполнении его непосредственной службы при Дворе.
Видимо, из уважения к заслуженному мастеру, а также принимая во внимание большой и обширный круг обязанностей, заставлявший ювелира являться спешно, по самым неожиданным поводам и в неурочное время ко Двору, было постановлено на будущее вовсе освободить оценщиков Кабинета от службы городу.[439]
Но коварная болезнь прогрессировала, да и годы давали себя знать, и 22 сентября 1854 года «Почётный Оценщик Кабинета и Придворный Ювелир Кеммерер» скончался.[440]
Константин Зефтиген
Вильгельма Кеммерера после его кончины сменил на придворной должности Константин Карлович Зефтиген. По уже упоминавшейся статье 960 «чиновнику, вступающему по назначению начальства или по порядку службы в исправлении должности, остающейся праздною по случаю отставки, перемещения или смерти занимавших оную», производилось «жалованье и всё содержание, сей должности присвоенные, впредь до окончательного в оной утверждения».[441]
Происходил Константин Зефтиген из «русской» ветви очень древнего и, как утверждали некоторые современные журналисты, весьма знаменитого в XII веке швейцарского рода, возводившей своё начало к рыцарю Тевтонского рода, осевшему в Прибалтике.[442] От посёлка со старинным названием Зефтиген, существующего и ныне, когда-то можно было, двигаясь к югу, добраться за четыре часа езды на лошади до Берна, поскольку их разделяло лишь 25 км. Неудивительно, что члены семейства Зефтиген оставили в давние времена след в истории современной столицы Швейцарии: Яков Зефтиген в 1375 году избран членом бернского магистрата, а затем одиннадцать лет, с 1378 по 1389 годы, был главой правительства Берна. Десять лет спустя ту же высокую должность занял один из самых богатых жителей этого города Людвиг Зефтиген и правил вплоть до 1407 года.
Членов рода часто притягивала профессия ювелира. Именно этим ремеслом бургомистр Дрездена в 1748 году разрешил Фридриху Зефтигену заниматься в Саксонии.[443]
В XVIII веке в Ревеле (ныне Таллин), приняв русское подданство, успешно работал золотых дел мастер Карл-Фридрих Зефтиген, присягнувший 14 сентября 1778 года на бюргерское звание. Его сын Карл-Эммануил, официально ставший Ревельским бюргером 12 августа 1810 года, был настолько талантлив, что коллеги по профессии избрали его старшиной гильдии Св. Канута. Тем не менее он вскоре решил переселиться в поисках более счастливой фортуны в Петербург. Там у него в 1814 году родился Константин-Фридрих, а 4 февраля 1820 года на свет появился Адольф-Леопольд. Оба сына пошли по стопам отца. Скорее всего, именно он научил своих отпрысков сначала азам, а затем и секретам избранного ремесла, требующего аккуратности и собранности.
Дело в столице Российской империи удалось поставить настолько неплохо, что в середине мая 1835 года «Российский подданный ювелирных дел мастер Карл Зефтиген с женою Элизабетой, урожденной Шпигель» смог по считавшемуся заграничным паспортом путевому листу выданному по повелению Николая I, отправиться в путешествие на родину предков через чересполосицу европейских государств. В Швейцарии супружеская чета посетила местечко Зефтиген, а затем побывала в Берне, где глава семьи решил покопаться в архивах, чтобы воссоздать историю своих предков. Елизавета-Элеонора, оставшись вдовой, через 40 лет смогла довершить мечту супруга, составив в 1875 году генеалогическое древо рода Зефтигенов. А уже в наши дни праправнук Карла-Эммануила, петербуржец Эдуард Владимирович Зефтиген, также за рубежом посетивший посёлок, бывший колыбелью его предков, пытается по старинным документам воссоздать ход истории семьи.[444]
Сестра Карла-Эммануила Зефтигена, Юлиана, вышла замуж за уроженца Ревеля Эдуарда Гау (1807–1887), живописца-акварелиста, получившего в 1830–1832 годах образование в Дрезденской Академии художеств и затем уже с середины 1850-х прославившегося совершенством техники и подлинно ювелирной точностью воспроизведения в своих творениях мельчайших деталей интерьеров Императорского Эрмитажа и Зимнего дворца. В 1854 году Эдуард Гау (которого теперь предпочитали называть на русский лад Эдуардом Петровичем) удостоился звания академика. Он написал портреты своего шурина, ювелира Карла-Эммануила Зефтигена, и его жены Елизаветы-Элеоноры. Конечно, эта работа, хотя и хороша,[445] но всё же уступает творениям знаменитого сводного брата живописца, тоже художника-акварелиста Вольдемара (или Владимира Ивановича) Гау (1816–1895), который ещё в Ревеле получил основы профессии у отца, пейзажиста Иоганна Гау, а затем совершенствовался у Карла-Фердинанда фон Кюгельхена. Вольдемар Гау продолжил образование в Петербурге у придворного художника-баталиста Александра Ивановича Зауервейда, после чего, оттачивая мастерство, провёл несколько лет в Германии и Италии. Вернувшись в Северную Пальмиру художник в 1840 году занял престижную должность придворного портретиста самого императора Николая I и членов его семьи, а в 1849 году получил звание академика.[446]
Нельзя исключить, что кто-то из братьев Гау мог посодействовать родному племяннику Константину Зефтигену устроиться в 1846 году внештатным оценщиком Кабинета в помощь постоянным сотрудникам.
Корона Александра II
Старший сын Карла-Эммануила Зефтигена добросовестно служил в Кабинете оценщиком драгоценных камней и вещей до 1857 года. Двумя годами ранее на долю Константина Карловича выпала честь подготовить Большую императорскую корону к коронации Александра II, взошедшего на отчий престол после смерти 18 февраля 1855 года Николая I.
Поскольку ювелир любил, подражая старым мастерам, отрабатывать подбор и размещение драгоценных каменьев на восковой модели, исполняемой им самим в размер будущего изделия, Константину Зефтигену оказалось не столь сложно размонтировать венец русских самодержцев, почистить и промыть все детали, а затем аккуратно поместить многочисленные драгоценные камни в металлический каркас. Самым трудным оказалось подогнать нижний обруч короны под чело нового монарха, но мастер отлично справился с поставленной задачей. В немалой степени помогло умение ювелира столь хорошо рисовать, что современники считали Константина Карловича Зефтигена незаурядным художником.[447]
Малая корона императрицы Марии Александровны
По сложившейся при русском Дворе традиции, царствующие императрицы имели две короны: «Большая» увенчивала их чело при обряде коронации, а «Малую» они носили при менее торжественных церемониях. То же положение сохранялось в первой трети XIX века, хотя величина «большой» короны супруги царствующего самодержца значительно уменьшилась. «Малую» же корону в наряде императриц сменил с 1834 года полумесяц диадемы, напоминающей благодаря ниспускающемуся с неё покрывалу кокошник. Правда, теперь корону государынь, называемую ранее «Большой», стали именовать «Малой» или «маленькой», она своими размерами была гораздо меньше «Большой Императорской короны» русских монархов, да и предназначалась не для самодержавной владычицы, а лишь для жены коронуемого на престол царя.
При ритуале коронации Александра II обязательным было присутствие его овдовевшей августейшей матери, чью голову должна увенчивать «маленькая бриллиантовая корона», исполненная для императрицы Александры Феодоровны в 1826 году Иоганном-Вильгельмом Кейбелем к торжественному обряду коронации её супруга в Успенском соборе, а затем бережно сберегавшаяся среди коронных вещей. Короны же императриц Марии Феодоровны и Елизаветы Алексеевны давно переделали на новые драгоценные уборы для дочерей Николая I. Поэтому для жены Александра II следовало сделать к священной церемонии в Москве новую Малую корону.
Заказ поступил к Константину Зефтигену, в помощники он пригласил младшего брата Леопольда и, возможно, отца Карла-Эммануила. Он сначала исполнил эскиз регалии, явно стремясь сделать корону Марии Александровны парной Большой Императорской короне 1762 года и к тому же несомненно ориентируясь на венец «порфироносной вдовы» Александры Феодоровны, повторявший очертания корон обеих её цариц-предшественниц. Необходимые алмазы (стоимостью 38 250 рублей 893/8 копейки) ювелирам отпустили из запаса Камерального отдела Кабинета. На воплощение замысла в задуманных материалах ушло полгода.
Начатая в мае изящная корона была готова уже в октябре 1855 года. Крупный бриллиант в 81/2 карат, некогда блиставший в разобранном колье, теперь поддерживал крест. Сотни бриллиантов и 2233 алмаза огранки «розой» искрились на поверхности дивного венца. Нижний обруч короны украшала вереница больших шатонов. Их пришлось заимствовать из колье императрицы Марии Александровны, поскольку такого количества и качества бриллиантов не нашлось в россыпи казённых камней.[448] А соединение разъединительной дуги с верхним ободком основания отнюдь не случайно украсил выложенный из великолепных крупных солитеров стилизованный цветок анютиных глазок, символ неусыпных дум о благе не только родных и близких, но и всех сирых и убогих её подданных (см. рис. 18, 19 вклейки).
Две Малые бриллиантовые цепи ордена Св. Апостола Андрея Первозванного для императриц
Александр II также повелел Зефтигенам исполнить для обеих императриц к предстоящей коронации бриллиантовые цепи ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, поскольку до этого супруги монархов носили золотые цепи, украшенные лишь эмалью. Для императрицы Марии Александровны дополнительно делались и знаки высшего ордена Российской империи, обошедшиеся Кабинету Его Императорского Величества в 10 380 рублей. Братья Зефтигены заодно отреставрировали и Большую Андреевскую цепь императора.[449]
«Малыми» обе орденские цепи названы не только из-за их принадлежности к коронационному убору императриц, но и по размерам звеньев, поскольку те чуть ли не в два раза меньше в сравнении со звеньями Андреевской цепи, надеваемой императором. Поскольку обе сделаны одновременно, они очень похожи друг на друга, хотя и отличаются количеством осыпающих их алмазов: на Андреевской цепи царствующей государыни блистали многочисленные бриллианты, чей вес приближался к 260 каратам, не говоря уже о шести тысячах алмазов, огранённых «розой», отчего стоимость камней достигла 18 404 рублей. Отделка аналогичной регалии вдовы Николая I оказалась скромнее: вес бриллиантов равнялся примерно 230 каратам, «роз» насчитывалось лишь пять тысяч, а поэтому каменья стоили «только» 16 236 рублей.[450]
Через десять лет это подтвердила специально созданная позднее комиссия по проверке и оценке бриллиантов и других самоцветов в коронных вещах, куда вошли «Оценщики Кабинета Его Величества Придворные Ювелиры: Карл Болин, Лев Брейтфус и Помощник их Леопольд Зефтиген», работавшие «в присутствии Камер фрау Эллис и Члена Кабинета Его Величества Тайного Советника Петухова». Кстати, в результате работы этой комиссии выяснилось, что в 1865 году стоимость коронных бриллиантовых вещей, каменьев и жемчуга оказалась равной 6 907 261 рублю 78 копейкам.[451]
Бриллианты, будто слой сверкающего под солнцем инея, почти сплошь выстилают поверхность звеньев, основой рисунка которых, вне сомнения, послужила Большая Андреевская цепь работы Дюка. Однако теперь лучше воспринимать красоту каждого звена позволили отделяющие их друг от друга крупные овальные соединительные кольца, да и время наложило свой отпечаток на художественное решение деталей рисунка.
Орлы, несмотря на поражение в Крымской войне, ещё выше подняли свои крылья, как бы напоминая о незабываемых днях обороны Севастополя и о славных победах её вдохновителя и души – адмирала Павла Степановича Нахимова. России пришлось тогда сражаться с англо-франко-турецкой коалицией, поддержанной другими европейскими державами, и большую роль при отпоре врагу сыграло единство воинов и горожан. И может быть, не случайно перья орла в крыльях теперь плотно прилегают друг к другу, да и бёдра совсем прижаты к ставшему более массивным телу. Корону подпирают уже не шеи гербовой птицы, а венцы на обеих её головах, отчего само звено стало смотреться более чётко, органично и компактно.
На звенья с Х-образным Андреевским крестом были нанесены первые буквы священного заклинания «S A R Р» (Sanctus Andreas Russiae Patronus) и слегка округлились, причём из-за выступающих по краю отдельных алмазиков-розочек стали своими очертаниями походить на пушистые головки одуванчиков.
Звенья-«трофеи» с шифром «P P I», напоминающим как об основателе высшего ордена, так и об установителе статута, очень близки по рисунку к «пробному» звену, исполненному Дюком для Павла I. Однако рамка выглядит более массивной и тяжёлой, а все навершия «оружия» сдвинуты от короны к бокам, отчего композиция приобрела ещё большие строгость и стройность. Такое её решение, да ещё соединённое с восхитительным мастерством закрепки изобилия мелких алмазов, обмануло даже Сергея Николаевича Тройницкого и Александра Николаевича Бенуа, знатоков ампира, и они ошибочно датировали обе Малые Андреевские цепи началом XIX века.[452]
Хотя каждая цепь состояла из двадцати трёх звеньев и креста-подвески, однако длина цепи, сделанной для императрицы Марии Александровны, достигала 156,5 см,[453] в то время как надетая её венценосной свекровью была короче на 8,5 см.[454] (См. рис. 20, 21 вклейки.)
Коронация Александра II и Марии Александровны. Зловещее предзнаменование
Коронация Александра II состоялась 26 августа 1856 года. За два месяца до торжественного события появился циркуляр, которым предписывалось должным присутствовать на священной церемонии «Кавалерам Ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, в сей день носить знак сего Ордена, но не на ленте чрез плечо, а на шее на цепи Орденской». Причём они обязаны ради безупречного внешнего вида «надеть цепь сего Ордена так, чтобы Орденский знак находился на средине груди и чтоб цепь, сзади шеи, приходилась не ниже плечевых лопаток. Военные Кавалеры сего Ордена надевают цепь сверх эполет. Если, при исполнении сего, цепь окажется слишком длинною, то из числа 23 украшений, её составляющих, можно снять два, три, четыре или шесть украшений, смотря по надобности. При этом, в случае уменьшения цепи шестью украшениями, оные снимаются с цепи из самой середины».[455]
А чтобы бриллиантовая Малая Андреевская цепь безупречно возлежала на мантии императрицы Марии Александровны, использовали три булавки, увенчанные шатоном с крупным, более карата бриллиантом, после смерти этой государыни присоединённые по её завещанию к коронным бриллиантам.[456]
Во время священного обряда коронования в Успенском соборе Московского Кремля, «митрополит надел на государя императорскую мантию и царские регалии и передал ему корону, затем государь подозвал государыню, которая встала перед ним на колени, он коснулся её чела своей короной, затем надел на неё маленькую корону, которую статс-дама должна была укрепить на её голове посредством бриллиантовых булавок». Однако «при возложении короны на голову императрице, её так плохо укрепили, что она сейчас же упала. Императрица подняла её и сказала: „Это знак, что я недолго буду её носить“».[457]
Мария Александровна в какой-то степени оказалась права.
Не прошло и трёх месяцев со дня коронации, как уже в ноябре 1856 года обруч Малой короны лишился двадцати пяти солитеров, вернувшихся на свои законные места в колье августейшей владелицы. В столь обезображенном виде венец, хотя его и вписали под порядковым номером 635 в книгу регалий и коронных бриллиантов, продолжал находиться у своей хозяйки. Когда же после смерти императрицы Александры Феодоровны её «маленькая бриллиантовая корона» на основании Высочайшего повеления от 8 февраля 1861 года была передана в Кабинет, и там через четыре года творение Кейбеля размонтировали для создания новых вещей, благодаря чему корона государыни Марии Александровны, «перепрыгнула» на почётное четвёртое место в перечне коронных бриллиантов. Согласно выводам комиссии ювелиров-оценщиков, в 1865 году «Маленькую корону», сделанную Зефтигенами, украшали только 1368 бриллиантов и 2200 алмазов-«роз» на сумму 56 108 рублей.[458]
Сама же Мария Александровна прожила после коронации ещё четверть века, но потеря горячо любимого сына-первенца, на которого возлагалось столько надежд, и охлаждение супруга из-за серьёзного увлечения молоденькой княжной Екатериной Долгоруковой омрачили последние полтора десятилетия жизни императрицы.
Но это будет потом. Вначале Александр II обожал свою «Минни», подарившую ему шесть детей и невольно привлекавшую всех окружающих, как писали современники, «прелестью, исходящей от души, трудноопределимой, но заставляющей звучать сокровенные душевные струны». Он, подражая отцу, осыпал милую жену драгоценностями, исполненными лучшими ювелирами. На крещение новорождённой дочери, великой княжны Марии Александровны, 25 октября 1853 года её мать получила от членов императорской семьи диадему из рубиновых звёзд с расходящимися бриллиантовыми лучами и такую же парюру на корсаж.[459]
Адольф-Леопольд Зефтиген
Сделанные к коронации 1856 года регалии оказались столь хороши, что уже в 1860 году состоялось распоряжение, что как «маленькая бриллиантовая корона» супруги Александра II, так и «сделанные для императрицы Александры Феодоровны и для Ея Императорского Величества Марии Александровны бриллиантовые цепи ордена Св. Андрея Первозванного принадлежат к коронным бриллиантам, в числе коих состоит и таковая же цепь императора».[460]
Это стало подлинным признанием и косвенным подтверждением высокого качества владения членами семейства Зефтиген своим ремеслом, что позволило им создать подлинные шедевры ювелирного искусства. Но теперь Константина Карловича оттеснил на второй план его младший брат Адольф-Леопольд, которого на русский лад обычно именовали Леопольдом Карловичем, вскоре основавший семейную фирму «Леопольд Зефтиген». Именно ему новая императрица поручает уже с 1855 года «уход» за её бриллиантами. Ей нравятся работы молодого ювелира, которые он выполняет не только по заказам Двора, но и по её поручениям. Леопольд Зефтиген делает всевозможные орденские знаки, серьги и прочие украшения. Ему доверили исполнить в 1859 году браслет с вмонтированной золотой медалью, украшенной бриллиантами и «пожалованной артистке итальянской оперы Бозио, как знак звания первой певицы Их Величеств».[461]
Карьера второго сына Карла-Эммануила Зефтигена развивалась стремительно: он, купец, числившийся с 1848 года в третьей гильдии, в 1859 году становится поставщиком Высочайшего Двора, а затем всего через два года занимает и престижное место оценщика Кабинета. 22 июля 1864 года Леопольд Зефтиген награждён орденом Св. Станислава III степени. Но это только начало.
Богатство семьи молодого ювелира растёт, и её глава на следующий год перешёл во вторую гильдию. Через несколько месяцев решением Правительствующего Сената от 15 сентября 1865 года Адольф-Леопольд Зефтиген, доказавший представленными актами право на потомственное почётное гражданство, возведён «с женою его Эмилию Терезою и детьми Федором и Юлием Отто и дочерьми Анною, Елизаветою и Ольгою Паулиною в сословие почётных граждан».[462]
Императрица Мария Александровна настолько благосклонна к талантливому автору её украшений, что в 1869 году министр Двора граф Владимир Фёдорович Адлерберг получил от её секретаря П.А. Морица следующую записку: «Государыня Императрица, желая вознаградить пятнадцатилетние, всегда добросовестные труды ювелира Леопольда Зефтигена по исполнению заказов Ея Величества и по уходу за собственными её бриллиантами и драгоценными вещами, позволила повелеть мне просить Ваше Сиятельство исходатайствовать у Государя Императора соизволение на наименование его «Ювелиром Ея Величества». Александр II не мог отказать супруге в её просьбе, и с ноября 1869 года Леопольд Зефтиген получил это почётное звание.[463]
Тогда же и в титуле счетов Константина Зефтигена стало значиться, что их владелец – «придворный ювелир Ея Императорского Величества Марии Александровны».[464] Однако, скорее всего, старший брат больше делал рисунки и эскизы, а также восковые модели ювелирных изделий, исполняемых фирмой «Леопольд Зефтиген».
Сам Леопольд Зефтиген не только жил, но и держал роскошный магазин золотых и бриллиантовых изделий в доме Елисеева на Большой Морской. Вероятно, там же проживал и Константин Зефтиген. Акварельный портрет его сына Юлия-Александра, исполненный в 1880-х годах и подписанный Вольдемаром Гау, до сих пор хранится у потомков ювелира.[465]
Журнал «Русский ювелир» в 1914 году отметил, что Леопольд Зефтиген в 1880-х годах был «самым богатым ювелиром Петербурга».[466] Он сохранил благосклонность и новой государыни, супруги Александра III. Глава известнейшей, носившей его имя столичной фирмы в 1883 году удостоился награждения коронационной медалью. Скончался Леопольд Зефтиген в 1888 году и был похоронен на Волковском лютеранском кладбище.[467]
Маленькая аннотация на коробке итальянского печенья с миндалём «Амареттини» под лейблом «1913 \ ПЕКАРЬ \ северной столицы»:
«В 1913 году в Санкт-Петербурге на основании Устава, одобренного Императором, начала работу первая в России механическая пекарня „Пекарь“. Фабрика была учреждена швейцарским гражданином И.И. Вольфлисбергом и почётным гражданином О.Л. Зефтингеном, которые собрали лучшие рецепты европейского печенья и привезли их в Россию. Требовательное петербургское общество, привыкшее к различным изыскам, по достоинству оценило кондитерские шедевры. Следуя лучшим традициям европейской выпечки, в канун столетия торговой марки „Пекарь“ мы создали для Вас коллекцию изысканного печенья Северной столицы. Пекарь – изысканное удовольствие! Печенье Торчетти. Датское с овсяными хлопьями».
Брошь с сапфиром императрицы Марии Александровны
В связи с тем, что Леопольд Зефтиген так был ценим императрицей Марией Александровной, вполне можно предположить, что именно им была исполнена великолепнейшая сапфировая брошь (см. рис. 22 вклейки).[468]
Один из крупнейших в мире, к тому же дивной красоты и прелести, очень чистый и прозрачный цейлонский сапфир ровного бархатистого густо-василькового тона покрыт в верхней части, согласно старинной индийской огранке, множеством шестиугольных мелких фасеток, заставляющих дробиться лучи света, погружая его в мягкое марево полыхающих искр. Нет сомнения, что это – тот самый, привлекший все взоры на Лондонской Всемирной выставке 1862 года и купленный там Александром II диковинной величины сапфир в 25225/32 карата, так как при переводе из старых мер в метрические (то есть умножая первоначальное число на 1,03, поскольку принятый в Петербурге вес карата составлял 206 миллиграммов) и получается цифра, соответствующая современной массе камня – 260,37 метрического карата.[469]
Скорее всего, именно Леопольд Зефтиген уже в Петербурге поместил редкостный сапфир в брошь, отличающуюся благородством, строгостью и изяществом рисунка, да к тому же окружил уник ажурным трёхуступчатым бриллиантовым кольцом, чтобы обыграть и одновременно замаскировать слишком большую высоту раритета.
В торжественный день четвертьвекового юбилея царствования августейшей четы, 21 февраля 1880 года, Александр II преподнёс дражайшей супруге «великолепную брошку с огромным сапфиром, окружённым большими бриллиантами».[470]
Императрица завещала поместить эту брошь, оценённую в 88 600 рублей, в коронные бриллианты. Ферсман, подробно рассмотревший дивный яхонт, писал, что тот гораздо краше признанных в Европе сапфиров, и включил его по праву в число семи знаменитых камней Алмазного фонда.[471]
Почти как две капли воды, если бы не величина сапфира «лишь» в 197 карат, на эту брошь походит такая же, исполненная, скорее всего, тем же Леопольдом Зефтигеном для обожавшей драгоценные камни великой княгини Александры Иосифовны (урожденной принцессы Фредерики-Генриетты-Паулины-Марианны-Елизаветы Саксен-Альтенбургской), с 1848 года жены второго сына Николая I, Константина (1827–1892). Она была приобретена в число фамильных вещей императорской семьи в 1911 году.[472]
Как для Николая I, так и для супруги его первенца сапфир был любимым камнем.[473] В самой императрице Марии Александровне, как считали видевшие её, «было что-то исключительно молодое и воздушное. Когда она шла, казалось, что её ноги как будто еле касались земли. Несмотря на высокий рост и стройность, она была такая худенькая и хрупкая тем совершенно особым изяществом, какое можно найти на старых немецких картинах, в мадоннах Альбрехта Дюрера, соединяющих некоторую строгость и сухость форм со своеобразной грацией в движении и позе. Прекрасны были её чудные волосы, нежный цвет лица необычайной белизны, большие голубые, немного навыкат, глаза», к которым так шла привлекающая своей чистотой небесная синь лазоревых яхонтов.
Её фрейлина Анна Фёдоровна Тютчева, дочь великого поэта, вспоминала, как 29 мая 1857 года, в день крестин сына Сергея, супруга Александра II, показывая подаренные мужем великолепные сапфиры, некогда принадлежавшие испанскому принцу, отказавшемуся от прав на престол в пользу сына и умершему в 1850 году изгнанником в Австрии, промолвила: «Дону Карлосу пришлось продать эти камни от бедности. Кто знает, не придёт ли моя очередь продавать их?»[474]
Но это случилось лишь через семьдесят лет, когда сделанные из синих яхонтов восхитительное ожерелье, как и фамильная императорская диадема, попавшие по духовной этой царицы в коронные бриллианты, были «реализованы» сталинским правительством за рубежом.
Однако в 1865 году сердце императора так пленила юная княжна Екатерина Михайловна Долгорукова, что самодержец забыл о своём долге государя и супруга. Даже на серебряную свадьбу (1866 год) он подарил жене лишь две или три безделушки да пару бриллиантовых запонок к рукавчикам. Придворные невольно вспоминали щедрость Николая I, по аналогичному случаю преподнёсшего супруге «бриллиантовый эсклаваж с семью, по числу детей, грушеобразными крупными подвесками».[475]
Глава VII Технический прогресс и ювелирное дело
Ещё в правление Николая I стали устраиваться промышленные выставки, где непременно представлялись и предметы декоративно-прикладного искусства. В печатных каталогах, а также на страницах газет и журналов, описывающих наиболее интересные экспонаты, всё чаще стали появляться имена ювелиров и серебряников, к тому же успехи литографии и фотографии помогали воспроизводить их работы и пропагандировать наилучшие достижения в этой области. Петербургские мастера с середины XIX столетия начали регулярно получать призы и медали на международных выставках, каждый раз заставляя удивляться зарубежных зрителей и восхищая знатоков. Даже Анри Вевер, выходец из известной семьи ювелиров, в своём трёхтомном исследовании о ювелирном искусстве родной Франции XIX века признал, что хотя в середине столетия в Европе как за совершенство работы, так и за тонкость и элегантность монтировки более всего ценились венские мастера, имевшие давнюю высокую и законную репутацию, тем не менее единственными, кто мог с ними соперничать на равных в изяществе и лёгкости работ, были лишь русские златокузнецы[476].
Отмена в 1861 году крепостного права вызвала большой приток сравнительно дешёвых рабочих рук в города. Развитие же науки и техники вводило в арсенал мастеров новые станки, облегчающие монотонность работы и ускорявшие производство вещей. Появились прокатка и штамповка металла, а на смену вредному для здоровья амальгамированию пришло гальванопокрытие. Возникали новые мануфактуры и объединения, так как жёсткая конкуренция заставляла всё время находиться в поисках нового, необычного, внедрять забытые было техники, искать и пробовать новые формы, для уменьшения себестоимости переходить к серийным выпускам продукции. Конечно, машинная техника снижала уровень качества ручной работы, усиливала стандартизацию изделий, из-за тиражирования терялась прелесть уникальности и неповторимости. Но это, к сожалению, стало необходимой платой за прогресс. Мастер-одиночка, сам воплощающий зачастую свой собственный замысел в нужных материалах лишь с помощью исполняющих второстепенные операции подмастерьев и учеников, не мог, естественно, соперничать с мануфактурным производством, где процветало разделение некогда единого процесса на отдельные фазы-операции.
Однако монополия цеховых мастеров (хотя она давно уже стала анахронизмом) подкреплялась вышедшим ещё в 1845 году Уложением о наказаниях, 1796-я статья которого гласила: «Кто, не учась у записного мастера и не имея свидетельства от Общей ремесленной управы, назовёт себя мастером такого ремесла, которого цех в том городе устроен, и будет иметь подмастерьев или учеников и вывеску того ремесла, или же вообще будет производить какое-либо ремесло, не имея на сие по общим законам или особым ремесленным постановлениям права, тот, сверх отобрания в казну всего, что будет у него найдено из произведений того ремесла и употребляемых для сего инструментов, подвергается денежному взысканию от десяти до пятидесяти рублей серебром в ремесленную казну».
К тому же, «мастер, который без свидетельства или записки в гильдию заведет лавки для продажи произведений своей работы, подвергается за сие денежному взысканию», а если «ремесленник, при заказе у него работы, будет уклоняться от условий насчет платы за оную, чтобы потом требовать несоразмерной с работою или вещью, то он, буде принесённая <…> жалоба окажется основательной, подвергается аресту на время от трёх дней до трёх недель».
Уложение 1845 года пыталось ограничить произвол мастеров в их отношениях с подмастерьями и учениками, предусмотрев денежные штрафы за необоснованный отказ в выдаче просимого «аттестата в поведении или свидетельства в успехах учения», за беспричинное изгнание ученика ранее обусловленного контрактом времени, но снова грозило взысканием от пяти до десяти рублей тем подмастерьям, «которые для собственных работ будут жить по нескольку вместе без мастера (кроме однако ж фабрик, где сие дозволяется) и продавать делаемые ими вещи».[477]
Штраф этот был очень велик: на 3, а тем более на 5 рублей можно было тогда прожить сносно полмесяца, а то и месяц, потому что в 1830-е годы на рынке в Петербурге откормленные гуси весом до 5–6 кг продавались за 60 копеек за пару, индейки ещё больших размеров ценились всего в 1–1,5 рубля за пару, такова же была цена откормленного поросёнка и даже целой туши телёнка, которую можно было приобрести за 1,5–2 рубля. В 1860-е годы молодые парные каплуны стоили по 5 рублей за пару, а зимние, мороженые – от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек за пару, обычно весившую около 4 кг, а поэтому фунт прекрасного чистого каплуньего мяса обходился всего в 15–25 копеек. Удорожание жизни в городах вынудило в конце XIX века шире вводить в рацион населения дешёвую частиковую рыбу, в том числе и щуку, считавшуюся прежде «поганой» из-за её «тинного» запаха, поскольку раньше в России употребляли только строго определённую речную рыбу: либо красную, к коей относили осетрину, белужину, севрюжину и стерлядь, либо сига, судака, карася, окуня, корюшку, ряпушку да крупных лещей. Последних обожали есть с кашей, но стоимость их колебалась от 50 копеек за 1,5 кг до 2 рублей 50 копеек за штуку в 10 фунтов, то есть за 4 кг. Теперь же взялись и за щук, привозившихся на рынок только живыми и продававшихся по 6-10 копеек за штуку. Очень же большие щуки стоили 12–15 копеек за штуку в то время как зимой мёрзлые щуки продавались по 5–7 копеек за фунт. В то же время истинно русская рыба судак обходилась в 25 раз дороже: летом фунт его ценили в 50 копеек, а зимой трёхкилограммовую рыбину можно было приобрести за 10 рублей.[478]
Однако недовольных своей судьбой подмастерьев, не сумевших выбиться в мастера, становилось всё больше, и вот правительство разрешило в 1848 году (что сыграло большую роль для развития фабричного производства) наконец-то допустить местных купцов всех трёх гильдий к занятию цеховыми ремёслами «посредством наёмных работников без испытания в знании ремесла и без обязанности держать цехового мастера, принадлежа лишь по ремёслам своим к цехам, то есть подлежа всем цеховым сборам и общему со всеми цеховыми управлению и расправе в делах, касающихся собственно до производимого ими ремесла».
Но это правило не относилась к купцам, желающим держать учеников. Всё больше споров велось вокруг вопроса о размежевании между ремесленными и фабричными заведениями, но соглашение так и не было достигнуто, хотя министр внутренних дел полагал, что различие между ними вовсе «не в роде промышленной деятельности, а в обширности заведения и в применении машин», а посему стоит называть мануфактурами, фабриками и заводами «только те промышленные заведения, которые: а) имеют более ^рабочих; б) употребляют паровой или гидравлический двигатель, конный привод или другие машины; в) в которых имеется более или менее систематическое разделение работ».
Ювелирный цех тогда отнесли к сложному, или составному производству, так как туда входили «мастера бриллиантовых, золотых и серебряных вещей».[479] Поэтому сосуществовали одновременно и цехи мастеров, и фабрики. В 1894 году в Петербурге Иностранной управе подчинялись 29 ремесленных цехов, из них цех золотых дел мастеров насчитывал 26 полноправных членов и 18 подмастерьев, а выросший цех специалистов часовых дел состоял из 38 мастеров и 50 подмастерьев; в серебряно-позументном цехе, бывшем в ведении Ремесленной управы, было 1335 мастеров и 5373 подмастерьев.[480]
В это же время, на петербургской фабрике братьев Галкиных в 1904 году работали 9 эмальеров, 16 гравёров, 7 филигранщиков, 4 резчика, 18 монтировщиков, 31 полировальщик и 3 штамповщика. Естественно, что на первый план выходила роль художника и организатора производства на мануфактурах, потребовались смышлёные головы менеджеров и светлые умы дизайнеров. В России в 1864 году при Строгановском рисовальном училище в Москве и в 1870 году при Обществе поощрения художеств в Петербурге возникают учебные музеи. Материальной основой отечественных художественно-промышленных школ стали помимо небольших государственных дотаций пожертвования меценатов.[481]
В 1879 году в Петербурге на средства владельца фабрики суконных изделий и банкира императорской фамилии барона Александра Людвиговича Штиглица, пожертвовавшего миллион рублей серебром, было основано Центральное училище технического рисования вместе с Начальной школой рисования, черчения и лепки. В Начальную школу принимали детей с десяти лет, умеющих читать и писать, занятия проводились 3 раза в неделю, а плата за обучение составляла 3 рубля в год. В Центральное училище технического рисования поступали те, кто успешно проучился четыре года в гимназии или реальном училище, а также справился с испытанием по рисунку.
Учащиеся изучали закон Божий, русскую словесность, немецкий или французский язык, элементарную и начертательную геометрию, теорию перспективы и теорию теней, всеобщую и русскую историю, историю изящных и прикладных искусств, практическую эстетику, элементарную анатомию, получали элементарные сведения по химии и технологии, осваивали технику рисования, а также посещали общие художественные и специальные художественно-прикладные классы.
Выпускники получали диплом на звание художника по прикладному искусству. Тем, кто дополнительно прошёл педагогическую практику в Начальной школе, выдавались особые свидетельства на право преподавания в средних и низших учебных заведениях. Особо талантливым учащимся за отлично исполненный проект предоставлялась пенсионерская поездка от нескольких месяцев до трёх лет по России и за границу.
Вскоре даже парижане признали: благодаря школе барона Штиглица «вкус в рисунке быстро распространился, так что в настоящее время не только не приходится русским заимствовать рисунки и модели у иностранцев, но последние могли бы во многом позаимствовать у русских».[482]
Выпускники училища работали на Императорском фарфоровом заводе, в декорационных мастерских Императорских театров, выполняли эскизы для бронзовой фабрики Штанге, а также для ювелирных мастерских и фабрик Фаберже, Грачёва, Овчинникова и Любавина.[483]
15 июня 1908 года вышел закон о предоставлении ремесленным учебным заведениям права выдавать их воспитанникам по окончании курса свидетельства на звание мастеров и подмастерьев. Свидетельство получали все лица, успешно окончившие курс обучения, но звание мастера заслужить было сложнее: только подмастерья, пробывшие на практике в этом звании не менее трёх лет в промышленной мастерской или в мастерских ремесленных или технических учебных заведений (причём из них не менее одного года в какой-либо одной мастерской), имели право просить о предоставлении звания, да и то лишь по достижении 21 года. Если педагогический совет признавал возможным удовлетворить это ходатайство, то соискателю выдавался аттестат на звание мастера со всеми правами и преимуществами, присвоенными мастерам, получившим это звание от ремесленных управ.
В 1910 году последовало разъяснение Сената, что обязательно пробыть известный срок учеником и подмастерьем должны лишь желающие стать вечноцеховыми ремесленниками. Для временной же приписки аттестат на звание мастера мог быть выдан претендентам, представившим не только достойную пробную работу, но и выдержавшим установленное испытание.[484]
Глава VIII Петербургские ювелиры середины и второй половины XIX века
Жан-Батист Вальян. Фирма «Вальян и Жиго де Вильфен»
После такого несколько сухого, но необходимого отступления вернёмся вместе с вами, любезный читатель, к непосредственному предмету нашего интереса – петербургским ювелирам, а по времени – к середине девятнадцатого века, в царствование императора Николая Павловича.
В 1842 году на Итальянской улице открылся ювелирный магазин Жана-Батиста Вальяна, где желающие не только могли купить понравившуюся вещь, но и заказать что-либо на свой вкус. Столичная пресса, восхищаясь работами мастера-иноземца, не преминула подчеркнуть: «Рисунки к своим произведениям, созданным с необычайной виртуозностью, сочиняет сам автор».[485] Заказчикам стоило лишь заикнуться о своих желаниях, как Вальян тут же предлагал выбрать из нескольких эскизов тот, что придётся по нраву, и только после одобрения клиента приступал к работе.
Так было с серебряным туалетным прибором для княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой (урождённой Нарышкиной), законченным ювелиром в 1846 году. Вначале шла речь о 25 предметах, однако Вальян исполнил только восемнадцать: два зеркала – большое настольное и маленькое ручное, кувшин и таз для умывания, всевозможные коробочки для гребёнок, перчаток и пудры, подсвечники, подушки для булавок, мыльницы, щётки для зубов и скребок для языка. Каждую вещь украшали прихотливо изгибающиеся полевые цветы: гвоздики, колокольчики, незабудки и прочие дары Флоры. Плутоватый амур кокетливо расположился на пьедестале подсвечника, декорированном и пышными рокайлями, и изящными трельяжными сеточками, и головками животных, а за спиной божка любви причудливо вился фантастический цветок, вздымая к небу открытые чашечки вьюнков и заставляя вспомнить о галантных временах рококо. Вероятно, сам Вальян считал сей «чеканный с накладными цветами и подсвечниками в виде амуров» прибор настолько удавшимся, что попросил владельцев показать их собственность на выставке российских мануфактурных изделий в Петербурге в 1849 году.[486]
После этого посыпались заказы. В приданое великой княжны Ольги Николаевны, ставшей супругой кронпринца Карла Вюртембергского, вошли сделанные Вальяном шесть дюжин аметистовых пуговиц: одни из них «совершенно округлые, огранённые мелкими площадками и насквозь просверленные, другие гранёные, оправленные в золото».[487]
Когда же красавица-дочь Николая I с мужем приехала погостить к родителям, то она, желая сделать приятное матери, заказала Вальяну серебряную вазу. Мастер достойно справился с престижным заказом. Плоская позолоченная чаша украшена накладными литыми виноградными лозами, дополненными листочками из полупрозрачной зелёной эмали, на высокой ножке вызолочены тонко прочеканенные ренессансные орнаменты, а на литых головках кошек, хранительниц домашнего очага, украшающих яблоко ножки, как и на фигурках мудрых сов, распластавшихся на основании, серебру оставлен природный цвет. Ваза оказалась столь хороша, что высокопоставленная супружеская чета и младшие неженатые братья будущей королевы Вюртембергской, великие князья Николай и Михаил Николаевичи, увековечили не только свои имена, но и семейные прозвища: «Charles, Oily, Nisi, Micha» (Шарль, Олли, Низи и Миша), вырезав их на благородном металле.[488]
Исполнял Вальян и памятные призовые кубки. Один сделан для победителя первой в России парусной гонки, проведённой в 1847 году в Финском заливе Императорским яхт-клубом. Поэтому вместо ручек тулово высокой серебряной вазы поддерживают тритоны, кругом расположились гирлянды из лилий-нимфей и тростников, а наяды держат картуши с надписью: «Варяг», и лишь массивный двуглавый гербовый орёл напоминает об официальном предназначении вещи.[489] А призом для регаты, проведённой в 1852 году, стала серебряная статуэтка императора Петра I, стоящая на пьедестале-колонне. Венценосный основатель отечественного флота, самолично учившийся строительству кораблей в Голландии и Англии и знавший цену наукам, в одной руке сжимает весло, символ мореплавания, а другой указывает на открытую книгу.[490]
Для подарков крупным промышленникам и финансистам предназначались выполненные мастерами Жана-Батиста Вальяна кубки-вазы, напоминающие массивную каменную глыбу с восседающими на ней богом торговли Меркурием и повелителем морских пучин Нептуном. Их окружали атрибуты науки, торговли, промышленности и мореплавания, символизирующие технический прогресс. Соответственно, крышки обычно увенчивали фигурки сов, напоминающие о богине мудрости Минерве. Если же речь шла о «призе господ охотников для жеребцов и кобыл всех лет», то большое овальное блюдо «представляло» заснеженный ипподром, где жокеи соревнуются на наезженной дорожке в быстроте бега рысаков, запряжённых в лёгкие сани. Знатоков невольно поражало, насколько «тонко и точно показаны напряжённые фигуры возниц, рыхлый пушистый снег».[491] Не удержался Вальян от соблазна сделать в 1856 году графин в модном русском стиле, весьма приветствуемом просвещёнными кругами общества. Как же позабавила всех фигура крепко стоящего мужика-ямщика, заросшего пышной и густой окладистой бородой, одетого в кафтан с искусно переданным меховым подбоем, да к тому же любовно сжимающего чарку в руке, оказывавшаяся вдруг не чем иным, как сосудом для горячительных напитков.[492]
Фантазия Вальяна не знала пределов. Шахматную доску окружали барельефы из золота, серебра и драгоценных камней, клетки на её поверхности были выложены разноцветным перламутром разных оттенков, а полудрагоценные самоцветы пошли на изготовление самих миниатюрных шахматных фигурок, причём их головки «можно рассматривать в микроскоп, они величиной с булавочную головку, но каждая имеет собственную физиономию».[493] Именно Вальяну доверили сделать и «великолепный ковчежец», куда вложил оправленный в золото перст от останков блаженного Андрея Боболи, чей день памяти праздновали в костёлах жители города Пинска и орден иезуитов. Католическую святыню с мощехранительницей епископ Сейнынский, граф Константин Лубенский отправил в Рим, папе Пию IX.[494]
При этом Вальян, удостоившийся в 1863 году звания придворного ювелира, никогда не забывал об аксессуарах костюма для светских дам. В его магазине они всегда могли приобрести подходящее модное колье, прелестные браслеты и изящные серьги. Даже Кабинет Его Величества в 1892 году приобрёл у ювелира для запаса драгоценных камней стоивший 40 тысяч рублей крупный сапфир в 597/8 карата и жемчужное ожерелье из 237 зёрен, оценённое в 63 000 рублей, правда, при этом отказавшись пополнить изысканное собрание редкостной жемчужиной в 108 карат.[495] Купленные у Вальяна за 40 000 рублей восхитительные бриллиантовые серьги с рубинами, отличавшиеся, как всегда у ювелира, изумительным подбором изысканных каменьев, послужили в 1884 году свадебным подарком великой княгине Елизавете Феодоровне. Этим же годом датирован и оказавшийся последним счёт на поставку Двору броши с сапфирами и бриллиантами стоимостью 5500 рублей.
Жану-Батисту Вальяну, ещё пять лет назад, в 1879 году, преобразовавшему свой магазин, тогда процветавший на Невском, 34, в доме Католической церкви, в торговый дом «И. Вальян и Жиго де Вильфен», пышно поименованный на вывеске как «Иван Бабтист Вальян и Алексей Феликсеевич Жиго де Вильфен», скорее всего, стало трудно теперь выдерживать возросшую конкуренцию. Поэтому, несмотря на хвалебные отзывы в различных петербургских изданиях, утверждающие, что работы ювелира подчас даже «выходят из разряда обыкновенных ремёсел, а равняются уже художественным произведениям», что они «резко отличаются от прочих богатством материала, изяществом отделки и чистотой своих форм»,[496] поставщик императоров Александра II (с 1863 года) и Александра III[497] в начале 1890-х годов, вероятней всего, вернулся во Францию. Во всяком случае, ювелир Жан-Батист Вальян упоминался в адресной книге «Весь Петербург» за 1892 год последний раз, а уже в 1894 году магазин «И. Вальян. Торговля золотыми вещами» уже принадлежал ювелиру Оскару Рейхарду вскоре сменившему на вывеске имя прежнего владельца на своё собственное.[498]
Во второй половине XIX века в Северной Пальмире, помимо членов семей Кейбель, Зефтиген и Болин, работали и не столь крупные фирмы Гана, Кёхли и Бутца. Неординарные мастера, они, работая над очередным «Высочайшим» заказом, старались сделать такое ювелирное чудо, чтобы оно сохранялось в веках. Но слишком короток оказался исторический срок, чтобы в дивных творениях их рук перестали видеть только украшения, а поэтому роскошные уборы супруг российских самодержцев совершенно не ценились в 1920-е годы. В результате в собраниях отечественных музеев сохранились единичные высококлассные изделия, считающиеся анонимными из-за отсутствия на них клейм-именников и подписей, а, с другой стороны, туда попали случайные, нехарактерные вещи, к тому же в основном предназначенные не для столь высоких слоёв общества и, соответственно, не дающие представления о подлинном диапазоне творчества. Вдобавок ещё мало изучены фонды документальных материалов, архивов, музеев, результаты работы с которыми могли бы пролить свет не только на имена самих мастеров, но и на круг исполненных ими произведений.
Фирма «Кёхли Ф.И. и Ф.Ф.». Фридрих-Христиан Кёхли. Теодор-Фридрих Кёхли
Известную ювелирную фирму Кёхли основал в Петербурге в 1874 году швейцарский гражданин Фридрих-Христиан Кёхли (1837–1909). Он ещё отроком приехал в столицу Российской империи в 1849 году и остановился в доме церкви Св. Симеона на Пантелеймоновской улице. Пока неизвестно, у кого юный швейцарец, искавший Фортуны, выучился мастерству. Но талант и способности, помноженные на желание выбиться в люди, сделали своё дело. Ювелирные украшения работы Фридриха Ивановича (Фридриха-Христиана) Кёхли на Всероссийской выставке 1870 года в Петербурге отметили бронзовой медалью, что повлияло на количество заказов.
В 1874 г. признанный мастер, предъявивший к клеймению почти 3,8 кг золотых изделий, уже жил в центре Петербурга, на Гороховой, в доме № 7–10. В 1882 году Кёхли вступил во вторую купеческую гильдию и был избран старшиной Санкт-Петербургской Иностранной ремесленной управы. Он перебрался в более престижный дом № 17 на той же улице, где у него была не только мастерская, но и располагался большой магазин золотых и бриллиантовых вещей.[499] Там продавались как вещи, сделанные мастерами фирмы, так и купленные у других ювелиров. Сначала он снимал пятикомнатную квартиру на третьем этаже, а затем спустился на более престижный второй этаж, где занимал апартаменты в восемнадцать комнат.[500]
Фридрих-Христиан Кёхли (предпочитавший именоваться Фридрихом Ивановичем) в 1898 году избирался депутатом для осмотра торгово-промышленных заведений, его уму и опыту можно было вполне спокойно довериться в этом ответственном деле. В 1902 году петербургский ювелир Фридрих Кёхли стал не только оценщиком Кабинета ЕИВ, но и получил звание поставщика вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и великого князя Павла Александровича, а в следующем мастер удостоился такой же чести у великой княгини и герцогини Саксен-Кобург-Готской Марии Александровны.[501] На Парижской Всемирной выставке 1900 года Кёхли представлял публике (как и Карл Фаберже) свои творения «вне конкурса», поскольку являлся членом жюри. Один из отечественных знатоков, побывавших в столице Франции в те дни, отметил, что изделия Кёхли в сравнении с произведениями Фаберже заняли «не менее видное место», да и вообще «европейские подражатели далеко не всегда достигают чистоты и точности оригинальных русских работ».[502]
В 1903 году он основал вместе с подросшим сыном Теодором-Фридрихом, на русский лад именуемым Фёдором Фёдоровичем, торговый дом «Кёхли Ф.И. и Ф.Ф.». Отпрыск заслужённого ювелира закончил в 1890 году столичную Академию художеств, а через три года удостоился за скульптурную композицию серебряной медали. Несмотря на молодость, он стал не только (как и отец) оценщиком Кабинета Его Императорского Величества, но и членом Русского художественно-промышленного общества, объединившего в своих рядах многих мастеров и художников фирмы Карла Фаберже.[503]
Работы отца и сына Кёхли в очередной раз порадовали петербуржцев на выставке изделий из металла и камня, проведённой в 1903–1904 годах. Вскоре обоих за высокое качество изделий и добросовестность исполнения заказов Двора представили «к награждению орденом Станислава III степени».[504]
К сожалению, Фёдор Фёдорович Кёхли, вероятно, не отличался крепким здоровьем и скончался в 1911 году, пережив отца только на два года. Поскольку наследников не осталось, фирма «Кёхли Ф.И. и Ф.Ф.» прекратила своё существование.[505]
Фирма прославилась приобретаемыми ко Двору для жалованных подарков табакерками с портретами монархов, золотыми сигаретницами, пышно украшенными самоцветами с преобладанием бриллиантов и эмалями. В 2005 году на аукционе в Упсале всплыла одна из четырёх золотых табакерок работы Фридриха Ивановича Кёхли (о чём свидетельствуют и клейма, и идеально сохранившийся футляр), пожалованных неустановленному лицу цесаревичем Николаем Александровичем при возвращении через Сибирь в 1891 году из прерванного кругосветного путешествия. Поэтому в центре крышки красуется написанный «самым лучшим миниатюристом», профессором А.М. Вегнером, портрет облачённого в гусарский мундир будущего императора Николая II, окружённый ободком из крупных бриллиантов, увенчанным короной и дополненным с обеих сторон симметричным переплетением «С»-образных алмазных завитков. Совершенно непонятно, как эта вещь позднее оказалась в Швеции.[506]
Кёхли. Колье из бриллиантового гарнитура с сапфирами
Портсигар, исполненный мастером для венценосной патронессы, отличается элегантностью и безупречностью чеканки и гравировки асимметричного рисунка. Смещённый к одному из углов центр акцентирован бриллиантом, как будто испускающим из себя четыре фантастических луча, а между ними проглядываются фрагменты концентрических кругов. Кнопку же затвора прикрыл непременный и столь характерный для конца XIX – начала XX века овальный гладкий кабошон густо-синего сапфира. Императрица Мария Феодоровна подарила понравившуюся ей вещь на день Ангела своему августейшему первенцу, так любящему выкурить папироску после обеда. Портсигар же внутри украсила выгравированная надпись: «Дорогому Ники отъ Мама. 6 дек. 1898.»[507]
Кёхли. Брошь из бриллиантового гарнитура с сапфирами
Отец и сын Кёхли исполняли и так называемые «кабинетские» вещи. При Николае I в 1830-е годы пожалования подарками, выдававшимися Камеральной частью Кабинета Его Императорского Величества, приобрели регулярный и официальный характер очередной награды «по чину», что предусматривало её тип и стоимость. Главной же приметой подобных предметов стало наличие на них государственной символики: гербового двуглавого орла, императорской короны или вензелей членов венценосной семьи. В 1902 году Фридрих Иванович Кёхли представил в Кабинет целый ряд подобных «подарочных вещей с эмблемами». Может быть, среди них был и браслет, украшенный ажурной, усыпанной алмазами вставкой с двуглавым орлом, чьё тело образует великолепный кабошон сапфира. Свет пронизывает камни со всех сторон, отчего они ослепительно сверкают и переливаются радужными бликами. Сама же массивная цепь «сплетена» лентой вручную из отдельных звеньев, что придаёт ей уютную гибкость.[508]
Для императрицы Александры Феодоровны у Кёхли в 1903–1904 годах сделали по утверждённым рисункам драгоценную, изумительной красоты парюру, состоящую из диадемы, ожерелья, броши и браслета, с артистически вкрапленными в «иней» бриллиантов синими огоньками сапфиров[509]. Изысканное переплетение «С»-образных завитков увенчивалось то распускающимся бутоном необычно крупного сказочного василька с лепестками, похожими одновременно на алмазное очелье русской красавицы, то гораздо более скромным трилистником, зато образованным крупными бриллиантами. Однако дивный шедевр работы выдающихся петербургских ювелиров Кёхли безжалостно продали на аукционе в 1920-е годы.[510]
Фирма «К. Ган». Карл-Август Ган и Дмитрий Карлович Ган
Сравнительно недолго просуществовала, но оставила заметный след в истории русского декоративно-прикладного искусства возникшая в 1873 году в Петербурге довольно крупная фирма, основанная австрийским подданным Карлом Карловичем (Карлом-Августом) Ганом (1836–1899).
Карл-Август-Фердинанд Ган, записанный в 1874 году в купеческую гильдию, поселился в доме Шведской церкви по Малой Конюшенной, а магазин открыл на Невском проспекте, в доме № 26. Продаваемые изделия его мастерской золотых и бриллиантовых изделий: портсигары, пепельницы, чарки и «разные другие художественные произведения с эмалью» – отличались высоким качеством и пользовались таким спросом, что в 1892 году разбогатевший австриец сменил подданство на русское, и его карьера резко пошла в гору. Он принял в 1893 году участие во Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго. Через два года за высокое качество своих изделий и успешное выполнение заказов двора ювелир Карл Ган удостоился звания поставщика Высочайшего Двора.[511] В 1896 году он назначается оценщиком при Кабинете, а вскоре получает орден Св. Станислава 3-й степени и звание потомственного почётного гражданина.
В 1893 году мастерская ювелирных изделий Карла Гана была ручным производством, где трудились 30 рабочих, а её годовой оборот достиг 100 000 рублей. К 1899 году Ган владел двумя доходными домами, ещё один дом принадлежал сыну, купцу первой гильдии. После смерти главы семьи всё перешло к его вдове, но уже через два года Аделаида Ган и её дочь предоставили право распоряжаться делами фирмы Дмитрию Карловичу Гану, успешно продолжившему дело отца и уже в 1903 году получившему удостоверение придворного поставщика.[512]
Карл Карлович Ган недаром считался самым серьёзным соперником Фаберже. Предметы из золота и серебра, исполняемые мастерами фирмы с применением эмалей обширного диапазона расцветок, включая и опалесцирующие, отличались элегантностью форм и большим чувством камня, особенно в фантазийных изделиях из драгоценных и полудрагоценных самоцветов. А ведь опалесцирующие эмали столь капризны, что малейшее нарушение режима их обжига ведёт либо к неполучению ожидаемого цвета, либо к полному исчезновению эффекта радужной замутнённости, финифть же, становясь прозрачной, уже не напоминала таинственно просвечивающий драгоценный опал.
Фирме Гана довелось исполнить виртуозную по артистизму закрепки и сложности монтировки бесчисленного количества прекрасно подобранных южноафриканских бриллиантов копию Малой императорской короны, вошедшую, как и оригинал, созданный братьями Зефтиген в 1856 году, в число коронных драгоценностей и регалий российского императорского Дома.
Заказ на повторение венца императриц поступил к Карлу Карловичу Гану в связи с коронацией Николая II в 1896 году. Супруга монарха, согласно церемониалу, должна была ожидать на коленях того момента, когда венчанный император сначала коснулся бы её головы своей Большой императорской короной, а затем возложил бы на неё наследственную Малую корону императриц. Точная же её копия предназначалась для вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, обязанной присутствовать во всём величии сана на торжественном ритуале в Успенском соборе Московского Кремля. Однако Александра Феодоровна не стала обижать августейшую свекровь и отбирать у неё подлинную корону, которой та венчалась на царство 13 лет назад. При коронации голову молодой императрицы украсила как две капли воды похожая и, если бы не чуть более крупные алмазы южноафриканского происхождения, почти совершенно не отличимая от оригинала реплика, исполненная искусными руками мастеров фирмы Карла Гана. Публика же, заполнявшая Колонный зал Дома Союза в декабре 1925 года, одновременно созерцала среди бывших коронных драгоценностей на выставке Алмазного фонда и оригинал, и копию Малой короны русских императриц[513], однако вскоре следы дивного творения 1896 года затерялись.
Не уступал ей по качеству работы и сделанный тогда же Карлом Ганом для последней царицы бриллиантовый кокошник, чья судьба также неизвестна. Рисунок парадного головного убора складывался из отдельных, вертикально стоящих лучей разной высоты, тесно примыкающих друг к другу и в целом напоминал своеобразную бахрому из-за чего такая диадема получила французское название «франж» («frange»). Когда же в конце XIX – начале XX века подобные кокошники вошли в моду на Западе, там их стали называть не только «тиарами» или «франж-диадемами», но и просто «русской бахромой» (по-английски «Russian fringe»).[514]
Карл Карлович Бланк
Многие вещи для фирмы «К. Ган» в период с 1892 по 1909 годы создал Карл Карлович Бланк (1860—?), ставший затем компаньоном сына своего прежнего патрона. Уроженец Гельсингфорса и финляндский гражданин, он ещё с 1885 года в столице Российской империи владел небольшой мастерской золотых и серебряных изделий, где трудились 8 рабочих и 3 мальчика-ученика. Располагалась она на Гороховой, 36, а позже переехала в Зимин переулок, в дом 4/23. Через десять лет Карл Карлович Бланк, к тому времени вписавшийся во вторую купеческую гильдию, продолжал сотрудничать с фирмой Карла Гана, но собственное дело он смог открыть лишь после смерти Дмитрия Карловича Гана. С 1911 года ювелир, получивший ещё на выставке 1896 года право на помещение на своих изделиях государственного герба, создал множество работ для Двора: в основном усыпанные бриллиантами орденские, статс-дамские и фрейлинские знаки, а также наперсные кресты. Теперь его мастерская размещалась в доме № 23 по Екатерининскому каналу, а сам владелец стал потомственным почётным гражданином и оценщиком Кабинета. Им были очень довольны, поскольку «все заказы Кабинета К. Бланк исполнял в высшей степени добросовестно и сравнительно дёшево, являясь примерным поставщиком».[515]
Портсигар, подаренный Николаю II матерью на Рождество 1897 года, демонстрирует как высочайший уровень мастерства Карла Бланка, так и элегантность вкуса Карла Гана. Ничего лишнего, только в одном из углов на гладкий слой тёмно-синей эмали, из-под которой просвечивает напоминающий опущенную драпировку-«маркизу» узор, наискось помещён сверкающий «инеистыми» алмазами золотой двуглавый орёл Российского герба. Прикрывающая кнопку затвора высокая полусфера кабошона альмандин, чей густо-вишнёвый оттенок прекрасно гармонирует с тоном финифти и ненавязчиво довершает аккорд цветов российского триколора[516].
Для Карла Гана работали также Тилландер и Картье.[517] Фирма Тилландера в апреле 1911 года арендовала за 12 000 рублей у закрывшего своё дело Дмитрия Карловича Гана магазин в доме № 26 на Невском, а после смерти владельца это помещение в том же году окончательно перешло в её руки[518].
Фирма «А. Тилландер». Александр-Эдвард Тилландер. Александр-Теодор Тилландер
Финский швед Александр-Эдвард Тилландер 19 марта 1860 года открыл в Петербурге собственное дело на втором этаже стоящего на углу Гороховой и Большой Морской дома Воронина (№ 26). Будущий глава процветающей фирмы родился 30 июня 1837 года в семье хозяина фермы в окрестностях Гельсингфорса и уже в возрасте 11 лет был отправлен в Петербург учиться ремеслу и искать счастья. Его старший брат, уже работавший подмастерьем у сапожника, устроил мальчика к земляку – золотых дел мастеру Фредерику-Адольфу Хольстениусу в Царское Село. После непременных семи лет ученичества ставший подмастерьем Александр-Эдвард поступил на работу сначала к Карлу-Христиану Веку а через два года перешёл к одному из ведущих ювелиров Петербурга – Карлу-Рейнгольду Шуберту державшему мастерскую на Гороховой.
Рабочий день в ней длился обычно с 7 часов утра до 11 вечера, но, несмотря на большую занятость, Александр-Эдвард всё равно ухитрялся выкраивать время на изучение языков и самообразование. Его усилия, трудолюбие и упорство увенчались успехом: не достигнув 23 лет, он получил квалификацию мастера. Два года молодому мастеру пришлось трудиться ежедневно по 11–12 часов и зачастую во многом себе отказывать, пока у него не появились свободные деньги и он не смог нанять в помощь подмастерьев и учеников.
На первых порах Тилландер делал вошедшие в моду широкие золотые браслеты. Изящество их отделки и тщательность исполнения пленили владельцев крупнейших ювелирных магазинов на Невском проспекте. А поскольку мастер сделал безошибочный ход, начав ориентироваться на запросы частных клиентов, то дела мастерской Александра-Эдварда Тилландера стали процветать, и вскоре он всё больше времени стал отдавать управлению делом, а также заведению и сохранению нужных контактов с заказчиками. Фирме «Тилландер и К°», поддержанной деньгами вошедших в партнёрство финансистов, потребовалось уже новое, более просторное помещение, и в 1870 году мастерская переехала в дом напротив, находившийся на том же перекрёстке, по адресу: Большая Морская, 28 / Гороховая, 13. Теперь клиентов принимали в большом красивом зале с гранитными колоннами, расположенном на первом этаже новых апартаментов.
На Всероссийской выставке в Петербурге в том же 1870 году фирма Тилландера завоевала серебряную медаль, а затем участвовала во многих выставках в России и за рубежом, неоднократно удостаиваясь почётных призов. Теперь Александр-Эдвард Тилландер настолько расширил дело, что смог применять для украшения своих работ, поставляемых в магазины Болина, Вальяна и Гана, столь ценимые бриллианты, редкостным знатоком которых он стал, причём пользовался при оценке алмазов только простой складной лупой[519]. В его мастерской работали и учились ювелиры Ялмар Фагеррос и Нестор Вестербак, потом завоевавшие себе признание в Финляндии. К 1874 году дела настолько наладились, что Александр-Эдвард Тилландер начал регулярно выбираться за границу в поисках новых впечатлений и идей. А уже в 1881 году, хотя в фирме трудились только 30 рабочих, объём производства в денежном выражении достиг 70 000 рублей.[520]
В 1894 году глава фирмы впервые приехал в Париж, где сразу оценил важность налаживания постоянных творческих и деловых контактов с европейским центром моды. Именно здесь можно было уловить новые веяния в развитии ювелирного искусства, а также найти отличный рынок сбыта своей продукции, купить новинки и нужные самоцветы. Зная пристрастие части русской публики ко всему иноземному (а особенно к парижскому шику), Александр-Эдвард Тилландер, вернувшись в Петербург, сразу дополнил надписями на французском языке не только фирменные бланки, но и поместил их на всех дверях, включая рабочие помещения. Ещё более тесными связи с Францией стали через полтора десятка лет, когда фирма Тилландера приобрела русское отделение известнейшего парижского торгового дома «Бушерон».[521]
15-летним юношей стал помогать отцу Александр-Теодор Тилландер, появившийся на свет в столь знаменательном и удачном для фирмы 1870 году. Он прошёл стажировку под руководством мастера Юхана Лённстрёма. После трёх лет обучения в стенах родного дома и такого же периода практики в известных европейских фирмах Парижа, Лондона и Дрездена, заменившей теперь для отпрысков владельцев крупных ювелирных домов прежние годы странствий в подмастерьях, да ещё проработав пять месяцев в ювелирном отделе большой французской выставки прикладных искусств в Москве ради приобретения нужных знакомств, совершенствования умения обращаться с клиентами, уверенности и лоска и выдержав там с блеском своеобразный экзамен, не растерявшись перед самим самодержцем Александром III[522], Александр Тилландер-младший (или, как его ещё называли по-русски, Александр Александрович) стал в возрасте 25 лет директором в фирме отца. Проявив немалые энергию и инициативу, он активно взялся за дело, показав хватку настоящего предпринимателя и умение распоряжаться капиталом. Проведённое им переоснащение по новейшему западному образцу мастерских и магазина позволило фирме «А. Тилландер» выделиться среди прочих.
В начале XX века она во множестве делала уже не только прославившие её ювелирные украшения костюма, но очень модные тогда памятные жетоны всевозможных обществ и учреждений, различные памятные и наградные медали, миниатюрные пасхальные яйца, а также настольные звонки для вызова прислуги, рамки, сигаретницы, подсвечники, искусно украшая золото и серебро как драгоценными камнями, так и красивыми эмалями. Работам её мастеров присущи немалая фантазия и тщательность исполнения, аккуратность закрепки самоцветов. Фирма «А. Тилландер» поставляла много изделий ко Двору, её оборот возрос до 100 тысяч рублей в месяц.
С апреля 1911 года она перебралась на Невский, 26, арендовав помещения магазина Дмитрия Карловича Гана, а вскоре, после смерти их владельца, выкупила их и окончательно обосновалась в этом престижном месте напротив Казанского собора. В магазине фирмы, благодаря сохранившимся связям с Бушероном, всегда имелись в продаже последние парижские модные новинки. С 1912 года Тилландер почти полностью перешёл на выпуск поражающих своей роскошью, сплошь усыпанных бриллиантами диадем, ожерелий, браслетов и колец из платины, причём часть продукции экспортировалась в страны Центральной Европы и Арабского Востока.
Февральская революция прервала деятельность фирмы: её официально закрыли 1 сентября 1917 года, и Тилландер-младший после ликвидации дел уехал с семьёй в Финляндию. Его престарелый отец, Александр-Эдвард Тилландер, решивший остаться в Петрограде, где за семь десятков лет практически прошла вся его жизнь со взлётами и падениями, скончался в ставшем подлинно родным и любимым городе 19 декабря 1918 года.
Что же касается Александра-Теодора, то с прежней энергией он уже в сентябре 1918 года основал дело в Хельсинки. Семейная фирма, с 1977 года ставшая индустриальной компанией и акционерным обществом «Оя Тилландер Аб», считается не только одной из ведущих в Европе, но и преемницей традиций ювелиров Петербурга, бережно храня многие секреты старых мастеров, пропагандируя их достижения и показывая лучшие образцы их творений на выставках, организуемых и спонсируемых ею по всему свету.[523]
Франц Бутц, Фридрих Бутц и Юлий Бутц
Франц (Александр-Франц) Бутц, родившийся 25 апреля 1813 года, появился в Петербурге в 1841 году, однако только через 8 лет уже не слишком молодой, но талантливый подмастерье наконец-то стал золотых дел мастером и ювелиром и смог открыть мастерскую в доме Жадимировского на Большой Морской улице. Он быстро получил признание высокопоставленных клиентов и вскоре объединился с Карлом-Эдуардом Болином, образовав совместную фирму «Бутц и Болин», просуществовавшую семь лет. Сблизился Франц Бутц и со своим земляком Густавом Фаберже, тоже имевшим небольшую мастерскую на той же Большой Морской, вначале размещавшуюся в доме № 11. Оба приятеля были энергичны, деятельны и не без предпринимательской жилки. Обоим сопутствовал успех, поскольку к перечисленным свойствам характера присоединялось великолепное владение профессией ювелира. В 1847 году у Франца родился ещё один сын, получивший имя Юлиус-Агатон (Агафон), или Юлий.
Неожиданная и безвременная смерть Франца Бутца 16 июня 1857 года внесла свои коррективы. Сотрудничество с Болином окончилось. Однако семейное дело успешно продолжал наследник Франца Бутца, Фридрих (Фридрих-Даниэль), скорее всего, его старший сын. Минуло немногим более десяти лет, как выпускник провинциальной Перновской гимназии не только был записан в купеческую гильдию, но в том же 1869 году занял вакансию оценщика Кабинета, освободившуюся после смерти Льва (Людвига) Брейтфуса.
«Магазин бриллиантовых и золотых вещей Франца Бутца», размещавшийся в доме Елисеева, на Большой Морской, 25, продолжал давать приличный доход.[524] Достаточно обширный ассортимент выставленных там изделий (отчасти выписанных из-за границы), как и их качество, привлекали даже членов императорской семьи. В мастерской Фридриха Бутца делали колье, широкие браслеты, броши, серьги и перстни, выглядевшие подчас чересчур массивными и излишне пёстрыми.[525] Излюбленным мотивом декора были ландыши, не только напоминавшие о весенних майских днях, но и обозначавшие на языке символов долгую, тайную и нежную любовь.[526]
В 1865 году «золотых и бриллиантовых дел мастеру Бутцу дано право именоваться Поставщиком Государя Наследника Цесаревича Александра Александровича и иметь на вывеске вензельный шифр его императорского высочества». Когда же августейший покровитель взошёл на русский престол, то с 1881 года ювелир получил, соответственно, звание «Поставщика Высочайшего Двора».[527]
Интересно, что в том самом 1874 году, когда Фридрих Бутц к клеймению никаких изделий не предъявил, а только купил за границей золотые вещи, чей вес составил 3 фунта 41 золотник (то есть около 1,4 кг), его за труды наградили орденом Анны 3-й степени. Ювелир занимался благотворительностью, состоял почётным старшиной в приютах Благовещения (с 1858 года) и великой княгини Александры Николаевны (с 1860 года). В 1880 году потомственный почётный гражданин Фридрих-Даниэль Бутц жил на Большой Морской, в доме Елисеева, где размещались не только магазин, но и мастерская известного ювелира.
Дочь свою он выдал за Оскара Энгельмана. Тот, начиная с 1872 года, удачно подменял своего тестя на посту оценщика Кабинета на время отпусков. Когда же Фридрих Бутц скончался, наследовавший ему брат Юлий (1847–1912) организовал с Оскаром Энгельманом фирму «Ф. Бутц».
Карьера Юлия Бутца развивалась довольно быстро. Он прекрасно знал сложности ремесла ювелира, так как ещё в батюшкиной мастерской постиг многие профессиональные премудрости. А потом были годы странствий по Европе в компании с сыном лучшего друга покойного отца, Карлом Фаберже. Вместе они изъездили Германию, Францию, Англию, посмотрели сокровища музеев, учились у лучших специалистов своего дела. На Юлия Бутца большое влияние оказал изысканный вкус ювелиров Парижа, Берлина и Лондона. С 1879 года он – купец 2-й гильдии, а с 1881-го – оценщик Кабинета. Поскольку он оставался поставщиком Двора, Бутцу приходилось исполнять достаточно много заказов Кабинета, что составляло надёжный источник дохода. То Юлию Бутцу, как и его коллегам-ювелирам Болину и Зефтигену поручалось быстро переделать на табакерках и перстнях вензель Александра II на вензелевое имя нового самодержца Александра III, «с заменою находящейся под литерою А цифры II цифрою III».[528] То ювелиру заказывались в запас кладовой Кабинета бриллиантовые орденские, статс-дамские и фрейлинские знаки, причём ордена работы фирмы «Ф. Бутц» обычно было принято жаловать иностранцам. А конкуренция в изготовлении орденов существовала немалая: давно славились изделия таких мастеров, как Кейбель, Кеммерер и Эдуард, к ним при Александре III присоединился и обосновавшийся на Невском проспекте золотых дел мастер Г. Иоханссон (Иогансон).[529] Показательно, что именно «ювелирам Бутцу и Иогансону» поручили из сломанных фрейлинских знаков с вензелем императрицы Марии Александровны сделать 10 новых, с «именем» царицы Марии Феодоровны, супруги Александра III.[530]
В начале 1884 года заведующий Кабинетом представил министру Двора письменный доклад о высочайших подарках. Чиновника заботило, что отнюдь не все такие изделия выглядели презентованной от Двора наградой. Естественно, не вызывали подобных сомнений табакерки и перстни с портретами или с «вензелевым изображением Имени Их Императорских Величеств», и обыкновенные часы, если их дополнял государственный герб. Зато на прочих жалуемых предметах отсутствовали какие бы то ни было видимые знаки августейшего внимания. Услужливый царедворец, чтобы устранить это упущение, не только полагал нужным отныне украшать наградные дамские броши и браслеты двуглавым российским орлом, но и успел предложить «состоящим при Кабинете оценщикам драгоценных вещей ювелирам Бутцу и Зефтигену, ювелиру Фаберже, а также архитектору Кабинета Шильдкнехту составить проекты таковых рисунков». Хотя граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков посчитал тогда хлопоты заботливого подчинённого преждевременными, вскоре эти эскизы оказались востребованными.[531]
Состоятельные покупатели, заходя в элегантное помещение магазина фирмы, всё так же располагавшееся на первом этаже здания, высящегося на углу Большой Морской и Гороховой, продолжали обращаться к Юлию Бутцу со своими заказами. Клиенты имели возможность неспеша изучить и оценить красоту предлагаемых к продаже драгоценностей, выставленных в открытых футлярах в окнах-витринах на фоне шёлковых занавесок.[532]
Однако с 1886 года сам Юлий Бутц практически перестал заниматься ювелирной работой. Любитель изысканных вещей, он продолжал набрасывать рисунки изделий. При всей всеядности эклектики, пользующейся арсеналом заимствований из различных европейских стилей, Юлий Бутц, работая над заданиями Кабинета, более склонялся к решению в духе классицизма предметов (особенно составляющих парюру), построенных на растительных и геометрических формах. Смысловые же точки узора всё чаще акцентировались вкраплениями ярких пятен самоцветов в сплошь выстланный «инеистыми» алмазами фон.[533]
В 1886 году Юлий Бутц, сохранив за собой фамильную фирму «Ф. Бутц», продал свою мастерскую двадцатишестилетнему финну Томасу Полвинену, некоторое время стажировавшемуся в её стенах. Уроженец городка Кумманиеми, расположенного возле самой русской границы, совсем юным приехал искать счастья в Петербург. Ему удалось поступить в ученики к золотых дел мастеру Пекке Иннанену и довольно быстро овладеть у земляка секретами выбранного ремесла.
Кстати, в это время в Северной Пальмире работало много выходцев из Княжества Финляндского. Один из них, золотых дел мастер Туомас Копонен, очень любил делать ставшие модными броши, весьма натуралистично изображавшие различных насекомых. Тельце какой-нибудь летящей мушки ювелир формировал обычно из двух крупных полусферических сапфиров, причём круглый кабошон имитировал её «грудку», а овальный – «брюшко», распростёртые же крылышки, покрытые сеточкой «жилок», сплошь унизывали сверкающие алмазы.[534]
Сотрудничество Томаса Полвинена с Юлием Бутцем продлилось четверть века. Теперь в мастерской трудились пять-шесть подмастерьев. Работы было много, поэтому приходилось задерживаться до позднего вечера, часто захватывая и воскресенья. Незаурядный талант и разносторонность Полвинена высоко ценил неоднократно сотрудничавший с ним Хенрик Вигстрём.[535] Виктор Аарне, другой ведущий столичный мастер фирмы Карла Фаберже, вообще предпочитал обращаться в сложных случаях только к Полвинену.
По слабости здоровья Юлий Бутц нанял двух помощников (один из них, финн Карлссон, хотя и происходил из семьи, достаточно долго жившей в Петербурге, всё же предпочитал говорить на родном языке). Однако в 1911 году поставщик Высочайшего Двора тяжело заболел, родственники вынуждены были его объявить душевнобольным и увезти в Финляндию, в городок Сен-Микели.[536] Фирма «Франц Бутц» прекратила своё существование ещё до наступления 1912 года.[537] Закрылся и магазин, с начала XX века размещавшийся на Большой Морской, 15.[538]
Как же прихотлива судьба! Юлий Бутц некогда учился вместе с Карлом Фаберже в престижной Анненшуле. Закадычные друзья с детских лет, они вместе путешествовали по Европе. Однако в 1870-е годы общественное положение приятелей в начале их карьеры было разным. Юлий Бутц тогда унаследовал семейную фирму «Ф. Бутц», ставшую ещё в 1865 году поставщиком Высочайшего Двора. И вот при этом преемнике фамильного дела она трагически закончила свою шестидесятилетнюю историю, а большинство произведений её мастеров погибло в эпоху революций, гражданских войн и многочисленных реквизиций. В результате имя ювелиров Бутцев сейчас известно лишь очень узкому кругу знатоков. Зато Карл Фаберже, занимавший вначале отнюдь не столь блестящее положение в обществе, благодаря своей энергии и мудрости сделал захудалую отцовскую мастерскую основой блестящего предприятия и прославил свою фамилию во всём мире.
Глава IX «Английский магазин»
Долгое время в Петербурге славился «Английский магазин», в 1830-1870-е годы выполнявший не только многочисленные, но и, пожалуй, самые ответственные работы для императорской семьи. Название своё он получил от хозяина, выходца с Британских островов. Однако в Северной Пальмире он не был первым торговым заведением под таким именем.
Первый «Английский магазин», разместившийся на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы (ранее именовавшейся Малой Миллионной), в доме Васильчикова (ныне № 16/7), открыл ещё в 1786 году купец Пикерстиль, переехавший сюда с Галерной (Английской) набережной. Через четыре года владелец уехал на родину, а в 1791 году «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали объявление, что «Гой и Беллинс – содержатели Английского магазейна, который ныне из дома графини Матюшкиной переведён против Музыкального клоба в дом под № 71, что стоит угол Невской и Луговой Миллионной улицы и в которой вход с Миллионной» обещают и впредь доставлять почтеннейшей публике «самые лучшие и модные товары за сходную цену».
В последнее десятилетие «осьмнадцатого» века это был не единственный «Английский магазин». В столице, благодаря послаблениям 1782 года в правилах торговли, а также именному [539] указу Екатерины II от 8 апреля 1793 года, запрещавшему импорт французских товаров и устранявшему тем самым потенциальных конкурентов, британские подданные держали по крайней мере ещё три крупные лавки, причём каждая из них претендовала на пышное название «подлинно Английского магазина», снабжающего российских англофилов модными предметами роскоши.
Кембриджский профессор Эдуард-Дэниэл Кларк, путешествуя по России в 1800 году, подметил, что для жителей обширной империи «почти любой предмет удобства, комфорта или роскоши должен быть привезён из Англии, иначе он не имеет в их глазах никакой ценности». Над этим преклонением перед иноземными изделиями издевался и садовник-шотландец, ему было смешно видеть, как петербуржцы «так неумеренно восторгаются всем английским, что мошенники-торговцы на рынке готовы поклясться относительно многих произведённых в России вещей, что они английские, с единственной целью вздуть цену».[540]
Ассортимент товаров у британских купцов всегда бывал обширен. Когда в начале мая 1801 года очередной заезжий путешественник с берегов Альбиона зашёл «в магазин миссис Хой», он убедился, что в этом большом английском торговом доме «продается всё».[541] Графу Николаю Петровичу Шереметеву нравилось бывать в магазине «Гой и Белиз», причём он заходил туда не за одними покупками: сблизившись с владельцами, любил проводить время у них в живой беседе, а за закуской, поданной любезными хозяевами, вообще чувствовал себя как дома.[542]
Магазин фирмы «Гой и Белиз» (Ноу & Beilis) с 1804 года перешёл к весьма деловому купцу 1-й гильдии, англичанину Константину (Карлу, Чарльзу) Никольсу, принявшему русское подданство.
Через четыре года деловые успехи владельца престижного магазина принесли ему звание потомственного почётного гражданина. Прошёл ещё десяток лет, и в 1829 году к владельцу магазина[543] присоединился компаньоном, да ещё вместе со своей мастерской, осевший с 1815 года в Петербурге Вильгельм Плинке, и отныне «Английский магазин» по заразительному примеру прежних владельцев стал по имени хозяев называться «Магазином Никольса и Плинке».
Скоро это торговое заведение стало «своего рода местом для гуляния и праздного препровождения публики», где «в определённое время дня можно встретить всех модников и модниц Санкт-Петербурга», не спеша дефилировавших по анфиладе из двадцати пяти комнат, расположенной в первом этаже. Каждая комната представляла собой отдельный магазин, обслуживаемый прикреплённым только к нему продавцом-англичанином.[544]
У посетителей невольно разбегались глаза от изобилия всевозможных разнообразнейших товаров. Некая провинциалка восторженно утверждала, что «Английский магазин есть столица всех магазинов», искренне удивляясь, почему он именно так называется, «ибо в нём продаются русские, французские, немецкие и всякие товары, бриллианты и глиняная посуда, золото, серебро, бронза, сталь, железо, всевозможные ткани для женских уборов и платья, все принадлежности дамского и мужского туалета, и, вместе с духами, помадою и кружевами, вино, ликёры, горчица и даже салат в банках». Свой панегирик словоохотливая дама завершала: «Мне кажется, что этот магазин должен называться не английским, а универсальным», поскольку зеваки могли лицезреть «тут охотничье ружье, там хрусталь; тут ситцы, там шёлковые ткани, здесь мужские шляпы, там дамские итальянские; здесь кожаные чемоданы, ковры; тут бриллиантовые вещи и ордена; а там иголки; здесь готовые платья, плащи, шинели».[545]
Известный автор Иван Ильич Пушкарёв, член-корреспондент статистического отделения Министерства внутренних дел, описывая в середине 1830-х годов николаевский Петербург, отметил: «Наилучший и обширнейший из всех здешних магазинов есть Английский, заведённый с 1789 года Плинке и Никольсом. Этот магазин пользуется до сих пор всеобщим доверием публики и справедливо заслуженной славой, как представитель всемирной промышленности. Он составлен из нескольких больших отделений, по родам мануфактурных изделий, как то: бумажных, шёлковых и проч. Иностранные товары выписываются для этого магазина прямо из-за границы с лучших фабрик, и кроме того, лучшие петербургские ремесленники беспрерывно занимаются работами по заказам для этого магазина. Правда, что в Английском магазине цены на товары высоки, никогда не торгуются, не уступают; зато самый неопытный покупщик смело может положиться на слово каждого из продавцов».[546]
Цены, действительно, кусались, и петербуржцам оставалось горестно констатировать, что в модном Английском заведении «самая мелкая ходячая монета есть пятидесятирублёвая ассигнация».[547] Зато в магазине британских подданных продавались как привозимые из Англии серебряные вещи, так и отлично исполненные в Петербурге их копии. Да и заезжий соотечественник Никольса и Плинке, увидев изделия из золочёной бронзы и малахита, кожаные записные книжки и шкатулки со штампованным орнаментом, сделанные в столице Российской империи русскими мастеровыми под руководством владельцев Английского магазина, настолько поразился, что записал в дневнике: «Мне кажется, что своим качеством они превосходят всё то, что я видел раньше».[548]
Здесь можно было заказать даже орденские знаки. Довольный Константин Яковлевич Булгаков написал брату в Москву: «Государь дозволил мне и нам принять Прусские ордена. Мне сделали славную звезду в Английском магазине», сожалея лишь, что ею вряд ли удастся когда-либо покрасоваться.[549] Да и многим другим петербуржцам нравились работы этой фирмы. Вещи в английском вкусе привлекали не только высоким качеством и надёжностью, удобством и утилитарностью, но и красотой, изяществом изгибов, элегантностью контуров, великолепной шлифовкой и ослепительной, хотя при этом достаточно скромно и умело применённой, полировкой.[550]
В 1849 году ещё один магазин принявших русское подданство Никольса и Плинке размещался в доме Федорова на Караванной, а в конце XIX века Вальдемар Никольс владел ювелирной лавкой на Знаменской, № 36.
В 1840-х годах к владельцам престижного «Английского магазина» присоединился компаньоном «великобританский подданный» Роман (Роберт) Яковлевич Кохун, вписавшийся в Петербурге купцом в первую гильдию. Руководство фирмы доверило ему вести переговоры и готовить документацию на выполнение важного и довольно прибыльного контракта, с Высочайшего разрешения заключённого «на малахитовые работы по обделке оным колонн и пилястр для Исаакиевского собора». Ещё в 1838 году фирма успешно справилась с изготовлением малахитовых каминов в Золотой (позже названной Малахитовой) гостиной Зимнего дворца, восстанавливаемого после пожара. К тому же малахит на камины и колонны этого зала, а также на ванную императора компаньоны-купцы первой гильдии ухитрились довольно дёшево купить «за выпрошенную цену по 500 р. ассигнациями за пуд у господ Демидовых».[551]
Именно в «Английском магазине» в 1838–1839 годах отреставрировали знаменитый золотой туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны. Тогда же взамен разбитого венецианского вставили новое зеркало, а роскошную раму работы Иоганна-Людвига Биллера дополнили вензелем, картушами со шлемами и российским двуглавым орлом. С помощью многочисленных и разнообразных предметов, входивших в золотой туалетный сервиз, исполненный в 1736–1740 годах аугсбургскими умельцами,[552] по обычаю, введённому Екатериной II, причёсывали и убирали к свадьбе всех невест императорского Дома. Кстати, при этой самодержице русских великих княжон, если торжественная церемония проводилась в Царском Селе, одевали к венцу перед этим настольным прибором в Лионской комнате Екатерининского дворца.[553] Конечно же, такой обычай породил передающееся из уст в уста поверье, что девушка, поглядевшаяся в зеркало золотого уборного сервиза императрицы Анны Иоанновны, скоро выйдет замуж.
Туалетный прибор Анны Иоанновны. ГЭ
По образцу творения аугсбургских мастеров Иоганна-Людвига Биллера и Иоганна-Якоба Вальда Николай I приказал сделать в «Английском магазине» серебряный позолоченный сервиз.[554] Самые «разные вещи для вояжа Государя Императора» входили в «Бивуачный» сервиз. Чего тут только не было! На части предметов золочение вовсе отсутствовало. То были салатники, чаши суповые, блюда всех сортов и всевозможные тарелки, а также бутылки для сливок, подносы, чайники, кофейники, щипчики для сахара, чайные ложечки и складывающиеся подсвечники. Одни чайники, кофейники, молочники, сахарницы, полоскательные чашки и ситечки были красиво вызолочены изнутри, а другие блистали сплошной позолотой. Среди чайной посуды выделялись кажущиеся золотыми самовар и ящики для чая. Не забыли снабдить сервиз для подачи горячего и всяких разносолов блюдами с высокими бортиками и громоздкими крышками, суповыми ковшами, двойными солонками, перечницами, специальными ложками для горчицы и прочими вещами, между которыми для грядущих застолий предусмотрели даже ящики для бутербродов.[555]
Подросшим дочерям государя готовили приданое, куда входили обязательные банкетные, чайные и туалетные сервизы. Когда к близящейся свадьбе великой княжны Марии Николаевны с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским потребовался ещё и серебряный с позолотой поддон к золотому настольному украшению – «пладеменажу», гофмаршал Долгорукий доложил начальству: «Поелику для изготовления этой вещи требуется особого искусства, надо было отдать эту работу тому, кто с известным искусством соединил бы и доверенность. А как известно, все подобного рода работы и заказы деланы были Английскому магазину, который пользуется всеобщим доверием».[556]
Немалую популярность придавало торговому предприятию Никольса и Плинке и то, что самодержец Всероссийский Николай I любил сам наведываться в «Английский магазин», чтобы выбрать подарки для своих домашних, особенно к Рождеству. Именно здесь в предновогодние дни 1841 года император увидел Наталью Николаевну Пушкину, после возвращения из Полотняного завода избегавшую появляться в обществе, и пожелал, чтобы красавица-вдова снова украсила своим присутствием высший свет. Кстати, при жизни Александр Сергеевич Пушкин пользовался в «Английском магазине» неограниченным кредитом, и опеке пришлось после смерти великого поэта уплатить его долг в две тысячи рублей.[557]
Император Николай Павлович завёл обычай при вечернем чае супруги в Аничковом дворце распродавать приглашённым придворным карты, служившие своеобразными лотерейными билетами, выигрышем по которым являлись взятые в «Английском магазине» всевозможные золотые и серебряные изделия, статуэтки, малахитовые чернильницы, разнообразные веера, пряжки и т. п. «Все эти вещи размещались на нескольких столах в гостиной. Государь садился за небольшой стол, где лежала колода карт. А под каждой вещью вместо номера лежала тоже игральная карта.
– Господа, – обращался к окружавшим его царедворцам Николай. – Кто из вас желает купить у меня девятку червей? Славная карточка!
– Я! Я! – слышались отовсюду возгласы.
– А что дадите? – спрашивал государь.
– Двести рублей, – басил граф Виельгорский.
Иногда завязывался между гостями спор, они друг другу не уступали, всё набавляя цену. Когда все карты были распроданы, государь лично вручал выигрыши».[558] Деньги же, вырученные сверх стоимости, выплачиваемой «Английскому магазину», раздавались петербургским беднякам.[559]
Поскольку фирма «Никольс и Плинке» была с 1844 года ведущим поставщиком Двора, считалось особенно почётным и заманчивым (как это позже происходило с изделиями от Фаберже) преподносить подарки, приобретая их в «Английском магазине» или заказывая там изготовление каких-либо модных украшений. Неслучайно Михаил Юрьевич Лермонтов в драме «Маскарад» отправляет в «английский магазин» свою героиню попытаться подобрать в пару к сохранившемуся браслету точно такой же «премиленький, золотой с эмалью», что незаметно для себя обронила на балу Нина Арбенина.
В славящемся богатейшим выбором магазине Никольса и Плинке приобретали и предметы утвари, и ставшие столь модными скульптурные композиции из серебра, выполненные в духе Сазикова и Верховцева.
При освящении 20 марта 1849 года новой церкви Благовещения в Конногвардейском полку, построенной по проекту архитектора Константина Андреевича Тона, «особенное внимание всех обратила на себя великолепная вызолоченная дарохранительница – приношение графа Орлова, бывшего некогда командиром лейб-гвардии Конного полка. Это изящное произведение русских мастеровых, работающих на петербургский английский магазин, изображает в миниатюре ту же самую церковь, со всеми её подробностями».[560]
Когда светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков незадолго до начала Крымской войны готовился во главе чрезвычайного посольства отправиться с дипломатическим поручением в Турцию, перед отъездом из Петербурга он «отдал в переделку в английский магазин все свои бриллиантовые звёзды, именно для того, чтобы предстать перед султаном в полном блеске».[561] О престижности и исключительности «Английского магазина» лишний раз свидетельствует та «мелочь», что название торгового заведения Никольса и Плинке современники не заключали в кавычки.
Семейство ювелиров Арнд (Арндт), сотрудничавшее с «Английским магазином»
В 1793 году из Пруссии в Петербург приехал уроженец гессенского ландграфства Иоганн-Мартин Арндт. Молодому человеку исполнилось только 23 года, но благодаря своим талантам он сразу смог вступить в столичный цех ювелиров галантерейным мастером. Карьера его пошла очень успешно и, хотя его работы пока неизвестны, но обилие учеников, а, главное, пребывание на важном выборном посту два (1814 и 1815) года подряд характеризуют Иоганна-Мартина Арндта как отличного ремесленника. Скончался он 15 или 16 января 1848 года.[562]
Поскольку в далёкой России можно было при благоприятных обстоятельствах составить хорошую фортуну, то в 1803 году в имперской столице появились то ли два брата, то ли просто однофамильцы Иоганн-Хельвиг и Иоганн-Самуэль Арндт. Их отчизной также была гессенская земля, причём Иоганн-Самуэль родился в городке Ганау, расположенном недалеко от богатого баварского Мюнхена, славного златокузнецами и серебряниками. Оба вступили в достопочтенный цех иностранных ювелиров золотых дел мастерами, а, чтобы их не путали с Иоганном-Мартином Арндтом (Arndt), они убрали из своей фамилии последнюю букву «Т» и превратились в Арндов (Arnd). Оба, располагая большим количеством знатных заказчиков, достаточно быстро разбогатели.
Иоганн-Хельвиг Арнд, избранный в 1832 году старостой цеха, много работал для Высочайшего Двора.[563] Не менее преуспел и Иоганн-Самуэль (Самуил) Арнд. Правда, он предпочитал трудиться ещё для Английского магазина Никольса и Плинке. В 1849 году коллеги доверили уважаемому ювелиру пост помощника старосты цеха. Добросовестная, хорошо оплачиваемая работа позволила мастеру уже в 1822 году стать владельцем дома на Гороховой, 4. Позднее по заказу владельца дом был надстроен двумя этажами, фасад украсили тягами, рустом и лепными деталями. После перестройки дом стал доходным. Множество заказов на ювелирные работы требовало расширения дела, и во дворе построили два каменных флигеля.
Своего сына, родившегося 19 апреля 1812 года, отец назвал Самуэлем (Самуилом). Мальчик сравнительно быстро освоил сложное ремесло золотых дел мастера и ювелира, достойно заслужив в 1845 году членство в столичном иностранном цехе, после чего сразу женился на девятнадцатилетней уроженке Петербурга Софии-Элизабет (Софии Карловне) Тегельстен. Через четыре года Самуэль Арнд вместе с братом Карлом унаследовал от отца дом, мастерскую и клеймо «SA». В 1855 году, отойдя от дел и находясь за границей, Иоганн-Самуэль подписал дарственную: теперь его дом, «состоящий в Адмиралтейской части 1 участка по Гороховой улице… в смежности с домом градоначальника», окончательно перешёл в собственность обоих сыновей, числящихся в купцах второй гильдии.
В 1877 году Самуил Самуилович Арнд стал единственным владельцем отцовского дома, в котором было тогда 25 квартир, в основном состоящих из двух-пяти комнат. Сам хозяин занимал четыре квартиры под №№ 6,13,15 и 16. К тому времени у него были уже два взрослых сына – Густав и Эрнст. Выучившись ремеслу у отца, они вскоре стали золотых дел мастерами, вступив в петербургский Иностранный цех ювелиров. Две квартиры №№ 8 и 9, в двенадцать комнат, занимал почётный гражданин Эдуард Любимович Бонштедт, подписавшийся под дарственной как свидетель. В 1854 году в доме Арнда жил барон Александр Карлович фон Икскуль, камергер, член не только Английского собрания, но и Высочайше учреждённого Комитета для разбора и призрения нищих.
А в небольшой квартирке № 18 ещё в 1877 году доживали свой век отошедшие от дел бывшие владельцы Английского магазина Никольс и Плинке.
В 1880 году Самуэль Самуилович Арнд составил завещание: после смерти хозяина дом переходил к его жене-вдове Софии Карловне, а после её кончины имущество должны разделить их дети. Свидетелем подписался прусский подданный Карл-Эдуард Пратц, владелец соседнего дома по Гороховой улице, 6. Самуил Самуилович скончался 2 апреля 1890 года. Его вдова в 1903 году ещё числилась владелицей дома. Но дела, вероятно, постепенно приходили в упадок, поскольку ни Густав, ни Эрнст Арнд, скорее всего, не выдерживали чересчур высокой конкуренции. Вскоре дом пришлось продать какому-то учреждению.[564]
Панагия «Богоматерь Смоленская»
Панагию «Богоматерь Смоленская», судя по клеймам, исполненную Самуэлем Арндом в 1855 году, обильно украшают драгоценные каменья (см. рис. 24 вклейки). Однако подбор их отнюдь не случаен. Лучи сияния над головами Девы Марии и прильнувшего к ней младенца Христа унизаны сверкающими алмазами, обработанными бриллиантовой огранкой, символизирующей и «огранку» – преобразование души из грубого камня в правильной формы самоцвет, отражающий божественный свет. Сиреневые аметисты повествовали о скромности, благочестии и смирении страстей, свойственных настоящему христианину. Алые рубины напоминали об Иисусе, пошедшем на мучительную смерть ради спасения возлюбленного человечества. Вишнёвые альмандины подобны крови последователей Христа, пострадавших за веру.[565] Края одежд оторочены жемчугом, заставлявшим вспомнить не только о богатстве духа Богородицы, но и о её горе и слезах, когда она увидела крестные муки своего сына.[566] Перламутр же свидетельствовал о непорочности зачатия божественного младенца пречистой Девой. Изящно выгравированные лозы на ободке символизировали как христианскую церковь, так и таинство причастия.
Можно было бы подумать, что перед нами – нагрудная иконка какого-то высокопоставленного церковного иерарха. Однако надпись на оборотной стороне панагии заставляет предположить другое назначение святого образа. Там помещено горячее, полное надежды обращение к Всевышнему: «ГОСПОДЬ, УСЛЫШИ МОЛИТВУ МОЮ И ВОПЛЬ МОЙ КЪ ТЕБЕ ДА ПРИИДЕТЪ. НЕ ОТВРАТИ ЛИЦА ТВОЕГО ОТЪ МЕНЕ ВЪ ОНЪ ЖЕ АЩЕ ДЕНЬ СКОРБЛЮ, ПРИКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ, ВЪ ОНЪ ЖЕ АЩЕ ДЕНЬ ПРИЗОВУ ТЯ, СКОРО УСЛЫШИ МЯ. 13 НО 1854 – 13 НО 1855». Указанные даты соответствуют дням героической обороны Севастополя в Крымскую войну. Тогда понятен становится эмалевый знак ордена Св. Георгия, сопровождающий молитву, идущую из глубины души истого христианина-кавалера русского военного ордена, полученного за отвагу и храбрость в сражении. Да и императорская корона приобретает иной смысл. Она уже не знак Высочайшего пожалования панагии архиерею, а спасительный амулет-защита члена императорского Дома от опасностей. Более того, вплоть до правления императора Петра I Алексеевича панагии делались и для представителей царской семьи, чтобы оградить их от возможных бед, но затем эта традиция была прервана.
Слова воззвания к Богу произносились перед иконой Смоленской Божией Матери Одигитрии-Путеводительницы, считавшейся одной из главных святынь Русской Церкви. Существовала даже специальная, обращённая к ней молитва: «Ты верным людям – Всеблагая Одигитрия, Ты – Смоленская Похвала и всея земли Российския – утверждение! Радуйся, Одигитрия, христианам спасение!». Во время Отечественной войны 1812 года чудотворный образ Смоленской Божией Матери носили не только по Бородинскому лагерю русских ратников накануне великого и знаменательного сражения, но и вокруг московских стен. Считалось, что святыня даёт защиту и дарует победу в битве с иноземными супостатами.
Сложив воедино «говорящие» детали декора панагии, невольно приходишь к выводу: она принадлежала одному из великих князей, участвовавших в Крымской войне и награждённых престижным военным орденом. Но кому именно? Пришлось обратиться к биографическим словарям.
Выяснилось, что в сражениях под Севастополем сражались младшие сыновья Николая I Николай и Михаил. Николай Николаевич (1831–1891), позже получивший приставку «Старший», в связи с начавшейся войной в Крыму 27 сентября 1854 года был откомандирован в действующую армию. С 23 октября по 3 декабря находился в осаждённом Севастополе. Храбро сражался 24 октября в жаркой битве у Инкермана, за что награждён орденом Св. Георгия IV степени. Второй раз великий князь Николай Николаевич провёл в Севастополе только неделю, с 15 по 21 января 1855 года, и занимался инженерными работами и укреплениями на северной стороне сражающегося города.
Однако и великий князь Михаил Николаевич (1832–1909), проявив вместе со старшим братом редкостную отвагу в том же кровопролитном сражении у Инкермана, также удостоился ордена Св. Георгия IV степени.[567]
Поэтому пока неясно, кому именно из двоих младших сыновей Николая I принадлежала охранительная панагия работы Самуэля Арнда, но хотелось бы надеяться, что последующим исследователям удастся обнаружить документы, проясняющие имя владельца святыни.[568]
Браслет с подковой
Талантливому финскому искусствоведу госпоже Улле Тилландер-Гуденйелм, потомку знаменитой династии русско-шведских ювелиров, удалось раскрыть историю восхитительного золотого браслета. То был подарок королевы Греции Ольги баронессе Софии фон Кремер, урождённой баронессе Цедеркройц. Её супруг, вице-адмирал Оскар фон Кремер, произведённый также в адъютанты свиты императора Александра II, в 1878 году был назначен командиром русской эскадры в Средиземном море. Три последующих года высокопоставленный военачальник с женой и детьми жил в Афинах, столице Греции. В то время эллинами правил Георг I, который до восшествия на престол носил имя принца Вильгельма Датского и приходился родным братом русской цесаревне Марии Феодоровне, урождённой королевне Дагмар. К 1881 году у короля, женившегося на русской великой княгине Ольге Константиновне, внучке императора Николая I, родились шестеро детей. Малышка Ольга появилась на свет в апреле 1880 года, но прожила лишь семь месяцев.
Семейные радости и горести сблизили греческую королеву и супругу предводителя русской Средиземноморской эскадры. Почти ровесницы, обе они души не чаяли в своих детях, а к тому же часто предавались воспоминаниям о России и общих знакомых, при этом общаясь на столь дорогом для них русском языке. Но русской эскадре пришлось в 1881 году покинуть гостеприимные Афины, а её командира ожидал пост главы Генерального штаба отечественного флота. Вероятно, на прощание королева Ольга Константиновна подарила задушевной подруге свой браслет. Пять золотых, параллельно огибавших запястье, ровных одинаковых обручей скреплены поперечными тонкими прутиками, отчего браслет уподоблялся оковам богини любви Венеры. Созданию такого впечатления помогала и свисающая с замка цепочка. Но мастер Самуил Самуилович Арнд придумал столь аскетичный по рисунку браслет дополнить съёмной брошью. Подкову следовало с помощью булавки и ушка с резьбой прикреплять обязательно «рогами» вверх, а иначе волшебный амулет терял бы свою силу приносить удачу. Счастливый талисман сплошь «вымощен» ослепительно сверкающими бриллиантами с вкраплением алых рубинов, похожих из-за огранки полусферическими кабошонами на раскалённые шляпки ещё не успевших остыть гвоздей. Дивные «червчатые» яхонты должны были обеспечить владелице любовь, красоту и долголетие, а алмазы – счастье в детях и богатство (см. рис. 25 вклейки).[569]
Дружеские отношения монархини маленькой Греции и финской баронессы не прервались с отъездом семейства фон Кремер из Афин. Завязалась долголетняя доверительная переписка, оживляемая редкими случайными встречами. Финская баронесса свято хранила памятную вещь, а сейчас её потомки тщательно сберегают семейный раритет.
Знак испанского ордена Золотого Руна для русского престолонаследника
Существование своё орден Золотого Руна отсчитывает от 10 января 1429/1430 года, так как в XV веке календарный год начинался с Пасхи. То был день бракосочетания в Брюгге бургундского герцога Филиппа III Доброго с Изабеллой Португальской. В разгар свадебного пира счастливый новобрачный торжественно объявил об учреждении рыцарского ордена «в честь Девы Марии и Апостола Петра в защиту веры и католической церкви». Отважный Ясон, приплывший в далёкую Колхиду со своей верной дружиной на корабле «Арго», смог вернуть в Грецию шкуру-«руно» волшебного золотого барана, несущее его обладателю благоденствие. Редкостная смелость и небывалый успех античного героя отразилась в девизе бургундского ордена: «Награда не уступает подвигу» (Pretium labore non vile), переводящегося также как «Цена труда – не малая». Правда, поговаривали о другом «руне». Якобы Филиппа III Доброго однажды так вдохновили прелести златовласой дамы, что герцог, уподобив локон рыжих кудрей очаровательницы завиткам шерсти сказочного барашка, прикрепил сладостную добычу к своей нагрудной цепи. Статуты ордена Золотого Руна приняли в городе Лилле 27 ноября 1431 года, в день Св. Андрея, небесного покровителя Бургундии. В 1477 году единственная наследница герцогов Бургундских Мария, дочь Карла Смелого, вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана Габсбурга, и будущий император Священной Римской империи германской нации получил не только земли супруги, но и стал по статуту сувереном ордена Золотого Руна.
Император Карл V, для более эффективного управления чересчур обширными владениями, передал родовые австрийские и немецкие земли младшему брату Фердинанду, королю Чехии и Венгрии, позже избранному на «цесарский» престол, а сыну Филиппу II оставил Испанию и Нидерланды вместе со статусом гроссмейстера ордена Золотого Руна. Однако в 1700 году бездетным скончался последний испанский король Карл II из рода Габсбургов. Отныне на испанском троне стали царствовать Бурбоны, причём Филипп V сразу начал награждать приверженцев орденом Золотого Руна. Габсбурги не смогли стерпеть утрату престола. Во время войны за испанское наследство эрцгерцогу Карлу удалось ненадолго занять Мадрид, но провозгласить себя королём Карлом III он не успел, зато вывез архив ордена Золотого Руна в Вену. После неожиданной смерти старшего брата-императора его место досталось неудачнику, отныне провозглашённому императором Карлом VI. Испанию ему так и не удалось заполучить, однако в ходе сражений к Священной Римской империи отошли земли Брабанта вместе со столичным Брюсселем и достославным Брюгге, то есть Южные Нидерланды, обеспечивавшие правомочность владения орденом Золотого Руна. Провозгласив себя законным гроссмейстером самого престижного католического ордена, император Карл VI щедро начал награждать орденом Золотого Руна. Поскольку никто из суверенов никак не желал отступиться от столь привлекательной прерогативы, самый древний и почитаемый католический орден разделился на две ветви, что признали законным после ряда скандалов и выяснения отношений лишь в 1748 году.
Французский император Наполеон Бонапарт, сместив с трона испанских Бурбонов и в очередной раз разгромив пониженного в статусе после поражения при Аустерлице теперь уже только австрийского императора Франца I, захотел объединить обе ветви ордена Золотого Руна под эгидой своего имперского ордена Трёх Золотых Рун, учреждённого 15 августа 1809 года. Теперь орёл с распростёртыми крыльями держал в клюве французское Золотое Руно, вцепившись хищными когтями в бессильно повисших барашков, символизировавших старые ордена Австрии и Испании. Правда, из-за несчастливого похода на Россию награждения новым орденом так и не состоялись.
19/31 марта 1814 года русская армия во главе с Александром I вместе с войсками стран антинаполеоновской коалиции вошли в Париж. Сразу разгорелись нешуточные страсти за награждение триумфаторов, дошедшие до своеобразного соревнования между властителями больших и малых европейских государств, благодарными за освобождение от ига французского монарха-«узурпатора». Дождь орденов пролился на победителей, однако двуличная политика бывших «верных» союзников отразилась даже в пожалованиях орденом Золотого Руна обоими его гроссмейстерами.
Австрийский император от своих щедрот выделил русскому царю, хотя и предводителю коалиции союзников, и христианину, но «схизматику» лишь военный орден Марии-Терезии. Зато Франц I постарался тут же забыть, что английский принц-регент Георг, из-за слабоумия венценосного отца фактический правитель Альбиона, исповедует англиканство, а посему Великий магистр австрийского ордена Золотого Руна, не замедлив, вручил католический орден будущему великобританскому королю Георгу IV. Августейшего Габсбурга вдохновило на подобный дипломатический шаг награждение того же местоблюстителя английского трона испанским орденом Золотого Руна, сделанное восстановленным на престоле королём Фердинандом VII Бурбоном.
Испанский государь, претерпевший унижения в Байонне и долгую вынужденную ссылку в Валансэ, не считал столь уж большим грехом пожалование ордена Золотого Руна впавшим в ересь христианам-некатоликам. В 1814 году кавалером испанского ордена Золотого Руна стал Александр I, вскоре избранный главой Священного Союза монархов Европы. Но на этом Фердинанд VII не остановился ив 1817 году сделал кавалерами престижного ордена всех троих родных братьев петербургского властителя, Константина, Николая и Михаила.[570]
А вскоре сложилась традиция награждать этим орденом будущих государей России, когда те официально провозглашались престолонаследниками. Будущий монарх Александр II удостоился получить Золотое Руно уже 13 августа 1826 года, за неделю до коронации его отца. Александр III стал кавалером этого ордена 21 сентября 1865 года, через два месяца после принесения присяги цесаревича.
Когда 6 мая 1884 года цесаревичу Николаю Александровичу исполнилось шестнадцать лет, день рождения ознаменовался и принесением им, ставшим через десять лет императором Николаем II, торжественной присяги. Не прошло и двух месяцев, как повелитель Испании Альфонс XII даровал великому князю Николаю Александровичу Золотое Руно, традиционно прислав орденскую цепь вместе с патентом на пожалование ордена.
Вскоре к петербургскому ювелиру Самуилу Самуиловичу Арнду поступил важный заказ. Созданный им знак ордена Золотого Руна выглядел очень скромно. Лицевая и оборотная стороны практически идентичны, различить их можно лишь по стилизованной броши-короне, пристёгнутой к красной орденской ленте. Ювелир совершенно отказался от драгоценных камней. Это коснулось даже оговорённого статутом камешка, из которого кресало как бы выбивает огонь, чтобы оправдать другой орденский девиз, соответствующий эмблеме Бургундии и Нидерландов: «ЗДар падает прежде, чем блеснёт пламя» (Ante ferit Quam flamma micet). Камень заменён эмалью, имитирующей кабошон василькового сапфира в окружении узенького алмазного ободка. Алые языки пламени скорее похожи на кустики кораллов. Умело проработаны завитки кажущейся шелковистой шкуры барашка, безжизненно повесившего рогатую головку и трогательно вытянувшего ножки. И над всем царит стилизованная маска волшебного животного, причём на рогах и лбу чётко написан девиз ордена Золотого Руна: PRETIUM LABORE NON VILE (Награда не уступает подвигу).
Из-за революционных потрясений орденская цепь, принадлежавшая Николаю II, не была возвращена в Испанию, и теперь она вместе с исполненным Самуилом Арндом знаком ордена Золотого Руна хранится в обширной коллекции Оружейной палаты Московского Кремля.[571]
Владелец петербургской фабрики серебряных и бронзовых изделий Карл-Иоганн Тегельстен – постоянный партнёр «Английского магазина»
С 1833 года Английский магазин стал сотрудничать с Карлом-Йоханом Тегельстеном, которого чаще именовали «Тегельштейном», а то и «Тигельштейном», владельцем собственной фабрики серебряных и бронзовых изделий, находившейся в Нарвской части Петербурга. Он был достаточно известным бронзовщиком, выставлял свои произведения на всероссийских художественно-промышленных выставках, но так и не открыл собственный магазин. А сотрудничество с Английским магазином не только обеспечивало выгодные заказы, но реализацию готовых вещей.
Практически все серебряные столовые сервизы, выполненные на фабрике Тегельстена-«Тигельштейна» в 1830 – начале 1850 годов, заказаны были владельцу Никольсом и Плинке.[572] В Английский магазин стекались модели и разработки изделий из Парижа и Лондона, а заодно созданные штатными художниками и рисовальщиками проекты «самого изысканного вкуса и последней моды». От фабрики требовалось только сохранять безукоризненное качество работы при воплощении образцов, выбранных капризными заказчиками.[573]
На фабрике Тегельстена выпускали и бронзовые люстры для императорских дворцов и петербургских храмов, а также весьма объёмные украшения престижных интерьеров.[574]
Серебряные сервизы к бракосочетаниям великих княжон
Подросшим дочерям государя потребовалось приданое, а в его состав обязательно входили банкетные, чайные и туалетные сервизы. К близящейся свадьбе великой княжны Марии Николаевны с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским потребовался ещё и серебряный с позолотой поддон к золотому настольному украшению-«пладеменажу», о чем гофмаршал Долгорукий доложил начальству: «Поелику для изготовления этой вещи требуется особого искусства, надо было отдать эту работу тому кто с известным искусством соединил бы и доверенность. А как известно, все подобного рода работы и заказы деланы были Английскому магазину, который пользуется всеобщим доверием».[575] И как же хорош оказался серебряный позолоченный чайный сервиз, украшенный прелестными литыми женскими головками в кокетливых кокошниках.[576]
В начале 1840-х годов на петербургской фабрике Карла-Йохана Тегельстена спешили сделать «с последних весьма красивых и изящных английских фасонов» не только серебряные сервизы, но и такой же туалет для приданого средней великой княжны Ольги Николаевны (позднее вышедшей замуж за короля Вюртембергского), причём сохранив расценки вещей, исполненных ранее для старшей дочери Николая I. И всё равно заказ обошёлся в 120 тысяч рублей.
В июне 1843 года неожиданно свершилось обручение младшей великой княжны Александры Николаевны. Теперь для наречённой принца Фридриха-Вильгельма Гессен-Кассельского спешно исполняли помимо привычного набора из банкетного, чайного и кофейного сервизов ещё и «серебряный туалет без позолоты», но зато с «чеканкою и фигурами». По утверждённому рисунку зеркало украсили императорской короной, возвышающейся над медальоном с владельческим шифром «АН». А поскольку времени до бракосочетания младшей дочери императрицы Александры Феодоровны почти не оставалось, пришлось серебряный вызолоченный туалет, купленный в Дрездене, дополнить недостающими канделябрами и шандалами.[577] Все вещи вышли на славу и удостоились высочайшего одобрения.[578]
Младшая дочь самодержца, выйдя замуж по взаимной любви, мечтала родить обожаемому мужу ребёнка. Желанный мальчик появился на свет 29 июля 1844 года, Николай I самолично окрестил внука, названного Вильгельмом, но кроха прожил лишь 1,5 часа. Тихо скончалась и счастливая мать, утратившая последние силы при родах. Бедные родители и принц были вне себя от горя. И тут император настоял, чтобы его злосчастный зять не только увёз на свою родину тело новорождённого, чтобы похоронить младенца по обычаю в фамильном склепе ландграфов Гессенских в Румпельхайме, но и сохранил приданое русской великой княгини Александры Николаевны. Так сделанные Тегельстеном для Английского магазина серебряные вещи вначале оказались в Копенгагене, а затем во дворце потомков ландграфов Гессенских.[579]
В приданом первой жены принца Фридриха-Вильгельма Гессен-Кассельского оказался исполненный Карлом Тегельстеном каминный гарнитур позолоченной бронзы, состоящий из настольных часов и двух канделябров. И здесь вспоминается, что мастер, как и другие ведущие бронзовщики русской столицы, широко использовал возможность выписывать бронзы для копирования из-за границы, причём французские образцы в 1819 году разрешили не только тиражировать, но и вносить нужные изменения. Однако через три года начались строгости. С 1822 по 1845 годы существовало на русско-польской границе своеобразное таможенное «окно» для дешёвых венских и достаточно низкокачественных варшавских изделий. Правда, столичной публике они были неинтересны. Зато в 1827 году вступил в силу почти драконовский закон.[580]
Часть предметов серебряных сервизов из приданого столь рано скончавшейся младшей дочери Николая I сделал петербургский мастер Йохан-Фредрик Фальк. Родился он в 1799 году в Свеаборге, а в 16 лет оказался в Петербурге. Сначала карьера юноши развивалась успешно, через три года учения прилежный финн получил статус подмастерья. Женился он в 1824 году на своей ровеснице, уроженке Пернова (ныне Пярну) Доротее Клаес. Однако лишь в 1838 году Фальку удалось официально стать серебряных дел мастером. Заказы от Английского магазина поступали регулярно. Казалось бы, жить да жить благополучно. 18 февраля 1844 года Йохан-Фредрик женился во второй раз на молоденькой Розине-Агнете Граф, приехавшую в Северную Пальмиру из Ревеля (ныне Таллин). Но радости счастливого супружества оказались недолгими. 2 марта 1845 года талантливый серебряник Йохан-Фредрик Фальк скончался.[581]
Родившийся в 1802 году в Пиксямяки Йохан Хенриксон, переселившись в столичный Петербург, уже в 1830 году стал серебряных дел мастером. Много сотрудничал с купцом Павлом Кудряшовым, которого любезный читатель помнит по серебряному окладу иконы «Св. Николай и Св. Александр Невский» с курьёзным намёком на преемственность власти от Александра I к брату Николаю и с императорской короной с отделившимся от неё крестом, лежащим на боку от утери основного камня. Разжившись деньгами, Хенриксон женился 2 февраля 1834 года на своей 28-летней соотечественнице Агате-Хенрике Альбом. Потекла размеренная трудовая жизнь, однако после 1841 года следы мастера, искусного специалиста по выполнению всевозможных серебряных блюд и подносов, теряются.[582]
Высокое качество изделий «Английского магазина» обеспечивали и другие столичные мастера: Андерс Лонг, Йонас Аувин и А. Тобинков.[583]
Предметы из свадебного сервиза графов Бобринских. Фирма «Английский магазин Никольса и Плинке», К.И. Тигельстен. 1850 г.
К бракосочетанию великой княжны Екатерины Михайловны, дочери великого князя Михаила Павловича, с герцогом Георгием Мекленбург-Стрелицким Тегельстен в 1851–1852 годах исполнил серебряный туалетный прибор, состоящий из более чем полусотни вещей, в него входили как обязательные большое зеркало, разнообразные коробки для гребешков, пудры, перчаток и булавок, всевозможные щётки, стаканы и мыльницы, так и несколько флаконов, а также маленькое ручное зеркало. На каждой вещи прихотливо вилась виноградная лоза изысканного рисунка[584] – символ счастья и долгой безмятежной жизни, ожидавших счастливую.
Не менее хорош оказался и серебряный сервиз, заказанный двумя годами ранее в Английском магазине счастливым женихом – графом Александром Александровичем Бобринским к своей свадьбе с Софьей Андреевной Шуваловой. Серебро настолько искусно прочеканено, что металл изысканно имитирует причудливо изогнувшиеся стебли виноградных лоз с ярусами весьма натуралистично повторяющих свои природные прототипы листьев, а узловатые корни как бы вырастают прямо из взрыхлённой земли.
17 августа 1852 года постоянный партнёр Английского магазина Карл-Йохан Тегельстен скончался, а его вдове и сыну Карлу-Юлиусу, безуспешно пытавшимся наладить работу фабрики, через три года пришлось закрыть семейное предприятие.[585]
Смена владельцев Английского магазина
А вскоре произошёл скандал, повлиявший на судьбу самих Константина Никольса и Вильгельма Плинке, обоих совладельцев Английского магазина.
Их партнёр Роберт Кохун (хотя есть ошибочное утверждение, что сам Константин Никольс)[586] женился на овдовевшей итальянке Бравура и потом, вероятно, пережил немало неприятных минут из-за крупного великосветского скандала с непокорной падчерицей, о котором шептался «весь Петербург». Лавиния Александровна Бравура, дочь его супруги от первого брака, «была совершенная брюнетка, с жгучими глазами креолки и правильным лицом, как бы резцом скульптора выточенным из бледно-жёлтого мрамора».[587] Когда ей минуло 17 лет, за неё посватался потомственный почётный гражданин, богач Алексей Иванович Жадимировский (Жадимеровский), «человек с прекрасной репутацией, без ума влюбившийся в молодую красавицу. Приданого он не потребовал никакого, что тоже вошло в расчёт Бравуров, дела которых были не в особенно блестящем положении, – и свадьба была скоро и блестяще отпразднована. <…> Жадимировские открыли богатый и очень оживлённый салон, сделавшийся средоточием самого избранного общества».[588]
Так всё выглядело в глазах петербуржцев. Однако за всем этим блеском положения счастливой новобрачной скрывалась трагедия. Незадолго до замужества Лавиния со всем пылом юности полюбила князя Сергея Васильевича Трубецкого, чьё сердце тоже охватило огнём страсти. Князь, хотя уже и испытавший тяготы неудачной первой женитьбы, просил руки красавицы.
Когда-то он, блестящий кавалергард, вылетел из рядов «ультрафешенеблей» столицы сначала в кирасиры, а затем в Гродненский армейский полк из-за неудачной «шутки». Сорвиголовам из Кавалергардского полка наскучила жизнь на стоянке в Новой Деревне, и повесы решили разыграть великолепные похороны мнимо умершему графу Иосифу Борху, предмету ядовитых насмешек как «несменному секретарю ордена рогоносцев». И вот когда «на Невке, на Чёрной речке весь аристократический бомонд праздновал чьи-то именины в разукрашенных гондолах», гремела музыка, к небесам неслись сладостные арии, неожиданно в череду лодок влетел «ялик, на котором стоит чёрный гроб, и певчие поют „со святыми упокой“. Гребцы – князь Александр Иванович Барятинский, кавалергарды – Сергей Трубецкой, Кротков, у руля тоже их товарищ». Обычно гроб бывал наполнен бутылками для дружеской попойки, но на сей раз его с шумом просто сбросили в воду. Высшее общество не оценило юмора, раздались душераздирающие крики «Покойника утопили!», и, конечно же, «произошла ужасная суматоха, дамы в обморок, вмешательство полиции, бегство шалунов!..»[589]
Напрасны оказались умоляющие взоры «бархатных глаз» брата провинившегося повесы, князя Александра Васильевича Трубецкого, осмелившегося чересчур часто посылать такие столь грустные, да и не без влюблённости, взгляды самой императрице. Подобная дерзость вызвала лишь ревность российского самодержца. К тому же неукротимый и властный по натуре Сергей Васильевич Трубецкой из-за нескончаемых раздоров добровольно разъехался со своей женой, урождённой Мусиной-Пушкиной. Забрав дочь Софию, кокетливая и привлекательная княгиня уехала в Париж, где быстро утешилась с Киселёвым, своей давней пассией. В высшем свете шушукались, что к соблазнительной красавице был неравнодушен сам Николай I, и долгое время гадали, от кого же родилась прелестная княжна – от законного ли супруга или же от связи с бонвиваном Киселёвым, а то и от амурных ухаживаний государя. Но во Франции ветреная прелестница вскоре серьёзно заболела, однако успела написать к императрице, чтобы та милостиво заменила семилетней сиротке утраченную мать. Добросердечная монархиня поместила несчастную отроковицу в Смольный институт.[590]
Карьера же Сергея Трубецкого рухнула.
Прежний светский бонвиван, превратившийся в заурядного штабс-капитана в отставке, да ещё к тому же один из негласных секундантов скандальной последней дуэли опального поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, не пришёлся по нраву ни матери девушки, ни её отчиму, поскольку они хотели видеть дочь супругой весьма состоятельного купца Жадимировского. Несмотря на все уговоры и убеждения, Лавиния наотрез отказывалась вручить свою руку избраннику родителей. Тогда те заперли непокорную в отдельной комнате, посадив на хлеб и воду. После нескольких месяцев подобного домашнего заключения упорство Лавинии дрогнуло. Она согласилась увидеться с Жадимировским, но при свидании заявила навязчивому жениху что она исполнит родительскую волю при условии, что, выйдя за него замуж, физически никогда его женой не станет. Скрепя сердце, тот поклялся исполнить желание девушки. 27 января 1850 года «сын коммерции советника и кавалера Ивана Алексеевича Жадимировского, потомственный почетный гражданин Алексей Иванов Жадимировский, православный» 22 лет обвенчался с «девицей Лавинией Александровной Бравура католического исповедания».[591]
Месяца три после свадьбы Жадимировский крепился, а потом стал всё настойчивее требовать от жены исполнения его супружеских притязаний. А тут ещё на одном из балов красавица Лавиния обратила на себя внимание императора Николая Павловича, и об этой царской «милости», по обыкновению, доведено было до сведения самой героини царского каприза. Лавиния оскорбилась и отвечала бесповоротным и по тогдашнему времени даже резким отказом. Император поморщился, однако промолчал. Он к отказам не особенно привык, но мирился с ними, когда находил им достаточное «оправдание».
Несчастная же девушка хотела сохранить верность своему избраннику. Между тем Жадимировский, разъярённый упорной неуступчивостью супруги, не только подверг строптивицу домашнему аресту, но даже угрожал побоями. Прошло немногим более года. Ни одна душа не допускалась в комнату опальной, однако ей всё-таки удалось через преданную горничную уведомить князя Трубецкого о своём положении. В сердце сгоравшего от страсти Сергея Васильевича вскипела цыганская кровь его бабки по матери… И вот однажды во дворе дома Жадимировского появился разносчик-итальянец с лотком на голове, продававший гипсовые безделушки. Муж согласился на просьбу Лавинии, желавшей купить что-либо на память о родине, и проводил лоточника в комнату супруги. Лавиния стала перебирать принесённые вещи, и вдруг продавец (а это был переодетый друг князя Трубецкого) сказал ей по-итальянски: «Купите гипсового зайчика и потом как бы нечаянно разбейте его».
Найдя внутри безделушки записку возлюбленного, Лавиния вскоре стала действовать по разработанному князем Трубецким плану. Она заявила ничего не подозревавшему мужу, что готова покориться его требованиям, но предварительно хочет помириться с родными, которым она причинила столько огорчений и хлопот. Обрадованный Жадимировский поспешил привезти покорную супругу к её родителям. После извинений и родственных объятий Лавиния пожелала увидеть свою бывшую детскую комнатку и бежала через чёрный ход к ожидавшей карете. Лошади быстро помчались к дому голландского посланника, где беглянку с нетерпением ожидал князь Трубецкой.[592]
Оскорблённый обманом, почётный гражданин Алексей Жадимировский, не замедлив, довёл до сведения санкт-петербургского обер-полицеймейстера, что жена его Лавиния под предлогом свидания с матерью, состоявшей во втором браке с великобританским подданным, ушла 5 мая 1851 года из своего дома на Большой Морской, 21, в «Английский магазин», откуда уже не возвратилась. Неверная супруга бежала с уволенным в отставку из Апшеронского пехотного полка штабс-капитаном князем Сергеем Васильевичем Трубецким. Разразился такой скандал, что Никольс и Плинке предпочли отойти от дел своего предприятия.
Самодержец был разгневан: его оскорбили и как императора и как мужчину. Он ещё мог простить свою подданную за её верность супругу, но чтобы монарха предпочли другому? И кому? Какому-то князьку, отставному штафирке, не так уж и молодому и вовсе не красавцу! К этому примешивалось и ревнивое желание сделать пакость не только Сергею Трубецкому, но, воспользовавшись случаем, насолить и его старшему брату Александру, нахальному любимчику императрицы Александры Феодоровны, да и ей самой напомнить, чтобы не забывалась.
Император дерзостей от подданных не терпел и слишком хорошо помнил об оскорблённом самолюбии. Когда другая «героиня», посмевшая не ответить на любовь Николая I, – княгиня София Несвицкая, урождённая Лешерн, оказавшись в нищете, почти ослепшая, брошенная неверным мужем и боязливым любовником, испугавшимся венценосного соперника, посмела через несколько лет «подать на высочайшее имя прошение о вспомоществовании», то монарх вначале было назначил для титулованной особы довольно крупную сумму, «но в минуту подписания бумаги, увидав на прошении имя княгини Несвицкой, рождённой Лешерн, порывистым жестом разорвал бумагу, сказав: «Этой?! Никогда… и ничего!»[593]
Посему в отношении Лавинии Жадимировской и её «совратителя» и состоялось «Высочайшее повеление о принятии строгих мер»: влюблённую парочку приказано догнать, задержать и отправить их в Санкт-Петербург поодиночке на фельдъегерских тройках, да ещё под конвоем жандармских офицеров.
Между тем беглецы прожили под защитой экстерриториальности в посольском доме около месяца, пока друг князя не выправил подорожную (на имя отставного лейб-гвардии Гродненского гусарского полка штабс-ротмистра Фёдорова), согласно которой возлюбленная пара отправилась на перекладных в Тифлис, вначале думая переправиться либо в Константинополь, либо в Одессу, но затем решили плыть в Италию. В Редут-Кале их уже ожидала парусная шхуна. Но перед отплытием Трубецкой, чтобы скоротать время, на свою беду стал играть в зале гостиницы в бильярд. Случайно вошедшему туда местному полицейскому бросилось в глаза отсутствие большого пальца на правой руке азартного игрока: то была примета разыскиваемого беглеца…[594]
Вся эта история по отысканию и доставке прегрешившей парочки в столицу обошлась казне в 2269 рублей 163/4 копейки серебром.[595] Сергея Трубецкого за увоз чужой жены посадили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, судили, а затем, лишив не только чинов и ордена, добытого за храбрость на поле брани, но и дворянского и княжеского достоинства, отправили под строжайший надзор в Петрозаводский гарнизонный батальон рядовым.[596]
Малолетней его дочери повезло больше: после окончания института вдова Николая I устроила юную воспитанницу фрейлиной к императрице Марии Александровне. Вскоре изящная фигурка, роскошные белокурые волосы, сверкающие карие глаза и восхитительный цвет лица княжны настолько пленили французского посланника – графа де Морни, что тот, совсем потеряв голову и к тому же совершенно позабыв о своей парижской пассии, женился на очаровательной бесприданнице.
Что же до Лавинии Жадимировской, то несчастную жертву адюльтера по приказанию считавшего себя рыцарем державного самодержца провели в самый разгар дня как сквозь строй через вереницу прогуливавшихся по столичному Невскому проспекту, тем самым подвергнув исстрадавшуюся бедняжку несмываемому позору в глазах светского общества.[597] Муж беглянки, чтобы замять оскорбительные толки, поскорее выхлопотал заграничный паспорт и уехал с провинившейся «половиной», причём «к великому огорчению всех охотников до крупных и громких скандалов, сохраняя с женой самые корректные и дружелюбные отношения».[598]
Когда Николай I скончался, Трубецкой был помилован и сразу вышел в отставку. Лавиния Александровна Жадимировская, получившая развод, переехала к любимому в его поместье, но, даже когда в 1859 году скончался Алексей Иванович Жадимировский, сочетаться с суженым узами брака она, разрушительница предыдущего семейного союза, не могла по церковным установлениям.[599] Только год влюблённые смогли наслаждаться так дорого приобретённым счастьем. Через несколько лет после смерти любимого красавица-вдова вышла замуж за графа Сухтелена, которого тоже пережила, а потом, будучи уже пожилой, падчерица бывшего совладельца петербургского «Английского магазина» отдала руку то ли какому-то итальянскому маркизу,[600] то ли графу де Кастелю.[601] Мимо столь трагической и одновременно романтической истории, оказавшейся прихотливо связанной со столичным «Английским магазином», не смогли пройти уже в XX веке ни известный историк П.Е. Щёголев, написавший очерк «Любовь в равелине», ни Булат Окуджава, посвятивший событиям середины меркантильного столетия пламенные строки романа «Путешествие дилетантов».
Бедные старички Никольс и Плинке сгорали от стыда, хотя ни в чём не были виновны. Они всегда слыли очень гостеприимными и приветливыми людьми, и к ним заходили не только за покупками. Однако самому Вильгельму Плинке не повезло с семейным счастьем: он безответно полюбил Татьяну Васильевну Шлыкову-Гранатову, бывшую лучшую танцовщицу крепостного театра графа Николая Петровича Шереметева и подругу знаменитой актрисы-графини Параши Ковалёвой-Жемчуговой-Шереметевой. Сватание ювелира оказалось безуспешным, и, хотя добрые отношения сохранились, он так и не нашёл взаимности в сердце своей возлюбленной.[602]
Но высший свет, как только заходила речь об «Английском магазине» в начале Невского проспекта, вспоминал почему-то имена титульных хозяев, и все сплетни адресовались им. Чтобы не видеть негодующих глаз покупателей-аристократов, и Вильгельму Плинке, и Константину Никольсу пришлось в 1851 году выйти из дела, сохранив, правда, звание бывших содержателей «Английского магазина» и «поставщиков Его Императорского Величества». Жили они теперь, как помнит внимательный читатель, в доме приютившего их мастера Самуэля Арнда.
Фирма «Английский магазин. Никольс и Плинке» – ведущий поставщик Двора во второй половине XIX века
Теперь Роман Кохун оставался вплоть до 1879 года единоличным хозяином этой торгово-промышленной фирмы. В 1854 году, когда «Английский магазин» выполнял заказ на оклейку малахитом в технике русской мозаики иконостаса Исаакиевского собора,[603] он получил право «на производство работ на принадлежащем ему заведении серебряных и бронзовых изделий Каретной части I квартала в собственном доме»[604] на Литовской улице, № 38.[605] А в 1870-е годы Кохун уже владел не только магазином, но домом на Невском проспекте, 16.[606]
Магазин Никольса и Плинке был хорошо известен при Дворе, и владельцам с 1848 по 1875 год от Кабинета шли регулярные ежегодные выплаты за различные приобретаемые вещи, не говоря уже о престижном контракте, заключённом на исправление старых и изготовление новых серебряных предметов и даже на предоставление мастеровых людей для чистки дворцового серебра.
Дарохранительница и утварь для Исаакиевского собора
Одной из последних работ Монферрана в области прикладного искусства явился проект дарохранительницы для главного алтаря Исаакиевского собора, созданию которого он посвятил большую часть творческой жизни. Видимо, неслучайно Монферран осуществил её в виде любимого своего детища, обогатив фасады миниатюрного храма барельефами и круглой скульптурой по сторонам портиков.
Однако ради справедливости следует признать, что мысль об изготовлении дарохранительницы в виде собора принадлежала покойному императору Николаю I, «ибо почти все дарохранительницы имеют форму храма». Размеры дарохранительницы определили в одну сотую настоящей величины собора, то есть высотой немногим более метра.
23 декабря 1857 года Монферрану было повелено составить подробные чертежи дарохранительницы, и уже 3 января 1858 года он представил «планы, фасады и необходимые детали». Дарохранительницу Монферран предложил выполнить из чистого серебра с позолотой, а колонны покрыть эмалью цвета красного гранита. Однако при рассмотрении проекта Комиссия заключила, что «предложенная главным архитектором в большой дарохранительнице эмаль по её непрочности в такой монументальной вещи допущена быть не может, и потому дарохранительницу сию сделать всю вызолоченной таким образом, чтобы стены оной были матовыми, а архитектурные и скульптурные украшения полированные с оттенками в самой позолоте».
Изготовление дарохранительницы Монферран решил доверить Английскому магазину, возглавляемому купцами 1-й гильдии Константином Никольсом, Вильямом Плинке и Робертом Кохуном. Согласно контракту, заключённому с ними 30 декабря 1857 года, они обязались «большую дарохранительницу, изображающую Исаакиевский собор, <…> исполнить со всею точностию во всех подробностях по наружности; все архитектурные части сей дарохранительницы должны быть выделаны со всею правильностию, а скульптурные украшения, как то: фигуры, группы и барельефы – должны быть исполнены изящным образом со всевозможным совершенством, и потому модели скульптурных украшений должны быть приготовлены лучшими художниками совершенно согласно с имеющимися по наружности собора бронзовыми фигурами, группами и барельефами без малейшего отступления от оных. Так как внутри дарохранительницы должен помещаться гроб для хранения святых запасных даров и две мирохранительницы со склянками для хранения святого мира, то поэтому один из портиков с фронтоном и частию стены должен выдвигаться. Гроб и дарохранительницу обязаны мы сделать совершенно гладкими, без всяких украшений. Гроб и крыша на оном должны быть внутри и снаружи вызолочены». Позолоту предполагалось произвести «червонным золотом через огонь наилучшим образом. Для отличия украшений от фона некоторые части должны быть вызолочены под мат, а другие – под полир с цветными оттенками в самой позолоте».
Дарохранительница для Исаакиевского собора. Проект О. Монферрана
К работе подрядчики собирались приступить немедленно и доставить дарохранительницу в собор «в самом изящном виде» к 25 мая 1858 года.[607]
«Дарохранительница, сделанная из серебра, представляет Исаакиевский собор, как он сделан в натуре, с соблюдением всех мелочей даже в орнаментах его. Над дарохранительницей устроен из зеркальных стёкол, укреплённых в бронзовые золочёные рамки футляр. За ним бронзовый вызолоченный постамент с запрестольным крестом, в серебряном вызолоченном окладе и с серебряными же с позолотою, по сторонам его, рипидами. <…> Над каждым из жертвенников, на стене, икона в большой серебряной раме с серебряным же паникадилом.
Утварь для Исаакиевского собора изготовлена поставщиками Высочайшего двора Никольс и Плинке, фабрикантами Сазиковым и Верховцевым. Вся она сделана из золота и серебра 84-й пробы. Всех предметов утвари золотых и серебряных двести пятнадцать; золота в них 2 пуда 1 фунт 63 золотника; серебра 132 пуда 31 фунт 42 золотника, вся же стоимость их, с материалом и работою 362 499 рублей 48,5 копеек серебром.
Золотую утварь по утверждённым рисункам устраивали поставщики высочайшего двора Никольс и Плинке. Ими сделано тринадцать вещей: потир, дискос, звездица; к ним две тарелочки, лжица, копие и ковшик; напрестольный крест с эмалью, Евангелие большое, кадило и венцы для браков. Весу во всех этих вещах 2 пуда 1 фунт и 63 золотника, а за работу их, из казённого золота, уплачено 17 519 рублей.
От них же, Никольса и Плинке, принято изготовленных из казённого серебра двадцать шесть вещей, именно: семь семисветильников, один большой над (запрестольным) горним местом в большом алтаре, другие шесть по сторонам всех трёх престолов, в большом и малом алтарях; два огромных подсвечника пред местными иконами Спасителя и Божией матери в главном иконостасе; шесть паникадил пред прочими местными иконами в том же иконостасе; три рамы для образов над жертвенниками во всех трёх алтарях; три дарохранительницы для трёх престолов; одна большая чаша для освящения воды, один сосуд для вина; три блюда. Вес всех поименованных вещей 56 пудов 39 фунтов и 5 золотников, а стоимость работы 101 978 рублей 16 копеек серебром».[608]
«Кроме большой дарохранительницы, фирма Никольс и Плинке обязалась изготовить „две малых дарохранительницы для приделов, чаши для освящения воды, сосуд для вина и три блюда“ из серебра, а из золота „сосуд, дискос, звезду, два ковша, две тарелочки или блюдца, лжицу, копие, большое Евангелие (имеется в виду оклад – В.Ш.), напрестольный крест, кадило и пару венцов для таинства брака“. Модель каждого предмета предварительно представлялась на утверждение Монферрану, чтобы в случае необходимости внести в неё поправки.
При советской власти уникальная церковная утварь, в целом ряде случаев исполненная по рисункам Монферрана, была экспроприирована и, вероятнее всего, превращена в плавильных печах в куски металла».[609]
Драгоценные сервизы к женитьбе престолонаследника
В Копенгагене 16 сентября 1864 года состоялась долгожданная помолвка старшего сына императора Александра II, цесаревича Николая Александровича, со второй дочерью датского короля Христиана IX, тем более желанная, поскольку старшая Александра уже полтора года пребывала в династическом браке с герцогом Альбертом-Эдуардом Уэльским, наследником английской короны. Счастливый жених, выбрав в честь обожаемой матери-императрицы первое из многочисленных имён юной датской принцессы Марии-Софии-Фредерики-Дагмар, предпочёл ещё до перехода невесты в православие называть свою милую суженую Минни. Августейшие родители договорились, что бракосочетание влюблённой четы пройдёт летом следующего года.
Ювелиры срочно делали драгоценности для будущей цесаревны. Однако надо было позаботиться об обустройстве семейного гнёздышка, причём обязательно успеть выполнить необходимые и достойные резиденции престолонаследника серебряные банкетный и туалетный сервизы, да ещё и вояжный, рассчитанный на пользование во время грядущих путешествий великокняжеской четы.
В банкетном сервизе сразу решили отказаться от привычных серебряных тарелок, массивных суповых мисок-«теринов» с их тяжёлыми поддонами, всевозможных блюд-«кроншалов» с высокими крышками, различных соусников, так как гораздо гигиеничнее и рациональнее было сделать те же предметы из красивого фарфора. Однако более нарядными и изысканными должны были выглядеть размещавшиеся по центру парадного стола декоративные плато, многоярусные конфектуры под сладости и фрукты, «холодильники» для охлаждения вина в бутылках, не говоря о необходимых для освещения канделябрах.
Разработку эскизов для всех трёх сервизов поручили профессору И.И. Реймерсу. Тот, гордый оказанным доверием, сразу написал программу, по которой многочисленные аллегорические композиции воспевали радости семейной жизни на лоне природы. На украшающем середину обеденного стола центральном «плато» неправильной формы расположились четыре фигурки пухлотелых путти с атрибутами охоты, рыбной ловли, пастушества и земледелия, пятый малыш шаловливо поглядывал с высоты на своих «коллег». Самый большой канделябр украшали всевозможные животные, птицы и цветы. Пары божеств, символизировавшие времена года, поддерживали короны подсвечников на четырёх меньших светильниках.
Чаши для фруктов покоились на скульптурном изображении человеческой фигуры, восседавшей то на лебеде, то на дельфине, то на черепахе, то на раке. Такой подбор существ был отнюдь не случаен. Дельфин выражал пожелание супругам как можно быстрее обзавестись наследником-«дофином». Лебедь напоминал о супружеской верности, поскольку, согласно поверьям, гордая птица не представляла себе жизни без своей «половинки». К тому же на Руси новобрачных любили ласково называть «лебедем» и «лебёдушкой». Ползущая черепаха обеспечивала супружеское счастье. Посвящённая самой богине Венере и считающаяся символом непорочности и чистоты, черепаха служила эмблемой хранительницы жилища. Она не только напоминала, что «в гостях хорошо, а дома лучше», но и заодно указывала членам семьи, как достичь в жизни успеха, поскольку самое медлительное существо мало-помалу, нога за ногу, но благодаря упорству всё-таки всползёт на самую вершину. Рак обычно выступал символом благоразумия, мудрости и рассудка, однако если он изображался ползущим, то под этой эмблемой скрывался призыв: думая о будущем, всегда помни о прошлом.
Не забыл уважаемый профессор и о двух солонках, трогательно «представляющих птичье гнездо с птичкою».
Часть уже готовых моделей, сделанных в размер будущих предметов и одобренных Придворной конторой, уже 4 ноября 1864 года рассматривали конкурсанты. Пока Реймерс продолжал работу над оставшимися эскизами, чтобы успеть, как обещал, всё завершить к 1 июня 1865 года, развернулась борьба, кто же из лучших петербургских мастеров воплотит в благородном металле задумки профессора.
Соперничали содержатель Английского магазина Роберт Кохун, владелец фабрики серебряных изделий Валентин Сазиков и хозяин фабрики артистической бронзы Феликс Шопен. Последний рассчитывал истратить на изготовление заказанных предметов 1026 фунтов серебра, причём каждый фунт стоил бы 25 рублей, а непосредственно за работу Феликс Шопен запросил, казалось бы, меньше остальных соискателей – всего лишь 17 660 рублей, однако затраты на угар обошлись бы в дополнительные 2565 рублей. Валентин Сазиков думал обойтись 840 фунтами драгоценного металла, оценив каждые 409 г уже в 26 рублей 40 копеек, зато за «фасон» запросил 21 750 рублей. Роберт Кохун обещал всего лишь через год представить готовый банкетный сервиз, на исполнение коего хватит 800 фунтов серебра стоимостью 20 тысяч рублей, да ещё 18 тысяч достаточно заплатить за работу.
Победил Английский магазин. Его работники торопились как можно скорее выполнить столь почётный сверхсрочный заказ.[610] Работа кипела вовсю, как вдруг пришло неожиданное известие: 12 апреля 1865 года в Ницце скончался двадцатидвухлетний цесаревич Николай Александрович. Перед тем, как испустить последний вздох, «Никса», как гласит предание, успел соединить руки стоявших у его смертного одра заплаканной Дагмар и любимого младшего брата Александра.
Скорбь невесты об ушедшем в иной мир милом женихе была столь велика, что удручённая горем царская семья пригласила бедняжку Дагмар погостить вместе в Югендхайме, родовом имении императрицы Марии Александровны. Там, гуляя с юной датской принцессой по парку загородной резиденции герцогов Гессен-Дармштадтских и обмениваясь с навеки потерявшей наречённого нескончаемыми воспоминаниями о безвременно усопшем любимом брате, двадцатилетний великий князь Александр, теперь уже цесаревич, лучше ощутил ум, нежность и шарм «Минни». Сердце русского престолонаследника дрогнуло. Видя взаимную симпатию молодых людей, император Александр II порадовался за сына от мысли, что задуманный династический брак всё же состоится и очаровательная датчанка станет его достойной невесткой.
Шло время, заканчивался положенный по этикету срок траура. Цесаревич всё чаще вспоминал «душку Дагмар», считая, что «вся Россия её полюбила и считает её Русскою», а 25 июня даже записал в дневник: «… молю Бога каждый день, чтобы Он устроил это дело, которое будет счастье на всю жизнь».[611]
Дело чуть было не испортила неожиданно нахлынувшая на цесаревича страстная любовь к княжне Марии Элимовне Мещерской. Александр был готов отказаться от престолонаследия, лишь бы соединиться нежными узами с любимой. О скандальных отношениях цесаревича и фрейлины какой-то писака тиснул статейку в парижской газете, что не на шутку взволновало датского короля. Царю пришлось серьёзно поговорить 19 мая 1866 года со своим неразумным отпрыском, а «виновницу» вскоре срочно отправили за границу и там поскорее выдали замуж за богача Павла Демидова, носившего титул князя Сан-Донато.
Через 10 дней, 29 мая русский кронпринц в сопровождении свиты и младшего брата Владимира отправился в Копенгаген на императорской яхте «Штандарт». Встречавший высоких гостей король Христиан IX пригласил обоих русских великих князей в свою карету, отвёзшую всех во Фреденсборг. 5 июня в датскую столицу с визитом вежливости прибыл корабль «Ослябя», на котором служил гардемарином великий князь Алексей, присоединившийся к братьям. После нескольких дней прогулок с суженой по дворцовому парку и многочисленных бесед цесаревич всё никак не мог отважиться на объяснение с «душкой Минни». Помог устроенный родными случай. 11 июня Дагмар пригласила Александра и Алексея осмотреть в сопровождении датского монарха её личные комнаты. Вскоре король с братом цесаревича спустились вниз, оставив Александра наедине с дочерью, а шаловливая двенадцатилетняя принцесса Тюра как бы нечаянно закрыла на несколько минут дверь комнаты сестры на ключ. Деться было некуда, и нерешительному молодому человеку оставалось только, набравшись храбрости, спросить милую чаровницу, сможет ли она, оставаясь верной памяти усопшего Никсы, соединившего их, а теперь молящегося на небесах об их счастье, полюбить ещё. У обоих от воспоминаний о столь недавнем прошлом брызнули слёзы. Дагмар согласилась стать женой Александра. Ко всеобщей радости долгожданная помолвка наконец-то состоялась.
Счастливый жених преподнёс невесте восхитительные подарки, ослепившие всех блеском бриллиантов, изумрудов и жемчугов. Свадьбу назначили через год, но дома Александр, горевший желанием поскорее заключить в объятия «душку Минни», упросил родителей ускорить важное событие. Августейшие сваты согласились. Теперь цесаревичу пришлось срочно обустраивать семейное гнёздышко: заново отделывать отведённый под его будущую резиденцию Аничков дворец, обставлять его модной мебелью и всем необходимым.
14/26 сентября 1866 года королевская яхта «Шлезвиг» доставила дочь Христиана IX в Кронштадт, где высокую гостью уже ожидала императорская яхта «Александрия», а для пущей помпы в акватории охранявшей столицу морской крепости будущую цесаревну встречала русская эскадра из нескольких десятков боевых кораблей. Через три дня принцесса, бурно приветствуемая толпами собравшихся жителей, торжественно въехала в золочёной карете в Северную Пальмиру. Не прошло и месяца, как уже 12 октября в Большой церкви Зимнего дворца провели обряд перехода принцессы Дагмар в православие, а на следующий день там же состоялось официальное обручение новоиспечённой русской великой княгини Марии Феодоровны с цесаревичем Александром Александровичем. Свадьбу счастливой четы отпраздновали 28 октября, а за день до радостного события торжественно освятили домовую церковь в Аничковом дворце.
Вскоре в отделанной с большими заботой и вкусом резиденции новобрачных на Невском проспекте появились созданные искусными руками работников «Английского магазина» серебряные сервизы с монограммой молодожёна. Парадный стол украшали теперь три роскошных плато и двадцать ваз для фруктов, не считая прочих, поражающих виртуозной обработкой серебра, предметов для грядущих застолий. Не менее хорош был и золочёный банкетный чайный сервиз.
Рукомойные таз с кувшином, всевозможные мыльницы, коробки, подушки для булавок и многочисленные хрустальные флаконы в драгоценной оправе, а также три зеркала, два канделябра, подсвечники составили парадный туалетный сервиз. Все мельчайшие детали были тщательно проработаны, гладко отполированные поверхности ослепительно блестели, контрастируя с бархатистостью матовых фрагментов декора.
Видевшие парадные покои владельцев Аничкова дворца с восхищением делились впечатлениями от двух буфетов: «Один из них для царской семьи и высокопоставленных особ был устроен в кабинете цесаревича и обставлен сервизом из литого золота. Другой буфет, большой, блестел не менее ярко своими серебряными сервизами, отличавшимися огромными размерами и исполненными Английским магазином с рисунков профессора Реймерса».[612]
Увы, всё это великолепие безжалостно было распродано после Октябрьской революции. Лишь в коллекции одного из самых знаменитых антикварных магазинов Нью-Йорка сохранился самовар из золочёного серебра, невольно удивляющий как своим туловом в виде какого-то экзотического плода, так и ручками, отлитыми наподобие древовидных побегов фантастического дерева. Не менее хороши по проработке причудливые, отлично прочеканенные фрукты и листья, украшающие основание и крышку дивного предмета, некогда входившего в чайный золочёный сервиз.[613] Какое-то время фирму возглавлял купец первой гильдии Генри Плинке. Сам же Английский магазин существовал до 1910-х годов.[614]
Попытка ограбления «Английского магазина»
Как и всякий богатый магазин, «Английский» привлекал взоры и мошенников. В 1833 году крупное ограбление совершил некий офицер Бауфаль, курляндский дворянин. Явившись в пышном мундире в магазин Никольса и Плинке, где он выдал себя за графа Ламсдорфа, аферист набрал тысячи на четыре предметов якобы для своей больной жены и попросил прислать их вместе с приказчиком к нему в номера трактира «Лондон». Когда же служащий фирмы явился, мнимый граф под предлогом, что он покажет эти изделия своей серьёзно хворающей, а оттого не смогшей встать с постели супруге, удалился в спальню (куда, как сказала бывшая в сговоре с мошенником прислуга, посторонним входить было нельзя) и… исчез вместе с украшениями и служанкой. Подождав с час, приказчик-англичанин понял, что его обманули, отправился к хозяину трактира, но тот ничего не знал о постояльце, оставившем лишь задаток и пошедшем за «нечаянно забытым паспортом».
Через два месяца вор попробовал повторить свою проделку с русским купцом, торгующим оружием, но на сей раз номер не прошёл, хозяин оказался догадливее, и незадачливого похитителя схватили. Мошенника сопроводили в Курляндию, где тамошнее дворянство осудило его на тюремное заключение. Однако по повелению Николая I, в апреле 1838 года Бауфаля отправили рядовым на Кавказ, чтобы предоставить возможность дворянину, запятнавшему своё имя недостойными офицера поступками, смыть с себя кровью бесчестие.[615]
Увы, во все времена драгоценные камни всегда притягивали воров как магнитом. Во Франции, в 1830 году из галереи Лувра украли самоцветов и украшений на полтора миллиона, а через восемнадцать лет во время другой революции, воспользовавшись неразберихой, ограбили не только Тюильри и Пале Рояль, но хорошенько похозяйничали в доме Ротшильда и других богачей.[616] Однако это всё «мелочи» по сравнению с деяниями непревзойдённого по нахальству мошенника Чивиниса. Этот уроженец греческого острова Корфу явился в 1820 году в Стамбуле к русскому послу барону Строганову, якобы «горя» желанием быть полезным. Вкрадчивое обращение и прекрасное образование красавца-грека так понравились высокопоставленному российскому чиновнику что тот не только дал благожелательные рекомендации, но и посоветовал отправиться в Петербург и там вступить в военную службу. Тогда все были увлечены Грецией и сочувствовали её жителям, мечтающим освободиться из-под власти турецкого султана. Потому-то Чивинис вскоре стал офицером расквартированного в Гатчине Кирасирского полка Его Величества. Оглядевшись и обзаведясь нужными знакомствами, корфиот прознал, что в Москве живёт дряхлый 80-летний старик-грек «Зой Павлыч» Зосима, прославившийся в Европе редкостным собранием всевозможных сокровищ. Но как подобраться к этим богатствам?
Чивинис, продумав план действий и обзаведясь рекомендательными письмами, взял месячный отпуск и прибыл в 1824 году в Белокаменную и, остановившись в трактире, сделал ряд визитов в лучшие дома знати старой столицы, не забыв представиться даже главнокомандующему. Москвичи были без ума от обаятельного и любезного красавца-офицера и приглашали его на балы и в собрания избранного общества. Ловкому кирасиру удалось там сблизиться с греками, которым он наплёл, что якобы имеет тайное поручение от самого государя Александра I о сборе пожертвований на восстановление родимой отчизны, а в подтверждение демонстрировал собственноручный рескрипт самодержца. Земляки помогли «посланцу самодержца» сблизиться с миллионщиком Зосимой. Престарелый грек, страстный ревнитель славы Эллады и меценат-покровитель классического образования, будучи рьяным патриотом, как всегда с радостью передал на нужды родины 300 тысяч ломбардными билетами. Через несколько дней Чивинис привёз Зосиме благодарственный рескрипт, содержащий не только похвалы ревности и усердию старика в помощи родной земле, но и подписанный самим императором Александром I. Польщённый Зой Павлович, чтобы хоть как-то отблагодарить столь важную столичную персону, предложил обходительному кирасиру погостить под его кровом.
Прошло совсем немного времени, и однажды в дом Зосимы в Греческом монастыре на Никольской приехал адъютант главнокомандующего с письмом императрицы-матери Марии Феодоровны. Вдова Павла I, гарантируя возврат, желала видеть предметы коллекции Зосимы в Петербурге, чтобы показать драгоценные раритеты заодно и своей любимой дочери Марии, приехавшей ненадолго из Веймара. Зой Павлович было засомневался, но коварный Чивинис посоветовал старику не противиться воле государыни, а для верности непременно составить опись посылаемых вещей и удостоверить документ подписями известных московских сановников.
Высокопоставленные вельможи пожаловали через день в полной уверенности, что должны, как их уверил Чивинис, стать свидетелями передачи ему хозяином наследства. В предвкушении роскошного завтрака они рассматривали разложенные на столе сокровища, сличая раритеты со сведениями описи и полагая, что старец решил угостить гостей ещё и созерцанием своих богатств. После трапезы столичный офицер, пользуясь фактическим незнанием Зоем Павловичем русского языка, подал на подпись духовное завещание Зосимы, начертанное на бумаге того же формата, что и опись. Важные персоны даже ничего не заподозрили. Назавтра «адъютант» (а на самом деле лакей Чивиниса) под расписку забрал ящик с подготовленными вещами и, как выяснилось позже, сбежал в Турцию. Сам же аферист под предлогом окончания отпуска возвратился в полк, женился на миленькой воспитаннице Гатчинского института, неожиданно для сотоварищей купил дом, завёл богатую обстановку, приобрёл великолепных верховых лошадей, своей статью вызывающих зависть у знатоков.
Тем бы всё и закончилось, если бы не парочка путешествующих англичан, добравшихся до Москвы. Любознательные джентльмены, осмотрев все достойные внимания достопримечательности, вознамерились ознакомиться и с собранием Зосимы, поскольку тот всегда охотно показывал свои сокровища всем желающим. Неожиданно коллекционер сказал, что вещи до сих пор находятся в Петербурге у вдовствующей императрицы. Недоумевающее начальство Белокаменной прислало к Зою Павловичу полицеймейстера, который сразу определил письма за подписью Александра I и Марии Феодоровны фальшивыми. Дело дошло до государя, пославшего своего флигель-адъютанта Александра Ивановича Германа немедленно расследовать скандальное происшествие. Московские вельможи подтвердили, что пропавшие вещи они видели, причём скрепили своими подписями духовную волю Зосимы, а вовсе не опись его сокровищ. Несчастный же старик клялся, что ни сном ни духом не думал делать Чивиниса своим наследником.
Преступника бросили в крепость, обманную духовную уничтожили, а все богатства (кроме растраченных аферистом 80 тысяч) конфисковали и вернули так жестоко пострадавшему Зою Павловичу. Приговор был бы более суровым, но Мария Феодоровна, хорошо знавшая невинную юную институтку, умолила августейшего сына ограничиться высылкой Чивиниса за границу.
Бедному Зосиме, сломленному столь вероломным обманом и утратой редкостей, составлявших всю его отраду и счастье, оставалось утешаться своими лучшими сокровищами, по счастью, не отправленными в далёкий Петербург: огромным коралловым крестом и необыкновенной величины жемчужиной. Идеально сферический перл в 28 карат, называемый «Пеллегриной»-«Странницей», поскольку от малейшего толчка катился по поверхности, казался прозрачным от блеска и радужных переливов. Когда-то коллекционер показывал его, постепенно вынимая из трёх коробочек, и затем заботливо помещал драгоценный «шарик» на лист белой бумаги. Теперь старик обычно держал чудную жемчужину за десной во рту и никому уже её больше никогда не показывал. Прочие же сокровища по завещанию Зосимы после его смерти в 1827 году земляки отправили в Афины для будущего греческого музея.[617] Кстати, П. Бартенев, издатель журнала «Русский архив», в примечании к этой публикации указывает, что о жемчужине Зосимы говорится в книге Фишера фон Вальдгейма.[618]
В истории прославились две редкостные жемчужины с очень похожими названиями – «Перегрина» и «Пеллегрина», переводящимися в обоих случаях с итальянского как «странница, пилигримка», из-за чего возникала путаница. Правда, слово «Перегрина» имеет и другое значение: «исключительная, особенная, редкая».[619] Огромную, белоснежную, размером с голубиное яйцо, а весом в 536 гран (1 жемчужный гран = 0,05 г),[620] к тому же идеальной овальной формы «Перегрину», найденную в начале XVI века то ли в Панаме, то ли в Венесуэле, испанский гранд Дон Диего де Темес почтительно подарил в 1579 году своему повелителю – королю Филиппу II, а тот – своей супруге, английской королеве Марии I Тюдор. После смерти прославившейся своими жестокими расправами с протестантами ярой католички «Кровавой Мэри», несравненный, воспетый Сервантесом и Лопе да Вега, перл вернулся в Испанию, дабы украшать венец Девы Марии, а подчас и земных монархинь в особо торжественных случаях. После своего недолгого сидения на мадридском престоле Жозеф Бонапарт увёз в 1813 году раритет во Францию и презентовал своей племяннице Гортензии Богарне. Потом «Перегрина» оказалась у герцога Аберкорна, причём одно время из-за слишком свободной оправы восхитительная жемчужина, оправдывая своё имя, терялась, вдруг неожиданно обнаруживаясь, как будто после каких-то мистических странствований, то в Букингемском дворце, то в Виндзорском замке. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке в 1969 году «исключительный» перл достался за 37 тыс. долларов кинодиве Элизабет Тейлор, прославившейся исполнением роли древнеегипетской царицы Клеопатры, которая, как помнит любезный читатель, в 66 году до н. э. ради любви к римскому полководцу Марку Антонию однажды прямо на пиру, вынув из серьги громадную жемчужину, бросила её в бокал с уксусом, чтобы растворить бесценный камень (хотя такая операция требует не только измельчения перла в порошок, но ещё и немалого времени на сам процесс), и затем, не поморщившись, выпила драгоценный напиток за здравие возлюбленного. Вторая, оставшаяся невредимой, серьга после смерти последней правительницы Египта попала в Рим, где дивный перл разрезали пополам, чтобы получившимися подвесками украсить статую богини Венеры – покровительницы рода Юлия Цезаря. Поговаривали, что якобы стоимость сих жемчужин составляла десятиметровую связку древнеримских серебряных монет-сестерциев.
История другой жемчужины, массой 133,16 гран, из-за идеальной сферической формы и ослепительной белизны названной «Ла Пеллегриной», найденной у берегов Индии, также начиналась в Испании, но она ещё более запутанна. «Королева жемчуга» послужила отцовским свадебным подарком короля Филиппа IV дочери, инфанте Марии-Терезии, выходившей замуж за Людовика XIV. Непревзойдённая жемчужина более века сберегалась в сокровищнице французской короны, ограбленной в 1792 году. Потом дивный перл попал к английскому то ли адмиралу, то ли капитану купеческого корабля, возвращавшемуся из Индии в Ливорно, и в этом итальянском порту куплен греком Зосимой, уроженцем Янины. Есть упоминания, что «Московская жемчужина», или «Жемчужина Зосимы», после смерти старика принадлежала какому-то богатому торговцу, около 1840 года жившему в московском монастыре. Через какое-то время её купила за 200 тысяч рублей княгиня Татьяна Васильевна Юсупова.
А через полвека к «Пеллегрине» присоединилась похожая на громадное яйцо, переливающееся радужными сполохами, жемчужина La Régente, сверху слегка прикрытая ослепительно сверкающим двойным куполообразным листочком из многочисленных бриллиантов. Волшебной красоты перл, весивший 302,78 грана, также имел богатую историю. В 1811 году французский император Наполеон купил восхитительную жемчужину за 40 тысяч франков, чтобы та украсила новую диадему, созданную для Марии-Луизы, чтобы выразить молоденькой супруге благодарность и признательность за появление на свет долгожданного сына, получившего сразу титул Римского короля. Поход Бонапарта на Россию кончился крахом, на французском престоле опять, правда, ненадолго, оказались Бурбоны. Их сменила Орлеанская династия, оставившая трон в результате революции 1848 года. Выборным президентом Французской республики неожиданно оказался хитростью победивший соперников Шарль-Луи-Бонапарт, сын короля Голландии Людовика и Гортензии Богарне. Но честолюбивый политик желал неограниченной власти, и через четыре года президент превратился в императора Наполеона III. По страстной любви племянник Наполеона I в 1853 года женился на испанской аристократке Евгении Монтихо. Ради желанной возлюбленной новый император не пожалел диадемы Марии-Луизы. Теперь несравненная жемчужина «Регентша» оказалась главным акцентом в роскошном корсажном украшении, созданном придворным ювелиром Лемонье к свадьбе влюблённых. Однако не прошло и двух десятков лет, как Фортуна отвернулась от Наполеона III, попавшего в плен при Седане. Наступили годы очередной Французской республики. Её правительство посчитало необходимым в 1887 году продать с аукциона «никому не нужные» драгоценности Французской Короны, оставив лишь исторические шедевры. Карлу Фаберже удалось тогда через парижского посредника за 176 тысяч франков приобрести дивное украшение императрицы Евгении, а затем перепродать изумительное сокровище княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой. Красавица обожала появляться в свете, горделиво демонстрируя жемчужину «Регентша», свисающую с небрежно перекинутой через левое плечо наподобие перевязи длинной жемчужной цепи-«сотуара». Такой княгиню запечатлел своей быстрой кистью Франсуа Фламенг (см. рис. 26 вклейки)[621].
После революционных смут следы обеих чудесных юсуповских жемчужин на время затерялись. И вдруг раритетная «Пеллегрина» появилась в 1935 году на выставке Русского искусства в Лондоне, а через полвека, в 1987 году, перешла на аукционе «Кристи» к какому-то богатею за баснословные 463 800 долларов.[622] Вскоре, 12 мая 1988 года, на торгах того же аукционного дома в Женеве покупатели активно оспаривали друг у друга дальнейшую судьбу знаменитой жемчужины «Регентша», неизвестно где хранившейся семь десятков лет.[623]
Глава X Клан выдающихся мастеров и тружеников семейства Фаберже
Появлению в России самой крупной и значительной ювелирной фирмы некогда, как ни странно, поспособствовал сам «король-солнце» Людовик XIV. Замаливая грехи юности, сей славный французский монарх отменил в 1685 году подписанный его дедом Генрихом IV в 1598 году Нантский эдикт об уравнении в правах католиков и гугенотов. Отныне сторонников «кальвинисткой ереси» обязывали под страхом смертной казни отказаться от веры отцов и вернуться в лоно «материнской» католической церкви. Среди тех, кто покинул ставшую мачехой родину и отправился искать пристанища по свету, были и члены старинного пикардийского рода Фабри (Фаври). Беглецы из Северной Франции осели вначале недалеко от Штеттина, в Шведте-на-Одере. Приспосабливаясь к нравам и языку новой отчизны, они сменили фамилию на Фаберг или Фабергер. То ли в 1794[624], то ли в 1800 году в поисках лучшей доли плотник (или столяр) Петер-Карл Фаберг перебрался из Восточной Германии в Лифляндскую губернию Российской империи и остановился в небольшом городке, тогда называвшемся Пернов (Пернау). Молодой ремесленник вскоре женился на Марии-Луизе Эльснер, дочери кожевника из латышского местечка Вайха.[625]
18 февраля (2 марта нов. ст.) 1814 года у супружеской четы родился сын, названный любящими родителями Петером-Густавом. У повзрослевшего отпрыска уважаемой семьи не получилось найти применение своим силам поблизости от родимого дома, и тогда Густав подался около 1830 года сначала в Ригу, а затем отправился в далёкий Петербург. Провинциал, оказавшись в столице империи, решил овладеть златокузнечным делом, что при удаче могло бы помочь ему быстро разбогатеть. Десяток лет ушёл на обучение избранному ремеслу у петербургских ювелиров. Азы профессии Густав постиг у ювелира Андреаса-Фердинанда Шпигеля, а затем ему повезло стать подмастерьем в мастерской самого придворного ювелира Иоганна-Вильгельма Кейбеля.
В 1841 году «Петер-Густав Фаберг, Фаберже тож»[626] наконец-то добился своей цели: он получил звание золотых дел мастера и ювелира и вступил в Русский цех, что позволило ему 22 октября 1842 года[627] открыть в подвальном помещении дома Жако маленький магазин с мастерской. Вскоре начинающему златокузнецу, чья фамилия отныне звучала на французский лад – Фаберже, удалось перевести свой магазин на первый этаж того же дома, в помещение, располагавшееся на углу Большой Морской улицы, 11, и Кирпичного переулка.[628] Теперь можно было и жениться. В том же счастливом для Густава Фаберже году он сочетался узами брака с Шарлоттой Карловной Юнгштедт, дочерью живописца, чьи предки жили в Дании и Швеции.
Вначале было трудно. Чтобы сколотить хоть какой-то капитал, пришлось поработать на более удачливых собратьев по профессии Иоганна-Александра Гунста и Иоганна Экхардта. Несколько слов об этих мастерах. Мастер Иоганн Экхард (Эккгардт) ещё в 1840 году заимел не только мастерскую, но и магазин на Большой Морской улице, в доме № 9. Дело процветало. Ювелир поручал выполнение некоторых заказов хотя и начинающему, однако весьма ответственно относящемуся к порученной работе Густаву Фаберже. Скончался Иоганн Экхардт, не оставив прямых наследников, и после его смерти магазин перешёл к вюртембергскому подданному Христиану Бюлеру, торговавшему золотыми вещами и поставлявшему в 1870-х годах ювелирные изделия ко Двору. Однако уже в 1883–1886 годах там продавала всевозможные бриллиантовые вещи, вероятно, его вдова Эмилия-София Бюлер, также верноподданная вюртембергского властителя.[629]
Захиревший было магазин стал пользоваться популярностью при очередном хозяине – Карле Иоганновиче (Карле-Иоганне) Боке (1851—?). В мастерской Бока теперь работало от 20 до 25 сотрудников, не считая 3–5 учеников. Кстати, именно здесь в течение трёх лет трудился, успешно обучаясь золотых дел ремеслу, талантливый крестьянин Смоленской губернии Фёдор Алексеевич Афанасьев, получивший 7 февраля 1907 года аттестат от мастера-хозяина на выдачу диплома подмастерья. Вскоре молодой специалист стал не только мастером, сотрудничавшим с Фаберже, но в течение четырёх лет, вплоть до революции 1917 года, находился на посту заведующего петроградским ювелирным отделением прославленной фирмы.[630]
Производимые мастерской ювелирные изделия оказались столь хороши, что в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде фирму купца 2-й гильдии Карла Иоганновича Бока наградили золотой медалью. Такой же успех ждал владельца и на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Эти триумфальные победы на престижных конкурсах принесли в 1901 году Карлу Боку звание Поставщика Высочайшего Двора.
За год до этого события в мастерской Карла Бока по рисунку академика Адольфа Шарлеманя отлили из серебра ажурное изображение Большого государственного герба, пожалованное самим царствующим императором Николаем Александровичем в дар департаменту герольдии. Различные эмали точно передавали малейшие нюансы цветовых сочетаний, утверждённых в 1882 году императором Александром III. Размеры же символа Российской империи, покоящегося на белом бархате под овальным, окантованным бронзовым бортиком, выпуклым стеклом в раме красного дерева, достигали лишь 24×21 см. И на такой небольшой площади сотрудники Карла Бока ухитрились разместить множество обязательных деталей. В центре на золотом щите раскинулся чёрный двуглавый орёл с пышным оперением, крепко сжимающий в когтях скипетр и державу, увенчанный тремя коронами, сплошь покрытыми радужно сверкающими алмазами. Над щитом красуется стальной шлем Св. Александра Невского с пышным чёрно-золотым намётом. По бокам стоят «щитодержатели» – архангел Гавриил с крестом и предводитель небесного воинства архангел Михаил. В композицию включена усеянная двуглавыми орлами и дополненная надписью: «Съ нами Богъ» сень, как бы подложенная белоснежными шкурками горностая с чёрными хвостиками, а венчает её бриллиантовая императорская корона с напоминающей капельку крови алой шпинелью под крестиком. Тут же и золотая хоругвь со средним государственным гербом, а по обе стороны от неё – шесть щитов с соединёнными гербами княжеств и областей земель Великороссийских, Юго-Западных, Белорусских и Литовских, Прибалтийских, Северо-Восточных, а также Туркестана.
В венке, сплетённом из лавровых и дубовых ветвей и окружившем главный щит с сенью, аккуратно разместились под соответствующими коронами восемь титульных гербов: объединённые на одном щитке гербы Великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, ставших основой русского государства, их окружают щитки с гербами позже присоединённых Казанского, Астраханского, Польского, Сибирского, Херсонеско-Таврического и Грузинского царств и великого княжества Финляндского. Внизу, в месте соединения ветвей, помещён утверждённый ещё 8 декабря 1856 года Родовой герб его императорского величества, образованный гербами фамилии Романовых и рода Шлезвиг-Голштинского. Хотя в высоту каждый из титульных гербов не дотягивает до трёх сантиметров, миниатюрные геральдические фигуры на них так тщательно исполнены, что легко различимы малейшие детали. Карл Бок мог гордиться столь точно и изящно сделанной работой с восхитительной чеканкой и тончайшей гравировкой.[631]
Разборчивые и понимающие толк в вещах покупатели хорошо знали и охотно посещали не только его магазин в Петербурге, но и другой, в Первопрестольной, расположившийся в доме № 6 на Кузнецком мосту. Да и коллеги по ремеслу настолько ценили Карла Бока как за справедливость и независимость суждений, так и за немалые знания тонкостей ювелирного дела, что в 1911 году избрали его депутатом от купеческого сословия по надзору за производством золотых и серебряных изделий.
Достойным наследником семейного дела стал Александр Карлович Бок. Но всё вскоре разрушила революция. Однако знания и умение, переданные отцом сыну, пригодились. Александру Карловичу Боку (не по своей воле) пришлось совместно с другими экспертами, под руководством минералога Александра Евгеньевича Ферсмана, разбирать русские коронные драгоценности, трудясь бок о бок с опытным Агафоном Карловичем Фаберже, внуком Густава Петровича Фаберже и экспертом Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца.[632]
Мастерская Густава Фаберже
Основателю фирмы Фаберже хотя и не так скоро, как хотелось бы, но почти через полтора десятилетия удалось всё же уладить денежные проблемы. Отныне Густав Петрович, значительно расширив мастерскую, смог нанимать первоклассных специалистов. Не позже 1854 года «бриллиантовых и золотых дел мастер Густав Фаберже» из дома № 11 перебрался в здание напротив, только что выстроенное домовладелицей Руадзе (генеральской дочерью и супругой титулярного советника, бывшего смотрителем зданий Императорских театров) и числившееся на той же «улице ювелиров» под № 16, заняв там гораздо более удобные и большие по объёму помещения.[633] Позднее этот дом на Большой Морской перешёл во владение к Кононову, а затем его купил полковник Н.Н. Гартонг, шталмейстер Высочайшего Двора. Магазин же преуспевающего ювелира до 1867 года находился в соседнем, принадлежавшем академику-ботанику Михаилу Степановичу Воронину[634] здании, под № 18.[635]
Достичь такого положения было совсем не лёгко. На Большой Морской царила жесточайшая конкуренция ювелиров, хотя внешне всё обстояло весьма благопристойно. В 1862 году 25 бриллиантщиков и золотых дел мастеров (из 193, работавших в Петербурге) проживали на этой улице, причём более половины из них, чтобы оказаться поближе к Невскому проспекту, располагали свои мастерские и магазины в домах, выходивших одновременно и на Кирпичный переулок.[636]
Густав Фаберже производил весьма традиционные и ординарные, но тем не менее пользующиеся спросом «модные в то время довольно неуклюжие золотые браслеты, брошки и медальоны в виде ремней с пряжками, более или менее искусно комбинированные. Предметы эти украшались камнями или эмалями».[637] Однако из ряда подобных работ изделия его мастерской отличались особой тщательностью выполнения.
К счастью, кое-что уцелело от разрушительного действия времени. В золотом браслете две змейки, устремившись навстречу друг другу, переплелись, пронзая своими гибкими телами кружки-шайбы, покрытые оливково-зелёной финифтью, красиво контрастирующей с сиреневато-красными пятнами аметистов.[638]
Причудливо изогнулась и сверкающая иссиня-чёрной эмалью змейка с алмазными глазками, служащая навершием золотой булавки, исполненной Августом-Вильгельмом Хольмстрёмом,[639] одним из тех ювелиров, кто начал ещё в 1857 году (да ещё сразу старшим мастером) работать на Густава Фаберже, но чей потенциал в полную силу раскрылся при сыне своего патрона.
Среди работников Густава Фаберже был и ставший его приятелем Петер-Хискиас Пёндин (? – 1881), уроженец городка Сант-Михеля в Финляндии. Патрон настолько доверял задушевному другу и партнёру, что в 1860 году, отправляясь в долгий европейский вояж, оставил на него и управляющего Валерия Андреевича Зайончковского все заботы о мастерской. Не кто иной, как Хискиас Пёндин, не стесняясь в случае надобности пускать в ход ремешок, всесторонне и добросовестно обучил началам ремесла хозяйского сына Карла, а позже, когда Густав Фаберже в 1872 году уехал в Дрезден, стал подлинной опорой и надёжным помощником воспитанника[640], вскоре прославившего свою фамилию.
Петер-Карл Фаберже
Карл Густавович Фаберже родился в Петербурге 30 мая 1846 года. Окрестили новорождённого Петера-Карла уже на следующий день в лютеранской церкви Св. Анны, однако с детства называли мальчика только Карлом. Долгожданный отпрыск столичного златокузнеца, освоив начала ремесла в стенах отцовской мастерской и поучившись в столичной немецкой школе «Анненшуле», блестяще дополнил художественное и коммерческое образование за границей, когда отец взял его с собой в Дрезден. В столице Саксонии Карл Фаберже, подтверждая лютеранское вероисповедание, прошёл в 1861 году обряд конфирмации в Дрезденской Кройцкирхе. Талантливый юноша, немало попутешествовав по европейским городам и музеям в компании с наследником фирмы Бутца, не теряя времени, постарался поучиться у лучших ювелиров во Франкфурте, Париже и Лондоне. Вернувшись в Петербург в 1864 году, Карл стал работать в отцовской мастерской, а в 1872 году (по другим источникам – на два года раньше)[641] семейное дело полностью перешло в его руки. Уже в 1867 году, достигнув совершеннолетия, 21-летний ювелир числился членом Купеческой гильдии. А годом раньше, чтобы приблизиться к получению заказов Двора, он предложил Императорскому Кабинету свои услуги.
В течение почти двадцати последующих лет Карл Густавович безвозмездно корпел в Эрмитаже над реставрацией уникальных античных ювелирных изделий, найденных в Причерноморье на территории древнего Боспорского царства и в прославившихся на весь мир скифских курганах. Эти находки Императорская Археологическая комиссия сочла достойными включения в коллекцию крупнейшего музея мира. Каким-то «шестым чувством» мастер собирал разрозненные фрагменты и детали в цельное, чарующее красотой и изысканностью, украшение. В то время как ювелиры в странах Западной Европы увлекались повторением этрусских вещей, в России Карл Фаберже бился над составами сплавов золота и серебра и над секретами технологий, применявшихся древнегреческими и особенно фракийскими мастерами, причём особое его внимание привлекали работы, относившиеся к пику развития античного ювелирного искусства – IV веку до нашей эры.[642]
И перестаёт быть столь уж невероятной легендой эрмитажное предание: Карл Фаберже, которого современники недаром называли «Челлини нашего времени», почти повторил знаменитые, прославленные виртуозным мастерством исполнения феодосийские серьги. Ему удалось сделать и изящные многолепестковые цветочки, и целую скульптурную группу: крылатую богиню победы Нику на колеснице, запряжённой четвёркой коней, и бегущего рядом воина, сплёл он и изящные цепочки, до сих пор приводящие в недоумение и отчаяние даже современных ювелиров.
Но не далось ему повторение зерни на «лунницах». Под сильной лупой становилось заметно, что каждое золотое «зёрнышко», приплавленное к основе, состояло из микроскопических четырёх шариков, образующих крошечный ромб. Карл Фаберже, как гласит устная молва, раскрыл секрет получения столь миниатюрных капелек, хитро оплавив мелко нарезанную тонюсенькую проволоку в древесном угле, но вот постичь состав припоя ему всё-таки не довелось: ему удавалось припаять клуннице только три «зёрнышка», когда же он пытался напаять четвёртое, всё сливалось в одну каплю…
А эту тайну учёные смогли раскрыть только спустя полтора столетия. Хитрость античных мастеров, оказывается, заключалась в малахитовой крошке, которой посыпали набранный узор, зафиксированный на основе. При сильном нагреве вода испарялась, углекислый газ уходил в воздух, а медь восстанавливалась до металлической и диффундировала в золото, соединяя с ним крошечные детали-шарики.
Наряду с подобными, требующими виртуознейшего мастерства, копиями античных шедевров, Фаберже приходилось делать и совершенно курьёзные предметы, от которых нельзя было отказаться, так как заказы исходили от слишком высокопоставленных особ. После одной из хирургических операций супруга великого князя Константина Николаевича самолично вручила на память об исцелении в патронируемом ею госпитале пострадавшему в войне за освобождение Болгарии от османского ига «пулю, отделанную золотом. В части, свободной от осколков кости, свинцовая поверхность была перетянута золотой полоской в виде ленточки, на которой вырезано: „1879 г. апреля 11 пуля эта, в присутствии великой княгини Александры Иосифовны, извлечена профессором Склифосовским из ноги раненного на Шипке 13 августа 1877 года майора Н.К. Андреевского“». Эта история позволила великосветским шутникам не без иронии острить: «Фаберже прекрасно отделал пулю золотом, но как жаль, что украшает её кость простая, а не слоновая».[643]
К сожалению, пока неизвестна ни одна работа самого Карла Фаберже из тех, что создавались им в то время, когда молодой ювелир только унаследовал мастерскую отца. Подлинная слава пришла к нему через десятилетия, когда, будучи слишком загружен административной работой, общением с заказчиками, с мастерами, с художниками, он практически лишился возможности творить собственными руками. В своём магазине Карл Густавович завёл правило представлять публике лишь самые модные вещи и новинки, непроданные же изделия часто пересматривались и безжалостно отправлялись на переделку.
Ещё работая в мастерской отца, Карл Фаберже понял, что одному ему, даже получая придворные заказы, будет трудно выдержать конкуренцию с крупными мануфактурными предприятиями. В то же время его зоркий глаз и художественное чутьё подсказали ему, кто из петербургских, особенно начинающих, мастеров наиболее талантлив, он сблизился с ними и предложил объединиться. Вначале, в 1866 году, это были начавшие трудиться ещё на мастерскую Густава Фаберже Август Хольмстрём и Вильгельм-Карл Реймер, кузен из Пернова, а через два года к ним присоединился Эрик Коллин.
Подросший брат Карла, Агафон-Теодор Густавович Фаберже (1862–1895), получивший блестящее образование в Дрездене, сразу принял посильное участие в работе мастерской. Поскольку оба брата хорошо изучили работы ювелиров-предшественников, то создавали свои произведения в подходящих исторических стилях. Традиция нюхать табак ушла в прошлое, однако в похожих на табакерки коробочках теперь хранили папиросы или туалетные принадлежности. Зато братья Фаберже стали превращать в произведения искусства всевозможные нужные в обиходе вещи: настольные часы, чернильницы, пепельницы, электрические звонки и тому подобные предметы. Это имело большой успех у публики, так что пришлось расширять производство, выделив в особую мастерскую исполнение золотых изделий, а затем то же сделать для серебряных.
Главный художник фирмы Франсуа Бирбаум вспоминал: «Заваленные работой, братья Фаберже не в состоянии были вести хозяйство мастерских, а потому решили создать автономные мастерские, владельцы которых лишь обязывались работать по рисункам и моделям фирмы и исключительно для неё. <…> Каждой из них был выделен определенный род изделий, и в них подмастерья специализировались на определённом роде работы. Изделия всех этих мастерских носят клеймо мастера и, когда место это позволяет, то и клеймо фирмы».[644]
К 1881 году компаньоны образовали фирму «Карл Фаберже». Она впервые вышла на широкую публику приняв участие во Всероссийской мануфактурной выставке 1882 года в Москве, где её ожидал подлинный успех, подкреплённый золотой медалью. Такой же фурор она произвела, получив аналогичные награды и на художественно-промышленных выставках за рубежом: в 1885 году в Нюрнберге и в 1888 году в Копенгагене.
Поскольку Карл Фаберже уже более десятилетия поставлял свои изделия императорскому Двору и за это время благодаря их высокому качеству не имел ни одной рекламации, то по заключению министра двора, ювелир, как было принято, в 1885 году получил звание придворного поставщика. Отныне на торговой марке Фаберже помимо наименования фирмы и даты её основания появились государственный герб, а также отметки о наградах на различных престижных выставках. Перед Фаберже теперь открылись возможности завоевания зарубежного рынка, получения почётных и выгодных заказов, особенно от императорского Двора, связанных с созданием вещей, предназначавшихся для дипломатических, церемониальных и жалованных подарков.
Дело его ширилось и процветало, и всё больше покупателей появлялось в магазине в доме № 16 на той же Большой Морской, куда их влекла вывеска «К. Фаберже» вокруг чугунного зонтика на колонках перед входом.[645] По великосветскому Петербургу быстро распространилась весть, что сам император Александр III лично заказывал Карлу Густавовичу ставшие ежегодной традицией яйца-«сюрпризы», служившие подарками венценосца обожаемой августейшей супруге к Пасхе. Всё больше различных вещей поставляется к Высочайшему Двору. Слава ювелира растёт, и теперь нет отбоя не только от богатых отечественных, но и от зарубежных клиентов. Посыпались и награды: Карл Фаберже становится кавалером орденов Св. Станислава III и II степени и Св. Анны III степени, что принесло ему в ноябре 1890 года потомственное почётное гражданство, а в августе 1890 года он получил престижную должность оценщика Кабинета.
Конечно, это место предполагало и много рутинной работы, включая и безвозмездную чистку ризы на иконе Спасителя в Первом дворце Петра I, «Красных хоромах» или Домике Петра I, традиционно считавшуюся почётной обязанностью занявшего столь желанный пост. Однако открывавшиеся перспективы для творчества и карьеры перевешивали: это назначение позволило Фаберже не только видеть лучшие творения старых и современных мастеров, представленные в Камеральной кладовой, но и ознакомиться с личными драгоценностями царского семейства, с коронными вещами и камнями, а также с сокровищами Императорского Эрмитажа.
В 1887 году открывается филиал фирмы Фаберже в Москве. Позднее, в 1900 году, возникает филиал в Одессе, в 1903 году – в Лондоне, а в 1906 году – в Киеве.
Но жизнь есть жизнь, и успешного предпринимателя, обласканного Двором, постигают тяжёлые утраты. В 1893 году в Дрездене умирает отец и основатель фирмы Густав Фаберже, а в марте 1895 – младший брат Агафон, талантливейший художник и механик. Он не выдержал слишком напряжённой работы, да и петербургский климат не способствовал здоровью. Агафон Петрович заболел чахоткой, отправившей его в возрасте Христа на тот свет. Подхоронили его на Смоленском лютеранском кладбище в могилу племянника отца, Вильгельма-Карла Реймера, умершего в 1873 году и сотрудничавшего с братьями Фаберже владельца ювелирной мастерской, размещавшейся в доме № 11 по Большой Морской улице.[646]
Смерть младшего брата была очень тяжелой потерей. Два года проработавший с ним бок о бок Франсуа Бирбаум тепло вспоминал коллегу, его внимание к приёмам старых мастеров и в то же время его неуёмные поиски нового, сочетавшиеся с поразительной работоспособностью и редкой требовательностью к себе: «Агафон Густавович, по своей натуре более живой и впечатлительный, искал вдохновения всюду, в произведениях старины, в восточных стилях, ещё мало изученных в то время, и в окружающей природе. Сохранившиеся его рисунки говорят о постоянной работе, о непрерывных исканиях, <…> по десяти и более вариантов на один и тот же мотив. Как бы проста ни была задуманная вещь, он её рассматривал со всех точек зрения и не приступал к её исполнению, пока не исчерпал всех возможностей и не рассчитал все эффекты. <…> В ювелирных работах он редко довольствовался рисунком, но лепил восковую макетку и распределял на ней нужные камни, заботясь проявить красоту каждого из них. Крупные камни ждали неделями рисунок своих оправ. Надо было дать каждому камню наиболее для него выгодное назначение, не безразлично, будет ли он вставлен в брошку, кольцо или диадему; в одном предмете он может пройти и незамеченным, в другом – наоборот, все его качества, будут выделены. Затем нужно решить вопрос его „антуража" то есть чем он будет окружён. „Антураж" должен не умалять его качества, а выделять их, скрывая в то же время возможные его недостатки. Наконец, нужно придать ему то положение, при котором он отбрасывает наибольшее количество лучей. <…> Само собой разумеется, что на исполнение обращалось столько же внимания, нередко вещь за ничтожный недостаток браковалась и отправлялась в тигель, то есть в плавильный горшок».[647]
Достаточно взглянуть на исполненный в 1888 году из коронных камней бирюзовый гарнитур, когда-то украшавший обожаемую супругу Александра III, чтобы убедиться в справедливости этих слов. Даже чёрно-белая фотография передаёт изысканность рисунка диадемы и броши, великолепного подбора нежно-голубых камней, обрамлённых сверкающими бриллиантовыми полосками, гармонично дополненными золотыми листиками. Как было характерно для конца XIX века, тяжёлая массивная оправа при желании легко разбиралась на части, а затем без особого труда собиралась вновь благодаря хорошо подогнанным штифтам. Даже у придирчивых экспертов комиссии, под руководством геммолога Александра Евгеньевича Ферсмана разбиравшей в 1922 году вещи последних самодержцев, эта парюра оставила «очень ценное художественное впечатление».[648] А ведь Сергей Николаевич Тройницкий, бывший хранитель Отделения драгоценностей, затем избранный директором Эрмитажа, но оставивший за собой и должность заведующего отделом прикладного искусства всемирно известного музея[649], повидал на своём веку немало подлинных шедевров ювелиров прошлых веков, и ему было с чем сравнивать. Правда, на строгий взгляд знатока, диадема страдала некоторой перегруженностью рисунка.
Фирма Фаберже. Диадема и брошь из бирюзового гарнитура. 1888 г.
Однако членов ферсмановской комиссии в броши, составляющей с диадемой гарнитур, даже неприятно удивили своей величиной вставки бирюзы, отчего линии подчёркивающего их очертания алмазного узора казались сухими и резкими.[650] Но здесь проявилась воля августейшей заказчицы. Некогда именно размеры отличающегося редкостными ювелирными параметрами лазоревого камня, расположившегося теперь в модной броши-«севинье» под алмазной арочкой-«подковой», пленили другую венценосную государыню, знавшую толк в самоцветах. Ивар-Венфельт Бук, согласно его счёту от 10 сентября 1792 года, окружил драгоценный раритет 25 крупными бриллиантами, весившими 161/4 карата, дополненными алмазами, огранёнными «розами». Этот медальон Екатерины II «из весьма большой Бирюзы в виде сердечка, прекрасного чистого цвета, кроме беловатого пятна» часто надевала императрица Мария Александровна, любившая голубые камни. Однако её невестка, императрица Мария Феодоровна, пожелала иметь более модную вещь, ради чего было безжалостно сломано украшение самой Семирамиды Севера.[651]
В 1896 году фирма Карла Фаберже на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде удостоилась присвоения Государственного герба, и отныне он стал изображаться в её клейме. Известность Карла Густавовича росла на родине и за рубежом. В 1897 году за ряд работ он получает титул придворного ювелира короля Швеции и Норвегии, ещё не удостоившись подобного звания от русского государя.
Однако подлинное международное признание Карл Фаберже получил на Всемирной выставке, открывшейся 14 апреля 1900 года в Париже, где он выставил работы своей фирмы вне конкурса, поскольку сам входил в состав жюри. Посетители могли любоваться изящными пасхальными яйцами русских императриц и другими шедеврами знаменитой петербургской фирмы. Ожидал восторженных зрителей и неожиданный сюрприз.
Карлу Густавовичу пришла в голову счастливая мысль – сделав крошечные реплики примерно в одну десятую величины подлинников, представить всем съехавшимся из многих стран гостям российские императорские регалии: Большую корону скипетр и державу так как сами оригиналы позволялось видеть лишь на самых торжественных церемониях и во время коронаций. Подобной чести удостаивались ещё счастливчики, кому повезло попасть, заручившись специальным разрешением от Кабинета Его Величества, в Бриллиантовую комнату Зимнего дворца, где инсигнии императорской власти хранились вместе с коронными бриллиантами. С июля 1895 года та помещалась «в нижнем этаже» выстроенной Растрелли зимней царской резиденции: «в четвёртом нумере четвёртой запасной половины»,[652] где ныне располагаются служебные комнаты сотрудников Эрмитажа. Вход в сокровищницу охраняли два бравых гвардейских солдата.
Всё, что касалось до размещавшихся там вещей, производилось «не иначе, как с Высочайшего Государя Императора соизволения». Поэтому ещё в конце июня 1899 года Карл Фаберже обратился в Камеральное отделение Кабинета Его Императорского Величества с нижайшей просьбой дозволить ему воспроизвести с регалий «точные копии в уменьшенном виде». Чуть более месяца понадобилось на хождение бумаг по инстанциям, пока наконец сам министр Двора барон Фредерикс не начертал резолюцию: «Высочайше разрешено, но не для продажи».[653]
Воплощать замысел Карла Густавовича довелось работникам двух мастерских, входивших в состав фирмы. Серебряные пьедесталы для моделей регалий, водружённые на колонку из розового кварцита-белоречита, как и изящные пояски на ней, создал лучший мастер-серебряник фирмы Исаак Абрамович Раппопорт. Подлинный виртуоз, познавший до мелочей все тонкости своего дела, он лично сам, как и в этом случае, выполнял наиболее ответственные работы. Миниатюрные, но точные копии символов власти всероссийских самодержцев, к которым добавилась ещё реплика Малой короны, покоились (за исключением скипетра) на подушках, обтянутых бархатом.
Несмотря на крошечные размеры, модели регалий, как и на оригиналах, усеивали тысячи самоцветов, заключённых в тончайшую серебряную оправу, реплику же алмаза «Орлов» в императорском жезле окружил ободок из чрезвычайно сложной в обработке платины, что подтвердило славу Августа-Вильгельма Хольмстрёма. Ведь именно о нём с такой похвалой отозвался в своих воспоминаниях Франсуа Бирбаум: «Работы этой мастерской отличались большой точностью и безупречной техникой. Такая безукоризненная закрепка камней не встречается даже в лучших парижских работах». И далее главный художник фирмы пояснял, что если ювелирные работы Хольмстрёма «иногда уступают в художественном отношении парижским, то в технике, в прочности и в законченности они их всегда превосходят».[654]
Привычных ко всему парижан и гостей Всемирной выставки поразили виртуозность и точность исполнения моделей императорских российских регалий, уменьшенных по сравнению с подлинником примерно в десять раз (см. рис. 27 вклейки). Невольно удивляло и количество применённых алмазов: если на оригинале Большой короны блистают 4936 камней, то на её реплике мастера фирмы Фаберже ухитрились разместить 1083 бриллианта и 2458 диамантов, огранённых «розой».[655] Неслучайно жюри специально отметило: «Это произведение достигает грани совершенства. Это означает превращение ювелирного предмета в подлинное произведение искусства. Именно совершенное исполнение, достигаемое тщательнейшей отделкой, отличает все выставленные работы Фаберже. Это касается миниатюрных копий коронных инсигний царского дома, унизанных четырьмя тысячами камней…» Столь высокий отзыв специалистов позволил императору Николаю II не только поскорее приобрести работу современных ювелиров для коллекции Императорского Эрмитажа, но и повелеть выставить этот шедевр фирмы Фаберже в Галерее драгоценностей, где тот не померк, а только выиграл от соседства с уникальными произведениями мастеров прошлых эпох.[656]
Мнения прессы разделились. Одни критики восторженно отзывались о русском чародее, другие столь же яростно ругали его за приверженность старым стилям, сожалея, что «подобное совершенство исполнения не используется для создания более оригинальных произведений», выдержанных в духе декоративности модерна.[657] Однако строгий ареопаг судей, как оценивавших золотые вещи по Классу 94, так и придирчиво рассматривавших представленные на выставке ювелирные изделия и бижутерию по Классу 95, не смог скрыть своего восхищения и удовлетворения работами Фаберже, отметив и изящество оправ, и качество гравировки, и остроумное решение секретов потайных отделений, и неповторимые оттенки эмалей, и тщательность отделки, а главное, идеальное исполнение и безукоризненную композицию, отличающие их. Петербургский искусник получил золотую медаль и титул парижского мастера, награды вручили и его ведущим мастерам, а французское правительство удостоило Карла Фаберже за работу в жюри орденом Почётного легиона 5-й степени.[658]
Выставка творений Карла Фаберже прошла в Петербурге под патронатом императрицы. Карл Густавович становится владельцем нового собственного дома.
Да и столичный бомонд пожелал возвеличить ювелира, покорившего Париж. В доме барона фон Дервиза на Английской набережной с большим успехом 8–9 марта 1902 года прошла устроенная по инициативе императрицы Александры Феодоровны «Выставка художественных произведений Фаберже и старинных миниатюр и табакерок», ставшая подлинным апофеозом мастера. Экспонаты для неё представили члены императорской и великокняжеских семей, а также известных аристократических домов.[659]
В начале нового века столицей ювелирного искусства постепенно становится Петербург, причём в художественных исканиях впереди был Париж, а в исполнении – Северная Пальмира. Недаром в 1901 году именно в российской столице проводится международный конкурс ювелиров[660], а в 1912 устроен конкурс «рисунков по ювелирному производству имени придворного ювелира Карла Фаберже», в жюри которого входил управлявший учебным отделом Министерства, торговли и промышленности А.Е. Лагорио, не только однофамилец, но и родственник известного художника.[661] В январе 1910 года Карл Густавович получил звание мануфактур-советника, однако титула придворного ювелира он удостоился от Николая II только в конце того же года, да и то по нижайшей просьбе его четырёх сыновей, из которых Агафон уже некоторое время замещал отца в должности оценщика Кабинета.[662] Но мы несколько забежали вперёд.
Большая Морская ул., 24. Здание фирмы Фаберже. 1900-е гг.
1900-й год стал вообще счастливым годом для Карла Фаберже. Любимец Фортуны, одержавший столь важную победу на Всемирной выставке в Париже, наконец-то обзавёлся своим собственным домом. Молодой талантливый архитектор Карл Шмидт, сын сестры Карла Фаберже, построил для него облицованное по фасаду финским гранитом здание в англо-готическом стиле, на участке, купленном ещё в 1898 году на Большой Морской улице, 24. Всё было продумано до мелочей. В нижнем этаже особняка расположился роскошно отделанный магазин, где помимо изделий фирмы продавались вещи, сделанные в мастерских Овчинникова, Хлебникова, Тилландера и других признанных ювелиров.
Евгений Карлович Фаберже вспоминал, что самый верхний этаж заняла фешенебельная квартира его отца, причём спланирована и отделана она была с присущим главе прославленной фирмы тонким вкусом. Великолепно смотрелись обшитые дубовыми панелями рабочая комната и кабинет обласканного Двором ювелира, а будуар его горячо любимой супруги отличался подлинным изяществом. Ещё в 1872 году Карл Густавович волей судьбы соединился узами брака с домовитой и отлично воспитанной, к тому же хорошо чувствующей прекрасное Августой-Юлией Якобс, дочерью знаменитого мастера-краснодеревщика, не только слывшего непревзойдённым резчиком по чёрному дереву, но и успешно управлявшего придворными мебельными мастерскими в Царском Селе.
Большая Морская ул., 24. Здание фирмы Фаберже, зал для приёма посетителей. 1900-е гг.
В прочих этажах особняка Фаберже разместились студии дизайнеров-«композиторов» и скульпторов, бухгалтерия. Но особенно хороша была библиотека высотой в два этажа. В шкафах стояли книги по всевозможным стилям и жанрам искусства, уникальные издания по ювелирному делу. Здесь же можно было полюбоваться заботливо собранной коллекцией тех самых разнообразных моделей из воска, пластилина и металла, на которых отрабатывалось размещение камней, а также роскошным подбором образцов эмалей.
Ювелирная мастерская А. Хольмстрёма (крайний слева). 1900-е гг.
В том же здании нашлось место светлым, просторным ателье, оборудованным по последнему слову техники всеми нужными станками, механизмами и приспособлениями, куда, для удобства бдительного хозяйского надзора над всеми стадиями процесса создания вещей, перевели мастерские ведущих ювелиров фирмы[663]: второй этаж заняла мастерская Августа Холлминга, третий – Михаила Перхина и сменившего его затем Генрика Вигстрёма, четвёртый – Августа Хольмстрёма, а последний – Альфреда Тилемана.
Подрастали четверо сыновей. Все они хорошо закончили столичную Петершуле, их влекло изобразительное искусство, однако с самого начала наследники фамильного предприятия старательно занимались рисунком и тонкостями портрета, а также овладели немалыми познаниями в ювелирном ремесле, чтобы затем успешно помогать родителю в делах его фирмы.
Ювелирная мастерская А. Хольминга. 1900-е гг.
Евгений Карлович (1874–1960), поучившийся затем в Академии художеств в Ханау, в Германии, а также у С. Зайденберга и Ю. Оллила, стал не только искусным дизайнером-«композитором» разнообразных украшений и талантливым художником-портретистом, близким к «мирискусникам», но и фактически более двух десятилетий (с 1896 по роковой 1918 год) руководил петербургским отделением фирмы совместно с отцом и младшим братом Агафоном Карловичем. Первенец Карла Густавовича на столь памятной для семьи Всемирной выставке 1900 года удостоился получения пальмовой ветви – знака офицера Академии изящных искусств.
Третий сын Александр Карлович (1877–1952), проучившийся, чтобы по-настоящему овладеть тонкостями профессии ювелира, четыре года в училище барона Штиглица, а также у Кашо в Женеве, сделался достойным руководителем и одновременно художником московского отделения фирмы Фаберже.
Младшенький Николай Карлович (1884–1939), побывавший в учениках у американского художника Сарджента в Англии, стал художником по ювелирным изделиям, а в 1906 году уехал работать в лондонском филиале фирмы отца сначала с Артуром Бо, а затем с Генри-Чарльзом Бэйнбриджем.
Что же касается Агафона Карловича (1876–1951), то он, закончив коммерческое отделение гимназии Видемана и проявив себя выдающимся знатоком камней, с 1898 года стал экспертом Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца и оценщиком Ссудной казны, к тому же практически являлся оценщиком Кабинета. По итогам выставки 1900 года в Париже второго сына Карла Густавовича жюри наградило золотой медалью.[664] Под Петербургом, неподалёку от железнодорожной станции Левашово, в Осиновой Роще он выстроил себе дачу, окружённую каретными сараями и конюшнями, причём не забыл возвести и дом для прислуги. Однако и отдыхая, ювелир не забывал о деле: в его дачном доме до недавнего времени сохранялись огромный сейф и остатки рабочих мест мастеров.[665]
У Карла Фаберже, ставшего всемирно известным, наперебой закупали вещи для подарков не только монархи всей Европы и американские миллионеры. По приглашению сиамского принца Чакробонга, учившегося в Петербурге и прекрасно знавшего русский язык, глава прославленной фирмы посетил далёкую восточную страну, где король Чулалонгкорн пришёл в такой восторг от работ петербургского мастера, что даровал Карлу Густавовичу звание придворного ювелира и эмальера. С 1906 года в течение девяти лет представители единственной из русских фирм Фаберже ежегодно приезжали в Сиам, а заодно не забывали побывать в поисках возможных заказчиков при дворах индийских магараджей в Непале. Для храма-усыпальницы короля Чулалонгкорна Карл Густавович по просьбе нового владыки исполнил из зелёного сибирского нефрита большую статую Будды и дивную огромную чашу поражающую красотой золотой оправы, дополненной розовой эмалью и алмазами.[666]
Львиная доля и прочих вещей была вырезана из этого камня, столь ценимого на Востоке. Поскольку нефрит не подвержен изменениям, даже в земле сохраняя свою красоту и нетленность, считалось, что он защитит и тела умерших в захоронениях. К тому же китайцы приписывали драгоценному минералу качества, присущие достоинствам и добродетелям благородного мужа. Блеск от мерцания света на полированной поверхности и скрытая теплота нефрита напоминали о щедрости и сострадании, полупрозрачность, позволяющая видеть камень насквозь, символизировала праведность и справедливость. Мелодичный звук, возникающий при ударе казавшихся чистыми и холодными на ощупь нефритовых пластин одна о другую, разносился далеко вокруг, делая камень эмблемой мудрости. Трудность же его обработки и присущую одновременно нефриту хрупкость сравнивали с верностью и мужеством. Даже заострёнными кусками камня, именуемого по-китайски «юй», трудно пораниться, и в этом нефрит подобен подлинно высокородному человеку, всегда сохраняющему сдержанность и самообладание.[667]
Иметь хоть что-нибудь, вышедшее из рук признанного, обласканного всевозможными наградами мэтра становится всё более престижным. Его магазины постоянно были полны покупателями из самых различных слоёв общества. Одни выбирали вещи, украшавшие витрины, другие, внимательно изучив регулярно обновлявшиеся прейскуранты, просили показать им полюбившееся изделие, третьи, не найдя себе ничего по душе, обращались к хозяину фирмы, сидевшему в зале за своей конторкой. Чаще всего капризного клиента передавали в руки вызванного дизайнера-«композитора», но особо важными особами Карл Густавович Фаберже занимался сам.
Случалось, что из-за своей загруженности владелец магазина забывал нужные детали, оговорённые с высокопоставленным заказчиком, и тогда начинал отыскивать сотрудника, который во время разговора мог стоять поблизости, надеясь, что тот слышал хотя бы обрывки фраз. И как же огорчался и удивлялся Карл Густавович, почему это ухо находившегося рядом человека ничего не уловило из важной беседы. Поскольку такие афронты не единожды повторялись, то у служащих фирмы даже сложилось присловье, что отвечает не тот, который принимает, а тот, кто рядом стоит.
Сам известный художник и дизайнер, Карл Густавович Фаберже передавал разработанные им проекты, а подчас лишь задумки будущих вещей, своим сотрудникам-«композиторам». Ни малейшая деталь не ускользала от его внимания. Правда, частенько времени на кропотливую доводку эскизов не хватало, и тогда случались курьёзы.
Из-за спешки глава фирмы подчас вручал для исполнения не законченные рисунки, а только наброски, причём для скорости, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий вариант, на одном и том же листе каждая из половин симметричного предмета оформлялась в разных вариантах. По недосмотру так и сделали точно по хозяйскому эскизу несколько забавных изделий с декором сразу в двух не очень-то сочетающихся стилях.
Однажды вообще случился конфуз. Поступил заказ на икону, на обороте которой непременно следовало вырезать полный текст молитвы «Отче наш». Будучи уверен, что гравёр твёрдо знает Закон Божий, Карл Густавович Фаберже спокойно вывел на рисунке красивым шрифтом начальные два слова и, опустив дальнейшие, присовокупил к ним указание: «и так дальше». Но как же смеялся ценящий юмор глава фирмы, увидев красовавшиеся на священном предмете не привычные фразы общеизвестной канонической молитвы, а надпись, точно скопированную с его собственноручной, столь опрометчиво коротко написанной резолюции: «Отче наш и так дальше».[668]
Забывчивость Карла Густавовича предоставляла возможность главному художнику фирмы подшучивать над патроном, так как тот иногда беспощадно обругивал какую-либо вещь, поминая недобрым словом разработчика её проекта, запамятовав, что горе-автором был он сам. В подобных случаях Франсуа Бирбаум отыскивал среди кипы бумаг нужный лист, где контуры злополучного предмета были достаточно аккуратно выведены рукой хозяина, и с самым невинным видом предъявлял строгому критику плод собственной же его не совсем удачной фантазии.
В 1914 году началась война. Мобилизации подверглись многие сотрудники фирмы Фаберже. Число работников резко сократилось, а ведь только в петербургских мастерских накануне войны 1914 года насчитывалось 208 человек. Теперь ассортимент выпускаемых изделий пришлось не только несколько сократить, но и отчасти перепрофилировать на нужды фронта. А над самим Карлом Густавовичем (хотя вскоре после начала военных действий, под влиянием примера императора Николая II, как подлинный патриот, он перевёл все свои счета из зарубежных банков в российские) тем не менее зависло подозрение в возможном пособничестве врагам. Ведь его отец приехал из остзейской Лифляндии, а тамошние родственники практически давно онемечились. К тому же глава знаменитой фирмы несколько лет являлся старостой Немецкого собрания Санкт-Петербурга, а сразу после объявления войны по всей России закрыли все немецкоязычные газеты, немецкие общества и клубы, запретили общаться на немецком языке в общественных местах. Многих немцев, согласно спискам Генштаба, составленным ещё в 1912 году, не замедлив, депортировали в Западную Сибирь. Оставшиеся, особенно сохранившие подданство Германии или Австро-Венгрии, подверглись тайному надзору. Прославленного ювелира только потому не выслали в 1914 году из столицы, что он продолжал и в годы военного лихолетья выполнять личные заказы императорской семьи.
Однако в следующем году Карл Густавович Фаберже опять попал в число неблагонадёжных. На сей раз подозрения на его счёт у Департамента полиции появились из-за давней возлюбленной слишком близкого к императорскому Двору владельца знаменитой фирмы.
Как главе обширного дела, так и многим его сотрудникам часто месяцами приходилось жить за границей, корректируя заказы. В одной из таких поездок, в 1902 году, 56-летний Карл Густавович Фаберже в парижском кафешантане увидел прелестную певичку, чешку Иоанну-Амалию Крибель, которой исполнился 21 год. Её стройная точёная фигурка, белокурые волосы, греческий профиль и восхитительные карие глаза настолько пленили стареющего маэстро, что он забыл обо всём. Однако развод с добросердечной женой, матерью его сыновей и достойной хозяйкой дома был невозможен. Зато отныне каждую весну неверный супруг под видом деловых разъездов почти три месяца проводил в обществе своей пассии, осыпая её деньгами и дорогими украшениями. В оставшееся время ветреная певичка не скучала, вращаясь среди посетителей всевозможных увеселительных заведений.
Предприимчивая красотка неоднократно наезжала и в Петербург, где, щеголяя роскошными драгоценностями от Фаберже, выступала на подмостках столичного кафешантана «Аквариум». А в 1911 году ловкая Иоанна-Амалия после кратковременных гастролей в Тифлисе увлекла 70-летнего князя Карамана Петровича Цицианова и вышла за него замуж. Правда, после венчания новоиспечённая «аристократка» покинула своего старичка-супруга. Своему же давнему покровителю «грузинская княгиня» объяснила, что она всё сделала ради свободного приезда в любой момент в Петербург для встречи с любимым, потому что отныне жительница Австро-Венгрии стала российской подданной.
Зато русская контрразведка не дремала и не упускала из виду Иоанну-Амалию Бернардовну, пусть та и оказалась законной представительницей знаменитого рода князей Цициановых. В апреле 1915 года обольстительная прелестница, благодаря хлопотам Карла Густавовича Фаберже прибыв в Петербург, поселилась в гостинице «Европейская», которую держал швейцарский подданный. Однако охранное отделение уже подметило, что именно там останавливается «большинство лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу наших внешних врагов», причём к ним благоволит администрация отеля, увольняющая к тому же патриотически настроенных русских сотрудников. Началась слежка и за грузинской княгиней. Разведка донесла, что бывшая австрийская подданная римско-католического вероисповедания Иоанна-Амалия, рождённая Крибель, известная также как Нина Баркис, хорошо владеет английским, французским, немецким и русским (с польским акцентом) языками, производит впечатление очень хитрой и осторожной женщины и обращает на себя внимание широкой жизнью и поездками в Финляндию, а также попытками увлечь своими чарами полковника из Французской Миссии. В рапорте о княгине Цициановой указывалось: «В настоящее время якобы сожительствует с известным фабрикантом-ювелиром Фаберже и, несмотря на это, имеет постоянные свидания с другими лицами, причём эти свидания ею обозначены особой конспирацией». 23 апреля 1916 года новоявленная «Мата Хари» была арестована и за малыми уликами подверглась лишь высылке в Сибирь.
Досталось и неразборчивому в связях престарелому ювелиру, что отразилось в докладе контрразведки: «…сам Фаберже, при допросе ручавшийся за благонадёжность Цициановой, далеко не представляет собой лица, к заявлениям которого военные власти могли бы отнестись с должным доверием». Теперь главе обширного и хорошо налаженного семейного дела следовало всерьёз опасаться ликвидации своего «немецкого» предприятия. Поэтому 6 ноября 1916 года фирма Фаберже со всеми филиалами стала товариществом, чьи акции получили сам Карл Густавович с тремя сыновьями и наиболее близкие и доверенные сотрудники. Теперь среди владельцев оказались наряду с немцами и швейцарцами прирождённые русские, а также латыш и итальянец. При подобном интернациональном составе хозяев закрытие фирме уже не угрожало. К тому времени товарищество на паях «К. Фаберже», на которое трудилось более полутысячи рабочих, оценивалось в 3 млн рублей.[669]
Но грянула революция, сметя благополучие придворного ювелира и принеся с собой голод, угрозы реквизиций, полнейшую неизвестность грядущего, страх за судьбу жены и детей, вынужденный отказ от любимой работы, потери имущества. Как лифляндский подданный он смог покинуть Петроград, оставив дом под защитой швейцарской миссии. Однако родной город Пернов стал теперь эстонским Пярну, столицей же Латвии считалась Рига. Но пришлось бежать и из неё в Германию, а там тоже вспыхнула революция. Начались скитания на чужбине, пока не удалось осесть в Лозанне.
Казалось бы, всё складывалось хорошо, и даже сильно подорванное переживаниями здоровье престарелого ювелира сначала улучшилось. Но вынужденно бездеятельное существование было не для Карла Густавовича, и вскоре им полностью овладело чувство ненужности. Своим острым умом он, когда-то создавший успешную, известную во всём мире фирму, понимал, что всё кончено. Сердце старого мастера было разбито от полного краха поднятого им на такую высоту дела, которому он отдал столько сил. И теперь ему оставалось только горестно и тоскливо повторять близким: «Такая жизнь – это уже не жизнь, когда я не могу работать и приносить пользу. Так жить – нет смысла».
Карл Густавович Фаберже, бывший придворный ювелир последнего русского императора, а также короля Швеции и Норвегии, короля Великобритании и эмальер короля Сиама, тихо и без страданий скончался от рака печени в швейцарском отеле «Бельвю» в Ла Росиас 24 сентября 1920 года, чуть более полугода не дожив до своего семидесятипятилетия. Перед смертью он высказал желание, чтобы тело его кремировали под звуки любимой мессы Бетховена. В январе 1925 года в Каннах на Французской Ривьере скончалась супруга старого мастера и там же была погребена. Только в мае 1930 года Евгений Карлович Фаберже, перевезя прах отца из Лозанны во Францию, смог захоронить его в могиле матери и тем соединить останки супружеской четы под одной надгробной плитой из чёрного шведского порфира с золотыми буквами.[670]
Дом Карла Густавовича Фаберже, оставшись без хозяина, несмотря на дипломатическую неприкосновенность швейцарской миссии, вскоре был разграблен, драгоценности из обесточенного ради этой цели знаменитого лифта-сейфа похищены. Национализировали и коллекции, так любовно собираемые в течение многих лет. Дело это начали по инициативе Чрезвычайной Комиссии 5 сентября 1919 года. Последнюю партию вещей, конфискованных из магазина Фаберже, с Морской, № 16, перевезли 27 января 1920 года в дом № 19 по Миллионной, где существовал один из складов Отдела по охране, учёту и регистрации художественно-исторических предметов. В другой склад, занявший «помещения бывш. Бенкендорф» в Зимнем дворце, кстати, поместили образ, взятый из дома Агафона Карловича Фаберже в Левашово.[671] Большую же часть собрания доставили в ноябре 1919 года в Эрмитаж на девяти возах. В двух ящиках находился архив фирмы. Куда делись эти бумаги, до сих пор неизвестно. В наше время даже отдельные листы с рисунками и эскизами изделий фирмы Фаберже, не говоря уже о целых альбомах, баснословно ценятся среди собирателей.[672]
Любопытен перечень конфискованного: 59 картин разных школ, 833 предмета из фарфора, 29 – из серебра, 49 – из бронзы, 5 – из мрамора, 27 – из камня, 43 представляли собой вышивки, шали и образцы тканей, 15 кусков кружев, 2 веера, 27 икон, 136 различных изображений Будды, 1198 монет, 21 бумажная ассигнация, 565 гравюр, 7 альбомов и 8 папок с гравюрами и литографиями, 368 книг и т. п. Ещё в двух ящиках размещались головки для трубок.[673]
Поступившее в знаменитый музей «от Фаберже» несколько лет хранилось по описи, пока в январе 1928 года не последовало начальственное распоряжение на внесение достойных Эрмитажа вещей в инвентарь. Уже в начале апреля следующего года учёный секретарь музея Марк Дмитриевич Философов, через девять лет расстрелянный «за контрреволюционную пропаганду и деятельность», официально отчитался: одну из вещиц передали в Греко-Римское отделение отдела Древностей, а из полусотни предметов сорок четыре оказались в отделении прикладного искусства нового времени, шесть же оставшихся – выдали в Москву в Музей фарфора.
Менее повезло партии из 906 вещей: только 37 из них также вписали в инвентарь отделения прикладного искусства нового времени, 305 – пополнили иные отделения Эрмитажа, 4 – попали в другие музеи. Зато 338 предметов, разделив судьбу многих произведений искусства в то страшное время, отправились на аукционы как внутри страны, так и на европейские, «для реализации», и проследить их судьбу крайне сложно.[674] Это тем более обидно, что коллекция, собранная прекрасным геммологом и великолепным специалистом по орнаментике Японии, Китая и Сиама, считалась одним из лучших собраний в Петербурге. Она выделялась тонким подбором живописи, дальневосточного фарфора и ковров, не говоря уже о гравюрах, медалях и прочем. Одних только скульптур Будды в ней насчитывалось более ста, а количество нэцке (японских подвесок к поясу) перевалило за шесть сотен, что неудивительно, так как в петербургских дореволюционных журналах довольно часто размещались объявления о покупке фирмой «К. Фаберже» работ японских и китайских камнерезов.[675]
За границей, особенно в США, вошло в моду приобретать изделия с клеймом прославленной, но трагически закончившей своё существование петербургской фирмы. Их почти за бесценок покупали либо у русских эмигрантов, оставшихся нищими после бегства из ставшего неласковым отечества, либо наперебой расхватывали в магазинах, основанных торгашами, без каких-либо угрызений совести вывозившими из СССР по протекции сильных мира сего даже успевшие стать экспонатами музеев подлинные шедевры ювелирного искусства. На аукционах разворачивалось отчаянное соперничество за обладание теми драгоценностями, что некогда держали в руках члены русской императорской семьи. На волне интереса к «придворному ювелиру последнего царя» появился целый ряд альбомов с красочными репродукциями, вышли в свет воспоминания Генри-Чарльза Бэйнбриджа. Однако как о самой фирме «К. Фаберже», так и о её мастерах всё-таки было мало известно.
К сожалению, на свет пока так и не вышла ни одна собственноручная работа самого Карла Фаберже из тех, что создавались им в то время, когда он только что унаследовал мастерскую отца, потому что позже, как уже упоминалось, будучи слишком загружен административной работой, общением с заказчиками, с мастерами, с художниками, дизайнерами, практически лишился возможности творить своими руками. При всём остром уме он не добился бы такой славы и не создал бы такого количества подлинных шедевров, отмеченных его именем, если бы не его поразительный и редкий талант организатора-менеджера, и здесь его совершенно справедливо сравнивают с Сергеем Павловичем Дягилевым – антрепренёром знаменитых «Русских сезонов», познакомившим в начале XX века не только Париж, но и всю Европу и Америку с блестящим русским балетом. Карлу Густавовичу удалось объединить в своей фирме крупнейших ювелиров своего времени. Приняв на себя все заботы по снабжению материалами, сбыту готовой продукции, поискам заказчиков и проектированию вещей, Фаберже оставил на долю мастеров возможность спокойной, неспешной и сосредоточенной работы, сохранив за ними право на их мастерские, на коррекцию заказов, на творческие и технологические поиски, а также на собственное клеймо, ставившееся на готовое изделие помимо фирменного.
Евгений Карлович Фаберже пытался основать за границей ювелирную фирму, хотя бы отчасти напоминавшую отцовскую, в сообществе с братом Александром, которому чудом удалось выбраться из тюрьмы, куда его бросили за «офицерский заговор», а затем в марте 1920 года бежать через «финляндское окно». Но жёсткая конкуренция со стороны европейских предпринимателей не позволила им осуществить задуманное. К тому же бессовестные дельцы, не имевшие никаких родственных отношений с членами семьи Фаберже, стали нагло, с помощью подкупленных юристов, использовать ради корысти знаменитую фамилию как товарную и торговую марку в собственных, весьма нечистоплотных делах, а у законных потомков Карла Густавовича недоставало денег, чтобы восстановить справедливость в бесконечных судах.
Николай Карлович Фаберже, ставший после преобразования фирмы отца в товарищество одним из пайщиков, а также директором Лондонского отделения, пережил в английской столице революционные события, происходившие на родине. Тем не менее в феврале 1917 года магазин на фешенебельной Нью-Бонд стрит, 173, пришлось закрыть, однако многие знакомства в аристократических кругах удалось сохранить. Младшему сыну Карла Густавовича пригодилось юношеское увлечение, и теперь он настолько всерьёз увлёкся фотографированием, что в 1922 году вошёл в число 20 лучших фотографов туманного Альбиона.
Ещё в 1912 году Николай Фаберже женился на известной натурщице-модели, рыжеволосой Марион Таттершелл, чья красота всё-таки не спасла её благоверного от измены. От адюльтера с секретаршей Дорис Клэдиш на свет появился в 1922 году Тео. «Плод греха» скрыла замужняя сестра неосторожной мисс, воспитывая племянника в своей семье, и до 47 лет Тео считал родную мать тёткой. Как ни странно, внебрачный сын Николая Фаберже стал неплохим столяром. Кто знает, может быть, при выборе профессии действительно сработали гены. Достаточно вспомнить, что матерью его отца была дочь придворного столяра, а её золовка вышла замуж за не менее известного петербургского краснодеревца Фёдора Николаи. Лишь на старости лет Тео узнал, что он принадлежит к роду великого ювелира, и, организовав с помощью дочери Сары Крайден, считающей себя дизайнером, фирму «Тео и Сара Фаберже», начал производить деревянные яйца в стиле дедовских, а затем изготовлять подобные поделки и из других материалов.[676]
В стране Советов почти три четверти века на имя Фаберже была наложена печать молчания. Прорывом стала выставка в Елагиноостровском дворце. За ней с большим успехом последовали следующие. Публика, восхищаясь красотой представляемых экспонатов, хотела узнать побольше о блестящей плеяде ювелиров конца ХЕК – начала XX веков и, конечно же, о самом Карле Густавовиче Фаберже. Отечественные искусствоведы и хранители музейных коллекций отправились в архивы. По обнаруженным там материалам появились содержательные статьи Вячеслава Мухина, Татьяны Николаевны Мунтян, Галины Николаевны Смородиновой, Марины Николаевны Лопато. Однако особенная удача выпала на долю Валентина Васильевича Скурлова, которому повезло среди бумаг известного минералога Александра Евгеньевича Ферсмана обнаружить дотоле неизвестные записки Франца Петровича Бирбаума, почти четверть века проработавшего в фирме Фаберже главным художником, а поэтому не понаслышке знавшего о том, чьи мастерские входили в неё и как строилась их работа. Благодаря хлопотам Татьяны Фёдоровны Фаберже, правнучки великого ювелира, и финансовой помощи генерального директора «Русских самоцветов» бесценная рукопись впервые увидела свет в конце 1992 – начале 1993 годов.[677] Тому же дотошному исследователю удалось найти большинство счетов фирмы Фаберже как на знаменитые пасхальные императорские яйца, так и на прочие разнообразные драгоценные вещи, поставленные в Императорский Кабинет. Недаром владельцы известнейшего аукционного Дома Кристи сделали Валентина Васильевича Скурлова архивоведом-историографом фирмы Фаберже, а затем и экспертом своего русского отдела.
Франц-Петер (Франсуа-Пьер) Бирбаум
Будущий главный художник фирмы Фаберже родился 6 сентября 1872 года в небольшом швейцарском городке Фрибуре. Там Франсуа закончил политехникум и уже в 1886 году оказался в поисках фортуны в столице Российской империи, где подросток, страстно увлёкшийся искусством, поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств. История умалчивает, при каких обстоятельствах состоялось знакомство известного ювелира Карла Густавовича Фаберже с часто проходившим по Большой Морской мимо его магазина талантливым юношей-иностранцем, торопившимся на занятия. Но как бы то ни было, в 1893 году Бирбаум, которого предпочитали называть по-немецки Францем, стал сотрудником фирмы. Двух лет работы даровитого дизайнера-«композитора» хватило, чтобы после смерти брата Карл Густавович доверил даровитому 23-летнему швейцарцу опустевший пост главного художника. И зоркий глаз хозяина не ошибся в выборе.
Четверть века, вплоть до 1917 года, главу фирмы «К. Фаберже» и Бирбаума, связывали отношения не начальника и подчинённого, а, несмотря на значительную разницу в возрасте, по-настоящему дружеские отношения. Как выразился Бэйнбридж, не раз видевший подобные сцены, главный художник с папкой эскизов под мышкой входил к могущественному патрону не как в святая святых, ни тем более, как в логово льва, и обсуждение всегда проходило легко, естественно и неформально. Кстати, англичанину, как и самому Карлу Густавовичу Фаберже, весьма импонировали спокойствие и мягкость характера Франца Бирбаума, его тонкий юмор. Даже внешность швейцарца, его манера держаться, а особенно украшавшие лицо усы и ван-дейковская бородка сразу выдавали в нём внимательному наблюдателю художественную натуру. В его хрупком теле заключена была неуёмная душа творца. Да и жену Екатерину Яковлевну он выбрал себе под стать, ещё в конце 1890-х годов найдя суженую среди девушек, получавших профессиональное образование в Центральном училище барона Штиглица. Всё бы хорошо, но Бог так и не дал супругам детей.
Теперь Бирбаума обычно уважительно звали на русский лад «Францем Петровичем». Обрусевший швейцарец неоднократно получал высокие награды на престижных конкурсах художественной промышленности. Однако его самого не волновала обманчивая шелуха всевозможных почётных званий, к тому же у него начисто отсутствовал какой-либо гонор по отношению к простым ремесленникам и кустарям-камнерезам. Он отлично знал их нужды, так как сам пытался всегда доискаться тонкостей технического воплощения задумок. Может быть, неслучайно главного художника прославленной фирмы устраивало многолетнее проживание на Петроградской стороне, в двухэтажном деревянном доме № 5 по Лодейнопольской улице, принадлежавшем мастеру-эмальеру Александру Фёдоровичу Петрову. Долгими вечерами он мог спорить и обмениваться опытом с сыновьями домохозяина Николаем и Дмитрием, разрабатывавшими на предприятии Фаберже составы финифтей, порядок их нанесения на металлическую основу (не забывая о тонкостях её подготовки), градации температур и особенности обжига с целью получения нужного эффекта. Поэтому так интересны для всех оказались доклады Бирбаума по эмалевому производству и технике литья.
Франц Бирбаум. 1936 г.
В этом «русском швейцарце» причудливо сочетались владение живописью, позволявшей по памяти писать уголки милой родины, талант искусного миниатюриста и фантазия дизайнера. Бирбаум страстно увлекался камнями, причём не только драгоценными, но и поделочными, и самым интересным для него стало придумать достойную их красоты оправу. На это он не жалел ни времени, ни сил. К тому же здравый ум позволял главному мастеру фирмы и заместителю её главы по художественной части активно разрабатывать всевозможные улучшения процесса создания вещей как в технологическом отношении, так и в финансовом, не говоря уже о правильном распределении между отдельными мастерскими отдельных фаз изготовления тех или иных изделий.
Не стоял в стороне Бирбаум и от многих проблем, волновавших в начале XX века русскую интеллигенцию. Стремление к переустройству сложившихся издавна профессиональных отношений с целью их улучшения и устранения характерных недостатков вызвало серию статей, написанных Францем Петровичем и опубликованных в журналах «Искусство и жизнь» и «Ювелир». Ярко выраженный общественный темперамент пригодился ему и на посту казначея Русского художественно-промышленного общества, объединившего художников декоративно-прикладного искусства.
В 1917 году Бирбаум активно участвовал в делах Союза деятелей искусств, избравшего его через несколько месяцев кандидатом в члены Исполкома по вопросам искусства. Ему нравилось быть в гуще общественных перемен в революционной России. Он не покинул голодный Петроград в 1918 году, хотя потерял тогда любимую жену, а чтобы выжить, ему, до революции – пайщику и члену правления фирмы Фаберже, пришлось продавать на аукционах собственноручно исполненные броши. Как профессор Климент Тимирязев, выведенный под именем Полежаева в фильме «Депутат Балтики», Франц Петрович читал популярные публичные лекции. Пытался он и основать детско-сельскую объединённую «Мастерскую художественной обработки металлов», чтобы собрать в Фёдоровском городке бывшего Царского Села самых разнообразных специалистов, владеющих всеми известными техниками. С радостью Бирбаум взялся за предложенную работу на Петергофской гранильной фабрике, мечтая восстановить лучшие из традиций, заведённых Гуном.
Новоиспечённый старший мастер бывшего казённого предприятия, благодаря незаурядному уму и обширнейшим познаниям, начал одновременно с полной отдачей трудиться в отделе драгоценных камней Комиссии производительных сил России при Академии наук. Общие интересы сблизили его тогда с Александром Евгеньевичем Ферсманом, автором первой в России монографии об огранке бриллиантов. В ноябре 1919 года Ферсман дал своему задушевному другу характеристику для зачисления того заведующим отделом в Институт архитектурной технологии Академии материальной культуры. Академик-минералог помнил, что «наиболее нормальные условия наблюдались <…> особенно в последние годы у Фаберже, где благодаря талантливому и вдумчивому Бирбауму за последние 10 лет научились сочетать „несочетаемое“ и дать гармонию камня и кожи, камня и бронзы».[678]
Заботясь о кардинальном улучшении состояния не только камнерезного производства, но мечтая о воссоздании художественной промышленности России и устранении недостатков, бывших причиной её прозябания в дореволюционные годы, Бирбаум, подлинный паладин декоративно-прикладного искусства, развил на новом месте работы бурную деятельность. Однако ему не удалось перевести в ювелирную и камнерезную мастерскую, созданную им в стенах Института архитектурной технологии, ни станки с закрытой фабрики Вёрфеля, ни оборудование из мастерских акционерного общества «К. Фаберже». Оставалось радоваться успехам (открытой ещё в октябре 1919 года и находящейся под его руководством) Художественно-ремесленной школе при Петергофской гранильной фабрике. Но не хватало средств, да и многое осталось только на бумаге в виде благих пожеланий и пышных деклараций. В мае 1920 года Франц Петрович Бирбаум, почувствовав себя лишним и никому не нужным, оставил Россию.
Он нищим вернулся на родину, но и там одарённейший и многогранный рисовальщик[679] также оказался не востребован. В поисках средств к существованию Бирбаум занимался сыроварением, писал пастелью пейзажи, пытался делать резные броши из обычных речных галек в простенькой металлической оправе, исполнил иконостас для католического храма. Скончался бывший главный мастер хорошо известной в Европе петербургской фирмы 14 октября 1947 года в Эгле.[680]
Полвека имя Франца Петровича Бирбаума было забыто, пока не были найдены его записки. В них он подробно описал постановку дела в фирме Карла Густавовича Фаберже, надеясь, что это пригодится в новой России. Мечтам «русского швейцарца» не суждено было сбыться, но благодаря ему современным исследователям теперь стало известно, кто из петербургских мастеров сотрудничал там с ним.
Эрик-Аугуст Коллин
Впервые известность и признание фирме Фаберже принесла Всероссийская мануфактурная выставка 1882 года в Москве, где особый успех выпал на долю поразительных по совершенству исполнения копий золотых древнегреческих ювелирных изделий, сделанных Эриком Коллином. Эти экспонаты открыли собой целую вереницу блестящих работ мастеров, сотрудничавших с Карлом Густавовичем.
Эрик-Аугуст Коллин родился 28 декабря 1836 года в финском городке Похо в семье подёнщика. В 16 лет он поступил к одному из ведущих золотых дел мастеров в Экенесе (ныне – г. Таммисаари), а затем через 6 лет переселился в Петербург, где записался златокузнецом в приходскую книгу шведской церкви Св. Екатерины и устроился работать в мастерскую своего соотечественника Августа Хольмстрёма. В 1868 году Коллин получил звание мастера, но смог открыть собственную мастерскую на Казанской, № 9, из-за стеснённых обстоятельств лишь через два года.
Ещё со времён работы его на Хольмстрёма (тот также переключился на выпуск изделий исключительно для Фаберже) Карл Густавович заметил незаурядные способности Коллина и предложил дельному финну работать только на него. Он же предложил талантливому златокузнецу повторить творения искусников античных времён. Копирование шедевров прошлого позволяет постичь изнутри технологию изготовления вещей, раскрыть секреты старых мастеров, что всегда обогащает самого ювелира-копииста. Это произошло с самими Карлом и Агафоном Фаберже, так случилось и с Эриком Коллином, по праву вписавшим своё имя в историю прикладного искусства. Его повторения найденных в Причерноморье древнегреческих, или, как их называли ещё, «скифских» золотых украшений вызвали фурор не только в Москве, но и на выставке 1885 года в Нюрнберге, заслужив там первую международную медаль для фирмы. Работы петербургских искусников, как выяснилось, ничуть не уступали по мастерству творениям знаменитого итальянского ювелира Пио-Фортунато Кастеллани (1793–1865), имитировавшего шедевры этрусских златокузнецов.
Мастерская Эрика Коллина (скончавшегося бездетным в Петербурге 16 июля 1901 года[681]) специализировалась на исполнении копий керченских древностей и украшений, подражавшим античным. Большим спросом пользовались всевозможные брошки и колье со вставками резных крупных сердоликов и других пород агатов, заключённых в оправы из матового высокопробного золота в виде ободков из мелких бус, шнурков, перемежающихся с резным или филиграновым орнаментом.[682] О блестящем владении Коллином различными техниками обработки золота можно судить даже по очаровательной безделушке – печати знаменитой актрисы и прелестной женщины, ставшей последней любовью Ивана Сергеевича Тургенева, – Марии Григорьевны Савиной. Голубой халцедон красиво обвила изящная золотая ленточка, капризно свиваясь в прихотливый бант.[683]
Считают, что, возможно, именно в мастерской Эрика Коллина по заказу Александра III в 1884 году создали первое пасхальное яйцо-«сюрприз», открывшее целую серию этих маленьких шедевров ювелирного искусства. Желая напомнить своей супруге Марии Феодоровне то время, когда она, датская принцесса Дагмара, резвилась и играла во дни девичества в замке Розенборг в Копенгагене, где хранилось сделанное в XVIII веке чудо-яйцо, российский самодержец поддержал замысел Фаберже сделать повторение диковинки, и копия удалась: правда, «скорлупа» оригинала выточена из слоновой кости, а у Фаберже её имитирует белая непрозрачная эмаль, нанесённая на золотую основу. Зато оба яйца раскрываются, и, как в матрёшке, в них оказывается золотой желток, в желтке же сидит золотая курочка с рубиновыми глазками. Но если в датском варианте в курице заключена золотая, унизанная жемчугом корона, а в ней покоится золотое кольцо, то в петербургском (поскольку русский венценосец делал свой подарок в 1885 году, когда исполнялось 20 лет со дня обручения августейшей четы) усыпанную сверкающими алмазами императорскую корону дополняло крошечное пасхальное яичко, в знак пламенной супружеской любви выточенное из алого рубина.[684]
С тех пор каждый год на Пасху императрице Марии Феодоровне дарилось яйцо-сюрприз от Фаберже, а с воцарением Николая II, с Пасхи 1895 года делалось ещё одно – для его жены Александры Феодоровны. Главный художник фирмы Фаберже, Франсуа Бирбаум, вспоминал: «Рисунки этих яиц не представлялись на утверждение. Фаберже предоставляли полную свободу в выборе сюжетов и в самой работе. Таких яиц было исполнено не менее 50–60 штук, из которых мне пришлось компоновать добрую половину».[685]
Работа эта была не из лёгких, если принять во внимание, что сюжеты обязательно связывались с событиями из жизни императорского дома. Напоминания о политических событиях тщательно избегались. Яйца эти почти всегда открывались, а тогда взору зрителя представала спрятанная внутри вещица. Как правило, движение такого сюрприза обуславливал чрезвычайно сложный механизм, требовавший по-настоящему остроумного решения. Реже миниатюрная «начинка» яйца виднелась через прозрачный хрустальный корпус. Чтобы не повторяться, приходилось постоянно варьировать материалы, внешний вид и содержание очередного пасхального яйца.
Придворные, желая угодить государю, пытались выведать у ювелира секрет очередного подарка. Одна дама настолько надоела своими глупыми вопросами, что Карл Густавович «по секрету» сказал ей, что пытается к грядущей Пасхе сделать квадратные яйца, чтобы продавать их желающим в своём магазине. Когда же великосветская модница, поверив словам Фаберже, явилась за вожделенной покупкой, «старик с серьёзным видом объяснил ей, что он действительно надеялся такие изготовить, но что это так и не удалось».[686].
Многие из этих изделий были подлинными шедеврами ювелирного искусства, поражая как продуманностью композиции, так и законченностью мельчайших деталей. Недаром они вызвали восхищение у посетителей Всемирной Парижской выставки 1900 года. Работа по созданию уникальных произведений была настолько кропотливой, что на её завершение к Страстной неделе уходило около года работы. Бирбаум вспоминал, что, как только завершались пасхальные дни, сразу же начинались творческие муки по созданию яйца (а потом и двух) к следующему великому празднику. «Передавались они главою фирмы лично императору в пятницу на Страстной неделе. Последние дни перед их сдачей были для всех беспокойные: не случилось бы в последнюю минуту что-нибудь с этими хрупкими работами. До возвращения Фаберже из Царского мастера оставались на местах в случае каких-либо неожиданностей».[687]
Когда же монарх заранее пытался выведать у Фаберже, что же за сюрприз ожидает его супругу, мастер вежливо, но твёрдо говорил: «Ваше Величество останетесь довольны». Карл Густавович был вообще очень остроумным человеком и за словом в карман не лез. Тот же Бирбаум приводит в своих записках следующий весьма пикантный эпизод: «Как-то в год рождения наследника мы обсуждали проект очередного пасхального яйца, желая приурочить сюжет его к этому событию. Кто-то заметил, что с самого рождения наследник назначен шефом стрелковых частей и что можно использовать этот факт в композиции. „Да, согласился он, только придётся изобразить грязные пелёнки, так как это единственные пока результаты его стрельбы“».[688]
Архивные документы позволили исследователям не только установить истину, уточнив время создания тех или иных пасхальных императорских яиц, но и выявить целый ряд достаточно искусно исполненных фальшивок. Выяснилось, что всего фирмой Фаберже с 1885 по 1916 годы по заказам Александра III и Николая II для подарка императрицам сделано 50 яиц с сюрпризами. Яйца, готовившиеся к Пасхе 1917 года, из-за Февральской революции не были закончены.[689] Яйцо, предназначавшееся императрице Александре Феодоровне, делалось по проекту самого Карла Густавовича и художника его фирмы Александра Ивановича Ивашева. На причудливой формы облаке, выточенном из белоснежного просвечивающего горного хрусталя, восседали серебряные херувимы, бережно поддерживая яйцо – небесный глобус тёмно-голубого стекла. На верхней половинке «небесной» сферы искусно выгравированы оконтуренные мелкими алмазами созвездия со звёздами из бриллиантов. Самый крупный бриллиант изображал солнце, находившееся в созвездии Льва, под этим знаком появился на свет обожаемый родителями цесаревич Алексей. Агафон Карлович Фаберже перед своим бегством из России передал в Минералогический музей «синий стеклянный резной полый шар на подставке из хрусталя», в котором только в 2001 году узнали детали императорского яйца «Созвездие цесаревича», так и не вручённого последней императрице.[690]
Михаил Евлампиевич Перхин
Подавляющее число пасхальных яиц вышло из мастерской Генрика Вигстрёма и его предшественника Михаила Евлампиевича Перхина.
Этот «исключительный мастер бижутерии, который умел делать сложнейшие вещи»[691], родился в 1860 году в деревне Окуловской Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, самостоятельно освоил ремесло златокузнеца, а уже 24 января 1884 года его записали подмастерьем по золотых дел мастерству Петербургской ремесленной управы.[692] Михаил Евлампиевич Перхин ещё совсем молодым человеком поразил Фаберже своей пытливостью, страстью доискиваться глубин в мастерстве, искусными творениями, их изумительным совершенством и законченностью, блестящей техникой работы с благородными металлами. С 1886 года по самый день смерти, 28 августа 1903 года, он, гениальный самоучка, был фактически главой золотых дел мастеров фирмы. С 1888 года Михаил Евлампиевич имел собственную мастерскую, вначале располагавшуюся на Большой Морской улице, 11, а затем перемещённую в 1900 году в правое крыло третьего этажа выросшего на Большой Морской, 24, особняка Фаберже. Поскольку Перхин соединял в себе громадную трудоспособность, доскональное знание дела и редкую настойчивость в преследовании и остроумном решении определенных часто им самим технических задач, он высоко ценился фирмой и пользовался редким авторитетом среди подмастерьев.[693] С середины 1890-х годов знаменитый мастер не только был вписан в купцы второй гильдии, но и получил личное почётное гражданство.
Именно мастерской Перхина поручали тончайшие чеканные и гравёрные работы, удивительные по красоте и изяществу оправы изделий, выточенных из нефрита на Петергофской гранильной фабрике или же сделанных умельцами Екатеринбурга и Колывани из уральских и сибирских камней. В ней (а производство это было очень значительное) делались лучшие золотые работы фирмы. Недаром здесь в 1891 году виртуозно исполнили по восковой модели скульптора Обера монументальные серебряные каминные часы, поднесённые членами разветвлённого семейства Романовых императору Александру III и его супруге по случаю серебряной свадьбы самодержавной четы.
Архитектор Леонтий Бенуа не поскупился на творческую фантазию, выполняя пожелания тридцати двух великих князей и великих княгинь, а также герцогов и принцев с их супругами, и в избытке поместил вокруг циферблата 25 очаровательных фигурок путти. Шаловливые крылатые мальчуганы, кокетливо изогнувшись, разыгрывают неслышный уху людей концерт небесной музыки, в их ручках зажаты трубы, горны и большой барабан. Но при этом они не забывают о своих основных обязанностях и, соответственно, держат свои грозные орудия: луки и колчаны с острыми стрелами, брачные факелы и венки.
Михаилу Евлампиевичу Перхину (а над наиболее ответственными заказами он работал сам) пришлось воплощать в серебре не только многочисленных амурчиков, но и непременных двуглавого орла, венчающего всю сложную композицию, и грифона, служащего гербом рода Романовых. Особенно хорош грифон: голова орла помещена на мощное тело льва. Клюв широко раскрыт, и из него как будто несётся беззвучный грозный клёкот. Крылья высоко подняты, когтистой шуйцей грифон ухитряется сжимать короткий меч, а десницей придерживает щит с гербами Российской императорской и Датской королевской семей. Качество литья, чеканки и гравировки невольно поражает своей законченностью и редкостным совершенством исполнения (см. рис. 28 вклейки).
Дар ближайших родственников так понравился монарху, что он велел поставить часы в Голубом кабинете Аничкова дворца, а в 1902 году овдовевшая к тому времени императрица Мария Феодоровна давала эту дивную работу фирмы Фаберже на памятную выставку в доме фон Дервиза.[694] Согласно выставленному счёту, Карл Густавович Фаберже получил в 1891 году за эти часы 18 585 рублей, а спустя столетие, на аукционе Кристи, проведённом в 1996 году в Нью-Йорке, пожелавший остаться неизвестным покупатель выложил за уникум 1 650 000 долларов.[695]
Под рукой Михаила Евлампиевича рождались цветы и растения, не только виртуозно исполненные, но и, несомненно, похожие на свои природные прототипы, причём делались они сначала из золота с эмалью, с дополнением драгоценными алмазами, а затем и с использованием поделочного камня. Талантливейшие воспроизведения даров Флоры вставлялись в так искусно выточенные из горного хрусталя стаканчики, что создавалась полная иллюзия налитой в них кристально чистой воды. Этот приём возник от несомненного заимствования и творческой переработки знаменитых дювалевских букетов – гордости Галереи Драгоценностей Императорского Эрмитажа.
Однако работе умельцев «осьмнадцатого столетия» отнюдь не уступают прелестные золотые васильки изумительного оттенка тёмно-синего цвета благодаря нанесённой на лепестки эмали, с изящными тычинками и пестиком, увенчанными розовыми бриллиантами, гармонично сочетающиеся с золотыми, подвижно собранными из множества деталей метёлками овса, легко колеблющимися от малейшего дуновения воздуха (рис. 29 вклейки).[696] Наверно, дивно хороши были исполненные в 1901 году «четыре фиалки эмалевых с листьями».[697]
Идея применения камня в имитации нежных созданий природы возникла, как вспоминал Бирбаум, когда к Фаберже «принесли в починку букет хризантем, вывезенный из дворца богдыхана, после занятия его европейским десантом. Хризантемы были исполнены из кораллов, белого нефрита и других камней; листья из серого нефрита, стебли были сделаны из квадратных пучков проволоки, обмотанных зелёным шёлком. Каждый лепесток цветка незаметно укреплялся проволокой к чашечке цветка».[698] Однако не исключено, что мысль дополнить драгоценный металл деталями, вырезанными из поделочных камней, могла мелькнуть у Карла Густавовича Фаберже при воспоминании о букетах, виденных им в Вене.
В мастерской Михаила Евлампиевича Перхина создавались и отрабатывались в различных материалах и всевозможные фигурки. Прелестные чарки-слоники с хоботом-ручкою, варьирующие датский орден Белого Слона (ибо принцесса Дагмара из королевского семейства этой европейской страны стала русской императрицей и матерью последнего самодержца), не только вытачивались из самых разных камней, в том числе и из чёрного обсидиана, но делались и в металле, а в глазках животных искрились розочки-алмазы или посверкивали алые, как будто налитые кровью, гранаты-альмандины, столь ценимые самим Карлом Фаберже за красоту, удивительную игру и большую твёрдость.[699]
Поражает сказочной красотой и виртуозностью исполнения достойный дар депутации дворянского общества Санкт-Петербургской губернии, поднесённый Николаю II в день коронации, 14 мая 1896 года, – великолепное блюдо из горного хрусталя, в центре которого поместили искусно выгравированный герб Петербурга: скрещённые речной и морской якоря, пересекаемые скипетром, увенчанным императорской короной, символизировали, что столичный град Российской империи одновременно является крупнейшим торговым портом (рис. 30 вклейки).[700] Другие пластинки покрывала тончайшая резьба с узорами-арабесками в духе Позднего Возрождения. Но гораздо сложнее оказалось соединить все 13 отдельных частей, вырезанные из прозрачного твёрдого камня, оправив их в серебро, в единое целое. К тому же драгоценный металл, уже украшенный позолотой и разноцветными эмалями, требовалось аккуратно дополнить сверкающими алмазами.
Хрупкость горного хрусталя, называемого некогда в Европе «богемским» или «арабским алмазом»[701], требовала от мастера особого искусства, и оправа его поручалась лишь самым опытным. Притом этот камень не выносил даже малейшего нагревания, отчего детали его оправы никогда не спаивались даже оловом, а собирались заклёпками и иными способами.[702] Михаил Евлампиевич Перхин с блеском и неповторимым изяществом справился со столь сложной и требующей кропотливого усердия задачей.
Но особенно он прославил своё имя и имя своего патрона созданием восхищающих весь мир по сию пору пасхальных яиц-сюрпризов, подносимых русским императрицам. В каждом пасхальном яйце заключался непременный сувенир, либо видимый сразу благодаря прозрачности сферы, либо неожиданно появлявшийся из-под купола, откинувшегося от нажатия потайной кнопки, завуалированной под деталь орнамента, и тогда перед глазами возникали то вагончики Транссибирского экспресса, то крейсер «Память Азова», то любимая резиденция Александра III – Гатчинский дворец, то первые весенние цветы: нежные ландыши (их так любили дарить на Пасху, так как они напоминали о слезах Богоматери, увидевшей сына на кресте), скромные подснежники, горделивые нарциссы или же царственные лилии, а то и символизирующие неусыпные заботы и думы о близких анютины глазки.
Миниатюрная реплика военного корабля «Память Азова», таившаяся внутри пасхального, выточенного из гелиотропа, яйца, поднесённого Александром III любимой супруге[703], напоминала нежной матери о сыне-цесаревиче, отправившемся в 1891 году с младшим братом Георгием в далёкое и многодневное морское путешествие к берегам Индии, Китая и Японии (см. рис. 31 вклейки). Заботливый сын незадолго до отъезда, на сочельник 24 декабря 1890 года преподнёс ей дивный, исполненный столичным ювелиром Карлом Ганом веер. Императрица Мария Феодоровна поделилась своей радостью от сыновнего подарка с матерью, датской королевой Луизой: «На нём нарисован фрегат „Память Азова', и весь веер украшен морскими принадлежностями, как то – якоря, флаги, руль, маяк, и т. д., и на одной стороне мой вензель, а на другой – его – из рубинов и бриллиантов. Веер прелестный, но слишком красивый, и особенно так мило придуманный моим милым мальчиком».[704]
Перхин же воплотил в золоте и платине грозный полуброненосный корабль, получивший своё название в честь славного предшественника, гордо носившего имя «Азов», напоминавшее о первой морской победе, одержанной Петром I под стенами мощной и считавшейся непобедимой турецкой крепости. Да и сам «Азов» за отвагу, проявленную экипажем в Наваринском бою в 1827 году, первым в российской истории удостоился награждения Георгиевским кормовым флагом и вымпелом. Искусные руки златокузнеца мастерски воспроизвели мельчайшие детали оснастки крейсера «Память Азова»: тончайшие золотые мачты, закреплённые на цепях якоря, крошечные платиновые шлюпки и даже чуть заметные из-за их величины буквы, образующие имя корабля, закреплённого на пластинке, вырезанной из аквамарина, а поэтому как будто плывущего по спокойному лазурному морю. Рокайльный ажурный чеканный золотой узор с вкраплениями цепочек бриллиантов столь искусно закреплён на поверхности гелиотропа, что места соединения металла и камня совершенно не видны. Тёмно-зелёный цвет гелиотропа с красными точками вкраплений напоминает цвет глубоководной океанской пучины, а рисунок оправы – озарённую золотистыми лучами яркого солнца пену бурливых волн, увенчанных белоснежными гребешками. Правда, императрице Марии Феодоровне после покушения в японском городе Оцу полицейского-фанатика на цесаревича Николая Александровича алые пятна гелиотропа стали казаться похожими на капли крови, и она видела в них своеобразное, но непонятое ею сразу предвестие случившегося.
Зато традиционно полученное её невесткой, императрицей Александрой Феодоровной, на Пасху 1900 года яйцо «Великий Сибирский железный путь»[705] напомнило вдовствующей императрице Марии Феодоровне, что в 1891 году, после завершения столь памятного плавания на корабле «Память Азова», будущий самодержец Николай Александрович заложил во Владивостоке конечный пункт Сибирской железной дороги, теперь уже почти выстроенной (см. рис. 32 вклейки). Потому-то грифоны романовского герба гордо возносят на своих крыльях увенчанное двуглавым орлом серебряное яйцо, на поверхности «скорлупы» которого выгравирована карта Российской империи с транссибирской магистралью, причём недостроенные участки обозначены пунктиром. Но само яйцо, полое внутри, служило футляром, хранившим подлинный сюрприз. Если миниатюрный кораблик «Память Азова», закреплённый на аквамарине, просто вытаскивался за золотую петлю, то здесь прятался целый поезд. Умельцы-механики ухитрились вставить в локомотив сложное устройство, не превышающее двух сантиметров в длину, после завода тут же вложенным золотым ключиком приводящее в движение крошечный паровоз, снабжённый рубиновым фонарём и бриллиантовыми фарами, и пять подцепленных вагончиков с окошками из горного хрусталя. Судя по надписям, читаемым только под лупой, второй вагончик предназначался «для дам», третий – «для курящих», а четвёртый – «для некурящих» пассажиров. Пятый вагончик служил передвижной церковью и в миниатюре повторял свой оригинал, построенный в 1896 году и освящённый в присутствии императорской четы в честь Св. Ольги. Фраза, выгравированная на первом вагончике, поясняла, что императорский чудо-поезд осуществляет «Прямое Сибирское сообщение». Невольно поражает и вызывает восхищение изумительная проработка Михаилом Евлампиевичем Перхиным деталей не только из пластичных традиционных золота и серебра, но и из безумно сложной в обработке платины.
Руке того же мастера принадлежит и созданное в 1902 году для подарка императрице Александре Феодоровне ажурное, украшенное сложнейшей витражной эмалью яйцо из переплетённых рубиновыми лентами веточек клевера[706], чьи листья-трилистники, образующие с черешком крест, как считалось, приносили счастье и хранили от неприятностей. Рубины же говорили о страстной любви, испытываемой императором Николаем II к супруге (см. рис. 33 вклейки). Четыре кустика клевера с триадой листиков, выполненные из цветного, слегка зеленоватого золота, сплелись в тончайшую ажурную подставку. Внутри открывающегося яйца когда-то находился сюрприз – четырёхлистник клевера, считавшийся эмблемой удачи. Каждый из его листиков-лепестков помимо миниатюры с портретами, как считают, четырёх дочерей – великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии унизывали сверкающие алмазы. Эту работу Перхина по праву можно назвать «ультра-си» ювелирного искусства, – даже не верится, что человеческие руки могли создать нечто подобное!
Пасха 1903 года пришлась на 6 апреля, а через месяц с небольшим начались пышные празднества в честь 200-летия Петербурга. Двухвековому юбилею основания столицы империи Карл Фаберже посвятил ныне находящееся в музее американского города Ричмонда императорское яйцо, получившее условное название «Пётр Великий», оно украшено живописными портретами Петра I и Николая II, а также видами домика Петра Великого и Зимнего дворца, под крышкой же скрывалось миниатюрное воспроизведение «Медного всадника», только Гром-камень высечен не из гранита, а из сапфира.[707]
Это была последняя работа Михаила Евлампиевича Перхина, великого труженика и экспериментатора. Вечно полный творческих замыслов, стремясь воплотить их собственными руками, применить те самые единственно приемлемые технологические приёмы, нужные для создания задуманного эффекта, он буквально горел на работе. Подобное напряжение всех сил не прошло даром: он надорвался на работе, нервы его не выдержали, а жизненная энергия была на исходе, и гениальный мастер умер в больнице для душевнобольных в 1903 году. Похоронили Михаила Евлампиевича на кладбище петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Живительно, но могила его сохранилась до наших дней.[708] Верная его супруга, подарившая жизнь пятерым детям: сыну Михаилу и дочерям Евгении, Александре, Зинаиде и Асе (Анастасии), пережила мужа только на пять лет.
Никто из потомков ювелира не пошёл по его пути, даже его сын, умная головушка и «золотые руки», будучи уникальным специалистом, отдал свои силы заведованию физическими лабораториями: сначала, в 1920-е годы, – в Военно-морском инженерном училище им. Дзержинского, а в 1930-е – в Университете.
Внук мастера, Олег Михайлович Перхин, во время Отечественной войны попал в плен, после освобождения 10 лет был заключённым в казахстанском лагере, да так и остался на казахской земле, став впоследствии главным режиссёром театра в Темир-Тау. Старшая дочь Михаила Евлампиевича, Евгения, ещё в начале 1900-х годов вышла замуж за учившегося в Петербургском университете тифлисского дворянина Георгия Бадриашвили. Однако брак этот отнюдь нельзя считать мезальянсом. Ещё с середины 1890-х годов знаменитый мастер не только вписан в купцы второй гильдии, но и получил личное почётное гражданство. У потомков этой счастливой четы, ныне живущих в Тбилиси, до недавнего времени свято сохранялась бронзовая медаль Михаила Евлампиевича Перхина, вручённая ему решением жюри на Парижской Всемирной выставке 1900 года.[709] На её лицевой стороне медальер Жак Шаплен вычеканил женскую головку во фригийском колпаке, символизирующую Францию, на оборотной изобразил парящих над городом крылатую Славу и юношу-Гения с факелом в руке, а на размещённой на фоне лавровых ветвей прямоугольной пластинке увековечил фамилию награждённого. В 1974 году правнук ювелира Г.С. Аристов подарил семейную святыню Оружейной палате, и теперь она хранится в кремлёвской сокровищнице рядом с теми шедеврами мастера, которые и обеспечили ему успехи признание.[710]
Хенрик-Иммануил Вигстрём
После смерти Михаила Евлампиевича Перхина его ювелирную мастерскую унаследовал и возглавил его кум Хенрик-Иммануил (Генрих-Эммануэль) Вигстрём (Вигштрём), родившийся 2 октября 1862 года, в Экенесе, в семье бывшего некогда рыбаком церковного сторожа. 16-летним юношей Хенрик приехал в Петербург, где познакомился с Михаилом Перхиным. Будучи почти однолетками, они подружились, и вскоре стали работать вместе, поскольку Вигстрём сделался подмастерьем в мастерской Перхина. Хотя уроженец Экенеса был ревностным прихожанином шведской церкви Св. Екатерины, различие в вероисповеданиях не помешало Михаилу Евлампиевичу Перхину и его жене Татьяне Владимировне стать крёстными отцом и матерью детей Вигстрёма.[711]
Кстати, старшая дочь Хенрика Вигстрёма, Анна-Лилли с семнадцати лет помогала отцу в мастерской, а сын Хенрик-Вильгельм начал работать под его руководством в мастерской с шестнадцати лет и трудился в ней для фирмы Фаберже вплоть до 1917 года, когда оказался вынужден эмигрировать в Финляндию, где в 1923 году открыл в Хельсинки собственную златокузнечную мастерскую, существовавшую до его смерти в 1934 году.[712] Сам же Хенрик Вигстрём, тоже вовремя успевший уехать на родину скончался в 1923 году в Оллила.[713]
Хенрик Вигстрём успешно продолжал дело Перхина, исполняя цветы и фигурки из драгоценных металлов и различных камней, сигаретницы и, конечно же, пасхальные яйца по заказам Императорского двора. Творения Вигстрёма – безупречны по исполнению, но по сравнению с перхиновскими несколько суховаты. Невольно привлекает своей прелестью очаровательная веточка черники с листочками из нефрита, сизые ягодки на которой выточены из очень тёмного лазурита (см. рис. 34 вклейки).
Золотая веточка красной смородины с нефритовыми листочками как будто только что сорвана с куста. Ярко-красные ягоды, кажется, напоены соком.[714] Однако получить такого качества финифть было весьма непросто, и Карл Густавович Фаберже в интервью 1914 года жаловался: «Одна из самых трудных деталей в ювелирно-художественном деле – эмаль. Очень трудно достигнуть яркости цветов, красивых оттенков. Вещь сажается в печку в ярких цветах, а после обжига всё выходит буроватым. Особенно трудно удаётся ярко-красная эмаль».[715]
А какие сюрпризы, подготовленные искусными руками механиков, таились подчас в нежных цветах… Достаточно вспомнить о прелестных анютиных глазках-«pensée с лепестками открывающимися», поднесённых в 1904 году Николаем II своей супруге на память о десятилетии их счастливой семейной жизни. От лёгкого нажатия потайной кнопки неожиданно верхние пластинки лепестков откидывались, открывая портреты тех, кого так любил император и о ком он всегда думал: долгожданного наследника и любимых четырёх дочерей.
В 1904–1905 годах пасхальные яйца хотя и исполнили, как считается, в мастерской Хенрика Вигстрёма, однако они из-за больших потерь в ходе русско-японской войны не были вручены императору. К тому же в начале 1905 года в Первопрестольной террорист-эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича, любимого дядю и свояка Николая II, а затем начались революционные события. Императрица Александра Феодоровна получила яйцо «Московский Кремль» лишь в Пасху 1906 года. Но зато как великолепен был этот подарок! (См. рис. 35 вклейки.)
Он напоминал императрице о визите в 1903 году августейшей четы в Москву на Страстную и Пасхальную недели. Декор яйца навеян архитектурой Успенского собора, поэтому в одном из окошек «храма» виден написанный на находящейся внутри стеклянной пластине празднично освещённый интерьер храма. Блестящий золотой купол верхней части яйца как будто парит над подставкой из красного золота, представляющей своеобразный парафраз на темы кремлёвских стен и башен. На Спасской башне можно разглядеть гербы Российской империи и Москвы, а в киотах над воротами привлекали внимание миниатюрные эмалевые иконки «Богоматерь Казанская» и «Христос Вседержитель». Сюрпризом же яйца служит музыка: золотой ключ заводил механизм, и начинала звучать мелодия «Херувимской», написанной директором синодального хора композитором А.Д. Кастальским, и так понравившейся Николаю II во время исполнения её в 1903 году на литургии в Успенском соборе.[716]
Судя по клеймам, именно в мастерской Хенрика Вигстрёма его подчинённые закончили к Пасхе 1909 года очередной традиционный подарок, предназначенный императрице Александре Феодоровне, – яйцо с моделью яхты «Штандарт» (см. рис. 36 вклейки). На этом изящном кораблике императорская семья часто направлялась в финские шхеры и вдали от утомительного этикета все были счастливы и непосредственны. Даже неприятное происшествие, когда в августе 1907 года «Штандарт» напоролся на необозначенную на карте скалу не оставило печальных последствий из-за прочности конструкций яхты. Недаром вырезанные из ляпис-лазури дельфины, слывущие спасителями утопающих, бережно поддерживают яйцо со «Штандартом», как будто плывущим в прозрачных водах под высоким куполом небес. Сам же миниатюрный кораблик виртуозно исполнил Альберт Хольмстрём, до мельчайших деталей повторив оснастку оригинала, вплоть до крошечных платиновых шлюпок и развевающегося на золотой филигранной мачте императорского штандарта с чёрным двуглавым орлом. К тому же при желании можно было поворачивать золотой руль, менять положение бортовых пушек и якоря, закреплённых на тонюсеньких цепочках.[717]
Некоторые исследователи считают, что именно Хенрик Вигстрём создал в 1910 году предназначавшееся для императрицы Марии Федоровны, украшенное искусной гравировкой яйцо из горного хрусталя, с накинутой на него сверху тончайшей кружевной сетью из платины, с вкрапленными в неё капельками бриллиантов и с заключенной в нём миниатюрной копией памятника её покойному супругу, императору Александру III (см. рис. 37 вклейки).
Конный монумент создал скульптор Паоло Трубецкой, причём моделью служила подлинная лошадь покойного самодержца, а позировал на ней похожий на монарха фигурой фельдфебель Павел Пустов. Памятник императору, по инициативе которого провели железнодорожный путь от Санкт-Петербурга до Владивостока, был водружён возле Николаевского (ныне Московского) вокзала. В мае 1909 года, несмотря на то что памятник не приняла Академия художеств, а многие петербуржцы считали его откровенной насмешкой над царём-«миротворцем», состоялось торжественное открытие. Паоло Трубецкого наградили орденом Св. Владимира IV степени, а специально вызванного из Турина литейщика Эмилио Сперати – Св. Анной III степени.
В 1918 году питерские рабочие защитили памятник императору от разрушения, и благодаря сотням их подписей он не только уцелел, но и специальным постановлением Петросовета признан шедевром, однако в 1937 году бронзового «Миротворца» всё-таки демонтировали, и он мог бы угодить, как «не представляющий художественной ценности» в переплав, если бы не заступничество тогдашнего директора Русского музея, поставившего опальный монумент в музейный двор. Само же пасхальное яйцо с воспроизведением творения Паоло Трубецкого чудом уцелело от продаж и теперь является гордостью собрания Оружейной палаты.[718]
Август-Вильгельм Хольмстрём
В 1897 году Михаил Евлампиевич Перхин с Хенриком Вигстрёмом создали «Коронационное яйцо». Сюрпризом в нём стала миниатюрная модель кареты, исполненная ещё одним крупнейшим мастером фирмы Фаберже – Августом-Вильгельмом Хольмстрёмом.[719] Он родился 2 октября 1829 года в семье каменщика в Киркконумми, затем учился в Петербурге у ювелира Герольда, в 1850 стал подмастерьем, а в 1857 – золотых дел мастером и ювелиром и начал сотрудничать с Густавом Фаберже, назначившим Августа Хольмстрёма старшим мастером.
Вскоре подкопивший денег молодой, но уже зарекомендовавший себя первоклассным специалистом иноземец смог приобрести себе мастерскую на Казанской улице, 25, у своего более старшего сотоварища по учебе, однако продолжал поддерживать теснейшие отношения с фирмой Фаберже. Август Хольмстрём тщательно и придирчиво отбирал достойных работников. После постройки дома Фаберже на Большой Морской, № 24, мастерская Августа Хольмстрёма, производящая ювелирные изделия, заняла в нём правое крыло четвёртого этажа. Скончался Август Холъмстрём 24 октября 1903 года и был погребён на кладбище столичного Воскресенского Новодевичьего монастыря, но могила не сохранилась. Дело старого мастера продолжали его дети и внуки, не говоря уже об учениках. Возглавлял мастерскую теперь сын и наследник Альберт-Вольдемар, родившийся в Петербурге в 1877 году. После революции он покинул ставшую негостеприимной Россию и вернулся на родину. Однако там ему было трудно найти применение своим силам, и в 1925 году Альберт Холъмстрём, не менее талантливый, нежели его прославленный отец, умер в Хельсинки.[720]
При крошечных размерах работы Августа, а затем и Альберта Хольмстрёма отличались поразительной аккуратностью и проработанностью миниатюрных деталей. За более чем полувековое существования мастерской характер ювелирных работ существенно менялся. Если в 1860-е годы бриллианты и цветные камни только декорировали золото, то затем возобновились традиции «бриллиантового осьмнадцатого» века. Теперь сверкающие алмазы зачастую совершенно скрывали серебро основы, а чтобы бриллианты казались более крупными, чем на самом деле, шли на хитрость. Камни закрепляли в ярко отполированных шатонах с отлогими стенками, уподобляющимися своеобразным зеркальцам. Но таковы уж свойства серебра, довольно скоро оно покрывается плёнкой окиси, отчего темнеет и теряет свой блеск, а, соответственно, больше не обманывает глаз насчёт истинного размера самоцветов. Поэтому вскоре пришлось отказаться от подобной манеры закрепки. Наоборот, стали делать закрепку возможно незаметнее, оставляя лишь минимальную, необходимую по технологии, толщину металла.
В моду вошли крупные диадемы, эгреты, колье-ошейники, пластроны для корсажа, пряжки и крупные банты. Бирбаум вспоминал: «То была лучшая пора бриллиантовых работ, изделия этого периода отличаются сочным рисунком, ясно читаемым даже на расстоянии».[721] Любимыми мотивами стали ветки цветов, колосья, искусно завязанные банты; причём ювелир уподоблял себя скульптору, выковывая лепестки и листья, а затем закрепляя на их поверхности тщательно подобранные бриллианты, заканчивавшие своим собственным рельефом детали «лепки».
Три алмазных розы: серебряная, золотая и платиновая
Можно только сожалеть, что в Алмазном фонде нашей страны не сохранилась красавица-роза, судя по виртуозности закрепки, вне всяких сомнений, созданная в мастерской Августа Хольмстрёма в последние годы XIX столетия. Вполне возможно, что прототипом её стал хранившийся среди фамильных драгоценностей императорской семьи дивный цветок «чарующего впечатления», с бразильскими алмазами, закреплёнными в серебряной ажурной оправе, из которых выделялся образующий сердцевинку «царицы цветов» индийский солитер в 38,75 карат, а листочки были закреплены подвижно на штифтах.[722] Эту чудную вещь, вероятно, в 1830-е годы сделал оставшийся неизвестным ювелир для императрицы Александры Феодоровны, прозванной «Белым цветком».
Однако основой новой розы, исполненной в 1896 году к коронации соименной императрицы, урождённой принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской, Август Хольмстрём и Карл Фаберже сделали бледное золото. На листочках в ажурную оправу были почти незаметно закреплены кажущиеся снежно-белыми алмазы, а оттенки окраски «царицы цветов» формировали на сей раз солнечно-жёлтые бриллианты. Среди них выделялись своей красотой и величиной два редкостных камня в 22 карата: нежно-жёлтый в самой розе и с красноватыми прицветами в бутоне.[723] Эта роза призвана была напоминать о прозвище обожаемой жены Николая II, которую на её родине любили называть ласково-уменьшительно «Санни», то есть «солнышко».
Брошь в виде ветки с цветком розы. Конец XIX в.
Любопытно, что уже в наше время идея создать в металле и камне розу, которая передавала бы очарование и таинственность царственного растения, пришла к мастерам, работавшим при Алмазном фонде СССР. Монтировщик Виктор Владимирович Николаев, выросший в семье живописца и сам тонкий художник, любивший в проникновенных акварелях запечатлеть прелесть и нежность цветов или поэзию Подмосковья, перебрал множество эскизов, пока композиция наконец-то его удовлетворила: «как живая» выглядела веточка розы, будто только что срезанная с куста. Черешок ещё искрился соком, а сама она склонилась под тяжестью горделивого белоснежного цветка, на лепестках которого, как и на листиках и только начинающем распускаться навстречу солнцу бутоне, застыли капельки утренней росы. Рисунок вызвал восхищение. Его коллега, закрепщик Геннадий Фёдорович Алексахин, обычно украшавший поверхность вещей, сделанных Николаевым, сплошным ковром самоцветов, искусно и надёжно закрепляя их в золото или серебро, с радостью поддержал мечту друга, но воплощение её потребовало двух лет напряжённой, физически изматывающей работы.
Вначале пришлось повозиться с подходящим по тону недрагоценным сплавом. Готовая модель вызвала такой восторг у начальства, что было решено попробовать сделать основу из платины, так как оправа не должна была отбрасывать на хрустальной чистоты бриллианты ни малейшего прицвета. Неподатливый металл с трудом, но всё-таки раскрыл свои секреты упрямому мастеру, навыки обращения с платиной были отработаны. Эстафету создания шедевра принял Алексахин и, осторожно перенеся бриллианты с макета, на котором было отработано их размещение, искусно и безукоризненно закрепил все 1466 камней на подготовленную основу. Взорам восхищённой публики предстала роза, по чьей платиновой поверхности, сплошь унизанной алмазами, непрерывно пробегали радужные всполохи, так как отдельные детали были закреплены на стальных пружинках.[724]
В. Николаев, Г. Алексахин. Роза. 1970 г.
В пору увлечения дизайнерами фирмы Фаберже стилем «ампир» в изделиях появилась сухость, строгие линии меандров и волют не допускали применения рельефов, а бриллианты, находящиеся в одной плоскости, теряли часть своей игры, уничтожая друг друга своим блеском. К тому же, чтобы блеснуть виртуозностью закрепки, в мастерской Хольмстрёма стали применять в орнаментации столь мелкие бриллианты и алмазы-«розы», что камни практически теряли свою радужную «игру» и уже на близком расстоянии казались серой компактной массой. К тому же, как критически констатировал Бирбаум, «чрезмерное применение мелких бриллиантов – грубая ошибка во всех отношениях, вещи теряют в игре, то есть в главном достоинстве бриллианта. А затем, обилие мелких камней понижает материальную ценность предмета, увеличивая в то же время очень значительно стоимость работы».[725] Оказалось, что такая работа применима лишь в небольших предметах, в кольцах, браслетах, брошках и подвесках. Только тогда глаз мог различить и оценить богатство рисунка, законченность деталей. Пришлось прибегнуть в исполнении большинства подобных изделий либо к чистой платине, либо к сплаву её с серебром, так как она не темнеет, а её красивый серебристо-серый оттенок вдобавок подчёркивает белизну бриллианта.
Платиновая оправа соединяет два искусно вырезанных куска горного хрусталя, образующих верх и низ сигаретницы.[726] На камне, своей прозрачностью и чистотой действительно напоминающем окаменевший лёд, выгравированы волшебной красоты узоры. Узенький ряд крошечных, тесно поставленных друг к другу алмазов-«розочек» окаймлён платиновыми ободками. Сигаретница очень красива по цвету, однако прав Бирбаум: обилие прямых параллельных линий и концентрических кругов придаёт подобным вещам «сухость, которая не искупается никаким богатством деталей» (см. рис. 38 вклейки).[727]
Всё чаще в работах фирмы Фаберже в начале ХХ века применяют удачную новинку: цветные камни прямоугольной формы с одним фацетом закрепляли ровною сплошною узкою лентою так, что в промежутках между ними металл основы совершенно не был виден. При удачном подборе камней эти цветные полоски, помещённые между бриллиантами, красиво акцентировали рисунок. Кстати, в такой манере, предвещающей наступление нового стиля «арт-деко», создавал свои творения в это время и Картье, многое заимствовавший у гениального петербургского ювелира.[728]
Андерс-Йохан (Юханинпойка) Невалайнен
Одним из учеников Августа Хольмстрёма был Андерс-Йохан (Юханинпойка) Невалайнен. 16-летний Антти приехал в Петербург в 1874 году, а уже через 11 лет стал золотых дел мастером. После упорного совершенствования в своём ремесле у придирчивого и строгого наставника талантливый финн в 1895 году смог наконец-то завести собственную мастерскую[729] и обрести славу в создании серебряных и золотых вещей, украшенных монетами или их односторонними имитациями-«брактеатами», сверкающими под слоем прозрачной эмали. Они вошли в моду, как рассказывает легенда, с памятного ужина, данного известной прима-балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской, когда её именитые гостьи и соперницы по сцене бросили на память разные монетки в серебряное блюдо, а утром посланный от Фаберже принёс его назад хозяйке, но все денежки оказались теперь накрепко вплавленными в эмаль.[730] После революции Андерс Невалайнен уехал в Финляндию и скончался в апреле 1933 года в Териоках (ныне Зелено горек), где его сын Арвид, ставший часовщиком, даже имел собственный магазин.[731]
Кнут-Оскар Пиль
В мастерской Августа Хольмстрёма начинал свою учебу и даже нашёл своё семейное счастье Кнут-Оскар Пиль. Он родился в Боллстаде в апреле 1860 года в семье приходского портного, а поскольку в ней было 11 детей, то шестилетнего мальчика послали из-за финансовых затруднений к брату отца, ставшему часовщиком в Петербурге, и дядюшка даже усыновил мальчугана. Однако у матери разрывалось сердце от разлуки с малышом. Она приплыла за сынишкой в российскую столицу на попутной барже и вернулась с ним домой, но на родине ребёнок чуть не умер от голода, а поэтому бедные родители сочли за лучшее возвратить его приёмному отцу, вскоре пристроившему смышлёного мальчугана в ученики к ювелиру. Кнут-Оскар так полюбился своей аккуратностью, характером, исполнительностью и талантом Августу Хольмстрёму, что тот в 1887 году выдал свою старшую дочь Фанни за многообещающего молодого мастера и порекомендовал зятя Карлу Фаберже в управители и главные мастера московского отделения фирмы, с чем Пиль успешно справлялся вплоть до безвременной смерти в 1897 году.[732]
От этого брака на свет появилась известная художница Альма-Терезия Пиль, прославившаяся эскизами к ювелирным работам, особенно к «Мозаичному» пасхальному императорскому яйцу, где, будто крестиком по канве, вышиты цветы, но только вместо шерстяных ниток ячейки платиновой сетки заполнены «инеистыми» бриллиантами, алыми рубинами, лазурными сапфирами, ярко-зелёными изумрудами и золотистыми топазами. Не менее выразительно оказалось и «Зимнее» яйцо, с мотивами, навеянными морозными узорами на окнах. Воплотили и то и другое в предусмотренных ею драгоценных материалах мастера, работавшие в мастерской её дяди, златокузнеца Альберта-Вольдемара Хольмстрёма[733], успешно продолжавшего с помощью мастера Лаури Риинянена дело после смерти отца. Кстати, другая дочь Августа Хольмстрёма, Хилма-Алина, также стала дизайнером фирмы Фаберже.[734]
Кнут-Оскар Пиль успел до своей безвременной кончины сделать, исполняя заказ самой императрицы Александры Феодоровны, великолепное украшение для корсажа, называемое иногда «пластроном», входившее в состав изумрудного гарнитура.[735] (Дивной красоты диадему и ожерелье, как уже упоминалось выше, создали «петербургские» Болины.) Съёмный треугольник нагрудника-«пластрона», образованный пятью бантами, причудливо «вывязанными» из сплошь усыпанных бриллиантами лент вокруг изумрудных кабошонов, получился таким эффектным, что его, спустя почти столетие, повторили по старой чёрно-белой фотографии (правда, уже не в золоте и серебре, а в золоте и платине, да к тому же чуть изменив пропорции) Виктор Николаев и Геннадий Алексахин, ювелиры Алмазного фонда СССР.[736]
Август-Фредрик Холминг
«Исключительным золотых дел мастером» фирмы был Август-Фредрик Холминг (1854–1913), чья мастерская (где исполнялись наряду с ювелирными изделиями многочисленные, служившие для жалованных подарков табакерки и папиросницы) вначале размещалась на Казанской, № 35, а затем располагалась на втором этаже особняка Фаберже.[737]
Его сын Август-Вяйнё, как и отпрыски других сотрудников фирмы, также рано начал работать в отцовской мастерской, а затем продолжал вести её после смерти родителя. В революцию он уехал в Финляндию и организовал там мастерскую, совсем недолго, только с 1921 по 1925 год, функционировавшую в Хельсинки.[738]
Бриллиантовый склаваж-колье с жемчугами и изумрудами. Фирма Фаберже. Около 1897–1898 гг.
Отправилось на зарубежные аукционы сделанное в последние годы XIX века из коронных камней для знаменитого придворного маскарада 1903 года ожерелье с подвеской-«севинье», выдержанное в стиле времён царя Алексея Михайловича и сплошь усыпанное алмазами, перемежающимися с нитями жемчуга, красиво сочетающимися с вкраплениями густо-зелёных изумрудов. Хотя оно и собрано наспех с помощью тонких серебряных нитей, но великолепно по компоновке и общему рисунку.[739]
Та же судьба ожидала и сделанную в пару к этому склаважу роскошную брошь-«севинье», «несколько тяжёлую, но всё же красочную и отвечающую рисунку русского костюма». Мастера фирмы Фаберже специально подобрали для подчёркивания изумительного травянисто-зелёного цвета громадных смарагдов бразильские бриллианты жёлтых оттенков. Изумруды необычной старой огранки с верхней слабо округлённой поверхностью были действительно чудо как хороши. Шестиугольный красавец в подвеске весил 21 карат. Зато общая масса двух камней ромбической формы составляла 140 старых карат, а когда эксперты ферсмановской комиссии перевзвесили в 1922 году изумруды, то невольно ахнули: их уточнённый вес оказался равен 174,10 метрических каратов.[740]
Брошь-севинье с изумрудами. Фирма Фаберже. Около 1898 г.
Некогда эти два смарагда, окружённые 48 бриллиантами в 38 карат, украшали замочки пары браслетов императрицы Марии Феодоровны, супруги Павла I. Однако следует сказать, что один из сих «больших продолговатых изумрудов, хорошаго цвету, но с пороками» был заимствован с верхушки «цепочки крючком» усыпанных бриллиантами и смарагдами карманных часов императрицы Елизаветы Петровны. В середине XIX века эта изумительная работа английского часовщика Годфри Поя вместе с многими коронными вещами оказалась в Галерее драгоценностей Императорского Эрмитажа.[741] Поэтому когда начались работы над брошью, с одного из изумрудов сделали точную копию из стекла, имитировавшего драгоценный камень, и вставили её на законное, почти столетие остававшееся пустым место. Кстати, эта замена спасла дивные часы от продажи на аукционе, так как чересчур «разборчивые» покупатели не пожелали приобретать вещь с фальшивыми камнями.[742]
Скорее всего, именно Кнут-Оскар исполнил для родной сестры царицы, великой княгини Елизаветы Феодоровны, чудесную диадему с изумрудами: достаточно простого рисунка, она восхищает своей строгостью.
К сожалению, отечественные музеи практически не располагают чисто ювелирными, связанными с декором костюма, украшениями, исполнением которых особенно славились у Фаберже ателье обоих Августов, Хольмстрёма и Холлминга.
Йохан-Виктор Аарне, Карл-Густав-Ялмар Армфельт
Йохан-Виктор Аарне (1863–1933) делал золотые и серебряные веши с эмалью, подобные очаровательному, некогда принадлежавшему актрисе М.Е Савиной звонку, чей корпус украшен чрезвычайно красивого оттенка сиреневой эмалью, нанесённой на гильошированную поверхность металла, чей цвет подчёркивается и оттеняется кнопкой из фиолетового аметиста.[743]
Мастер оказался неравнодушен к новым тенденциям в искусстве, когда по заказу Двора в стиле модерн дополнил серебром сделанную на английской мануфактуре Доултон фаянсовую вазу модной формы. Прихотливо вьющиеся плети гороха с листьями и многочисленными стручками красиво свисают с ободка вдоль удлинённого горла сосуда, а металл изысканно сочетается по цвету с керамикой оттенка бычьей крови. Недаром эта ваза украшала интерьер Палисандровой гостиной Александровского дворца в Царском Селе – любимой резиденции последней венценосной четы.[744]
Может быть, именно эта работа Виктора Аарне вызвала к жизни следующие строки записок Бирбаума: «…стиль „модерн“ не получил широкого распространения в ювелирных изделиях фирмы: распущенность форм, разнузданность фантазии, не останавливающиеся перед абсурдами, не могли прельстить художников, привыкших к известной художественной дисциплине. Признавая художественную ценность произведений отдельных личностей, как Лалик, тем не менее подражать ему считали бесполезным занятием и были правы. Подражатели ничего не оставили равного его работам, а лишь потеряли свою собственную физиономию. За исключением нескольких вещей, исполненных по особым заказам, фирма не выпустила ни одной значительной работы в этом роде».[745]
В 1904 году Виктор Аарне предпочёл переехать в Выборг и там открыть новое дело, а свою мастерскую в Демидовом переулке, № 58, вместе с работавшими в ней 20 мастерами и тремя учениками уступил за 8 тысяч рублей Карлу-Густаву-Ялмару Армфельту (1873–1959)[746], окончившему 5 классов немецкой художественной школы и Штиглицевское училище.
Хотя вначале сын владельца фирмы, Агафон Карлович Фаберже, да и сам Карл Густавович сомневались, сможет ли молодой мастер заменить опытного Аарне[747], но его работы рассеяли сомнения, и Ялмар Армфельт достойно вошёл в коллектив ведущих серебряников, заняв в производстве фирмы с 1908 года место ушедшего на покой Раппопорта.[748]
Юлиус-Александр Раппопорт
Лучшим мастером-серебряником фирмы Фаберже был Исаак Абрамович Раппопорт, при переходе в начале 1890-х годов в лютеранство принявший имя Юлиус-Александр (но чаще его называли Юлием Александровичем, так как крещёные евреи получали отчество царствующего самодержца).
Будущий знаменитый мастер родился в 1850 году в местечке Датнов Ковенской губернии. Считалось, что он учился в Берлине у Шеффа, а затем в 1883 году появился в Петербурге, где сразу завёл собственную мастерскую, размещавшуюся на Екатерининском канале, № 65.[749] Однако, согласно документам, не так давно обнаруженным одним из исследователей, Исаак Раппопорт ещё в 1880 году получил диплом подмастерья в Санкт-Петербургской ремесленной управе и там же в 1884 ему вручили и диплом мастера, а с 1896 года он вступил (через 16 лет после появления в Северной столице) во 2-ю купеческую гильдию. Скончался Юлиус-Александр 15 октября 1917 года, но могила его на Смоленском лютеранском кладбище, к сожалению, не сохранилась.[750]
В мастерской Раппопорта создавались самые разнообразные вещи, начиная от мелких предметов для письменного стола и кончая вазами, канделябрами и целыми парадными сервизами с непременными декоративными украшениями обеденных столов, называемыми французским термином «сюрту де табль» (surtout de table). Ко дню бракосочетания великой княжны Ксении Александровны, выходившей замуж за своего двоюродного дядю, великого князя Александра Михайловича, в 1894 году была сделана из высокопробного серебра заказанная её венценосным отцом «сервировка для стола, состоящая из 29 предметов» чеканной работы в стиле ампир и весившая 707 фунтов 93 золотника.[751] Бирбаум вспоминал, что эскизы для этой работы сделали «настолько неудачно, что, несмотря на все изменения, при приведении их в состояние рабочих чертежей, эти громоздкие и ценные предметы всё же оставляли желать лучшего в смысле стиля и пропорции. Так как эскизы были утверждены императором, то коренные изменения были недопустимы и пришлось ограничиться исправлением в деталях».[752]
Мастерская Раппопорта. 1900-е гг.
А с 1908 по 1911 годы сотрудники мастерской Раппопорта и в первую очередь сам её хозяин трудились над парадным сервизом для приданого другой дочери покойного Александра III – великой княжны Ольги Александровны к её свадьбе с принцем Петром Александровичем Ольденбургским. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна сначала забраковала рисунки, представленные Фаберже. На всякий случай Карл Густавович показал августейшей заказчице новые эскизы: три предполагаемых сервиза дизайнеры-композиторы выдержали в стиле рококо, или Людовика XV, и столько же – в духе раннего классицизма времён Людовика XVI. Императрица выбрала классический стиль. На сей раз сервиз, стоивший тоже 50 тысяч рублей, но с вензелями «О. А.», включал в себя 32 предмета.[753]
Как и Михаил Перхин, Раппопорт был художественной натурой и подлинным «трудоголиком». Первый и лучший работник своей мастерской, он, любя своё ремесло, лично воплощал за верстаком свои задумки и буквально «горел на работе», чем довёл себя до нервного переутомления и вынужден был отойти от дел на покой.[754]
О мастерстве проработки им серебра ярко свидетельствует графин, имитирующий очаровательную, чуть комичную фигурку бобра. Чеканка, дополняющая литьё, исполнена настолько виртуозно, что густая шёрстка животного даже кажется мягкой на вид.[755]
Не исключено, что именно стеклянную, в великолепной серебряной оправе «витрину для драгоценных вещей» в виде «портшеза в стиле Людовика XVI», исполненную искусником-мастером, император Николай II специально приобрёл за 900 рублей 23 марта 1896 года, чтобы через полторы недели преподнести в ней своей обожаемой супруге на Пасху хрустальное яйцо с изумрудом и розами и с вращающейся внутри дюжиной миниатюр с видами дворцов, «в которых Ея Величество провела свою жизнь», ныне находящееся в музее американского города Ричмонда.[756]
Пепельница в виде бекаса. Фирма Фаберже, мастер Юлий Раппопорт. Между 1899 и 1905 гг.
Раппопорт, как и Перхин, собственноручно выполнял наиболее ответственные заказы, продумывая мельчайшие детали композиции и её цветовой гаммы, подбирая необходимый оттенок позолоты и соответствующую замыслу фактуру. Потому-то благородный металл в его работах то напоминает пушистые пёрышки бекаса,[757] то чётко и графично передаёт фигуры загадочных сфинксов Древнего Египта (см. рис. 42 вклейки),[758] то воспроизводит чуть зыбящуюся гладь болотного озерка с реющими над ним стрекозами[759], то похож на узловатые, переплетающиеся корни и прихотливо извивающиеся стебли каких-то фантастических растений (см. рис. 41 вклейки).[760]
Полон мощной силы словно сошедший с родового герба Романовых грозно клекочущий грифон, хотя и потерявший в вихре революционных бурь щит, но по-прежнему крепко сжимающий в правой лапе меч. Фигурка эта послужила даром великого князя Георгия Михайловича, знатока живописи и страстного коллекционера-нумизмата, на открытие 7 марта 1898 года Русского музея Императора Александра III (см. рис. 39 вклейки).[761]
Но подлинный успех ожидал Юлия-Александра Раппопорта при создании «вазочки дымчатого топаза» (см. рис. 40 вклейки). Её, скорее всего, в 1898 году исполнил, придав твёрдому кварцу форму фантастического колокольчика на коротком стебле, неизвестный камнерез-виртуоз Петергофской гранильной фабрики. Струящиеся, текучие линии, характерные для стиля модерн, как нельзя лучше передают взвихренные волны моря и плывущую в них русалку. Цвету «раухтопаза» очень точно соответствует оттенок позолоты серебряной фигурной ножки, металл которой уподоблен прихотливо вздымающимся косматым валам океанской бездны.[762]
Стефан Вякеве (Вякевя, Векеве)
Другим ведущим серебряником фирмы был финн Стефан Вякеве (Вякевя или, по-шведски, Векеве), родившийся 4 ноября 1833 года в Сяккиярви, 10-летним мальчиком приехавший в Петербург искать фортуны и через 13 лет ставший мастером. В его мастерской на Рождественской, № 5, делались многочисленные кофейные и чайные серебряные сервизы, столовое серебро и различные блюда, вазы и украшения. «Так как производство столового и посудного серебра было поставлено в крупном масштабе на Московской фабрике Фаберже, то эта мастерская играла лишь вспомогательную роль».[763]
Скончался Стефан Вякеве в приютившей его столице Российской империи 17 июня 1910 года, но дело его, как и других ведущих мастеров фирмы Фаберже, продолжали его потомки, зачастую представители не только второго, но и третьего поколений. Оба его сына, Константин-Симеон и Александр Вякеве, стали серебряниками и пошли по стопам отца, помогая ему ещё при жизни в его мастерской.[764]
Мастерская Альфреда Тилемана
Мастерская Альфреда Рудольфовича Тилемана (1870–1909), размещавшаяся на верхнем этаже особняка Карла Фаберже, «изготовляла почти исключительно юбилейные и другие знаки, жетоны, ордена», поскольку «многие клиенты фирмы не удовлетворялись орденами и знаками казённого образца крайне грубой работы и обращались к фирме за таковыми более художественной работы».[765] Миниатюрные эмблемы не только должны быть легко узнаваемы, а поэтому большое внимание уделялось рисунку-эскизу. Требовалась и подлинная виртуозность воплощения. Ведь в одной вещи сочетались как золото и серебро, так и прочие металлы требуемого оттенка цвета, всё обычно обильно дополнялось эмалью, а подчас и камнями. Чёткие силуэты, сложная вязь или идеальный шрифт надписей выгодно отличали эти работы фирмы Фаберже, а поэтому поток заказов не иссякал.
Хранившийся в Собственной коллекции императорской семьи жетон Кавалергардского полка в виде полкового флюгера из двух красных и одного белого угла, с накладным золотым вензелем «МФ» в центре, учреждённый в память шефства императрицы Марии Феодоровны 2 марта 1906 года, очень наряден. Мастер применил не только золото, но и серебро, а сквозь прозрачную эмаль просвечивает гильошированный фон.[766]
В 1909 году в Петербурге прошла с большим успехом Международная выставка новейших изобретений имени его императорского высочества наследника и цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Чтобы напоминать об этом событии, мастерская Альфреда Тилемана выпустила круглые серебряные жетоны с цепочкой. В центре лицевой стороны красовался портрет наследника в морской шинели и фуражке, а на обороте чётко читалось название выставки. Экземпляр, поднесённый августейшей чете, сделали особенно тщательно: портрет порфирородного малыша благодаря тончайшей гравировке напоминает, скорее, фотографию, да и надпись на обороте также аккуратно выгравирована. Участникам же выставки раздали на память аналогичные, но уже штампованные жетоны, зато на околыше фуражки высочайшего покровителя престижного мероприятия читались литеры названия императорской яхты «Штандарт».[767]
Мастерской Тилемана приходилось много работать для Императорского Кабинета, заказывавшего всевозможные мелкие предметы для награждения отличившихся. Николай II, посетивший Московский дворянский институт благородных девиц, был доволен увиденным. Особенно ему понравилась выставка рисунков, сделанных институтками под руководством их учительницы Инны Григорьевны Самсоновой (1877–1972), выпускницы Московской школы живописи и ваяния. Преподавательница заслужила высочайшее пожалование: Московский губернский предводитель дворянства передал ей при официальном письме прелестную брошь: двуглавый орёл российского герба как будто парил над лавровым венком. Драгоценный подарок, исполненный из цветного золота, отчасти матового, отчасти полированного, дополняли синие сапфиры и искрящиеся всеми цветами радуги алмазы (см. рис. 43 вклейки).[768]
По смерти владельца мастерская, сохранив клеймо «АТ», перешла в ведение самой фирмы, и ею управлял мастер В.Г. Николаев.[769]
Особенности технологии производства эмалей в фирме Фаберже
Для передачи тончайших колористических эффектов мастера фирмы употребляли до десятка оттенков золота, использовались разноцветные эмали, обыгрывался ими и нацвет алмазов. Не только эмальерное, но даже и позолотное дело выделили в особые мастерские.[770]
Эмальерной руководил Николай Александрович Петров, проживавший в отчем деревянном двухэтажном доме № 5 на Лодейнопольской. Там у этого редкостного доки в избранной профессии, одновременно ещё в 1912 году исполнявшего обязанности присяжного мастера Ремесленной управы по граверному мастерству снимал квартиру Франц Петрович Бирбаум.[771] Впоследствии швейцарец вспоминал, что именно Николаю Александровичу фирма во многом была обязана известностью, которой пользовались её эмальевые работы. Сын эмальера Александра Фёдоровича Петрова, он с детства освоился со сложным делом, изобилующим неудачами, причина которых то в металле, то в обжиге, то в самой эмали. Он настолько овладел всеми тонкостями техники, что ему удавались задачи, перед которыми пасовали и очень известные заграничные эмальеры. Получи он в своё время художественное образование, он, без сомнения, превзошёл бы многих из них. Нередко бывало, что при ответственных заказах, фирма, желая уберечь себя от возможных неудач, заказывала одну и ту же работу ему и за границей, но очень редко случалось, чтобы заграничное исполнение заслужило бы предпочтение. Работа была его стихией, в отличие от других мастеров, он все работы исполнял лично.[772]
Благодаря подвижничеству Николая Александровича Петрова, разрабатывавшего всё новые и новые составы эмалей и неустанно экспериментировавшего с режимами обжига и последовательностью нанесения слоёв, в работах фирмы Фаберже применялось свыше 500 оттенков эмали, то есть столько, сколько не знало эмальерное дело ни до, ни после, в настоящее время эмалевая палитра самых известных итальянских и французских фирм не превышает 60 колеров.[773]
Предпочтение отдавалось эмали, нанесённой на плоско-рельефный рисунок, награвированный вручную или с помощью гильошировального станка. Она потому так необычно и выглядела, что требовала не только чрезвычайной тщательности в нанесении узора, не только шести-семи нанесённых в определённом порядке слоёв эмалевых покрытий различных цветов, уподобляющихся тончайшим лессировкам в живописи, но и специальных знаний при многократных обжигах, связанных с необходимостью выдерживания нужного интервала времени при заданной температуре. Недожог и пережог грозили неполучением требуемого оттенка, который к тому же резко отличался по цвету от наносимого на поверхность изделия перед обжигом порошка эмали. Вдобавок приходилось к тому же проводить долгие часы за ручной полировкой после каждого выхода вещи из муфеля.
Зато даже простейший сетчатый рисунок, награвированный тонким резцом, переливался под несколькими искусно подобранными слоями эмали, как муаровая ткань, каждая складка которой светилась только ей присущим цветом.[774] Поражает разнообразие цветов и оттенков прославленных прозрачных или напоминающих драгоценный опал, слегка замутнённых, но зато переливающихся радужными всполохами эмалей, что создаёт волшебное зрелище. Эти восхитительные финифти были плодом неусыпных экспериментов отца и сына Петровых, всё время колдовавших над составами, порядками чередования 4–5 тонюсеньких слоёв, создававших эффект своеобразных лессировок, рецептами режимов обжига. Из-под поверхности, сияющей ярким блеском от долгих часов окончательной полировки на деревянном колесе, проглядывали разнообразнейшие рисунки, искусно награвированные на золоте или серебре.
После ликвидации мастерской в годину революций Николай Александрович Петров получил новое назначение: его пригласили на Монетный двор для исполнения для Красной армии знаков с эмалью. Но подлинный подвижник порученного ему дела, как с горечью писал Бирбаум, «даже на эту лишённую всякого интереса работу ради куска хлеба себя не пощадил. Плохое питание и нервное истощение его добили. Лучшего эмальера Петрограда, а может быть, и России не стало. Не стало также хорошего честного человека и труженика».[775]
Выдающимися мастерами были также Фёдор Афанасьев, Василий Соловьёв, Андрей Гурьянов и другие. Различие между мастерскими заключалось, скорее, в количестве использовавшихся технических приёмов и в материалах, нежели в степени совершенства владения ими, так как уровень их был необходимо высок, всем им была присуща непременная ручная доводка всех работ (что, правда, под конец несколько изменилось по отношению к штампованным вещам), а поэтому всем им были свойственны необычайная тщательность отделки и предельная законченность и с технической, и с художественной стороны.
Мастера стремились, чтобы каждый материал раскрыл максимум своих возможностей, и это им удавалось. Высококлассное исполнение сочеталось с серийностью выпуска массовых изделий, отличавшихся друг от друга зачастую только цветом эмали и разницей во вставленных камнях. Одна и та же форма-полуфабрикат, полученная штамповкой, дополнялась различным декором, а затем «доводилась» обычно вручную, что и придавало всем изделиям фирмы прелесть и неповторимость оригинала. Это, с одной стороны, позволяло удешевлять продукцию, благодаря чему этот своеобразный «ширпотреб» мог купить почти всякий желающий иметь вещь «от Фаберже», цены колебались в магазине от 5–7 до 30 тысяч рублей, а с другой, почти не было одинаковых предметов, они хоть чем-нибудь, но разнились, что привносило дополнительную нотку уникальности и налагало печать неповторимости. В предметах же столового серебра «оригинал исполнялся ручною работою лучшими мастерами, а затем воспроизводился в больших количествах механическими способами».[776] Однако благодаря высочайшему уровню вещей «ширпотреба», тот давал достаточную денежную выручку чтобы ведущие мастера фирмы могли спокойно экспериментировать и создавать для состоятельных и понимающих толк заказчиков уникальнейшие произведения, становившиеся подлинными шедеврами ювелирного искусства.
Помимо права на личное клеймо главы мастерских участвовали в решении как общих проблем, возникающих при разработке нового ассортимента, так и частных, касающихся какого-либо сверхответственного заказа. Все они, вместе с лучшими дизайнерами-«композиторами», входили в состав совета, непременными членами которого являлись также Карл Фаберже, его брат, а затем и сыновья. На совете обсуждались и вопросы распределения заказов по мастерским.
В фирме Карла Фаберже «каждая мастерская занимала в среднем от 40 до 60 человек подмастерьев. По специальности они распределялись следующим образом: от 20 до 30 монтировщиков, 5 граверов, 5 чеканщиков, 5 закрепщиков, 5 шлифовщиков, 1–2 гильошера, 1 токарь. Специализация работ шла ещё дальше: монтировщики подразделялись на портсигарщиков, то есть специалистов по изготовлению коробок, табакерок, папиросниц, дамских несессеров, вообще вещей, где шарнирам и затворам нужно уделять особое внимание. Заграничные мастера всегда удивлялись совершенству этих <…> работ. Плотность затворов была такова, что на полированной поверхности папиросницы сразу трудно было найти линию, отделяющую крышку от корпуса, а все коробки и подобные им предметы закрывалась без малейшего звука. Другие монтировщики специализировались на чисто ювелирных работах», закрепляя на брошках, браслетах, колье, диадемах многочисленные алмазы и прочие самоцветы на металлической основе или «на оправах изделий из полудрагоценных камней – нефрита, горного хрусталя, лазурита и др.». Граверное дело также подразделялось «на две специальности: штриховая гравюра, шрифты, орнаменты, картины и резная рельефная гравюра и оборотная работа (выемчатая) для медалей», а в чеканке специально выделялась еще «чеканка отличных работ». В серебряном же деле монтировщики делились «на две категории: посудники, изготовляющие сервизы, самовары и прочую посуду, и монтировщики, имеющие дело преимущественно со сборными отливными работами, канделябрами, фигурами, часами и т. д.
Так как почти все работы включали несколько специальностей, то вещи проходили через несколько рук, а затем части их собирались специалистом-сборщиком. Франсуа Бирбаум, написавший эти строки, совершенно справедливо констатировал: «Такая специализация доводит технику до совершенства, но понижает художественный облик предмета. Проходя через столько рук, он теряет следы индивидуальности мастера; кроме того, так как каждый специалист заботится лишь о совершенстве своей работы, он склонен в случае нужды пожертвовать работой другого специалиста, чеканщика, гравера или эмальера».[777]
К Франсуа Бирбауму в конце 1890-х годов присоединилась целая группа талантливых дизайнеров – выпускников Училища художественного и промышленно-технического рисования барона Штиглица. Следует учесть, что и сыновей Карла Густавовича, прекрасных рисовальщиков,[778] особенно Евгения и Агафона Фаберже, связывали тесные отношения с художниками «Мира искусства». Чутко относились они и к критике Александра Бенуа, зачастую высказываемой в дружеской переписке. Благодаря неустанным поискам художниками новых и оригинальных конструкторских решений, вещам фирмы присуща гармония, возникающая из-за продуманности и точной соразмерности деталей и их органичного соответствия общей архитектонике.
В стремлении придать каждому изделию своеобразный запоминавшийся образ художники обращались в поисках формы к наследию старых мастеров, причудливо, но органично соединяя в одном произведении, на первый взгляд, несовместимое. Перхиновские коробочки-бонбоньерки точно повторяли старую, выработанную в Европе форму табакерок, но украшающим их самоцветам то придан распространённый на Востоке тип огранки «кабошоном», то в поверхность крышки, сформированной из твердейшего сапфира, заглублен изящный золотой орнамент, дополненный капельками рубинов, напоминающий об индийских вещах из сокровищницы Великих Моголов.[779]
Европейские и китайские букеты XVIII века и столь модная на выставках японского искусства «икебана» послужили импульсом для возникновения целых серий изображения самых различных растений, в которых техника камнерезного искусства была до высочайшей степени совершенства доведена мастерами фирмы Робертом Людвиговичем Песту и екатеринбуржцами Петром Михайловичем Кремлевым и Петром Дербышевым, «скульпторами по сибирским твёрдым камням».[780]
До 1908 года почти все каменные работы исполнялись по рисункам и моделям фирмы Фаберже на заводах Верфеля в Петербурге[781] и Штерна в немецком Оберштейне, поскольку «каменнорезное дело» вначале играло в производстве второстепенную роль. Однако всё возрастающее применение камня в ювелирных изделиях из золота и серебра, недовольство художественными недочётами вещей, исполненных на чужих заводах без необходимого наблюдения заставило открыть собственную мастерскую. И теперь художники-дизайнеры, осознав прелесть и красоту поделочных камней, стали ставить их на первое место, зачастую отводя благородным металлам чисто техническую роль скрепок, шарниров и затворов.
Управлять этой мастерской пригласили художника-камнереза Петра Михайловича Кремлева, окончившего Екатеринбургское художественное училище. Под руководством опытного мастера, лично исполнявшего многие, особенно сложные работы, художественный уровень изделий сразу значительно повысился, а самое главное, совершенно исчезла ремесленная сухость исполнения, отличавшая приобретаемые «полуфабрикаты». Кстати, фирма Фаберже вскоре практически поглотила находившийся в доме № 80 по Обводному каналу бронзовый и гранитный завод купца 1-й гильдии Карла Фёдоровича Верфеля (1846 – после 1920), владевшего залежами нефрита в Сибири.
Мастерская с момента открытия в 1908 году всё время была завалена заказами, и её сотрудникам приходилось трудиться сверхурочно. В 1912–1914 годы в ней работали два десятка мастеров, но не поспевали сдать нужное количество работ, поэтому простые вещицы заказывалась Екатеринбургским мастерским.
Особенно талантлив был камнерез Пётр Дербышев, пришедший в Петербург в 1908 году пешком, по пути работая грузчиком или огородником, чтобы как-то перебиться. Бирбаум вспоминал, как вместе со своим приятелем, будущим скульптором Шадром, Дербышев появился в чопорном Петербурге, «оборванный и в лаптях. Мы сразу распознали в нём человека дела и талантливого работника. Фирма поспешила его обуть и одеть; так как в то время собственная мастерская только намечалась, он был поставлен на завод Верфеля, где он проработал год, накопил немного денег. Он с нашими рекомендациями поехал для усовершенствования в Оберштейн, а оттуда он вскоре перебрался в Париж, где работал у художника-резчика Лалика. Последний, в восторге от его способностей, хотел его сделать своим преемником, поженивши его на своей дочери. Судьба решила иначе. Тоска по родине, а может быть, и боязнь женитьбы заставили его вернуться в Россию в начале 1914 года. Мобилизованный в первые же месяцы войны, он погиб при взятии Львова. Фирма поручала ему оборудование и руководство новой мастерской». И далее Бирбаум горестно заметил: «Я нисколько не преувеличу, если скажу, что русское каменно-резное дело потеряло в нём своего лучшего и, может быть, единственного художественно образованного человека».[782]
В семье Фаберже очень ценили Петра Михайловича Кремлева, видя в нём великолепного художника по камню, «который умел вырезать из камня разных пород жизненно достоверные цветы».[783] Бирбаум потом недовольно ворчал, что умельцы уподобились Левше и «как в рассказе о стальной блохе, которую ухитрились подковать, благодаря чему она перестала прыгать и лишилась своего главного интереса, так и тут добились-таки сделать и стебли из камней. Хрупкость этих цветов ещё возросла, и они стали курьёзами каменно-резного искусства, а не художественными произведениями».[784] Однако как не восхититься совершенным исполнением нежного нарцисса со снежно-белыми лепестками из кахолонга и с золотой сердцевинкой с имитирующим «капельку росы» алмазиком, гордо вздымающегося на тонком стебельке, выточенном, как и листочки, из твёрдого, но одновременно такого хрупкого нефрита.[785] Даже китайские мастера останавливались в изумлении, глядя на творение рук петербургских собратьев.
Можно по-разному относиться и к воспроизведению одуванчика. Это, конечно же, настоящий «кунштюк», однако всё-таки следует отдать должное золотым рукам мастера, который ухитрился воспроизвести пушистую головку весеннего цветка, подсобрав натуральные пушинки-«парашютики» и при этом заменив на их концах природные плодики на крошечные алмазы в оправе, благодаря чему исполнена вся конструкция «шара».[786]
Особенно раскрылся мир камня в резных фигурках, изображающих со всем присущим натурализмом подмеченных скульптором Фредман-Клюзелем[787] в наиболее характерных поворотах и позах не только бесчисленных зверюшек и птиц, но и людей, скрупулёзно передавая как костюмы, так и различные типы народов, населяющих громадную Российскую империю, черты, присущие представителям разнообразнейших профессий. На мысль о создании из драгоценных и цветных камней миниатюрных жанровых и анималистических скульптур «композиторов» фирмы могли натолкнуть фигурки Мельхиора Динглингера и японские нэцке (их собиранием так увлекался Карл Густавович Фаберже).
Вначале эти миниатюрные фигурки вырезалась из одного или из однородного камня, а затем перешли к мозаичной скульптуре, «в которой можно было путём оклейки, вкраплением соединить разные камни и получить таким образом эффекты колорита. Когда эти мозаики не слишком близко подражали натуре, художественное впечатление сохранялось, но погоня за новинками, дурной вкус покупателя, часто требующий такого рабского подражания, принуждали выполнять эти работы слишком близко к натуре, чем уничтожался художественный эффект».[788]
Мастера фирмы ввели в оборот ранее неизвестные или малоиспользуемые камни, сделав очень популярными бовенит, обсидиан, демантоид, хризолит и т. и. Они обратились к отечественным камням – так красиво смотрящимся в серебре, дивной красоты уральскому орлецу-родониту и алтайскому белоречиту, чье многообразие оттенков розового цвета напоминало всполохи зари. Они использовали и материалы, обязанные своим появлением на свет достижениям науки, как, например, пурпурин (чей состав изобретён на Императорском Стеклянном заводе С.П. Петуховым), не уступающий, а подчас и превосходящий по поразительно красивой пурпурной окраске стекла природные самоцветы.
Мастерская просуществовала до 1917 года, когда её пришлось закрыть за недостатком как материалов, так и мобилизованных в разное время мастеров.[789]
Кредо истинного художника
В январе 1914 года 70-летний Карл Густавович Фаберже (которому императрица Мария Феодоровна говорила, что тот – «величайший и несравненный гений нашего времени») дал небольшое интервью великосветскому журналу «Столица и усадьба», где высказал своё кредо истинного художника, молвив, что если сравнивать с его делом такие известнейшие фирмы, как Тиффани, Бушерон, Картье, «то у них, вероятно, найдётся драгоценностей больше, чем у меня» и гораздо дороже по стоимости. «Но ведь это торговцы, а не ювелиры-художники. Меня мало интересует дорогая вещь, если её цена только в том, что насажено много бриллиантов и жемчугов.[790]
Он гордился своими изделиями из сибирских камней, особенно из нефрита, из которых вырезались очаровательные фигурки. Недаром прелестная свинка, считавшаяся у австрийцев символом счастья, выточенная с большим искусством из белоречита, входила в коллекцию его сына, Агафона Карловича Фаберже.[791]
Внёс старый мастер и ясность, для чего же выпускались его фирмой все эти набранные из различных камней курьёзные фигурки, цветы и другие художественные вещицы, называемые французским термином «objets dart». Хотя ставший впоследствии известным писателем Владимир Набоков весьма иронически и довольно пренебрежительно отзывался относительно всех этих «минеральных чудовищ, троек, украшенных драгоценными камнями, балансирующих на мраморных страусовых яйцах, и подобных вещей, которые высоко ценились царской семьёй, но для нас были воплощением гротескно-пустого блеска»,[792] сам Карл Густавович в том же интервью, как бы отвечая и возражая всем своим оппонентам, сказал, что подобные его работы – вовсе не «напрасно брошенные на ветер деньги»: «Есть люди, которым давно надоели бриллианты и жемчуг, да иногда и неудобно дарить драгоценность, а такая вещица подходит»,[793] ещё раз напомнив ту истину, что для него желание заказчика – закон, а уж исполнить произведение с подлинным художественным блеском и техническим совершенством – дело мастера.
И старый, но ещё крепко державший бразды правления своего предприятия ювелир с нежностью вспоминал одну из работ почти двадцатилетней давности – поднесённую от нижегородского купечества императрице Александре Феодоровне в честь коронации корзиночку ландышей, любимых цветов царицы, гордясь тем, что та постоянно держит её на своём рабочем столике. Чёрно-белая же иллюстрация[794] хотя не могла передать колористическую тонкость выточенных из жемчуга ландышей и цветового сочетания тончайших золотой и платиновой проволок, из которых сплетена ажурная корзиночка и исполнен пушистый мох, пусть слабо, но всё-таки давала почувствовать очарование и нежность этих цветов. При взгляде на них невольно вспоминаются слова царя Берендея в поэтичной «весенней сказке» Александра Николаевича Островского «Снегурочка», слегка изменённые и положенные Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым на дышащую прелестью и чистотой мелодию:
Полна чудес могучая природа! Дары свои обильно рассыпая. Причудливо она играет: бросит В болотнике, в забытом уголке Под кустиком, цветок весны жемчужный, Задумчиво склоненный ландыш, – брызнет На белизну его холодной пылью Серебряной росы, и дышит цветик Неуловимым запахом весны, Прельщая взор и обонянье.Глава XI Конкуренты Фаберже
Авенир Иванович Сумин – поставщик последней императрицы
Однако своим официальным поставщиком золотых и серебряных изделий последняя русская императрица Александра Феодоровна предпочла сделать в 1913 году Авенира Ивановича Сумина (1869–1913),[795] тем более, что мастер прославился своими камнерезными работами. Ведь его отец Иван Сумин ещё в 1849 году[796] основал фирму по производству вещей из отечественных драгоценных и поделочных каменьев, очень нравящихся при Дворе, и оставался её главой вплоть до смерти в 1894 году.[797] Теперь же ювелирная мастерская, размещавшаяся на Невском проспекте, в доме № 46, гордо называлась: «Сибирские – уральские камни». Стремясь выдержать конкуренцию за счет уменьшения стоимости продукции при сохранении и даже повышении качества исполнения, Авенир Иванович Сумин всегда зорко следил и за новинками техники, а поэтому ещё в 1882 году на Всероссийской выставке в Москве заработал бронзовую медаль «За отчётливую шлифовку искусственных и драгоценных камней».[798]
Как и в наши дни, когда публика увлекается восточным, в частности китайским, календарём, в конце XIX – начале XX века стали очень популярны миниатюрные скульптурки, изображающие всевозможных зверюшек. Работы Авенира Ивановича Сумина с удовольствием приобретали даже великие княгини, которые стремились собрать из введённых ими в моду каменных фигурок животных и птиц целые коллекции. Однако Карлу Фаберже недолго пришлось соперничать с Суминым: тот скончался осенью 1913 года.[799]
Камнерез и непревзойдённый знаток отечественных минералов Алексей Козьмич Денисов-Уральский
Серьёзным конкурентом камнерезов, работавших у Карла Фаберже, оставался Алексей Козьмич Денисов-Уральский (1864–1926). Недаром работы обеих фирм легко путали (да и в наши дни продолжают ошибаться), особенно если фигурка исполнена только из камня или же на металлических дополнениях-оправах недостало места для клейм, а футляр со штампом изготовителя не сохранился.
Любовь к камню озарила всё творчество и деятельность петербургского мастера. Сын екатеринбургского рабочего-горняка, незаурядный художник-самоучка, с ранних лет узнавал от отца, по чьим стопам он пошёл, тайны царства минералов. Талантливый камнерез Козьма Денисов прекрасно владел столь известным на Урале мастерством как рельефного набора из самоцветов и каменной крошки всевозможных картинок и икон, так и исполнения более объёмных «горок» и «гротов», наглядно демонстрировавших «содержимое» их недр.
Ещё под руководством родного батюшки Алексей Козьмич Денисов-Уральский сделал целый ряд подобных изделий для владельца основанной в 1877 году в Екатеринбурге мастерской Александра Васильевича Калугина.[800] Обычно на наборной картине вначале писалось красками нужное изображение, причём будущие низкорельефные детали намазывались клеем и обсыпались толчёным камнем, а более объёмные создавались из цельных кусочков подходящих минералов. Однако чаще это были своеобразные «панорамы», напоминавшие макет сцены с разрисованным задником, но вместо бутафорских аксессуаров на первом плане «пещеры» располагались небольшие горы и скалы, сложенные из камней.[801]
Уже в двадцать лет способный молодой человек получил от Ремесленной управы родного Екатеринбурга звание мастера рельефного мастерства, а его работы отныне начали завоёвывать признание и награды на самых различных выставках. Художественно-промышленная выставка в Москве в 1882 году принесла Алексею Козьмичу Денисову «почётный отзыв» за собранные в изделиях, моделях и коллекциях минералы из месторождений древних «Рифейских» гор, а успех оказался столь велик, что одна из московских гимназий даже приобрела с экспозиции-продажи рельефную каменную картину Урала. На Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, прошедшей через пять лет в его родном городе, талантливый екатеринбуржец получил большую серебряную медаль.[802]
Вероятно, в 1880-е годы сделана оказавшаяся в Минералогическом музее Петербургского Горного института «горка», высотой почти в метр и шириной в 70 см, гордо дополненная авторской подписью: «Екатеринбургъ. Мастеръ Денисовъ». Алексей Козьмич хотел в своём произведении не только продемонстрировать богатства Урала, но и показать, каким трудом они достаются людям. Продольный срез обнажил внутренность горы, и образовавшийся грот изобилует диковинками царства минералов: «Здесь и турмалины всех цветов – от чёрного и густо-синего до розового и бесцветного, и совершенные по форме аквамарины, и друзы гранатов, и гнёзда аметистов, среди которых встречаются диковинные кристаллы с двумя головками, и жила с золотом». На противоположной же стороне горки взгляду зрителя открывался «макет шахты в разрезе с доменной и сталеплавильной печами и прокатным станом».[803]
В 1887 году талантливый камнерез, послушавшись совета друга, уже известного писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, приехал в Петербург. В столице Алексей Козьмич Денисов организовал небольшую мастерскую, взяв в помощь двоих рабочих, а в свободное время сам стал с энтузиазмом посещать Рисовальную школу Общества поощрения художеств, поскольку давно мечтал профессионально освоить искусство живописца, а там преподавали прославленные мастера кисти Иван Иванович Шишкин и Николай Семенович Самокиш.
Ассортимент изделий, создаваемых Алексеем Козьмичом Денисовым из различных минералов теперь зачастую в сочетании с металлом, постепенно увеличивался. Владелец успешного дела, он, чтобы увеличить выпуск каменных фигурок, так нравящихся публике, пригласил к себе в столицу нескольких екатеринбургских мастеров, тем опередив своего соперника Карла Фаберже.
Но всё больше камнереза захватывала живопись. При неоднократных поездках на родину он старался с большой точностью увековечить на холстах не только восхитительные виды гор, поросших лесами, передать строптивость бурных рек, величие разыгравшихся стихий, но и запечатлеть трудную жизнь людей, самоотверженно осваивающих полезные ископаемые. Его полотна выставлялись как в Петербурге, так и в Екатеринбурге и Перми. За картину «Лесной пожар» Денисов получил в 1904 году на Всемирной выставке в Сен-Луи серебряную медаль.
Алексей Козьмич Денисов-Уральский
Сам же он так объяснял, почему взялся за кисть: «Будучи хорошо практически знаком с геологией, минералогией, я как художник смог подметить, понять и воспроизвести те характерные детали явлений природы, которые для обыкновенного наблюдателя остались бы незамеченными. Вот почему мои геологические картины и картины, изображающие горные породы, помимо художественной стороны, должны быть интересны в научном отношении».[804]
Ему неудержимо хотелось прославить неисчислимые богатства и красоты Урала перед всем миром. Какое-то время Алексей Козьмич даже работал в Музее декоративного искусства при училище барона Штиглица в Соляном городке. Если на Копенгагенской и Парижской выставках конца 1880-х годов отметили художественную обработку камня в работах Денисова, то в 1890 году на Казанской научно-технической выставке мастера удостоили малой серебряной медали уже по разделу ювелирно-серебряного производства. На Всемирной же выставке 1900 года в Париже он представил широкой публике великолепнейшие русские аметисты.
Ради пропаганды отечественного камня Алексей Козьмич Денисов устроил в 1902 году в петербургском «Пассаже» выставку «Урал и его богатства», где представил не только 1323 отборных минерала, но и изделия из них. Особенное внимание мастер, в преддверии открытия экспозиции гордо прибавивший к своей фамилии приставку «Уральский»[805], уделил показу многообразия оттенков аметистов и скромной прелести аквамаринов.[806] Кстати, стремясь возродить славу дивных русских изумрудов, он позже приобрёл в аренду Токовский (Люблинский) прииск,[807] чтобы свободно отбирать нужные для будущих работ редкостные по цвету и качеству образцы.
Наконец, в 1903 году этот подлинный знаток природных богатств Урала и Сибири, так заботившийся о судьбе отечественного камня, организовал Горно-промышленное торговое агентство по распространению полезных ископаемых России «Денисов (Уральский) и К°», разместившееся в доме № 42 на Мойке[808]. В этом же году он принял участие в 1-м Всероссийском съезде деятелей геологического и разведывательного дела в Петербурге, а вскоре с успехом прошёл созванный по его инициативе съезд горнопромышленников в Екатеринбурге.
Мастер хорошо знал и чувствовал проблемы, заботившие и волновавшие не только ремесленников и вообще людей, родственных ему по творческой натуре. Недаром, будучи филантропом, он взял на себя хлопотливые обязанности казначея Общества для оказания помощи вдовам художников и их семьям, где часто встречался не только с Ильей Ефимовичем Репиным, но и многими мастерами круга Фаберже.[809] В 1912 году по предложению Алексея Козьмича в Северной Пальмире возникло общество «Русские самоцветы», ставящее основной задачей содействие развитию и улучшению кустарного и шлифовального производства. В число его соучредителей вошли купец 1-й гильдии Карл Фёдорович Верфель, владелец фабрики, к тому времени поглощённой фирмой Фаберже, а также инженер-технолог Путиловского завода Роберт Робертович Шван, сын ювелиров, сотрудничавших с семейством петербургских Болинов.[810]
В конце 1911 г., после успеха второй выставки «Урал и его богатства» открывает в принадлежавшем И.Б. Лидваль (матери знаменитого архитектора) доме № 27 на Большой Морской[811] мастерскую и магазин «Уральские камни».[812] Желающие с удовольствием там приобретали «недорогие оригинальные кулоны, броши, запонки, булавки, рамки, ручки к зонтам и тростям», а знатоки любовались громадным выбором неоправленных самоцветов.[813] Но особенно хороши были различные фигурки из камня: тут и «смешной толстячок с галстуком-бабочкой из зелёного нефрита. Туловище его скрыто в скорлупе яйца, а наружу торчат босые ступни, выполненные из розовой яшмы. А вот чудо-зоопарк: крошечные, размерами 0,5–1,5 см, птички из аметиста, утята из дымчатого хрусталя, лягушки из нефрита, пёстрые петушки из лазурита, божьи коровки из красной яшмы. Одинаковых совят из молочно-белого кварца художник усадил на веточку. И глаза у всех одинаковые – из лунного камня, они вспыхивают то синим, то голубоватым светом. Но разве среди птиц хотя бы две похожие? Одна как будто чему-то удивляется, другую обидели, а третья что-то пытается понять».[814]
Если бы не революция, Денисов-Уральский несомненно стал бы поставщиком Двора, а так при беспрерывном исполнении высочайших заказов ему не хватило нескольких лет для преодоления непременного временного ценза.[815] Сам царствующий император Николай II с матерью провёл полтора часа на выставке «Урал и его богатства», устроенной Алексеем Козьмичём в 1911 году в принадлежащем гостеприимному хозяину магазине. Высокопоставленные гости с удовольствием осмотрели как картины с видами Урала и образцы железных руд, так и «мебель в древнерусском стиле, украшенную драгоценными камнями», исполненную, вероятно, по рисункам неоднократно сотрудничавшего с Денисовым-Уральским москвича Леонида Адамовича Пяновского, преподававшего рисунок в училище в Сергиевом Посаде.[816] Полюбовались они и работой мастеров, сноровисто показывавших необычным визитёрам, как промывают золото, гранят самоцветы, вырезают из камня красивую безделку, создают разнообразные ювелирные изделия. На прощание любезный хозяин преподнёс императрице Марии Феодоровне изобилующий драгоценными каменьями «ларец в древнерусском стиле», а самодержцу – «коллекцию уральских минералов» для цесаревича.[817]
Среди них мог оказаться и крупный (19×15 см), великолепно отшлифованный и отполированный, сказочной красоты самородок дымчатого топаза, долго украшавший кабинет Николая II в Царскосельском Александровском дворце.[818]
Вдова Александра III, отлично знавшая толк в красивых вещах, вскоре заказала Денисову-Уральскому исполнить не только браслет и кольцо с сапфирами и бриллиантами, но и скульптурный портрет её любимого попугая. Ведь многие члены императорской семьи держали красивых, с ярким оперением, да ещё умеющих говорить птиц, услаждавших как взор, так и слух их венценосных хозяев. Следил за здоровьем попугаев специально приставленный придворный ветеринар, а после кончины домашних любимцев хоронили под мраморными плитами в Собственном саду Гатчинского дворца.
Попугай императрицы Марии Феодоровны относился к породе «восточная розелла». Фигурку экзотической птицы мастер набрал из десятка различных уральских и сибирских камней, только на глазки-бусинки пошли рубины, привезённые из дальних стран (см. рис. 44 вклейки). Тулово попугая умело вырезано из отборного ярко-розового родонита, почти не имеющего привычных тёмных жилок, а крылышки и верхние пёрышки длинного хвоста сделаны из байкальского лазурита, причём обыграны белые пятнышки природных включений. Как живая, крепко вцепившись коготками в прихотливой формы сук, приникла пёстрая птица к изображающему «скалу», зеркально отполированному куску тёмно-зелёного нефрита. Недаром этот попочка обошелся августейшей покупательнице в 200 рублей, хотя цена и выглядела явно заниженной по сравнению с аналогичными работами фирмы Фаберже.[819]
Алексей Козьмич Денисов-Уральский, хотя и не оставил воспоминаний, стал одним из немногих ювелиров, удостоившихся чести попасть на страницы романов. Вводя в ткань сочинений действующим лицом ювелира Жереми Позье, беллетристы вовсю использовали мемуары «бриллиантщика», зачастую переписывая оттуда целые страницы да ничтоже сумняшеся заменяя неспешное повествование записок жившего в XVIII веке автора прямой речью исторических персонажей. В случае с «певцом Урала» всё обстояло иначе.
Знаменитому учёному Ивану Антоновичу Ефремову в ранней юности крепко врезалось в память увиденное на знаменитой выставке, открывшейся в магазине Денисова-Уральского 5 марта 1916 года. Навсегда запомнил будущий романист артистический облик хозяина «с вечно растрёпанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника».[820]
Вспоминались Ефремову и низкие залы, показавшиеся ему «пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня», и стоявшие «в центре каждой комнаты одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов», излучавших «собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья», и расставленные вдоль стен и окон витрины-столики, где «сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щётки и солнца турмалина, натёки малахита и пёстрые отломы еврейского камня…», шедшие нарасхват «горки» и подобранные в коллекции образцы камней «в больших и малых ящиках с клеточками-гнёздами».[821]
Через полвека уважаемый учёный (кстати, предсказавший открытие отечественных алмазов) начал с этого описания свой фантастический роман «Лезвие бритвы». Ефремов помнил, как внутри «высокой, столбиком», витринки, «на чёрном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам» самого Алексея Козьмича Денисова-Уральского, «неутомимого художника-камнереза». Но вместо виденных редкостных минералов, малоизвестных даже знатокам, или, казалось бы, привычных аметистов или аквамаринов, зато искрящихся в изысканно обработанных кусках породы, писатель поместил в подвеску, «прикреплённую под кулоном из жёлтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа», четвёрку диковинных прозрачных камней, пронизанных точечными металлическими включениями и прекрасно гармонировавших «с глухой сероватостью платины» изящной оправы и цепочки.[822] Ничего, что подобные самоцветы странного серого цвета, похожие больше на хрустально прозрачный металл, ещё никем не обнаружены в природе, что их просто выдумал автор романа, чтобы от этих таинственных диковинных самоцветов, так органично якобы появившихся в магазине на Морской, потянулась нить фабулы романа.
Однако Ефремов не смог удержаться от описания «гвоздя» выставки произведений Денисова-Уральского – нашумевших «скульптурных групп-миниатюр», как называл их сам художник.[823] Этим аллегорическим фигуркам, представляющим державы, воюющие в Первой мировой войне, посвящали заметки все столичные газеты, а посещение экспозиции считалось не только престижным мероприятием, но и признаком патриотизма (см. рис. 45–48 вклейки).
Действительно, фигурки-аллегории были чудо как хороши! «Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трёхцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зелёного оникса – император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид – везли телегу с вороном из чёрного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго – торчком вверх».[824]
А рядом виднелись и другие скульптурные миниатюры, по-иному но также карикатурно осмеивающие правителей стран, вошедших в коалицию врагов Антанты: Франц-Иосиф на сей раз представлен «старой, с отвисшим дряблым телом обезьяной», сидящей возле разбитого корыта, исполненного из литографского камня, и помещённой на постамент из прекрасно отшлифованной яшмы, чей природный рисунок заставлял вспомнить о «лоскутной монархии». Голова незадачливого правителя, одетого в костюм, вырезанный (чтобы лишний раз напомнить о красном и белом цветах герба австро-венгерского государства) из пурпурина и молочного кварца, выполнена из яшмы и увенчана шапочкой из магнезита.[825]
Ещё более не повезло повелителю Блистательной Порты: Денисов-Уральский изобразил Абдул-Гамида II в виде увенчанной красной феской мерзкой жабы, хотя и подавившейся тяжёлым снарядом, но крепко, несмотря на кандалы, вцепившейся в кусок лазурита: пусть сепаратный мир пока ускользал от Турции, зато проливы Босфор и Дарданеллы стоили торга.[826] Раздулся от самомнения глупый индюк – Румыния,[827] а японскому соколу оставалось лишь тихо сидеть на скале.[828]
Страны Антанты – совсем другие образы. «Британский лев золотисто-жёлтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки – Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орёл из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз…»[829] Да и другие союзники были не менее красивы и хороши: «Бельгию можно узнать по припавшему на передние лапы льву на морионовой подставке,[830] Италию – по тревожно прислушивающейся волчице из ортоклаза Берёзовского месторождения».[831]
Сама же Россия, как, весьма любопытно расшифровывая символику богатств её недр, писал один из журналистов в 1916 году, «представлена в виде большого камня благородного нефрита как исключительного из горных пород по своей твёрдости и сплочённости структуры. Нефрит положен основанием группе драгоценнейших металлов и самоцветных камней в натуральных формах (кристаллах). Эти ещё не обработанные камни с природными матовыми плоскостями, но щедро наделённые своим внутренним содержанием, как бы олицетворяют человеческие качества, присущие скромному, одарённому от природы русскому народу. Платина, осмий, иридий скромны по виду, но их удельный вес поразителен. Эти металлы – исключительный дар России, она одна богата ими. На этом хаотическом сплетении драгоценных металлов и самоцветов покоится упругий шар из чистого горного хрусталя – символ вечности и очищения от позорных инстинктов… Пальмовая ветвь склонилась как бы в ожидании, когда человеческая рука возьмёт её вместо ружей и штыков в знак вечного мира. Могучий двуглавый орёл – весь одно боевое движение – оберегает свою державу, и тут же пышно сияет изумрудный крест на самородном золотом основании.
На нефритовой плоскости древнерусский серебряный герб, украшенный русскими самоцветными камнями – изумрудами, сапфирами, рубинами, александритами, демантоидами, хризолитами и бериллами. В правой лапе орёл держит кусок самородного золота, в левой – кусок самородной платины».[832]
Можно спорить об этих скульптурных миниатюрах из разноцветных камней, а особенно о карикатурном зоопарке, фигурки которого в наше время вполне могут отнести к китчу. Но, как и в случае со многими работами Фаберже, не стоит забывать, что у каждого времени свои песни, и не следует безоговорочно мерить прошлое на свой современный аршин. Хотя и тогда, в начале XX века, некоторые считали выставку Денисова-Уральского проявлением «квасного патриотизма», а истинные ценители камня говорили: «Не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить!», однако большинство приветствовало работы художника, считая их «настоящими художественными вещами».[833] Кстати, восковые модели этих фигурок, затем переводимых в камень, лепил не кто иной, как Георгий Иванович Малышев, преподаватель скульптурного отделения столичной Академии художеств, модельер Петербургского Монетного двора и… «сильнейший анималист фирмы Фаберже».[834] Правда, в работах камнерезов Денисова-Уральского применён ещё более изощрённый подбор редкостных образцов всевозможных и самых разнообразных каменьев, поскольку знания «певца Урала» не только не уступали, но, пожалуй, были повыше их объёма у доктора геолого-минералогических наук.[835]
Несколько же лет подряд Денисов-Уральский и Мамин-Сибиряк отдыхали на даче в Келломяках (ныне Комарово) на берегу Финского залива, по соседству с виллой Агафона Карловича Фаберже[836] а в последние предреволюционные годы прославленный владелец магазина на Морской жил на даче в финском поселке Уссекирке.[837]
После Февральской революции Алексей Кузьмич Денисов-Уральский напрасно обращался к Временному правительству с проектом разработки отечественных месторождений цветных камней.[838] А вскоре разразился Октябрьский переворот. Из-за провозглашения независимости Финляндии мастер-художник, остававшийся на даче, чтобы придти в себя после гибели единственного сына[839] и переждать смутное время, вдруг оказался за границей. Какие-то 60 км отделили его от Петрограда. Алексей Козьмич пытался работой заглушить ностальгию: написал целую серию холстов, посвященных Уралу, усиленно создавал рельефную лепную картину «Уральский хребет с птичьего полёта»,[840] но всё чаще приходилось для набора применять камни, найденные в финском лесу.[841]
В мае 1924 года Денисов-Уральский телеграфировал Уральскому обществу любителей естествознания, что он передаёт 400 полотен, большую коллекцию минералов и множество изделий из камня в дар родному Екатеринбургу. Но в Свердловске подношение старого мастера сочли ненужным, и судьба большей части сделанного от души подарка остаётся до сих пор неизвестной. Так и не дождавшись возможности вернуться на милую Родину, Алексей Козьмич умер на чужбине в 1926 году, дом его во время войны сгорел, следы могилы прежде столь знаменитого мастера[842] окончательно затерялись. Его творчество оказалось забытым, а призыв к сохранению богатств Урала объявили «тенденцией непонимания исторического процесса».[843]
К счастью, многие произведения мастера, в том числе и знаменитая группа скульптурных миниатюр-аллегорий, сохранились в Минералогическом музее Пермского университета. Сейчас исследователи всё чаще обращаются к изучению творчества Денисова-Уральского. И если раньше считалось, что «Стиль Денисова – только камень (уральский) и никакой оправы»,[844] то теперь уже удалось определить имена некоторых мастеров, сотрудничавших с кудесником камня.
Помимо уже упоминавшегося Леонида Адамовича Пяновского, во втором десятилетии XX века, судя по именнику «мд», делал оправы для настольных электрических звонков и письменных приборов петербургский золотых и серебряных дел мастер Магнус Дакс.[845] Клеймо же «КП» мог оставить на украшенном чернью серебре, изысканно сочетающемся со вставками ярко-розового родонита и василькового оттенка лазурита на раме зеркала, либо Карл Карлович Петерсон, либо Константин Прокопьевич Прокофьев, владелец петербургской фирмы «Э. Кортман»[846].
Подвески же с излюбленными Денисовым-Уральским аквамаринами помогали создавать бывшие мастера фирмы Фаберже, объединившиеся в восьмую столичную артель ювелиров, помещавшуюся в 1915 году в доме № 41 на Екатерининском канале.[847] А серебряные позолоченные стебли камыша с оксидированными метёлками, окружившие набранную по модели Георгия Ивановича Малышева из дюжины различных пород камней фигурку сидящего на камушке довольного рыбака, аккуратно вынимающего крючок из пасти пойманной рыбки, исполнили в 1910 году работники Первой серебряной артели.[848]
На рубеже XIX–XX веков, чтобы преодолеть конкуренцию крупных предприятий, возник ряд артелей. Правительство относилось к ним весьма настороженно, считая, что их созданием «преследуются политические цели». Согласно уставу, в артель «для совместного производства изделий и работ» могли объединиться не менее 10 человек, достигших 17-летия, управлялась она правлением, избиравшимся общим собранием, причём наёмный труд разрешалось применять лишь в исключительных случаях, если артельщики не обладали умением производить какую-то операцию, требующую «особых познаний».
Первая артель серебряных изделий образовалась, когда в 1908 году Юлий-Александр Раппопорт, работавший на фирму Фаберже, решив уйти на покой и желая вознаградить своих работников за долголетнюю службу, оставил им свою мастерскую со всем инвентарём. Сама фирма со своей стороны пошла навстречу этому опыту, открыла артели необходимый кредит, обеспечила её заказами. Однако уже в этом маленьком деле, насчитывающем не более 20 участников, отразились как в зеркале недостатки, присущие в ту пору всем общественным организациям: «отсутствие солидарности, дисциплины, понимания общих интересов. После 2–3 лет внутренних распрей, при вздорожании производства и понижения его качеств, артель прекратила своё существование».[849]
Ещё несколько мастеров выделились из фирмы Фаберже в 1911 году (хотя продолжали работать в её духе и стиле), создав «третью художественную артель», принимавшую заказы «на ювелирные, чеканные, эмалевые, гильоширные, граверные и другие художественные изделия» и помещавшуюся в квартире № 12 дома № 48/23 на углу Екатерининского канала и Демидова переулка.
Иван Савельевич Брицын
Недолго поработал у Фаберже и Иван Савельевич Брицын, ставший подлинным соперником своего бывшего хозяина в производстве всевозможных вещей для украшения быта, декорированных отличного качества эмалями.
Юноша, родившийся в 1870 году в семье крестьянина деревни Часовни Московской губернии, на пороге своего пятнадцатилетия оказался в Петербурге, где ему страстно захотелось овладеть профессией ювелира. Долго и упорно Иван Савельевич Брицын по-крестьянски основательно постигал тонкости избранного им дела, пока наконец его труды не увенчались успехом. Только в марте 1903 года он получил диплом «мастера золотого и серебряного ремесла» и поселился в Спасском переулке, в доме № 6, принадлежавшем вдове-полковнице Лидии Михайловне Заящниковой.
Брицын работал в собственной мастерской не покладая рук: у него появлялось всё больше клиентов, на появившиеся свободные деньги не только приобретались изделия коллег, позволяющие почувствовать новые тенденции в моде (да к тому же понять некоторые секреты конкурентов), но и расширялось производство.
Росла и семья. В последние годы ушедшего XIX столетия Иван Савельевич женился на Глафире Кононовне Придне, дочери владельца молочной фермы в Цельной, а вскоре, в 1901 году, на свет появилась Клавдия (Клара), в 1905– Леонид, а в 1911 родился Юрий.
Подлинный успех пришёл к мастеру в 1909 году. На Международной выставке новейших изобретений имени цесаревича Алексея Николаевича, проводимой в русской столице, Брицыну «за высокохудожественное исполнение эмалей по металлу» вручили малую золотую медаль. Теперь от заказчиков не было отбоя. Ведь работы вошедшего в моду мастера покупали при самом императорском Дворе! Нарасхват шли «эмалевые рамки для фотографий, ручки для зонтиков, пряжки, часы, портсигары, пудреницы, запонки, рукоятки для печатей, цанговые карандаши и т. д.».[850]
Иван Савельевич Брицын. 1900-е гг.
В 1911 году Иван Савельевич перебрался поближе к центру на Малую Конюшенную, в дом № 12, принадлежавший вдове генерал-майора Александре Леонтьевне Михайловой. Сам Брицын с семьёй занял просторную квартиру на пятом этаже, а на первом расположились мастерская, где теперь трудились обычно 10–15 человек, и магазин. В его окнах публика могла любоваться образцами производимых вещей и рекламными объявлениями, а над входом красовалась вывеска: «Мастерская золотых и серебряных изделий». По всему же городу появились объявления: «Мастерская ювелирных золотых, серебряных и эмалевых изделий. Большой выбор вещей для подарков. Приём заказов».[851]
Прозрачные разноцветные эмали Брицына, столь похожие на работы Фаберже (к тому же не уступавшие им и в качестве исполнения), были так хороши, что быстро прославились в Великобритании и США, куда их охотно экспортировали. Наладились связи питерского мастера и со считавшейся лучшей на юго-западе Российской империи фирмой ювелира Иосифа Абрамовича Маршака, находившейся на Крещатике, главной улице Киева.[852]
Счёт за изделия И.С. Брицына, купленные императрицей Марией Феодоровной
Однако произведениям Ивана Савельевича Брицына присущ собственный неповторимый почерк: «оригинальное формообразование», «крупный, неожиданной геометрии рисунок», выглядывающий из-под слоя эмали, отличающейся более контрастной и «густой» палитрой.[853] Своеобразной визитной карточкой бывшего крестьянского сына стали исполненные в его мастерской бесшумно (как и у Фаберже) закрывавшиеся портсигары с бледно-голубой и белой прозрачной финифтью (см. рис. 49 вклейки),[854] а также настольные часы, отличавшиеся как разнообразием очертаний, так и оттенков эмали.[855] Но все планы на расширение дела после приближающегося победоносного окончания войны смешал 1917 год.
Рабочий Емельянов, с семьёй которого сложились близкие отношения у домочадцев Ивана Савельевича Брицына, снимавшего несколько лет подряд дачу в Разливе, оказывается, прятал в шалаше скрывавшегося от полиции Владимира Ильича Ульянова-Ленина, вождя затем свершившейся в октябре пролетарской революции.
Новая власть видела в ювелире только чуждого ей мелкого буржуа. В 1918 году мастерскую Брицына окончательно закрыли, а всё, что хоть как-то напоминало золото и серебро, конфисковали революционные матросы, совершенно не желавшие понимать, что они отбирали у «богача-захребетника» плоды многодневных кропотливых трудов его рук и ума.
Несчастья не сломили мастера. Он не покинул отчизну в трудные дни и даже не пытался уехать куда-либо за границу, а старался противостоять ударам судьбы, с его-то талантом и способностями работая по найму в различных промысловых кооперативных артелях, как, например, «Эмаль-металл».[856]
Когда объявили новую экономическую политику, Брицын организовал собственную крошечную мастерскую и, числясь «кустарём-одиночкой по части галантереи на медной основе» (поскольку работа с драгоценными металлами была строго-настрого запрещена), вместе с подросшим старшим сыном Леонидом выполнял частные заказы. Помощник оказался сметливым и способным: он быстро перенял у отца секреты профессии, сам теперь изготовлял штампы и готовил эмаль. У него даже появился личный именник: «Л.Б.», в то время как глава семейного дела на свои готовые вещи либо ставил клеймо «И.Б.», либо помещал аккуратно выведенную резцом подпись: «БРИЦЫН».
Но нэп продолжался недолго, и в конце 1920-х годов Ивана Савельевича Брицына отправили на полтора года в ссылку в Ярославскую область. Поскольку ему запретили заниматься любимой профессией, то пришлось переквалифицироваться в частные фотографы. Но и здесь сработала жилка изобретательства: мастер смог так переделать фотокамеру, что она сразу, без какого-либо процесса проявления, выдавала готовые моментальные снимки.
Когда Иван Савельевич вернулся в Ленинград, ему удалось оформиться надомником, чтобы исполнять отдельные заказы находящихся в Поволжье ювелирных предприятий: чувашской Цивильской фабрики «Перламутр» и фабрики галантерейных изделий в Татарской АССР. Так продолжалось всё предвоенное десятилетие.
Война окончательно разлучила старого мастера с любимым делом его жизни. Теперь было не до ювелирных поделок. Ленинград уже в сентябре 1941 года оказался в кольце вражеской блокады. Оба сына ушли на фронт. Чтобы оставшиеся в осаждённом городе члены семьи смогли выжить, Иван Савельевич Брицын на восьмом десятке лет пошёл работать слесарем в эвакогоспиталь. Его внук, композитор Александр Юрьевич Брицын, вспоминал, как его дед, обладавший жёстким характером, всегда старался «держать планку» и, если что, пронзительно глядя на собеседника в упор своими светлыми глазами, не стеснялся настоятельно отстаивать «собственное мнение по любому вопросу в силу больших навыков и знания механики».[857] Недаром Ивана Савельевича Брицына за несгибаемый патриотизм и за золотые руки наградили уже в 1943 году медалью «За оборону Ленинграда».
Однако лишения блокадных лет повлияли на его здоровье. Чтобы выжить в страшные дни осады, Ивану Савельевичу и его близким приходилось (и это считалось счастьем!) есть суп, сваренный из ремней, и питаться студнем из столярного клея. Но старый мастер-пенсионер не привык сдаваться. Теперь его невысокую фигурку часто видели в находящемся на Владимирской площади Ленгосломбарде, куда бывший известный эмальер и ювелир устроился оценщиком. Повторный инсульт свёл в могилу Ивана Савельевича Брицына 28 мая 1952 года. Похоронили талантливого русского мастера с трагической судьбой на Холерном участке Ново-Волковского кладбища, что на улице Салова. Рядом с отцом позже упокоились и оба его сына, а над могилой появился памятник работы А.М. Орехова.[858]
Потомки выдающегося ювелира, чьё имя из забвения вернули исследователи-искусствоведы, в благодарность передали его работы, сохранившиеся в семье, Петергофскому государственному музею-заповеднику, чтобы посетители «столицы фонтанов» сами убеждались в неординарности произведений Ивана Савельевича Брицына и, восхищаясь прелестью и красотой изделий, не забывали о перипетиях нелёгкой жизни мастера.[859] И сейчас, как столетие назад, опять за его творениями «ведётся настоящая охота и котируются они наряду с произведениями Карла Фаберже».[860]
Глава ХII Знаменитые русские фабриканты серебряных и золотых изделий второй половины XIX века
Во второй половине XIX века славились работы знаменитых фабрикантов серебряных и золотых изделий Сазикова, Верховцева, Хлебникова и Грачёва, которые неоднократно получали медали и поощрения на Всемирных и Всероссийских выставках. Как правило, у этих предпринимателей были мастерские и магазины в Петербурге и Москве.
Игнатий Павлович Сазиков и его наследники
Родоначальник фирмы Сазиковых, Павел Фёдорович Сазиков (?– 1830-е), искусный гравер и 3-й гильдии купец, основал в Москве в 1793 году мастерскую по производству серебряных изделий. Постепенно расширяясь, с 1810 года она стала именоваться фабрикой. На ней производилась серебряная посуда и церковная утварь, а поскольку финансовый оборот её достиг 100 тысяч рублей, то владелец переписался в первую гильдию.[861]
Наследником основателя семейного дела стал Игнатий Павлович Сазиков (1796–1868). Талантливый юноша ещё в 1812 году вступил золотых и серебряных дел мастером в петербургский Русский цех.[862] В специально предпринятой поездке в Европу Игнатий Павлович Сазиков смог ознакомиться с особенностями производства изделий из драгоценных и цветных металлов, с последними технологическими новинками, что позволило ему освоить на своём предприятии точное ювелирное литьё и усовершенствовать чеканку при украшении производимой посуды. Но, главное, он быстро оценил возможности увиденного за границей разделения труда и ввёл зарубежное «ноу-хау» среди «посудчиков, шлифовщиков и полировщиков», что резко увеличило производительность труда и объёмы выпускаемых вещей, а также улучшило качество изделий на завершающей стадии их окончательной отделки.[863]
После смерти отца Игнатий Павлович продолжал дело в Москве.
В 1835 году фабрике Игнатия Павловича Сазикова на выставке отечественных произведений в Первопрестольной за оклад из кованого серебра для престола для одного из московских храмов присудили золотую медаль, а уже через два года владельцу, первому (и тогда единственному) среди русских мастеров, «дозволено было именоваться придворным фабрикантом серебряных изделий», да ещё ставить на продукции предприятия государственный герб. Знатоки восхищались искусством, с каким выполнили царские врата в Чудов монастырь «сорок восемь мещан, крестьян с бородами, в изорванных халатах». И эти простолюдины с предприятия Игнатия Павловича Сазикова со знанием дела чеканили-«долбили твёрдое вещество» благородного металла, умело высекали выпуклости и впадины лиц на изображениях, воплощая в серебре рисунки трёх сыновей хозяина, а те внимательно и неотрывно надзирали за процессом работы, чтобы в результате стараний из рук умельцев выходили отличные произведения.[864] Уже тогда в декоре изделий фабрики появились фигуры людей и животных.
Фабрика Сазиковых. Блюдо для трюфелей в виде двух сложенных салфеток. 1849 г. ГЭ
Выставка российских мануфактурных изделий в Петербурге в 1839 году принесла Игнатию Павловичу Сазикову золотую медаль с портретом императора для ношения на Владимирской ленте за представленную чайную и кофейную посуду.[865] Однако следовало расширять производство, и в 1842 году в столице появился филиал московской фабрики И.П. Сазикова в доме Стакельберга (Штакельберга) в Чернышёвом переулке, а магазин фирмы вначале разместился на престижном месте в доме Энгельгардта на Невском проспекте (практически напротив Казанского собора), с 1853 года переехал ближе к Литейному (на Невский, 60), а затем оказался на Большой Морской, в доме № 29,[866] впоследствии полностью выкупленном у предыдущих владельцев.[867]
На предприятии исполнялись ковчеги, ризы икон, «створец чёрного дерева с серебряною оправою», кубки, «чеканенные салфетки» и многое другое, причём на работах, «независимо от времени и места их производства, всегда очевиден отпечаток творческой выдумки, оригинальности технического и художественного воплощения. Для Сазикова как художника и предпринимателя особенно важным было поддержание художественного уровня изделий фирмы, соответствовавшего как эстетическим идеалам наиболее широких масс покупателей, так и передовым тенденциям развития современного ему искусства».[868] Игнатий Павлович первый обратился к скульптуре в серебре: в ранних произведениях 1847–1848 годов чайные приборы дополнялись скульптурно исполненными головками, а с 1850-х впервые стали создаваться скульптуры на темы русской истории, а также на аллегорические и жанровые темы, причём по эскизам Микешина, рисункам архитектора-рисовальщика B. Быковского,[869] моделям таких скульпторов, как Витали и Клодт, костюмы же и атрибуты древнерусских персонажей выверялись со знатоком российской истории Ф. Солнцевым.
Хозяин семейного предприятия, «поняв, что техника в мастерстве – как бы она ни была совершенна – есть только средство, а не цель, что усовершенствование в техническом отношении перестаёт быть ремеслом только тогда, когда оно сливается с художеством»,[870] не только заботливо привлекал к работе известных художников и скульпторов, но и, следя за новинками техники, выписал из Франции в 1843 году первую в России гильоширную машину, а через два года открыл при фабрике особое отделение на 80 человек для обучения серебряников и золотых дел мастеров.[871] Да и сыновья его получили художественное образование.
Особенно талантливым оказался Павел (1815–1856), вначале учившийся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, потом в Петербурге,[872] а затем направленный отцом в Париж и сумевший активно «воспользоваться доставленными ему средствами к своему образованию», чтобы обучиться там «рисованию, чеканной и литейной работе».[873] Павел Игнатьевич Сазиков представил в 1849 году на столичной выставке российских мануфактурных изделий исполненные им по собственному рисунку «голову Христа Спасителя» и «отделанный в серебро с позолотой церковный яшмовый сосуд с принадлежностями к оному», за что ему присудили звание неклассного художника Императорской Академии художеств по скульптуре. Он же активно участвовал в создании большого серебряного канделябра (высотой около двух метров и весом почти 130 кг), украшенного скульптурной группой «Дмитрий Донской на Куликовом поле».
Это произведение принесло славу не только фабрике Сазиковых, но и России. На первой Всемирной выставке 1851 года перед восхищёнными лондонцами и гостями Хрустального дворца предстала коллекция «из девятнадцати предметов, украшенных по мотивам крестьянской жизни, что было совершенно новым явлением для дорогого и элитарного вида искусства. Простые и близкие к действительности, разнообразные по сюжетам изображения – медведь-плясун с поводырём (любимый персонаж народных ярмарок и балаганов); казачка, играющая на бандуре; охтинка-молочница около деревянной бочки с крадущейся кошечкой на ручке и другие, выполненные чеканкой, украшали серебряные кубки, молочники, кувшины, пресс-папье. Но главным произведением фирмы, за которое Игнатий Павлович Сазиков получил золотую медаль, стало большое настольное украшение-канделябр в виде скульптурной группы, посвящённой победе на Куликовом поле. В центре её – Дмитрий Донской, лежащий под елью, в окружении бояр, военачальников, знаменосца и всадника, рассказывающих ему о победе. Канделябр создавался скульпторами И. Витали, П. Клодтом под наблюдением академика Ф. Солнцева для соблюдения исторических подробностей в одежде и вооружении… Скульптурная группа выдержала сравнение с работами лучших ювелиров Европы».[874]
Игнатий Павлович Сазиков, заплатив 10 рублей, добился выдачи «лишнего экземпляра присуждённой ему на Лондонской выставке медали Совета – „council medal“ – для сына, свободного художника, почётного гражданина Павла Игнатьева Сазикова, как главного сотрудника по управлению его фабрикою серебряных изделий».[875] Кстати, такую Большую золотую медаль первого достоинства получили помимо Сазиковых «лишь по одному мастеру в Лондоне и Париже», и корреспондент «Русского художественного листка» радостно написал: «До сих пор все серебряные изделия, изготовлявшиеся в России, были подражанием заграничным образцам, в вещах г. Сазикова вымысел, рисунки, модели и само их исполнение принадлежит уму и трудам русских».[876] После Первой Всемирной выставки 1851 года началась известность фабрики за границей, появились зарубежные заказы.
Николай I был очень доволен. Он, ратовавший за подъём патриотизма в России, предписавший в деловых бумагах пользоваться только русским языком, заботился и о процветании отечественного искусства. Ведь национальные мотивы уже несколько десятилетий пронизывали работы европейских мастеров, обратившихся к истории своих стран. Неслучайно император заказал И.П. Сазикову исполнить серебряную скульптурную группу «Витязь в дозоре»,[877] чтобы та достойно дополнила сервиз на полсотни персон, заказанный самодержцем в Англии лондонской фирме «Мортимер и Хант» и королевскому ювелиру Роберту Гаррарду. Работа Игнатия Павловича и Павла Игнатьевича Сазиковых ничуть не уступила ни скульптурной композиции, изображавшей средневекового рыцаря на лошади, ни группе «Шотландский охотник с убитым оленем». Правда, сработанный мастером Самуэлем Арндом для «Английского магазина Никольса и Плинке» пьедестал под творение Сазикова, усеянный легкомысленными, зато столь модными рокайлями и трельяжными сеточками, не очень-то вязался с мощной фигурой древнерусского витязя. Но, в конце концов, стиль эклектики потому так и назывался, что позволял заимствовать из арсенала исторических стилей всё наиболее близкое сердцу заказчика, греческое слово «эклегейн» означало «выбирать».[878]
В тот же год Павел Игнатьевич Сазиков по рисункам профессора А.М. Горностаева сделал роскошные серебряные золочёные оклады, изукрашенные разноцветными каменьями, для Остромирова Евангелия 1056–1057 годов и «Московского Апостола» 1564 года.[879]
Десятилетие спустя он исполнил для столичного Исаакиевского кафедрального собора утварь «по рисункам с древних предметов».[880] Только из казённого серебра было сделано 89 вещей. Особенно удались фабриканту Сазикову «три креста запрестольных, двенадцать паникадил перед иконами в малых приделах и боковых стенах большого иконостаса, три паникадила пред иконами у жертвенников, двадцать паникадил перед иконами в нишах, три выносных подсвечника, рукомойник и таз для умовения рук архиерею, блюдо для освящения хлебов и фонарь. Весу во всех 89 вещах 56 пудов 32 фунта и 41 золотник, а за работу их уплочено 69 429 рублей серебром. Из собственного серебра фабрикант Сазиков представил пятьдесят семь вещей: Евангелий, сосудов, крестов, кадил, кропил и прочее. Весу в них 2 пуда 25 фунтов и 47 золотников, а цена их 8288 рублей серебром».[881]
В 1857 году Игнатий Павлович Сазиков удостоился звания поставщика Высочайшего двора, а в 1865 году сей «временный Московский 2-й гильдии купец» стал мануфактур-советником.[882] Он хорошо известен членам императорского семейства. Недаром когда императрице Александре Феодоровне захотелось в 1860 году сделать подарок престарелому ректору Гарнишу, некогда бывшему её учителем, она отправила из Петербурга в Пруссию «прекрасный вызолоченный кубок работы Сазикова, на котором было изображено два вида Кремля, при рескрипте, в коем говорилось, что в память радости, испытанной ею при свидании с ним, она посылает ему вещь» с двумя видами «зданий той страны, которая сделалась моим вторым отечеством».[883] Да и наследник-цесаревич Александр Александрович презентовал родителям своей супруги, датскому королю Христиану IX и королеве Луизе, парадный серебряный золочёный сервиз с непременным великолепным самоваром в русском стиле.[884]
Фабрика Сазиковых. Подсвечники парные в виде фигурок Амура и Психеи. 1850–1860-е гг. ГЭ
Когда же император Александр II после взятия Плевны наконец-то смог вернуться с полей русско-турецкой войны в Петербург утром 23 декабря 1877 года, то вечером, освободившись от многочисленных приёмов, сразу же поспешил к своей любимой княжне Екатерине Михайловне Долгоруковой. А на следующий день самодержец преподнёс своей возлюбленной достойный подарок. То была книга священных писаний, содержащая Евангелие и Деяния апостолов. Под переплётом, обтянутым красным бархатом, таился роскошный, великолепно прочеканенный искусными работниками петербургской фирмы Игнатия Павловича Сазикова, серебряный вызолоченный оклад, созданный, судя по клеймам, ещё в 1867 году. Взор невольно притягивает чрезвычайно выразительный рельефный образ Христа, в лучах сияния парящего на облаке. По краям лицевой пластины вилась изящная плетёнка в византийском стиле, прерываемая на углах медальонами с символами евангелистов. В центре оборотной стороны оклада красовался большой крест, повторяющийся на одной из подвесок парчовой закладки, но на сей раз дополненный запечатлённым обетом «Кресту твоему поклоняемся». Прицепленную же к другой стороне закладки вторую изящную подвеску, также исполненную в технике выемчатой эмали, сопровождали не менее выразительные надписи: «Сердце чисто» и «Созижди во мне». Императору-Освободителю так понравилась исполненная с таким тщанием книга, что он, даря её ненаглядной «Катеньке», начертал на листе перед титулом: «Отъ всею душою и сердцем тебя любящаго существа, котораго вся жизнь заключается в тебе. 24-го Декабря 1877 г.» Кто знает, но когда Александр II и Екатерина Долгорукова обычно начинали утро совместным чтением посланий апостола Павла, то они вполне могли молиться по этому дивно изукрашенному весьма неординарному изданию.[885]
На Санкт-Петербургской выставке русской мануфактурной промышленности 1861 года И. Сазиков представил чернильный прибор в виде деревенской избы в окружении хозяйственных построек с многочисленными подробностями крестьянского быта – колодцем, птицей и пр. Пресса отмечала, что в его изделиях почти всё русское – и идея, и рисунок, и модель; он первый дал своим произведениям национальный характер. Знатоки не ожидали встретить в России «такого значительного фабриканта, соединяющего в себе искусство художника с ремеслом промышленника».[886] Игнатий Павлович в этом памятном году удостоился награждения орденом Св. Станислава III степени.[887]
За подлинно мастерское исполнение своих творений журналисты прозвали Сазикова «русским Бенвенуто Челлини», а на петербургской Всероссийской выставке 1870 года появилась вызвавшая восхищение знатоков сделанная И.П. Сазиковым копия одной из работ прославленного мастера Возрождения, показавшая заслуженность этого прозвища. На Всемирной же выставке 1867 года в Париже серебряные скульптуры Сазикова так поразили не только восторженных посетителей, но и искушённых членов жюри, да и привыкших ко всему парижан, что мастер удостоился вручения ему ордена Почётного Легиона. Выработанный им стиль создания серебряной скульптуры почти сразу подхватили другие прославленные фирмы: Никольса и Плинке, Овчинникова, Хлебникова, Верховцева, братьев Грачёвых и Фаберже.
После безвременной кончины Павла Игнатьевича и смерти Игнатия Павловича семейное дело продолжал в Москве Сергей Игнатьевич, а в Петербурге – Валентин Игнатьевич (1830–1882). Оба получили в 1870-е годы звание мануфактур-советников, а Валентин Игнатьевич ещё удостоился, как и отец, стать потомственным почётным гражданином.[888] Фирма Сазикова существовала до конца XIX века, выпуская не только скульптуру, но и высококачественную серебряную утварь, умело используя разнообразные ювелирные техники: литьё, чеканку, гравировку, чернь и возрождающую древнерусские традиции перегородчатую эмаль по скани. В эмалевых работах основными мотивами были цветочные гирлянды, лавровые венки и всевозможные рокайли.[889]
После смерти Сергея Игнатьевича унаследованный им от отца магазин в Москве в 1879 году закрылся.[890]
Дело Валентина Игнатьевича в Петербурге продолжали его вдова и сын Павел Валентинович Сазиков. Тот в 1870-е годы создал по заказам Двора серебряную утварь для прогулочных императорских яхт «Держава» и «Ливадия». (Любопытно, что выдающийся композитор Милий Алексеевич Балакирев, входивший в «Могучую кучку», в конце 1870-х годов преподавал музыку дочери и свояченице В.И. Сазикова. Сестра жены владельца фирмы, вышедшая замуж за Глазунова, отличалась тягой к музыке, и её музыкальные способности унаследовал сын, будущий знаменитый композитор и директор петербургской консерватории А.К. Глазунов.)
По поручению Петербургской городской думы Павел Валентинович Сазиков исполнил по рисунку архитектора Л.Н. Бенуа амарантовую шкатулку в серебряной оправе, ставшую своеобразным футляром для акварелей с видами Петербурга, отражающими изменения в облике Северной Пальмиры за 25-летнее правление императора Александра II со дня восшествия на престол. Памятную вещь торжественно вручили августейшему виновнику торжества в день юбилея, 19 февраля 1880 года.[891]
В 1881 году на петербургской фабрике Сазикова, выпустившей церковной утвари и столовых вещей общим весом 67 пудов и имевшей годовой оборот в 39 тысяч рублей, работали 74 человека.[892] Помимо механических приспособлений на ней впервые ввели паровой двигатель. Чеканные работы «всегда приковывали внимание знатоков и любителей серебряного дела силою и смелостью придаваемого им рельефа».[893] В начале того же года Павлу Валентиновичу Сазикову довелось трудиться над целой партией серебряных блюд, создаваемых по эскизам Леонтия Николаевича Бенуа к пышным торжествам как очередного юбилея царствования Александра II, так и двадцатилетия отмены императором крепостного права, отмечаемого 19 февраля.[894] Правда, празднества через 10 дней омрачило смертельное ранение самодержца бомбой, брошенной на Екатерининском канале народовольцем Игнатием Гриневицким.
За достойное участие во Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года наследникам Сазикова подтвердили право помещения на их изделиях государственного герба «за отличное производство по серебряному мастерству, изготовление новых моделей и постоянное стремление поддерживать многолетнюю заслуженную известность»438а. Однако удержать прежнее превосходство над конкурентами не удалось, финансовое положение семьи пошатнулось. Дом под № 29 на Большой Морской пришлось продать вдове генерала Е.П. Маслова, а Павел Валентинович сохранил за собой должность управляющего особняком438б.
После смерти Павла Валентиновича Сазикова все магазины и образцовые фабрики семьи в Петербурге и Москве в 1887 году перешли к фирме Хлебникова. Тогда же заведовавший магазином «вдовы мануфактур-советника Евдокии Павловны Сазиковой и Павла Валентиновича Сазикова» Николай Михайлович Рахманов (1840—?), личный почётный гражданин, мастер серебряного дела, награждённый по итогам выставки 1882 года в Москве золотой медалью на Станиславской ленте, стал работать самостоятельно в мастерской, находившейся по адресу: Знаменская, дом № 5 (в здании фабрики, до того принадлежавшей его бывшим патронам), а в 1900-х – сотрудничать с фирмой Карла Густавовича Фаберже.[895]
Иван Петрович Хлебников
Иван Петрович Хлебников (1819–1881), чей отец состоял в гильдии купцов с 1832 года и завёл мастерскую золотых и серебряных изделий то ли в 1835, то ли в 1849 году,[896] торговал, также числясь «московским 1-й гильдии купцом», бриллиантами, золотыми и серебряными вещами, причём, как считают, до 1867 года работал в Петербурге, а затем ради бо́льшей прибыли перевёл дело в Москву, поскольку рабочие руки там оплачивались дешевле. В Первопрестольной Иван Петрович основал в 1871 году фабрику закрывшуюся лишь после революций и перепрофилированную в 1918 году в Московский платиновый завод. В 1880 году когда последовало разрешение на расширение производства, предприятие оснастили необходимыми машинами и прессами, а также открыли школу на 35 учеников.[897]
Более всего фирма Ивана Петровича Хлебникова, постоянно уделявшая большое внимание художественному уровню продукции, а поэтому привлекавшая многих художников и скульпторов для создания рисунков и моделей, прославилась серебряными изделиями в русском стиле, украшенными не только чернью, но и яркими многоцветными эмалями, как по скани, так и особо сложными по исполнению витражными. Её мастера так искусно имитировали в серебре другие материалы, что публика искренне принимала металлические «салфетки» за сделанные из настоящих льняных тканей и видела в оплётке стеклянных графинов и стаканчиков подлинные бересту или лыко. Награды не замедлили последовать: уже на Московской политехнической выставке 1872 года получены две большие золотые медали, а за ними высшие премии на всемирных выставках в Вене, Париже, Филадельфии, Ницце, Амстердаме, Копенгагене.
Иван Петрович Хлебников быстро удостоился звания придворного фабриканта. Кроме того, он стал поставщиком правителей Дании, Нидерландов, Сербии и Черногории. В столице Хлебников как санкт-петербургский купец и поставщик Высочайшего Двора[898] с 1879 года держал магазин для продажи своих изделий на Невском проспекте, возле Казанского собора, а одно время его мастеровых даже привлекали для чистки императорского серебра.[899] Ивану Петровичу довелось выполнить ответственный и престижный заказ на пополнение старинных дворцовых серебряных сервизов предметами, сделанными по сохранившимся старым образцам.[900]
Уже после смерти Ивана Петровича его фирма с 1888 превратилась в акционерную компанию «Товарищество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий И.П. Хлебников, сыновья и К°» с капиталом в 660 000 рублей,[901] учреждённую Михаилом, Николаем и Алексеем Ивановичами Хлебниковыми, состоявшими в деле отца ещё с 1866 года. Слава продолжала сопутствовать и наследникам знаменитого фабриканта: на Всемирной выставке в Париже в 1889 году представленные ими изделия отмечены золотой медалью, а затем последовал новый успех в далёком заокеанском Чикаго. Братья Хлебниковы, почётные граждане Санкт-Петербурга, поставщики Высочайшего Двора и Двора великой княгини Елизаветы Феодоровны,[902] не только ответственно и старательно выполняли многочисленные высочайшие заказы, но сделанные на их фабрике братины и ковши, предназначенные для дипломатических подарков, настолько проникнуты духом русского искусства допетровского времени, что именно их предприятию доверили и исполнение окладов древних иконостасов в Благовещенском и Успенском соборах Московского Кремля.[903]
Фёдор Андреевич и Сергей Фёдорович Верховцевы
Серебряную скульптуру выпускала в Петербурге и возникшая в 1819 году фабрика Верховцева, однако основной её продукцией была церковная утварь. Фёдор Андреевич Верховцев, основатель дела, родился то ли в 1803, то ли в 1804 году, а уже в 1826 (хотя в некоторых источниках указывается, что в 1835 году) стал мастером русского серебряного цеха. Мастерская его разместилась в доме Алферова (№ 18) по Троицкому переулку.
Талантливый искусник сразу привлёк внимание знатоков. Неслучайно граф Алексей Андреевич Аракчеев именно Фёдору Верховцеву заказал исполнить для Андреевского собора в своем имении Грузино оклад Евангелия. Любимец покойного «Благословенного» императора хотел даже в декоре священной книги увековечить память о своём августейшем благодетеле, а поэтому мастер-серебряник дополнил канонические христианские изображения на окладе как чеканными двуглавыми орлами Российского герба, скрестившими зажатые в когтях факелы, так и римскими цифрами, составлявшими скорбную дату кончины венценосного кумира.[904]
Вскоре последовали и официальные знаки признания качества работ. В 1831 году на художественно-промышленной выставке в Москве Фёдор Андреевич Верховцев за представленную церковную утварь получил малую серебряную медаль.[905] Теперь престижные заказы стали следовать один за другим.
Паломников, приезжавших в Коневский (Коневецкий) Рождественский монастырь, располагавшийся на одном из островов Ладожского озера, поражали своей красотой и «великолепной отделкой» как «изящно сделанные у купца Ф.А. Верховцева» два потира и два дискоса с их принадлежностями в церкви во имя преподобного Арсения, так и кованая рака для мощей святого, основателя этой иноческой обители. Петербургский мастер воспользовался серебром предыдущей раки, исполненной в 1816 году и переставшей своей скромностью и видом удовлетворять вкусы высокопоставленных богомольцев. На новую, размерами примерно 215×90×90 см, ушло немногим менее 80 кг благородного металла. С пяти сторон раки Верховцев вычеканил изображения «важнейших событий из жизни преподобного Арсения. На верхней крышке почивающий в схиме преподобный, на голове его большой позолоченный венец с семью небольшими звёздочками из мелких страз. Около барельефов и по бордюрам» разместились «арабески и ветви», букеты из ветвей составляли ножки, а по верхним углам виднелись «четыре чеканные ангела». Обошлась эта рака в 22 000 рублей ассигнациями.[906]
В 1845 году мастер исполнил серебряный вызолоченный оклад большого Евангелия для Спасо-Преображенского собора всей артиллерии, тщательно прочеканив «все священные изображения и украшения». В центре лицевой стороны разместилось «Воскресение Христово», окружённое бриллиантовым сиянием, причём «победное знамя в деснице Спасителя украшено рубином», а крестик стяга и поля бриллиантовые. Все ювелирные дополнения сделал по рисунку художника Иоанна Порчина бриллиантовый мастер Иоанн Экунин, умело закрепив в оправе более 6 000 алмазов и почти 80 рубинов.[907]
Спустя четыре года в столице состоялась очередная художественно-промышленная выставка. Лавров Верховцеву она, правда, не принесла, зато заставила говорить о мастере, вровень вставшим с самим поставщиком престолонаследника Данилой Андреевым. Имя того гремело в это время в столице Российской империи.
Иван Ильич Пушкарёв, автор труда «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии», вышедшего в свет в 1839–1842 годах, называя самых известных ювелиров Северной Пальмиры, писал: «Некоторых из мастеров золотых, серебряных и бриллиантовых дел по справедливости должно назвать отличными художниками. Всякому, кто может и признаёт нужным променивать тысячи четвертей хлеба на драгоценные перстни, фермуары и разные бальные принадлежности, советую чаще посещать блестящие магазины Брейтфуса, Кейбеля, Яна и Болина. Усердствующие же о благолепии Божиих храмов и приносящие свои посильные дары к украшению святыни могут обращаться к серебряных дел мастеру, добросовестному русскому человеку Даниле Андрееву (проживающему за Семёновским мостом, в доме Доливо-Добровольского, близ дома Московской части), который работает неподражаемо церковные утвари и по честности своей заслуживает истинную признательность. Ризы, сделанные им на св. иконы для графини Орловой-Чесменской, и блюдо для поднесения Государю Наследнику Цесаревичу хлеба-соли от ремесленников по случаю бракосочетания Его Императорского Высочества превосходят всё, что только я в этом роде когда-либо видел».[908]
Теперь же эксперты выставки, сами знающие и опытные специалисты своего дела, не только поставили в один ряд имена обоих мастеров, но и заключили, что «Верховцева серебряные с позолотой вещи, превосходной и трудной выделки из листа, как-то снятие с Креста Спасителя, Воскресение Господне для престола и панагии, сканные венцы венчальные, и цены вещам посредственные», а у Андреева «цена вещам высока».[909]
Вскоре и иностранцы заговорили о Верховцеве. Хотя Фёдор Андреевич и не удостоился наград на Первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году, но обозреватели уделили ему должное внимание в своих репортажах и отчётах. Один из них отметил: «Посетители решительно отказывались верить, что оклады г. Верховцева были вычеканены, а не вылиты», а другой писал более подробно: «Серебряные чеканные работы Верховцева, купца в Санкт-Петербурге, на передней стороне престола с искусно расчеканенным изображением воскресшего Спасителя сработаны очень хорошо. Лик Христа вычеканен даже художественно. Свадебные венцы, хотя и обыкновенной формы, сделаны с большим вкусом и умением».[910]
Поскольку мастерская теперь давала Фёдору Андреевичу Верховцеву стабильный хороший доход, то ещё в 1840 году серебряник вписался в купеческую гильдию, а в 1849–1853 годах его избирали членом Ремесленной управы. С 1861 года Верховцев стал членом правления Приюта принца Ольденбургского и, наконец, через 10 лет добился столь желанного звания поставщика Двора Его Имераторского Величества.
На Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году его наградили медалью «за серебряные доски для ковчега с выпуклой резьбой и за достоинство вообще». На других двух досках мастер искусно выполнил «обронной работой» изображения царей Ивана Грозного и Михаила Фёдоровича, первого государя из рода Романовых.[911]
В 1856 году церковь Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади, самый многопрестольный храм в столице (беспощадно взорванный в 1960-е годы), украсила новая «плащаница с серебром 84-й пробы искусной работы художника Ф. Верховцева»,[912] а два года спустя не менее прекрасное творение того же мастера появилось в церкви во имя чудотворного образа Божией Матери Всех Скорбящих Радости, построенной в 1817–1818 годах архитектором Луиджи Руска на пересечении Шпалерной улицы и Воскресенского проспекта. Чудотворную старинную икону давшую название храму теперь прикрывал «сказочный по красоте и богатству» оклад из золота 84-й пробы, весом около 8,5 кг, сделанный по рисунку академика Фёдора Солнцева. Многочисленные самоцветы, многие из которых перекочевали на новую ризу со старой, ещё екатерининского времени, искусно вставил в оправу ювелир Лев Брейтфус, также выложивший ослепительно сверкавшими бриллиантами венцы и сияние над головами Богородицы и Предвечного Младенца.[913]
В мастерской Фёдора Андреевича Верховцева делались ризы на образа храма при Санкт-Петербургском университете, священные сосуды для церквей Вознесения Господня, Главного штаба и Петра и Павла в Петергофе.
К открытию Исаакиевского собора всю утварь из благородных металлов, ещё по заказу Николая I, поручено было исполнить Поставщикам Высочайшего двора Никольсу и Плинке, фабриканту Сазикову и мастеру Верховцеву. «От мастера Верховцева из казённого серебра принято: плащаница-рака и сосуды с принадлежностями. Образ плащаницы писал профессор Шамшин[914]. Рака вся сплошь, с чеканными изображениями, вызолочена. Серебра на неё употреблено 12 пудов 36 фунтов и 52 золотника, а работа стоила 20 000 рублей серебром.
Сосуды с принадлежностями из серебра, в первый раз добытого на Алагирских заводах и принесённого собору в дар покойным императором Николаем Павловичем, белые, сделаны в большом массивном размере превосходно. Весу в них 12 фунтов 80 золотников, а работа 650 рублей серебром.
Из собственного серебра мастер Верховцев представил двадцать восемь вещей. Из них особенно замечательны: кадило древнего рисунка, крест, венцы и блюдо овальное для умовения ног. Кадило сделано в виде пятиглавой церкви с чеканными окнами, дверями и прочим. Весу в нём 4 фунта и 4 золотника. Крест кипарисный в серебряной позлащённой оправе, употребляемый на всенощном бдении пред праздником Воздвижения. Венцы для брака филиграновой работы и блюдо овальное. Во всех же 28 вещах весу 3 пуда 5 фунтов 9 золотников, а стоимость их 9485 рублей.
Икона Тихвинской Божией матери – как риза, так и киот сделаны на пожертвования. Количество металла, время устроения ризы и прочее – в подписи внизу иконы: «Златая риза на икону Тихвинской Богоматери устроена в царствование Благочестивейшего Государя Императора Александра Николаевича при митрополите Новгородском и С.-Петербургском Исидоре, усердным приношением боголюбивых дателей, тщанием соборного причта и старосты Г.И. Руадзе, трудами же художника Ф. Верховцева 1860 года декабря 22 дня. Золота 84-й пробы 30 фунтов 39 золотников. Мера иконы – 1 аршин 2 вершка длины и 14 вершков ширины».[915]
Заслуженный мастер оправил в благородный металл священные реликвии, привезённые от Иерусалимского патриарха великим князем Константином Николаевичем, его супругой великой княгиней Александрой Иосифовной и первенцем сей четы, великим князем Николаем Константиновичем, путешествовавшими в 1859 году на своей яхте «Громовой». Два кусочка Животворящего древа и частицы мощей особо почитаемых святых Ф.А. Верховцев затем вставил в большой серебряный позолоченный равносторонний крест, украшенный характерным для Византии мотивом плетёнки (см. рис. 50 вклейки). Великий князь Константин Николаевич поместил подаренный венценосным отцом крест в находящуюся в Мраморном дворце домовую церковь Введения во храм пресвятой Богородицы, водрузив сию величайшую христианскую святыню на аналой перед образом Спасителя[916].
После смерти Фёдора Андреевича 31 декабря 1867 года, семейное дело успешно продолжал его единственный сын Сергей Фёдорович Верховцев (1843–1893), купец сначала 2-й, а затем и 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин и кавалер. Жил он в собственном доме на углу Троицкого и Графского переулков. Достойный сын своего отца сразу преобразовал достаточно скромную мастерскую отца в фабрику золотых и серебряных изделий, продолжавшую располагаться на том же месте, но теперь на ней работало около 40 человек, а объём производства через десяток лет составил полсотни пудов серебра на 113,5 тысяч рублей.[917] Уже в 1871 году фабрикант С.Ф. Верховцев получил звание поставщика высочайшего Двора, его работы постоянно и непременно отличались высоким качеством исполнения. Теперь к церковной утвари, традиционной для фабрики, прибавились выполненные из благородного металла скульптурные композиции светского характера.
На столичную художественно-промышленную выставку 1870 года Верховцев представил исполненные по модели Фёдора Харламова две группы, посвящённые 300-летию Войска Донского. Одна из них изображала атамана-покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, а другая – генерала Матвея Ивановича Платова, в лихую годину Отечественной войны 1812 года организовавшего ополчение донских казаков. Обе скульптурные композиции так понравились строгому жюри, что их исполнителю вручили серебряную медаль «за отличную расчеканку серебряной группы и двух барельефов».[918]
В отличие от отца, Сергей Фёдорович Верховцев получил прекрасное профессиональное образование, успешно окончив в 1862 году со второй серебряной медалью Петербургскую Академию художеств, где он учился у известного скульптора Николая Степановича Пименова. В следующем году молодой специалист за статуэтку «Давид, играющий на арфе» удостоился не только второй серебряной медали, но и звания свободного художника-скульптора.[919] Не прошло и десяти лет, и Сергей Фёдорович Верховцев стал классным художником третьей степени по скульптуре «за рельеф с изображением распятия и евангелистов для оклада Евангелия».[920]
Но успешный фабрикант никогда не забывал так много ему давшей Академии художеств. Свод её законов он благоговейно запечатлел на сторонах исполненного им так называемого «зерцала» и презентовал столь своеобразный дар любимым профессорам. Работа бывшего выпускника заняла почётное место в зале заседаний, а сам Сергей Фёдорович Верховцев сделан почётным вольным общником своей aima mater.[921]
Заказы в 1870-е годы так и сыпались. Петербургское купечество именно Сергею Фёдоровичу Верховцеву доверило исполнение драгоценного блюда с солонкой для важнейшего мероприятия. Вручение хлеба-соли планировалось во время празднеств по случаю бракосочетания 11 января 1874 года единственной дочери Александра II, великой княжны Марии, с герцогом Альфредом Эдинбургским, вторым сыном английской королевы Виктории.
На воплощение в жизнь проекта известного столичного архитектора Ипполита Монигетти ушло более 5,5 кг золота. Если гладкую солонку украшала только эмаль, то блюдо отличалось роскошью отделки. Центр акцентировали вензель новобрачных и дата их свадьбы, вокруг разместились четыре медальона, символизирующие торговлю, промышленность, морскую торговлю и коммерческий флот, а борт декорировали гербы России, Петербурга и Дома Романовых.[922]
Однако уже в начале 1880-х годов для Сергея Фёдоровича Верховцева настали тяжёлые времена. Он не выдержал конкуренции, и фабрика его фактически закрылась в 1883 году. Её помещение и оборудование достались купцу Фёдору Алексеевичу Жевержееву. Работы вскоре возобновились, причём на готовых изделиях вплоть до смерти бывшего владельца, последовавшей 21 января 1893 года, ставилось клеймо-именник «СВ» (означавшее «Сергей Верховцев») под государственным гербом.[923]
С этого времени на фабрике купца Ивана Алексеевича Жевержеева, к которому она перешла ещё в 1890 году после кончины старшего брата, производились метившиеся именем подлинного хозяина всевозможные церковные вещи и изделия из парчи. Поскольку работы отличались качеством, а расценки – умеренностью, то Жевержееву неоднократно доверялось выполнение заказов Кабинета на кресты, митры, архиерейское облачение и прочее.[924]
Петербургская фирма «Братья Грачёвы»
В 1866 году возникла в Петербурге ещё одна, производившая в основном церковную утварь, знаменитая фирма, основанная серебряных дел мастером Гаврилой (Гавриилом) Петровичем Грачёвым, до того работавшим в фирме «Гассе», имевшей магазин на Невском проспекте. Родоначальник предприятия прожил недолго, скончавшись 7 декабря 1873 года в возрасте всего лишь 43 лет, но дело его продолжали сыновья: Михаил (1863—?), Григорий (1868—?) и Семён (1870—?), а другие пятеро помогали им своими вкладами, отчего семейная фирма, называвшаяся с 1875 года «Братья Грачёвы», стала с 1900 года именоваться торговым домом. Правда, почти полтора десятка лет фирма не имела собственного клейма, а поэтому на продаваемых ею вещах ставились «именники» мастеров, работавших на братьев Грачёвых. Наконец, в 1889 году появилась на Разъезжей улице, 89, собственная мастерская, вскоре расширившаяся до фабрики золотых, серебряных и гальванических изделий, разместившейся с 1895 года в доме № 14 по Певческому переулку. В 1900 году на ней трудилось 87 рабочих, а годовой оборот достиг 125 тысяч рублей.
В марте 1892 года «фабриканта серебряных изделий, петербургского 2-й гильдии купца» Михаила Гавриловича Грачёва назначили оценщиком при Кабинете. Тремя годами ранее за успешное участие семейной фирмы на выставке в Копенгагене его наградили золотой медалью на Станиславской ленте, а в 1897 году ему, как и его младшему брату Григорию Гавриловичу, «за большие заслуги в производстве ювелирных изделий, пользующихся известностью в России и за границей»,[925] пожаловали звание потомственного почётного гражданина, что, согласно «Табели о рангах», приравнивалось к 8-му классу и соответствовало чину майора.[926] При этом подчёркивалось, что «Михаил и Григорий Грачёвы знаниями дела и усердными трудами своими способствовали тому, что художественные произведения их фабрики приобрели большую известность не только в России, но и за границей, где и пользуются значительным спросом».[927] Что же касается Семёна (Симеона) Гавриловича Грачёва, то он окончил, как и Агафон Фаберже, Коммерческое училище д-ра Видемана, а затем, используя полученные знания, заведовал семейной фабрикой. Её изделия удостоились за своё качество высшей отечественной награды на Всероссийской Промышленной и Художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде: отныне по решению жюри на изделиях фирмы «Братья Грачёвы» помещался государственный герб.[928]
Магазин братьев Грачёвых занял очень выгодное и бойкое место в доме Католической церкви (№ 34) на Невском проспекте, где демонстрировались все новинки производства. Там покупатели охотно приобретали всевозможные золотые, серебряные и исполненные в гальванопластике вещи, сделанные на фабрике: церковную и столовую утварь, скульптуру и чайные сервизы, в основном выдержанные в русском стиле и украшенные разнообразнейшими эмалями. Посуда с клеймом «Бр. Грачёвы» шла нарасхват, поскольку всегда отличалась «тщательностью и чистотой отделки, а также весьма умеренными ценами».[929]
Особенно славились работы мастеров фирмы совершенством гравировки, позволяющей в серебре имитировать бересту, лён, мех, заставляя глаз поверить видимой, но не существующей на самом деле мягкости складок небрежно накинутой «салфетки», пушистости «шубы», хрупкости и ажурности сплетённых «из лыка» стаканчиков. Накладка на альбоме искусно имитирует деревянный резной наличник окна. Виртуозно прочеканена после отливки и дополнена гравировкой, позолотой и эмалью сделанная в виде кавалергардской каски застольная чаша-братина, подаренная «Ея Императорского Величества Марии Феодоровны полку» служившим там великим князем Андреем Владимировичем, так как племянник Николая II прекрасно знал законы и обычаи полкового братства.[930]
Особенно хороша была у Грачёвых прекрасно проработанная тончайшая плоская скань в соединении с эмалями несколько блёклых тонов, с преобладанием оттенков жёлтого и зелёного. На их фабрике также освоили не только прозрачные финифти, наносимые на гильошированную поверхность, украшенную гравировкой с помощью гильоширного станка, но и чрезвычайно сложные витражные эмали. В церковных изделиях любили повторять, варьируя, формы, композиционные приёмы, а также изобразительные и орнаментальные мотивы наиболее совершенных памятников древнерусского ювелирного искусства.[931]
Именно за свои украшенные эмалью и филигранью работы фирма «Братья Грачёвы» вполне заслуженно удостоилась на Всемирных выставках медалей: бронзовой в 1893 году в Чикаго и золотых – в 1889 и 1900 годах в Париже. С 1901 года её владельцы получили звание поставщиков Двора, обретя право иметь государственный герб и на вывеске.[932] Значились они и поставщиками как великих князей Владимира, Алексея и Сергея Александровичей и Михаила Николаевича, так и датского короля.
Фирма «Братья Грачёвы» исполнила много изысканных вещей, ставших подарками, вручаемыми от имени самодержцев. Один из залов резиденции датских монархов в Копенгагене до сих пор украшает великолепное блюдо с датским и российским гербами, подаренное Николаем II своему деду, королю Христиану IX, приехавшему в Петербург на похороны Александра III[933] чтобы поддержать овдовевшую дочь и в то же время порадоваться за внука, ставшего новым повелителем Российской империи.
На фирму братьев Грачёвых почти с её основания работал мастер-ювелир Иоганн-Фердинанд Ольсониус (1823–1888).[934] Дивные эмали виртуозно делал на фабрике Андрей Петров. Скорее всего, именно он оставлял на изделиях своей работы монограмму «АП». Радует многоцветной эмалью в обрамлении скани кубок, поднесённый в 1891 году графу Строганову за победу на скачках. Лампада и чашка с блюдцем декорированы прозрачной витражной эмалью, называемой также оконной,[935] так как на просвет она выглядела стёклышком, непонятно как вставленным в аккуратно выпиленное отверстие в металле. В лампаде, сделанной в виде яйца, так подобраны цвета финифти, что в луче света сфера кажется наполненной багровым мистическим пламенем Святого Духа над спокойной голубизной небес.[936]
Не менее хороша и лампада с изображением Богородицы и святых, покровителей членов семьи Романовых, оказавшаяся в собрании американского частного вашингтонского музея Хиллвуд (см. рис. 51 вклейки). Эмалевые прозрачные «окна», похожие при дневном свете на яркие витражи, от неровного, чуть мерцающего света фитиля «наливались» каким-то пульсирующим и полным таинственности светом.[937]
Довольно часто братья Грачёвы прибегали к помощи художников, называемых в наше время дизайнерами.
Архитектор Леонтий Бенуа вспоминал об одной своей работе, связанной с исполнением заказа известного богача и жуира Нечаева-Мальцева: «Нечаев, получив огромное состояние вместе с прибавкою к фамилии от своего дяди Ивана Сергеевича Мальцева, старого холостяка и, как говорили, жмота, повёл широкую и блестящую жизнь. Еще в 1882 году фабрикант Грачёв делал для него серебряный сервиз по моим рисункам. Всё столовое серебро требовалось в стиле Людовика XV. Впоследствии бывало, как сядем за стол завтракать – Мальцев хвастает серебром и спрашивает, как будто не знает: „А кто его рисовал?“».[938]
Первая мировая война внесла свои коррективы в работу фабрики братьев Грачёвых: многих сотрудников призвали в армию, отчего число работников сократилось к январю 1917 года до 20 человек, а к производству столового серебра присоединилось изготовление гранат. Последующие же революции заставили и вовсе свернуть деятельность предприятия, закрывшегося 2 марта 1918 года.[939]
Овчинниковы
Однако первыми стали работать с витражной эмалью на фабрике Павла Акимовича Овчинникова, раскрывшего также секреты давно утраченной техники перегородчатой финифти и её разновидности – эмали по скани. Вскоре разнообразные эмали освоили на предприятиях Хлебникова, братьев Грачёвых, Верховцевых, Любавина.
Но что такое эмали и в чём состоит их сложность? Ведь и в наше время, работая с эмалями фабричного производства, мастерам приходится проверять, какой же именно цвет получится при определённой температуре обжига.
Само слово «эмаль» произошло от франкского глагола smeltan, означавшего «плавить», что чётко прослеживается также во французском «émail», английском «enamel», немецком «Schmelz». Именно при расплавлении растёртая в порошок стекловидная застывшая масса, до того проваренная с дающими нужный цвет окислами металлов, крепко соединялась с металлической основой. Самое сложное – предугадать заранее свойства смеси многочисленных химических соединений, при неоднократной варке сплавляющихся, взаимно растворяющихся, разлагающихся и воздействующих друг на друга, поскольку при каждом новом нагреве дополнительно возникают новые реакции.
В Византии VI века эмаль называли «электром», как янтарь или сплав золота с серебром, так как при варке добавляли и их в числе прочих компонентов. Однако для её обозначения византийские мастера принесли на Русь слова «мусия» и «финифть». Термин «финифть», восходящий к греческому глаголу «лить, плавить» и означающий в переводе «светлый, блестящий камень», хотя и был почти совсем вытеснен в России из употребления в конце XIX века, и сейчас употребляется как эквивалент слова «эмаль», «мусия» же перешла в «мозаику», но потом всё же уступила место слову «смальта».
Византийцы познакомили как Русь, так и Грузию и Западную Европу с техникой перегородчатой эмали. Возникла она, как часто бывает, из-за случайности. Какая-то золотая вещь, украшенная сплошным рядом стёкол, вставленных и закреплённых в вырезанные в толще металла или напаянные на него перегородки, попала в огонь, и стёкла преобразились в незнаемый доселе материал, крепко соединившийся с основой.
Чтобы повторить эффект, стали закреплять на поверхности изделия систему перегородок (что и дало название технике, по той же причине именуемой по-французски «клуазонё» – «cloisonné») из поставленных на ребро металлических ленточек, а в образовавшиеся ячейки помещали кашицу из смешанного со связующим веществом порошка эмали одного сорта. Подготовленную вещь отправляли на обжиг в пламени древесного угля лишь после тщательной просушки, чтобы испаряющаяся при очень высокой температуре вода не повредила прочности соединяющегося с металлом слоя эмали, удерживаемого ячейкой, а перегородки препятствовали различным эмалям смешиваться при расплаве.
Поскольку слой остывшей эмали после первого обжига не доходил до верхней кромки ячейки, процесс повторяли 2–4 раза. Если же сразу пытались получить толстый слой, то поверхность металла не выдерживала, и эмаль обычно отваливалась ещё при высыхании или же отскакивала при остывании после обжига. После последнего обжига песчаником с водой снимали лишнюю эмаль до проявления сетки перегородок, затем до блеска обрабатывали поверхность различными абразивами, а под конец полировали о козью шкуру. Перегородки образовывали контуры линейного рисунка, а эмаль – прозрачные и сверкающие пятна нужного цвета, сливавшиеся в обусловленный замыслом мастера узор. Поскольку случалось, что при шлифовке и полировке система перегородок слетала вместе с эмалью с готовой вещи, то мастера стали по нужному контуру заглублять поверхность предмета на толщину эмалевого слоя и уже в этой выемке выстраивать ячейки, отчего подобную разновидность перегородчатой эмали назвали «погружённой».
Позднее уже не так растекающуюся эмаль стали помещать в ячейки, образованные напаянным на фон металлическим кружевом «скани». Последний термин обязан древнерусскому глаголу «скати» («сучить» или «свивать»), так как металлическую проволоку приходилось для прочности свивать из нескольких более тонких нитей. Такой воздушный узор благодаря двум греческим словам: «фила» («нить») и «гранос» («зерно») – называли ещё «филигранным», поскольку он не только создавался из искусного переплетения проволок, но и дополнялся полученными из оплавленных в древесном угле их кусочков шариками «зерни». Поскольку эмаль при обжиге образовывала в ячейке либо цветной вогнутый мениск, либо возвышающуюся полусферу, её было невозможно полировать, не испортив сканого набора.
Но время шло. Прикрытый от грязи колпаком огонь очага сменила муфельная печь. Изобретены составы эмалей, не просто удерживающихся, но и не растекающихся на объёмных поверхностях. Удачей стало получение белой непрозрачной, да ещё тугоплавкой эмали, идеально соединяющейся с металлом. Наслаивая её слой за слоем на цветной подложке шпателем и иглой, получали своеобразный гризайльный (с оттенками-градациями одного тона) рельеф, напоминающий камею. Однако на эту белую финифть оказалось возможным наносить нужным рисунком более легкоплавкие цветные эмали, если только не забывать вести очередной обжиг при соответствующих каждой из них, всё уменьшающихся температурах, а иначе какая-то из капризных эмалей могла выгореть. А вскоре эта белая непрозрачная финифть окончательно уподобилась грунтовке в живописи, только обязательно следовало нанести слой контрэмали на оборотную сторону металлической пластины, чтобы та не покоробилась при обжиге.
Жан Тутен (1578–1644), французский ювелир из Шатоде, около 1630 года придумал наносить кончиком тонкой кисточки на подготовленную обжигом белую эмаль смешанные с лавандовым или сандаловым маслом краски, состоящие из окислов металлов, теперь просто прокалённых с флюсом, а ранее добавляемые при варке эмалей для придания массе нужного цвета. Так появилась расписная эмаль, которую, скорее, стоит называть живописной, или же, точнее, живописью на эмали. Теперь эмальер окончательно выделился профессионально в самостоятельного мастера. При этой технике эмальер никогда не должен был забывать ни о проявлявшемся лишь при обжиге подлинном цвете того или иного порошка, ни о точной последовательности нанесения подвергавшихся ступенчатому нагреванию в температурном диапазоне (от 700 до 1000 градусов по Цельсию) групп определённых эмалевых красок, ни в коем случае не смешиваемых, поскольку тогда получались грязные неопределённые тона, нельзя было забывать о порядке и времени обжигов, ведущихся при всё более снижающихся температурах, передержка в печи могла исказить и нарушить колористическую гармонию. Однако в середине XIX века дешёвым заменителем живописи на белой эмали, как и в фарфоре, стали переводные картинки.
Кстати, до сих пор неясно, как же ухитрялись в знаменитых «усольских эмалях» конца XVII столетия кудесники из городка Сольвычегодска закреплять жгутиками скани на поверхностях серебряных или медных чаш белую грунтовую непрозрачную финифть, прописываемую затем по тёмному контуру яркой краской, причём рисунок оттенялся тёмной штриховкой. Мастера Великого Устюга заполняли эмалью как рисунок, так и фон. Для московских же работ XVII века с их привычной гаммой белого, голубого, зелёного и чёрного цветов излюбленными стали не только чёрные и жёлтые пятна легкоплавкой эмали на тугоплавкой, а также вплавленные серебряные накладки, но и мотив «жемчужника» – ряда горошин из белой финифти в окаймлениях. В XIX столетии эту манеру подхватили мастера фирм Хлебникова, Овчинникова и Сазикова.
Прославленный итальянский ювелир Бенвенуто Челлини (1500–1571) описал остроумный способ получения прозрачных витражных эмалей (также называемых прорезными, ажурными, оконными), имеющих только боковые перегородки, что позволяло видеть заполняющую их финифть на просвет. Для этого у металлического ящичка с внутренними перегородками для привычного заполнения эмалями делалось отделяющееся дно, после обжига осторожно счищавшееся.
Однако подобная техника, освоенная во второй половине XIX века на московской фабрике Павла Акимовича Овчинникова, благодаря усовершенствованию состава эмалей была совершенно иной. Теперь металлические перегородки не просто отделяли одну финифть от другой, а играли роль основного каркаса. Но любая временная подложка отсутствовала, да она была бы просто невозможна, так как оконная эмаль украшала объёмные вещи. Некрупные, разнообразной формы ячейки ажурного сканого или выпиленного орнамента заполнялись каплями взвеси эмалевого порошка, затем аккуратно удалялась вода. При обжиге эмаль, растекаясь, затягивала отверстие, однако изделие несколько раз приходилось отправлять в муфельную печь, пока все ячейки не закрывались слоем эмали. Но если температура оказывалась слишком высокой, да к тому же вещь была плохо просушена, эмаль прорывалась и проваливалась, а работу приходилось начинать заново. Недаром эта техника требовала большого навыка и терпения.[940]
Блеск металла основы, видимый через тонкий слой прозрачных эмалей, придаёт им особую силу и яркость цвета. Но этим свойством обладают только высокопробные драгоценные металлы, так как при обжиге на их поверхности под финифтью не образуется «грязных» оксидных плёнок. Вот почему на меди применяют непрозрачные эмали (их ещё называют глухими или опаковыми), а если всё-таки требуется нанести прозрачные слои, то порошок перед обжигом наносится на подложку из золотой или серебряной фольги.
Громоздить на меди ленточки-перегородки весьма затруднительно, поэтому при работе с этим металлом предпочли технику выемчатой эмали, теряющуюся в глубине веков. Во французском языке её поэтично назвали «шамплеве́» («champ levé»), что переводится как «взошедшее поле», поскольку вертикально стоящие, вырезанные в толще металла перегородки ячеек вместе с заполняющими их столбиками эмали похожи на тянущиеся вверх стебли. Выемчатая эмаль позволяла не только создавать более крупные произведения, но и, применяя недорогую медь, делать работу дешевле. Недаром другое французское название этой техники: «l’émail en taille d’épargné» можно перевести как «экономная резьба». К тому же аккуратное утоньшение перегородок позволяло имитировать технику перегородчатой эмали.
Когда же удалось изобрести новые составы не очень растекавшихся прозрачных эмалей с большим поверхностным натяжением, появилась возможность наносить финифть на всю поверхность пластинки, обладающей чуть приподнятым краем. Тонкий слой эмали, к сожалению, вначале не отличался высокой прочностью и легко скалывался, пока не поняли, что для большего сцепления следует наносить резцом на поверхность металла побольше штрихов. Но металл просвечивал через эмаль, а поэтому вместо хаотических бороздок на его поверхности стали в низком рельефе вырезать гравированный узор, откуда и появилось французское название техники: «l’émail de basse taille». Прозрачная эмаль, залившая низкую резьбу гравировки, благодаря пусть и небольшой разнице в толщине слоя передавала светотеневые эффекты рисунка: в углублениях цвет был темнее и насыщеннее, а над ровными блестящими поверхностями – ярче и прозрачнее. Техника требовала тщательной полировки, а мерой качества служила абсолютная прозрачность эмали.
Человеку всегда свойственно стремиться к облегчению монотонной и уныло-рутинной работы. Сколько же выдержки и терпения требовалось при однообразном долблении чеканом-иголкой с закруглённым концом по металлу, оставляя ровненькие ямочки-вмятинки на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы добиться впечатления бархатисто-матовой поверхности. Такой фон называли «канфаренным» или «пунцированным» в зависимости от того, именовали ли этот чекан по-русски «канфарником» или же, на западный манер, «пунсоном» (от французского «point» – «точка»). Но гораздо больше усилий и самообладания приходилось прилагать, повторяя резцом несколько раз подряд один и тот же сложный элемент-раппорт рисунка. Поэтому большим облегчением для золотых и серебряных дел мастеров XVIII века стал гильоширный станок, работавший по принципу пантографа. И именно в это время расцвело искусство прозрачной эмали по гильошированной поверхности, так развитое впоследствии эмальерами фирмы Карла Густавовича Фаберже и Иваном Савельевичем Брицыным.
А в следующем столетии, с ростом интереса к предшествующим эпохам и необходимости реставрации старинных вещей, благодаря достижениям науки, а также появившейся с возникновением ремесленных школ и училищ возможности обмениваться тонкостями технологий эмалирования, мастера не только раскрывают секреты забытых техник, но и совершенствуют их, проводят эксперименты, связанные как с составами эмалей, так и с режимом их обжига, способами нанесения на поверхность металла, сочетанием слоёв различных финифтей. Бурное развитие испытало промышленное эмалирование. В 1845 году при Севрской мануфактуре открыта специальная мастерская под руководством Мейер-Эна (Meyer-Heine), ставшая подлинной лабораторией по возобновлению старинных техник эмали, где работал живописец и известный керамист Клодиюс Поплен (Claudius Popelin, 1826–1892), не только раскрывший секреты лиможских эмалей, но и написавший книгу «Огненные искусства» («Les Arts du feu»), вышедшую в Париже в 1878 году.
Но русские мастера, экспериментировавшие с эмалями, отнюдь не уступали французам. Уровень технологии эмалевых покрытий на фабриках Овчинникова, Хлебникова, Верховцева, братьев Грачёвых, Любавина стал настолько высок, что некоторые французские фирмы «посылали в Санкт-Петербург или в Москву заготовки своих изделий для выполнения отделочных операций»,[941] а ведь какое-то столетие назад всё происходило с точностью наоборот. Особенно большую лепту внёс Павел Акимович Овчинников. Позднее засверкают имена эмальеров-экспериментаторов, работавших в фирме Карла Фаберже.
Основатель дела родился 25 марта 1830 года в селе Отрадном Московской губернии в семье крепостных князя Д. Волконского. Расторопный и понятливый Павел рано обнаружил способности к рисованию, а поэтому барин решил отправить талантливого мальчугана в Москву, где его родной брат А.А. Овчинников держал мастерскую золотых и серебряных дел. Павел Овчинников, вероятно, оказался добросовестным и умным учеником, поскольку уже через два года стал подмастерьем и в этом статусе пробыл ещё шесть лет. Однако претендовать на звание мастера, как и на вступление в цех, он не мог, поскольку оставался крепостным. Поэтому, как только Павел Акимович смог самостоятельно работать, он постарался за свои изделия побыстрее скопить небольшой капиталец и откупиться на волю. В 1850 году молодой серебряник выгодно женился и уже в апреле следующего года на 1000 рублей приданого супруги завёл собственную мастерскую в доме Лежнёвых в Яузской части Москвы.[942] Когда же в неё через два года влилась мастерская старшего брата, так как пошатнувшееся здоровье заставило бывшего строгого учителя и наставника отойти от дел, её преобразовали в фабрику.
Уже в 1854 году годовой оборот фабрики Павла Акимовича Овчинникова, где работало 400 человек, составил 1,5 миллиона рублей.[943] Хотя её произведения на международной выставке мануфактурных изделий в Москве 1865 года и появились впервые, экспонаты с эмалью, отличавшиеся «высокой художественной оригинальностью рисунков и прекрасным качеством исполнения, а также усовершенствованием национального стиля», награждены золотой медалью и высоким правом изображать государственного орла как на работах фабрики, так и на вывеске магазина её владельца. Пленили они и цесаревича Александра Александровича, удостоившего П.А. Овчинникова звания поставщика своего Двора.[944] Бывший крепостной отблагодарил за оказанную честь будущего императора-«Миротворца», поднеся его супруге на серебряной ажурной «салфетке» букет цветов, да не простых, а «весьма тщательно и добросовестно отделанных» из того же благородного металла, к тому же все розы, гвоздики, георгины и ландыши дополняли либо позолота, либо эмаль. Великой княгине Марии Феодоровне подарок настолько понравился, что украсил её кабинет в Аничковом дворце.[945]
В том же году продукцию получившего столь ошеломляющий успех предприятия столичная публика увидела в залах Общества поощрения художеств. Знатоки и пресса на все лады расхваливали работы П.А. Овчинникова. Корреспондент газеты «Голос» восторженно писал: «Такого вкуса и такой тонкости, такой тщательной отделки нам не удавалось видеть ни на одном из русских произведений из серебра; да они сделают честь и любой иностранной фирме».[946]
Теперь фирма Павла Акимовича Овчинникова непременно главенствовала на всех как всероссийских, так и зарубежных выставках, всегда вызывая восхищение современников. В 1876 году, в связи с экспозицией её работ, отправляемых на филадельфийскую выставку, газета «Новое время» не преминула напомнить: «На парижской Всемирной выставке (1867) первенство среди русских мастеров осталось за Овчинниковым, на петербургской мануфактурной выставке (1870) тоже, также на московской политехнической (1872), а также на венской всемирной (1873) и таким путем уже 9 лет нет равных Овчинникову».[947] А отчёт о Всероссийской выставке 1882 года отнюдь не случайно содержал следующие строки: «…имя г./осподина/ Овчинникова известно чуть ли не всей России; известность эта приобретена им самим, его личной энергией, его трудом и дарованием»[948].
Дела московской фирмы шли настолько успешно, что в 1873 году её владелец открыл в Петербурге не только отделение своего предприятия, но и магазин с постоянной выставкой выпускаемых изделий, разместившийся на Большой Морской, в доме № 35. Изделия фабрики Павла Акимовича Овчинникова пользовались постоянным спросом в России, а посещавшие Петербург и Москву путешественники считали долгом приобрести какое-либо изделие его фирмы. Она получала многочисленные награды и ордена: то за прогрессивное усовершенствование всех сторон золотого и серебряного дела, то за постоянное внесение новых элементов украшения, то за превосходное устройство и ведение школы.
Первым среди владельцев частных фабрик Павел Акимович Овчинников основал художественную школу на 130 учеников, где кроме предметов, непосредственно относящихся к ювелирному производству, преподавались черчение, рисование, лепка из глины и воска, каллиграфия, а также русский язык, арифметика, геометрия, география, Закон Божий и даже пение, чтобы «поднять духовные силы рабочих, обновить их притоком здравых и честных идей». Недаром в библиотеке Александра III в Александровском дворце Царского Села тщательно сберегался альбом с фотографиями фабрики и школы П.А. Овчинникова.[949]
Заботясь о судьбе отечественной промышленности и искусства, владелец предприятия, основываясь на собственном опыте, написал книгу «Некоторые данные по вопросу об устройстве быта рабочих и учеников на фабриках и ремесленных заведениях», глубоко проникнутую «глубоким нравственным и патриотическим чувством, долгом хозяина перед работниками, заботой о них». В ней есть такие строки: «Русская промышленность серебряных изделий на последних всемирных выставках заняла не только почётное место, но и успела сбросить ярмо давления иностранное, только благодаря тому, что сумела вызвать к деятельности своё рабочее сословие». Ведь Павел Акимович знал, что «силы эти громадные, выносливые», а если вложить капиталы и «возделать почву», то «силы эти разрастутся и мощь русского народа устроит своё народное богатство».[950]
Современники ценили воззрения П.А. Овчинникова и также считали одной из главных его заслуг, «что он отрешился от рабского подражания иностранным образцам и старался по возможности придавать своим произведениям народный характер».[951] Недаром в отчёте о выставке 1882 года в Москве есть гордые строки: «Теперь за лучшими произведениями, должными удовлетворить самый тонкий и воспитанный изящный вкус, послужить для памятника или чествования отечественного исторического события, обращаются к русским мастерам и не только наши соотечественники, тратившие прежде громадные суммы на иноземных мастеров, но даже многие иностранцы».[952]
Однако и сам Павел Акимович Овчинников, стремясь, чтобы произведения его фабрики охотно раскупались за границей, внимательно прислушивался к критике. Поскольку иностранцы упрекали их за резкость цветовой гаммы, так как «соединение красного, синего и зелёного… неприятно действует на глаз, привыкший к более мягким тонам», эмальеры его фирмы смогли найти состав, дающий «бледного цвета ультрамарин», и «эффект вышел превосходный».[953]
П.А. Овчинников не только одним из первых обратился к выпуску вещей в древнерусском стиле, но ему удалось воскресить утраченное искусство эмали по скани и освоить витражную эмаль. Орнаменты он заимствовал из старинных рукописей, из иллюстраций «Древностей Государства Российского» и публикаций различных произведений прошлого. В то же время на выставке в Москве в 1882 году фирма представила «напрестольное Евангелие в серебряной оправе с изображениями евангелистов и пророков, выполненных живописной эмалью по рисункам Л. Даля». Изготовленное для храма Христа Спасителя в Первопрестольной, оно считалось современниками лучшим в художественном отношении произведением среди утвари собора. К тому же в этом Евангелии Павел Акимович Овчинников применил и возрождённую им перегородчатую эмаль, и именно ему принадлежала честь восстановления «клуазоне» не только в России, но и в Европе.[954]
В скульптурных композициях, сделанных на фабрике русского чародея, преобладали жанровые сцены. Подобно братьям Грачёвым, П.А. Овчинников также обратился к имитации текстур различных материалов. Отечественные знатоки заметили в его изделиях «отсутствие той правильной механической отделки, к которой стремились наши золотых дел мастера, думая, что в этом заключается последняя степень совершенства», а на самом деле «чистота линий, проведённых как бы по линейке, правильность точек чекана, размеренных как по циркулю, придавали нашим изделиям вид сухости и скуки». В произведениях же фирмы Овчинникова чувствовалось, как «резец свободно двигался по металлу», а рукой чеканщика руководило сознание подлинного художника, чтобы почти до обмана передать «свойство тканей, узорного шитья, нитку позумента», отчего «вся работа приобретала живость и живописность».[955]
В 1873 году Александру II при посещении им «Русской избы» Венской выставки поднесли хлеб и соль на серебряном блюде, на котором по обычаю лежали прекрасное шитое полотенце и икона Спасителя филигранной работы. Но как же удивились современники-очевидцы, когда выяснилось, что полотенце это – серебряное. Цесаревне, помимо серебряной чашки с блюдцем, тоже досталось узорчатое, покрытое эмалью полотенце-обманка. Да и король Италии не удержался от покупки прелестной серебряной корзинки с как бы небрежно наброшенной на неё салфеткой, «исполненной так изящно, что салфетка кажется не из металла, а из полотна». Все эти «полотенца» и «салфетки» выглядели столь «натурально, что многие из посетителей принимали их за сотканные из льна и удивлялись, зачем ткани попали в коллекцию серебряных вещей».[956] А вскоре подобный серебряный поднос с лежащей скатертью, имитирующей льняную ткань, украшенную «мережкой» и «вышитым» вензелем «MA» под императорской короной, послужил презентом счастливым новобрачным: Марии, единственной дочери Александра II, и Альфреду, сыну английской королевы Виктории (см. рис. 53 вклейки).[957]
Вещь, сделанная на фабрике П.А. Овчинникова, считалась по-настоящему достойным подарком. Поэтому поставщику Высочайшего Двора приходилось исполнять по заказам Кабинета Его Императорского Величества различные блюда и солонки, а также иконы в драгоценных окладах. Образ Богоматери Казанской в золочёном, тончайшей работы окладе, с бриллиантовыми, стилизованными под древнерусские, литерами «А» и «М», позднее дополненный многочисленными пасхальными яичками-брелоками работы фирмы Фаберже, послужил родительским благословением великой княжне Ксении, дочери императора Александра III, сочетавшейся браком со своим двоюродным дядей, великим князем Александром Михайловичем (см. рис. 52 вклейки).[958]
Ранее, в 1879 году, сам Павел Акимович вместе со своими единомышленниками преподнёс Александру II «сооружённую усердием» икону с изображением святого патрона императора – князя Александра Невского, а также святых Тита и Поликарпа, чья память отмечалась 2 апреля. Академик Василий Васильевич Васильев (1829–1894) написал этот образ в память чудесного спасения императора во время покушения на него 2 апреля 1879 года народника А.К. Соловьёва возле Зимнего дворца. Работники же фабрики Овчинникова на этот раз превзошли самих себя. Оклад поражает совершенной техникой обработки серебра и эмалей. Ослепительно сверкают доспехи князя, кольчуга кажется сплетённой из множества отдельных звеньев, мягким и пушистым выглядит «горностаевый мех» мантии, контрастирующий с «златотканой» парчой, мягкими складками ниспадают одеяния святых, украшенные узорочьем по краю, клубятся блистающие одежды ангелов, бережно и почтительно поддерживающих образ Спаса Нерукотворного на плате. Особенно хороша по исполнению очень характерного для работ П.А. Овчинникова голубого цвета эмаль по скани, сочетающаяся с расписной.[959]
Мануфактур-советник Павел Акимович Овчинников, награждённый многочисленными медалями за свои работы, созданные по рисункам и моделям лучших тогдашних рисовальщиков, скульпторов и архитекторов И. Монигетти, А. Жуковского, Е. Лансере и Р. Гартмана, пожалованный австрийским орденом Железного Креста, французским орденом Почётного Легиона и пятью русскими орденами (включая Владимира 4-й степени, дававшего удостоенному, согласно статуту 1845 года, потомственное дворянство, а купцам потомственное почётное гражданство), 12 лет проработавший на благо москвичей гласным Московской Городской Думы, скончался 7 апреля 1888 года.[960]
Однако созданная им фирма продолжала работать под руководством его сыновей до 1916 года. Михаил, Александр, Павел и Николай Павловичи Овчинниковы в 1894 году официально получили звание поставщиков серебряных изделий для Высочайшего Двора.[961] Павел Павлович Овчинников в 1885–1886 годах учился в Императорском Строгановском училище, членом Совета которого позже стал его старший брат, Михаил Павлович (?—1915), глава петербургского отделения фирмы. Заведование же московской фабрикой выпало на долю Александра Павловича Овчинникова.[962]
Новые владельцы продолжали вызывавшую изумление современников политику своего отца в отношениях с сотрудниками, поскольку «движимые благородным чувством признательности к лицам, способствовавшим их успеху, они сообщали экспертам имена своих художников и даже имена даровитых рабочих»,[963] а те отвечали ещё большим усердием к порученному делу.
Эмальеры фирмы братьев Овчинниковых успешно продолжали эксперименты. На фабрике пробовали работать в технике выемчатой эмали, а в последние десятилетия XIX века освоили эффектный технический приём по вплавлению чеканных рельефов в слой цветного эмалевого лака. Потому так восхитительно красивы поющие на фоне багрового заката соловьи, сидящие на усыпанных цветами веточках карликовой вишни-сакуры.[964]
Претендуя на первенство в соперничестве с французскими мастерами, в том числе и с прославленным Рене Лаликом, совершенствовалась и техника витражной эмали. Если вначале сделанными в ней вставками лишь дополнялись вещи, украшенные эмалью по скани, то затем освоили и сложнопрофильные формы финифтяных «витражей», переходя от тарелочек[965] к чарочкам[966] и ковшам. Ювелирной импровизацией на темы национального народного искусства выглядит ковш-«утица», своеобразный символ России,[967] оказавшийся волей судеб в Музее изобразительного искусства американского города Ричмонда. Округлая чаша покрыта затянутыми прозрачной разноцветной эмалью «окнами», а в деталях использованы эмаль по скани и филигрань.[968]
Серебряные изделия, представленные сыновьями Павла Акимовича Овчинникова по правительственному приглашению в русском разделе Всемирной выставки 1900 года в Париже, вновь привлекли внимание публики, на этот раз «ввиду новизны выставляемых этой фирмой работ по расписной эмали и технических трудностей при выполнении этих работ».[969] Поразил всех кованый серебряный иконостас, дополненный эмалью и сделанный по рисункам Виктора Михайловича Васнецова.[970] Но все эти вещи были чисто выставочными и совсем не предназначались для продажи, к тому же владельцы дела уже не хотели, да и не могли, «за отсутствием рабочих, увеличивать своё производство» ради иностранных покупателей.[971] Свои же могли приобретать понравившиеся изделия в столичном магазине братьев Овчинниковых, располагавшемся в начале XX века в доме № 29 на Большой Морской, когда-то принадлежавшем семейству Сазиковых.[972]
Петербургская фабрика серебряных изделий «Любавин»
Александр Венедиктович Любавин начал с 1853 года торговать вместе с матерью в Серебряных рядах, размещавшихся на Невском проспекте, в доме № 31. Продавали они свои серебряные изделия, сделанные в собственной мастерской на Малой Мещанской. Но в 1893 году держатель престижного магазина приобрёл у Фредрика Генрихсена фабричку,[973] размещавшуюся в доме № 2 в Графском переулке. Самому же Фредрику Хендриксону-«Генрихсену», хотя он неоднократно выполнял заказы Двора и его творениями пользовались не только в Зимнем, но и в Аничковом дворцах, пришлось перебраться в более скромную мастерскую на набережной Фонтанки, 45, где он продолжал работать ещё в 1898 году.[974]
В 1896 году Александр Венедиктович Любавин уже получил золотую медаль на Нижегородской выставке, а в 1900 году стал поставщиком серебряных изделий для Высочайшего Двора. Достойным наследником его стал сын Николай Александрович, подтвердивший звание придворного фабриканта в 1905 году.[975] Предприятие «Любавин» считалось достаточно крупным, в 1912 году на нём насчитывалось 76 работников, но революционные события 1917 года прекратили его существование.[976]
Для изделий этой фирмы также характерна иллюзорная имитация в серебре фактуры дерева, ткани и прочих материалов. Поэтому составленная пара рюмок для яиц походила на небольшое яичко, словно оплетённое сеточкой из луба.[977] Особенной популярностью пользовались чарочки-«перевёртыши», делаемые в виде различных военных головных уборов.
В 1874 году праздновалось столетие лейб-гвардии гусарского полка, и Любавину поручили изготовить как для офицеров, так и для императора целую партию небольших серебряных сосудов для застольных возлияний. Каждая чарочка в миниатюре повторяла форменную шапку гусара-гвардейца, причём чеканщики настолько точно смогли передать фактуру меха, узорчатой ткани и перьев султана, что не верилось в то, что всё выполнено из металла.[978] Кстати, подобную посуду для крепких напитков молодёжь любила использовать для своеобразных состязаний, соревнуясь, кто больше выпьет «аршинами». Мера отнюдь не маленькая, тогдашний аршин соответствовал 71,12 современным сантиметрам. Чарочки офицерского полкового собрания, наполненные соответствующим крепким напитком, аккуратно выстраивали в ряд, а затем повесы приступали к делу: кто осушит самую длинную цепочку из сих министаканчиков, тот и становился победителем (см. рис. 55 цветной вклейки).
Поскольку в обществе издавна царил обычай непременно осушать чару хмельного зелья в честь победы, то даже сделанный фирмой Александра Венедиктовича Любавина памятный приз за успех в коннозаводстве выглядит старинным кубком, чьи форма и декор тщательно скопированы с круговых заздравных чаш-братин XVII века (см. рис. 54 вклейки).[979]
Торговый дом «И.Е. Морозов»
Известной фирмой, подтвердившей в 1894[980] и 1912 годах звание придворного поставщика серебряных настольных вещей[981], был торговый дом «И.Е. Морозов». Основатель её, золотых дел мастер Иван Екимович (Евдокимович) Морозов (1825–1885), держал мастерскую, с 1849 года помещавшуюся в доме Фролова на Караванной улице, а затем перекочевавшую в Гостиный двор (помещения 85–87). С фирмой, в основном выпускавшей выдержанные в русском стиле серебряные изделия с эмалями, сотрудничали даже такие крупные мастера, как Андерс-Йохан Сеппянен и Фредрик Тиандер. Оба они приехали из Финляндии и отличались добросовестностью в работе и качеством исполнения порученного.
Андерс-Йохан Сеппянен родился 18 апреля 1822 года в Рандасалми. Совсем молодым он появился в Петербурге, чтобы овладеть престижной профессией. Уже в 1844 году он стал подмастерьем, но только около 1870 года получил статус серебряных дел мастера. Теперь его больше звали на русский манер Андреем Фердинандовичем. В Северной Пальмире мастер дважды женился. Первый брак он заключил 24 апреля 1850 года с Эвой-Катариной Сеппен, 27-летней уроженкой Вильманстранда, а второй – 2 февраля 1871 года с 31-летней Катариной-Вильгельминой Тёрнроос из Бьёрнеборга. В 1873–1908 годах Сеппянен, сам владелец золотой и серебряной мастерской, предпочитал выполнять заказы, регулярно поступающие от фирмы «И.Е. Морозов».[982]
Что же касается Фредрика Тиандера, то он родился 1 сентября 1835 года в Ловизе, в семье тамошнего золотых дел мастера. Фредрик Тиандер-старший заботливо выучил секретам профессии своего сына, мальчуган с ранних лет очень хотел продолжать дело отца. Однако в маленьком городке с заказчиками было туговато. Поиски достойной работы привели в 1860 году молодого талантливого подмастерья в столицу Российской империи. Сравнительно быстро ему удалось стать золотых дел мастером. В 1867–1868 годах переименованный во «Фридриха» Тиандер снимал квартиру № 10 в доме купца Якова Ивановича Никитина на Гороховой, 35.[983] Обустроившись, златокузнец наконец-то смог сочетаться браком с Марией Тобиасдоттер. Дела пошли на лад. В 1898 году Фридрих Тиандер уже держал мастерскую на Мещанской улице, 19, почти исключительно работая на торговый дом, возглавляемый теперь Владимиром Ивановичем Морозовым.[984]
Именно он, после смерти Ивана Екимовича 30 декабря 1885 года, продолжал семейное дело вплоть до 1917 года. Владимир Иванович Морозов, как и отец, числился в купцах 1-й гильдии и так же удостоился звания потомственного почётного гражданина Петербурга. Фирма теперь специализировалась на столовом серебре, поставляемом для Двора, выполняла много ювелирных изделий по заказам Кабинета.[985] Если Владимиру Ивановичу Морозову ещё в 1894 году подтвердили звание поставщика Высочайшего Двора[986] то в 1912 году такой же чести удостоились Мария Ивановна и Сергей Иванович Морозовы за отличного качества серебряные настольные вещи.[987] Три ювелирные лавки на Зеркальной линии Гостиного двора давали неплохой доход, что позволяло Владимиру Ивановичу Морозову помогать землякам, жертвуя немалые суммы в Тверское благотворительное общество, основанное в Петербурге 19 мая 1902 года.[988] Дела семейного предприятия процветали, однако всё было в одночасье разрушено реквизициями и экспроприациями революционных лет.
Почти через полстолетия, в октябре 1965 года, при реконструкции Гостиного двора, в одном из помещений, некогда занимаемых фирмой «В.И. Морозов», бригада строителей неожиданно в кладке стены обнаружила под полом шестнадцать золотых кирпичей весом 128 килограммов, заботливо и, как предполагалось, надёжно припрятанных последним владельцем в хаосе бурных дней революции и Гражданской войны.[989] Находку подоспевшие милиционеры тут же завернули в газеты и, не замедлив, отвезли бруски драгоценного металла на трамвае прямо на Литейный, 4. По действовавшему закону, нашедшим клад полагалась четверть обнаруженных вещей. Отдавать же столь большой кус в частные руки, естественно, категорически не хотелось. Впрочем, и перспектива замены четырёх «кирпичиков» на соответствующие денежные неслыханные суммы отнюдь не прельщала властные органы.
Наконец, кому-то из служителей Фемиды пришла в голову блистательная идея. Ведь работяги, удивившись чересчур большому весу выпавших из стены кирпичей, решили узнать, из чего же они были сделаны. Один из «счастливчиков» ножовкой, оказавшейся под рукой, слегка поцарапал угол странного бруска. Оказалось, что металл похож по цвету и твёрдости на золото. Но эти маленькие следы невинного «исследования» и погубили не только излишне любопытного, но и остальных членов бригады. Беднягу тут же арестовали и за «криминальную» порчу государственного имущества посадили, а его запуганные сотоварищи-«сообщники» уже ничего не требовали, поскольку были счастливы, избежав весьма возможной тюрьмы. Высшие же милицейские чины откровенно посмеялись над ловкой придумкой облапошивания простофиль, даже не догадывавшихся о своих законных правах.[990]
Глава XIII Закат ювелирного дела в России
В январе 1914 года Агафон Карлович Фаберже, младший сын придворного ювелира, занимавший должность оценщика Кабинета, начал работу по реэкспертизе коронных вещей. К середине июля почти всё уже было подробно описано. Оставались только скипетр и Большая корона. Агафон Карлович взял в руки державный жезл и, притронувшись к «Орлову», вдруг заметил, что тот непрочно держался в оправе, подтолкнул его снизу большим пальцем, и самый драгоценный из всех алмазов оказался на ладони ювелира.
В эту самую минуту позвонил по телефону Николай Николаевич Новосельский, глава финансового отдела Кабинета, и распорядился немедленно прекратить осмотр драгоценностей, которые теперь требовалось срочно полностью упаковать в ящики и отправить в Москву.[991] В Морском генеральном штабе боялись, что немецкая эскадра может прорваться близко к Петербургу и обстрелять столицу из корабельных орудий, а поэтому 23 июля 1914 года в спешном порядке вывозятся в Москву, под толстые своды Оружейной палаты сокровища как Камеральной части, так и относившегося к Министерству Двора Эрмитажа.
Регалии поместили в опечатанный сургучными печатями алюминиевый сундук, специально предназначенный для их транспортировки.[992] На следующий день ящики с сундуками уже оказались в Первопрестольной, и, хотя их и принял формально хранитель кремлёвского музея В.К. Трутовский, однако, по распоряжению управляющего Кабинетом, до революции к ним допускались только заместитель последнего Бартышев и камер-фрау Герингер.[993]
Потянулись долгие годы войны. Первые победы сменились поражениями, затем военные действия шли с переменным успехом. Многие ювелиры отправились на фронт. Мастерские почти опустели, фабрики во многом перепрофилировали, и они теперь наряду с привычной продукцией выполняли военные заказы. Труднее стало и с привозом и пересылкой драгоценных камней из-за рубежа. Да и царская семья, чтобы показать пример, устроила во дворцах госпитали, где сама императрица и её старшие дочери, преобразившись в медицинских сестёр, ухаживали за ранеными, прибывающими с поля боя.
Как и в Японскую войну 1904–1905 годов, Николай II принципиально не заказывал дорогих изделий. Предназначенные для подарков обеим императрицам знаменитые пасхальные яйца работы Фаберже теперь не блистали ни избытком золота, ни изобилием самоцветов, ни виртуозной механикой, отличаясь только, как всегда, изумительным качеством исполнения, поскольку тематика их была связана с военными событиями.
На весну 1917 года планировалось победное наступление русской армии на германском фронте. Но все планы смешала Февральская революция.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года, заставив Николая II отречься от престола, а многих аристократов, как они полагали, «на время» эмигрировать, закрыла многие ювелирные мастерские, а Октябрьская, практически уничтожившая состоятельных заказчиков, окончательно смела их, так как, с одной стороны, людям в хаосе революций, Гражданской войны и голода было не до прекрасных вещей, а с другой – пошли непрерывные грабежи, экспроприации и конфискации драгоценных вещей и материалов, да и разрешённая в качестве самой высокой 36-я проба благородных металлов, введённая специальным декретом, не позволяла применять сложные техники и особенно прозрачные эмали.[994]
Невозможность спокойно работать, подчас связанная с грядущей неизвестностью положения, вынудила многих мастеров, особенно иностранного происхождения и подданства, бежать за границу.
В доме Фаберже короткое время просуществовал «Комитет служащих фирм», а в декабре 1918 года возглавлявший коллектив художников предприятия старший сын Карла Густавовича, Евгений Карлович Фаберже, вынужден был с рюкзаком за плечами бежать через Кексгольм (ныне – город Приозерск) в Финляндию, а оттуда – в Париж, где он с братом Александром Карловичем, скульптором и эмальером, открыл недолго работавшую мастерскую.
Менее года просуществовал и магазин фирмы. В нём теперь можно было довольно часто наблюдать сценки, подобные описанной бароном Г.Н. Врангелем: «Однажды я зашёл на Морской в магазин Фаберже. Покупателей не было, было только несколько буржуев из его старых клиентов. Но вот ввалился красноармеец с женщиной. Он – добродушный на вид тюлень, должно быть, недавно еще взятый от сохи, она – полугородская франтиха, из бывших кухарок «заместо повара» с ужимками, претендующими на хороший тон… Шляпа на ней сногсшибательная, соболя тысячные, бриллиантовые серьги в орех, на руках разноцветные кольца, на груди целый ювелирный магазин. «Нам желательно ожерелье из бус», – сказала особа. Они купили одну из самых дорогих вещей в магазине и ушли. «Видели, какой у неё чудный аграф? – спросила одна дама. – Наверное, работа Лалика в Париже». – «Это нашей работы, – сказал приказчик, – я его узнал, мы его в прошлом году для княгини Юсуповой делали…»[995]
В августе 1917 года Временное правительство объявило о национализации царских дворцов. К тому времени императрица Мария Феодоровна перебралась из Киева, где её застала Февральская революция, в Крым. Но если Кики, горничной вдовы Александра III, удалось весной привезти своей августейшей хозяйке из её резиденции в Петрограде шкатулку с драгоценностями, то князь Феликс Юсупов опоздал. Генерал-майор Петр Ерехович успел не только за неделю, с 14 по 20 сентября, описать находившееся в Аничковом дворце имущество бывшей патронессы, но и, быстро упаковав всё в 84 ящика, не замедлив, отправить бесценный груз в Москву, под толстые своды Оружейной палаты. Вскоре там очутились и ящики с драгоценными вещами из покоев Зимнего дворца.
Великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II, напрасно понадеялась на крепость столичного банковского сейфа. Уже в Крыму она узнала, что пришедшие к власти большевики конфисковали содержимое несгораемого шкафа в октябре 1917 года. Её старшей сестре, великой княгине Ксении Александровне, повезло больше. Та успела захватить в Крым почти все свои украшения, но зато потом, оказавшись за границей и нуждаясь в деньгах, она доверила их продажу ловкому мошеннику и осталась в результате ни с чем.[996] Драгоценности же из знаменитого спасенного ларца после смерти их матери-императрицы попали при таинственных обстоятельствах келейной распродажи в руки к членам английской королевской семьи.[997]
В послефевральские дни разграбили многие частные коллекции во дворцах и особняках Петрограда. Вывоз произведений искусства и антиквариата, в том числе и множества ювелирных произведений, их владельцами за границу вызвал к жизни образование в марте 1917 года по инициативе Алексея Максимовича Горького Комиссии по делам искусств при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, опубликовавшей знаменитое воззвание к гражданам России:
«Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу <…> Берегите это наследство, <…> – это воплощение духовной силы вашей и предков ваших <…> Помните, что всё это почва, на которой вырастает наше новое народное искусство». А когда летом 1917 года в США возникла специальная корпорация для вывоза из России художественных ценностей, А.М. Горький предупреждал: «Американское предприятие – <…> грозит нашей стране великим опустошением, оно выносит из России массу прекрасных вещей, историческая и художественная ценность которых выше всяких миллионов»[998].
Пришедшие же к власти в результате Октябрьской революции большевики считали произведения ювелирного искусства никому не нужными побрякушками, забывая или даже не догадываясь, что те украшают как самих людей, так и их быт, и что недаром в самом слове «ювелирный» таится французский корень «joie», переводящийся как «радость». Под официально пропагандируемой проповедью пуританского аскетизма, чтобы ничто не «отвлекало» от высоких целей построения нового общества и «нового человека», должного расстаться с «буржуазными» привычками и предрассудками, когда подчас даже чисто вымытые руки без грязи под ногтями, не говоря уже о шляпках и галстуках, ассоциировались с непролетарским происхождением и грозили немалыми неприятностями, на деле скрывалась мысль о подчинении государству неисчислимых богатств не только богатых и зажиточных людей, имущество которых просто отбиралось под лозунгом «Грабь награбленное!», но и о контроле за имущественным положением своих рядовых сограждан и о фактической конфискации всех драгоценных и дорогостоящих материалов и предметов в фонд государства, с целью черпать из этого источника средства на «мировую революцию».
Вначале конфискации коснулись царской семьи, аристократии и богатой буржуазии. Декрет от 13 июля 1918 года «О конфискации имущества низложенного российского императора и членов императорского дома» предусматривал, что всякое их имущество, «в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось», объявлялось достоянием РСФСР и передавалось в основном в ведение Комиссариата внутренних дел, причём «за несообщение в двухнедельный срок сведений о местонахождении имущества» виновные подлежали «ответственности, как за присвоение государственного достояния». Чтобы не было каких-либо судебных исков, опротестовывавших правомерность этого решения, все наследники имущества на территории, контролируемой Совнаркомом, практически через неделю уже перестали существовать…
У расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года императрицы и её дочерей их убийцы нашли «около полупуда» спрятанных в одежде драгоценностей. Ведь члены царской семьи при отъезде из Царского Села в Сибирь взяли с собой фамильные драгоценности. Еще в Тобольске с помощью Александры Теглевой, нянюшки великих княжон, аккуратно сшили попарно несколько лифчиков, поместив внутрь положенные в вату различные украшения. Только в одном из таких корсетов поместилось почти 4,5 фунта драгоценностей супруги Николая II. Часть усыпанных самоцветами вещей зашили в шляпы царских дочерей между подкладкой и бархатом. Уезжая в Екатеринбург, великие княжны надели под блузки много жемчугов, а костюмы девушек украсили крупные бриллианты, замаскированные под пуговицы. Осенью 1919 года Яков Юровский доставил в Москву как драгоценности, снятые с тел казнённых без суда и следствия членов царской семьи, так и те, что нашли в Перми при разборе их вещей «до чёрного белья включительно». Позже, работая в Гохране, убийца последнего русского царя узнал одну из жемчужных ниток императрицы Александры Феодоровны, оценённую в 600 000 золотых рублей.[999]
В последнее время в результате публикации некоторых, ранее хранившихся в режиме строгой секретности архивных документов на свет выходит то, что доселе тщательно скрывалось. Под видом заботы о произведениях искусства и лозунгом «Сохранить народное достояние!» скрывался другой, о котором знали лишь доверенные лица: «Собрать, сохранить, реализовать!».
Уже в 1918 году пошли повальные конфискации ювелирных вещей и предметов антиквариата, проводимые через Чрезвычайную комиссию петроградской Художественной комиссией по охране памятников искусства и старины, причём «за доставление сведений о местонахождении благородных металлов и изделий из них установлена в пользу осведомителей премия в размере 5 % с общей суммы стоимости их». Обысками затронули не только крупные ювелирные дома, но и небольшие мастерские золотых и серебряных дел мастеров, куда обычно являлись опоясанные пулемётными лентами революционные матросы и изымали всё, что походило на золото, серебро и драгоценные камни, отмечая крестиками лишь количество взятого, так как редко бывали грамотны.[1000] За границу потёк тонкий, но непрерывный ручеёк эмиссаров, контрабандою пересекавших границу с небольшим количеством занимающих мало места, зато таких дорогих ювелирных изделий и камней для передачи нужным людям средств на раздувание «мировой революции».
Отсутствию угрызений совести, что по существу культурное достояние страны уходит за рубеж, способствовала во многом идеологическая селекция культуры «по классовому признаку», бывшая следствием ленинской теории двух культур и разделявшая её на нужную пролетариату и враждебную пролетариату классово чуждую «буржуазную, черносотенно-монархическую и реакционно-клерикальную», а поэтому относящиеся к ней творения, в отличие от первой, можно было уничтожать и тем более продавать, чтобы выручить за них средства на развитие пролетарского государства. В феврале 1919 года по предложению А.М. Горького и наркома торговли и промышленности Л.Б. Красина в Петрограде создали специальную Экспертную комиссию, в чью задачу входили отбор и оценка национализированных предметов непосредственно с целью реализации их за границей.
Новый виток уже легальных продаж подготовили в феврале 1920 года. В тезисах наркома внешней торговли Л.Б. Красина (их даже не рискнули открыто опубликовать) подтверждались давно уже решённая реализация принадлежащих Республике драгоценных камней и жемчуга «небольшими партиями в случае заведомо выгодных условий» и создание специального фонда – Государственного хранилища ценностей (Гохрана) – для накопления и хранения таких вещей, что «давало возможность отложить фактическую реализацию этого имущества до наступления более выгодной конъюнктуры».
16 апреля того же года вышел декрет Совнаркома «О реквизициях и конфискациях у населения продовольственных, хозяйственно-производственных предметов и вещей домашнего обихода (в случаях особо острой общественной нужды)». В него не вошло положение, что каждому гражданину страны разрешалось иметь лишь «золотые и серебряные изделия, а равно и драгоценные камни не свыше одного предмета каждого рода вещей на одно лицо», но в проекте сего декрета на полях напротив этого пункта сохранилась пометка рукой В.И. Ульянова-Ленина: «кольцо? брелок?».
Однако 13 июля 1920 года вышло новое постановление Совнаркома, прямо и недвусмысленно озаглавленное: «Об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей». Теперь конфискации подлежали независимо от количества все платиновые, золотые и серебряные монеты, а «у частных лиц в целях личного потребления и домашнего обихода» было оставлено лишь то, что не превышало установленную этим декретом норму «по расчёту на одно лицо»: золотых и платиновых изделий отныне разрешалось иметь не более 18 золотников (76,86 г), серебряных – не более 3 фунтов (1224 г), бриллиантов и иных драгоценных камней – не более 3 каратов (=0,20 г), а столь распространённого во всех слоях русского народа жемчуга – не свыше 5 золотников (21,35 г).
12 октября всё того же 1920 года Наркомфин предложил для пополнения казны продавать за границей антикварные ценности, на что В.И. Ленин заметил, что это надо делать «архибыстро», подчеркнув: «Я настаиваю на чрезвычайном ускорении этого дела». 23 октября замнаркома просвещения М.Н. Покровский писал: «По поводу предложения т. Горького продать за границу имеющиеся в распоряжении РСФСР художественные ценности народный комиссариат по просвещению не встречает возражений, но находит желательным участие в экспертизе представителей музейного отдела Наркомпроса. <…> их участие не должно причинить задержки. Им будет дана инструкция действовать в срочном порядке и не задерживать ни одной вещи, не имеющей значения для истории художественного развития России, – а из этой последней категории оберегать в первую очередь уники». В результате через три дня Совет Народных Комиссаров вынес постановление, в котором первым пунктом было записано: «Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую их продажу за границей».
Сотрудникам музеев, входившим в состав возглавляемой А.М. Горьким и его женой, бывшей актрисой Московского художественного театра М.Ф. Андреевой, петроградской комиссии,[1001] несмотря на трудности, связанные с окружающим их непониманием, всё-таки иногда удавалось спасать от гибели уникальные произведения искусства, объявленные никому не нужным хламом. Так, Сергей Николаевич Тройницкий настоял на передаче в Эрмитаж среди прочих конфискованных церковных вещей, когда многие из них немилосердно расхищались, разукомплектовывались и задёшево продавались, подлинного шедевра петербургских серебряников елизаветинской эпохи во главе с мастером Захарией Дейхманом – отлитой из первого добытого на Колывано-Воскресенских алтайских рудниках русского серебра монументальной гробницы небесного покровителя Северной Пальмиры, князя Александра Невского.[1002]
Однако серебряный иконостас Казанского собора отстоять не удалось, так как XIX век тогда совсем не ценился и доказать значимость и уникальность созданных в это столетие изделий было почти невозможным делом. Это тем более обидно, потому что иконостас Казанского собора был отлит из серебра от переплавленной утвари ограбленных русских церквей, вывозимого наполеоновским обозом и отбитого донскими казаками.
Пролетарский писатель Алексей Максимович Горький, волей рока вершивший судьбами культурного наследия России, поставленный фактически арбитром в определении художественной ценности вещей, в простоте душевной полагал, что произведения, которыми сейчас все восхищаются и иметь которые считают за счастье крупнейшие музеи мира, – это просто «художественно обработанное серебро фабрик Сазикова, Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, т. е. рыночный товар, который – вследствие прекращения производства – ныне стал товаром антикварным», а посему они годны только в переплав и лишь потому не отправляются в печь, что это дороже обойдётся: «Ввиду того, что ценность этих фабрикатов повысилась в несколько раз – бессмысленно перетапливать их в слитки, бессмысленно, потому что убыточно».
Недалеко от него ушла и М.Ф. Андреева, о которой при её назначении на пост комиссара петроградской Экспертной комиссии Ленин отозвался: «Она справится с этой ролью так же хорошо, как со многими другими, которые ей приходилось играть на партийной работе», и которая, вероятно, о предназначенных к продаже коронных драгоценностях русских императоров торопилась ему сообщить: «Сейчас у нас большие надежды, что добудем денег в хорошей валюте за наши bric à brac», называя подлинные шедевры ювелирного искусства никому не нужным «хламом» и «старьём». В результате действий Экспертной комиссии в Петрограде к ноябрю 1920 года на её восьми складах собралось 120 тысяч различных предметов, а также несколько десятков тысяч ковров на сумму около 1,5 миллиардов рублей в ценах 1915 года. Сокровища, образовавшие Гохран, стали впрямую служить не только «удобным» экспортным товаром, «не загромождающим транспорта», но и залоговым фондом под иностранные займы и средством погашения внешних долгов.
Что же касается широко разрекламированных передач национализированных предметов в музеи, то поступления в них из Государственного Музейного фонда, в соответствии с указаниями Ленина в наркомпрос к Покровскому: «Я согласен дать им лишь строго необходимый минимум», – составляют не более 5–6 % от их общей массы.[1003] Однако в счёт поступлений вещей из Госмузейфонда передавались для продаж в составе антиквариата через Наркомвнешторг и конторы «Антиквариата» на аукционах фирм Сотби и Кристи в 1927 году, а также фирмы Лепке в Берлине в 1929 многие экспонаты Эрмитажа, в том числе и из его Галереи Драгоценностей.[1004]
В то же время чисто музейные предметы частных, разграбленных собраний могли быть от имени начальства, абсолютно не понимающего их подлинной, художественной стоимости (как это получилось с табакерками и тростями Екатерины II), подарены «за революционные заслуги» красноармейцам и прочим отличившимся, а в 1924 году в Ленинграде даже открылись магазины, где продавались вещи XVIII–XIX веков из дворцового имущества, также считавшегося никому не нужным старьём, за которое можно выручить кое-какие деньги.[1005]
Распродажа национального достояния России шла такими быстрыми темпами, что из ста тысяч изделий фирмы Фаберже на родине осталось лишь около шестисот штук, попавших в музеи, причём большая часть её наследия прошла не через зарубежные конторы «Антиквариата» и Наркомвнешторга, а была прямо скуплена в обеих столицах приехавшими с этой целью сюда торговцами и дипломатами. Министр финансов США Эндрю Меллон, известный нефтепромышленник Галуст Гюльбенкян, Эммануил Сноуман – глава лондонской фирмы Wartski s, занимающейся торговлей вещами Фаберже и русским искусством, доверенное лицо озабоченной тем же антикварной компании A La Vieille Russie Александр Шафер[1006] целыми партиями покупали произведения искусства и принадлежавшие некогда российским монархам вещи, причём серебряные изделия обычно продавались просто на вес, без учёта их художественной стоимости, «по очень умеренным ценам».
Что же касается начинающего бизнесмена Арманда Хаммера, которому посоветовал приехать в Россию близкий знакомый его семьи и руководитель неофициальной дипломатической миссии РСФСР в Нью-Йорке Л.К. Мартенс, то зимой 1921–1922 годов его московский особняк буквально ломился от скупаемых им изделий личного обихода Романовых и работ Карла Фаберже, включая и тринадцать пасхальных императорских яиц. В своих мемуарах «В поисках сокровищ семьи Романовых» он, наживший миллионы и хорошо половивший рыбку в мутной воде, лицемерно писал: «Среди бесценных произведений ювелирного искусства, которые мне удалось купить, заплатив намного больше, чем фактическая стоимость золота и камней, была и коллекция пасхальных яиц, хотя за конфискованное из Александровского дворца яйцо-сюрприз“ 1912 года „Царевич“ (сделанное из лазурита с бриллиантами и украшенное портретом несчастного, расстрелянного в Екатеринбурге наследника), над которым некогда Фаберже „потребовалось три года“ работать, заплатил „Антиквариату“ лишь 8 тыс. рублей», в США же его братец-искусствовед Виктор Хаммер тут же оценил приобретение в 100 тыс. рублей золотом.[1007]
«В 30-х и в начале 40-х годов галерея Хаммера издавала рекламные буклеты, содержавшие перечень запрашиваемых цен на предметы русского искусства для продажи по заказам, которые могли делаться по почте. В 1938 году яйцо „Лебедь“ было предложено возможным покупателям по цене 25 тыс. долларов, но королю Фаруку оно досталось за 100 тыс. долларов, в 1954 году куплено A La Vieille Russie за 6,4 тыс. фунтов (16,2 тыс. долларов) на Египетском государственном аукционе и впоследствии перепродано доктору Морису Сандозу из Швейцарии». В 1939 году яйцо «Горный хрусталь» с вращающимися миниатюрами, купленное Армандом Хаммером за 8 тыс. рублей уже из Оружейной палаты Московского Кремля, «предлагалось за 55 тыс. долларов, а в 1940 году яйцо „Кавказское“ также приобретённое тем же бизнесменом у того же государственного музея в том же злосчастном 1930-м году», оценивалось продавцом в 35 тыс. долларов.[1008] Какое дело было Хаммеру до какого-то там Иванова, пусть и заведующего Оружейной палатой, от трагической безысходности в напрасной попытке защитить от разграбления древнюю сокровищницу покончившего с собой в начале 1930 года, оставив красноречивую записку: «Не расхищал, не продавал, не торговал, не прятал палатских ценностей…».[1009]
Кстати, через «Антиквариат» вещи распродавалась по демпинговым ценам. «В начале 30-х годов оценка Московской Оружейной палаты пасхальных яиц, созданных Фаберже по императорскому заказу, колебалась в пределах 20–25 тысяч рублей за каждое яйцо, но на последующей продаже через „Антиквариат“ была установлена цена в четыре-пять раз меньше первоначальной. Так, пасхальное яйцо „Пётр Великий“ 1903 года, <…> оценённое в 20 тыс. рублей, было продано в 1933 г. только за 4 тысячи. В том же, 1933 году, пасхальное яйцо „Мозаика“ 1914 года, оценённое в 20 тыс. рублей, ушло за 5 тысяч. <…> А пасхальное яйцо „Память «Азова»“ 1891 г. <…> „Антиквариат» оценил уже в 20 тысяч рублей благодаря тому, что этот корабль – в миниатюре воспроизведённый в „сюрпризе“ – сам был „участником“ революционных событий во время матросского бунта на этом судне. Цена оказалась слишком высокой, и пасхальное яйцо „Память «Азова»“ так и не было продано. Оно и сейчас занимает свое место в Московской Оружейной палате. „Сюрпризы“ яиц редко упоминались в архивах „Антиквариата“ представляется весьма вероятным, что их изымали и продавали отдельно, стремясь получить возможно большую валютную выручку».[1010]
Надо сказать, что в архивах, подчинённых Министерству внутренних дел (до 1956 г.), все материалы, связанные с конфискатом и реквизициями, попадали в закрытые не только для исследователей, но и для сотрудников архива фонды; запутывая следы, их перевозили из города в город и открыли для работы, и то далеко не все, лишь в начале 1990-х годов.
8 ноября 1919 года «в Эрмитаж были доставлены на девяти возах коллекции Фаберже и среди них два ящика с архивом Дома Фаберже. Судьба этих двух ящиков неизвестна. Может быть, они попали в хранилище архивов Чрезвычайной комиссии, а затем – Народного комиссариата внутренних дел, аббревиатура которого и до сих пор вызывает мрачные ассоциации. А может быть, архивы придворного ювелира последних русских императоров были просто уничтожены как не представляющие исторической и культурной ценности для будущих поколений?..[1011] Ведь вспоминал же князь Сергей Михайлович Волконский, бывший директор императорских театров, обобранный до нитки, ходивший в 1919 году по Москве три дня босиком, пока знакомый не подарил ему башмаков, как его «фамильные бумаги и архив деда-декабриста были конфискованы, а в официальном отчёте делегата Комиссии охраны памятников» значилось, что «отобранные в доме Волконского бумаги израсходованы в уборной уездной Чрезвычайной Комиссии».[1012]
Русской эмиграции удалось увезти с собой сравнительно немного. Кстати, вдовствующая императрица Мария Феодоровна взяла на борт вывозившего её из Крыма английского корабля только одно, подаренное ей сыном на Пасху 1916 года «Яйцо с георгиевским крестом» – единственное яйцо с «сюрпризом», пересёкшее границу в руках своего законного владельца, да еще шкатулку с драгоценностями.
Третий сын Карла Фаберже, Агафон Карлович, бывший оценщик Кабинета и знаток Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца, в 1921 году не по своей воле, а добровольно-принудительно вынужден был согласиться участвовать в работе комиссии экспертов по оценке, разбору и отбору по постепенности продаж российских регалий и коронных драгоценностей.
По Брест-Литовскому договору с Германией, заключённому 3 марта 1918 года, требовалась выплата репарации в 863 625 тысяч рублей, нужны были средства и на «мировую революцию». Путь указал Кромвель, после казни Карла I пустивший с молотка все драгоценные вещи английских королей. Затем правительство французской республики создало исторический прецедент изданием 10 декабря 1886 года декрета о продаже с аукциона большинства коронных драгоценных вещей и камней. То же произошло и с сокровищницей свергнутого в 1909 году турецкого султана Абдул-Гамида II. В России же для выполнения наказа председателя Совнаркома В.И. Ульянова-Ленина «Собрать, сохранить, реализовать» учредили 3 февраля 1920 года Государственное хранилище ценностей (или сокращённо Гохран), производящее срочную работу по разбору, сортировке и подготовке ценностей к экспорту, которое 24 ноября 1920 года Совет Труда и Обороны постановил отнести «к числу ударных предприятий, подлежащих удовлетворению в первую очередь необходимыми строительными материалами, топливом, рабочей силой, а также продовольствием и предметами первой необходимости – работающих по разборке, учёту и хранению ценностей».[1013]
14 января 1922 года специально созданная комиссия во главе с заместителем «Особоуполномоченного Совнаркома по учёту и сосредоточению ценностей» Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого, бывшим порученцем PB С и командующим войсками Харьковского военного округа Георгием Дмитриевичем Базилевичем приступила к экспертизе и отбору хранившихся в Оружейной палате ценностей, в том числе и ящиков с сокровищами «Бриллиантовой Комнаты». Комиссия перед началом работы вынесла заключение, что регалии и драгоценности Короны являются национальным достоянием и не могут быть проданы или отчуждены.[1014]
В марте-апреле того же года ящики с ними вскрывались в Серебряном зале на верхнем этаже музея при температуре минус 4 С°. Академик А.Е. Ферсман вспоминал: «Мы собираемся в единственной отапливаемой комнатушке Палаты: уполномоченный Совнаркома Г.Д. Базилевич, представитель Рабкрина В.А. Никольский, хранитель Оружейной палаты М.С. Сергеев, представитель Главнауки Д.Д. Иванов, Исторического музея – В.А. Орешников. Среди них и я как специалист по камню. <…> Громыхают ключи. В тёплых шубах, с поднятыми воротниками мы идём промёрзшими помещениями Оружейной палаты. Вносят ящики».[1015]
Скипетр оказался в самом ценном из сундуков, кожаном, с короной на крышке, который пришлось взломать 8 апреля 1922 года в 12 часов 25 минут в присутствии Г.Д. Базилевича, поскольку ни один из доставленных из Политуправления ключей к нему не подходил.[1016]
Особым актом от 10 апреля 1922 года коронные бриллианты и регалии Особоуполномоченным Совнаркома по учёту и сосредоточению переданы на хранение в металлофонд Гохрана. Само Государственное хранилище ценностей располагалось в доме в Настасьинском переулке на Тверской, оборудованном специальными кладовыми и подземными галереями, которые в случае чрезвычайных ситуаций должны были заливаться водой.[1017]
Теперь разбор коронных вещей, собранию которых в 1922 году присвоили название «Алмазный фонд РСФСР», а с 1924 года, после образования и оформления союза респуб-лик – «Алмазный фонд СССР», производила комиссия под председательством академика-минералога А.Е. Ферсмана. В ней участвовали знающие ювелиры-оценщики А.К. Фаберже, А.Ф. Котлер, Б.Ф. Масеев, А.К. Бок, А.М. Франц и эксперт Гохрана Н.А. Дмитриев,[1018] причём художественная оценка осуществлялась директором Эрмитажа С.Н. Тройницким и заведующим Оружейной палатой Д.Д. Ивановым.
Сотрудники Гохрана вынимают камни из ювелирных изделий. 1923 г.
Уже после своего бегства с семейством по льду Финского залива за границу Агафон Карлович Фаберже с юмором рассказывал, как его приглашали в эксперты. Ювелира для «профилактики» и большей сговорчивости с новыми хозяевами жизни, без предъявления каких-либо обвинений, дважды бросали в тюрьму: сначала он просидел полтора года, а затем еще девять месяцев. Но было странно, что никто не преследовал его жену и не трогал его сокровищ. Однако оказалось, что бывший оценщик Кабинета нужен власть предержащим как знающий специалист и лучший знаток коронных вещей и фамильных драгоценностей царской семьи, а поэтому следовало сделать его посговорчивее.
Едва он оправился от последнего заключения, как к нему явился крестьянин в овчинном тулупе с личным посланием высочайше курировавшего работу по разбору бесценных сокровищ и отвечавшего тогда перед большевистской партией за их реализацию Л.Б. Троцкого, который просил ювелира приехать в Москву для работы в комиссии по Регалиям и коронным бриллиантам.
Извинившись, Агафон Карлович отказался от приглашения, сославшись на состояние здоровья. Через месяц к нему приехал господин в шляпе-«котелке» с тем же письмом, и снова бывший оценщик Кабинета отклонил приглашение. Однако когда через несколько дней в три часа ночи раздался резкий троекратный стук в дверь, вызвавший у жены ювелира истерику, а представшие на пороге три лихих красногвардейца вручили хозяину очередное, но с тем же содержанием и написанное в самой дружественной манере письмо от того же грозного адресата, столь «вежливое» и настоятельное приглашение пришлось принять.
Правда, А.К. Фаберже выдвинул свои условия: он должен ехать в Москву с женой и сыном, где семейству предоставят удобную квартиру. Вдобавок уже по приезде в ставшую снова столицей «первопрестольную» ювелир отказался взяться за работу, если не будут сделаны в натуральную величину фотографии каждого изделия, а в каталог не внесут вес каждого крупного самоцвета и большой жемчужины.[1019] Агафон Карлович прекрасно понимал, что только так можно увековечить собрание сокровищ Русской Короны, так как после осуществления продаж, планируемых правительством, вещи разлетятся по разным зарубежным частным владельцам.
Разбирая бывшие коронные драгоценности, комиссия распределяла их согласно предполагаемой очерёдности продаж по отдельным спискам. Регалии, к счастью, внесли в перечень под грифом «X», принятым для «вещей большого исторического значения», которые пока не трогались, в отличие от «просто художественных изделий», обозначенных под литерой «Y». К грядущим аукционам надо было обязательно издать каталог вещей Алмазного фонда с указанием их ювелирных параметров. Дошла очередь до императорского скипетра.
Но вот незадача. Ведь по описи коронных бриллиантов 1898 года, на которую в своей работе опирались эксперты «ферсмановской» комиссии, вес алмаза «Орлов» был равен не привычным 1943/4 карата, а лишь 185, в чём несомненно убедился в своё время и придворный оценщик Агафон Карлович Фаберже. Но если без соответствующих комментариев дать подлинный точный вес всемирно известного раритета, то потенциальные покупатели засомневаются в правильности определения массы драгоценных самоцветов в других предметах из бывшей сокровищницы Русской Короны. Значит, надо было очень умно, выверив каждое слово, написать сопроводительную аннотацию относительно уникального алмаза державного жезла российских императоров.
Наконец в результате стараний работавшей до весны 1923 года комиссии появился вышедший тиражом 350 экземпляров на русском, французском, английском и немецком языках каталог-альбом «Алмазный фонд СССР». Описание скипетра и его фотографию поместили в первом же выпуске.
В аннотации со ссылкой на опись 1898 года указали вес легендарного алмаза: «185 ст./арых/ к./аратов/». Зато сразу после цитирования скандальной цифры в тексте следовал восхитительный пассаж: «в 1914 г., согласно воспоминаниям А.К. Фаберже, камень выпал из оправы, был взвешен и оказался большим, чем тот вес, который для него позднее давался – 1943/4 м/етрических/ к/арата/ (однако, точной цифры А.К. Фаберже не помнит)». А чтобы избежать возможных настоятельных пожеланий раскрепить диковинный уник для точного его перевзвешивания, в аннотации специально акцентировали, что «сам «Орлов» находится в серебре в затертой оправе, окружённой кольцом бриллиантов».[1020] Самым непонятливым в тексте вступительной статьи академика А.Е. Ферсмана, предваряющей описания вещей, были адресованы следующие строки: «камень вделан плотно в сплошную серебряную оправу, и Комитет не решился его извлекать из оправы для перевзвешивания».[1021]
Во втором выпуске каталога поместили историю приобретения амстердамского алмаза, а в третьем возможные клиенты, проглядывая чёрно-белые таблицы приложения, могли наряду с фотографиями множества различных драгоценных предметов полюбоваться и той, в центре которой оказалась в натуральную величину запечатлена верхняя часть императорского жезла с историческим раритетом мира минералов.[1022]
В последнем же, четвёртом выпуске академик-минералог подытожил, что найденный в начале XVII столетия, вероятно, в копях Коллура, в Голконде и там же огранённый в виде высокой розы громадный алмаз переогранили по повелению шаха Джахана, «после чего камень принял форму современного „Орлова“ с его прибл. 200 метрическими каратами».[1023]
Самое же пикантное произошло при переводе «старых» каратов в «метрические». На последние, равные 200 мг, минералоги и ювелиры решили для удобства перейти в 1907 году, хотя в России новая мера массы драгоценных камней вступила в силу только через пятнадцать лет. Таким образом, если перевести голландские (или амстердамские) караты веса «Орлова», равные 205 миллиграммам каждый, в новые, то 185 старых окажутся равны 189,625 метрическим каратам. При аналогичном же пересчёте того веса «Орлова», который ещё во всех дореволюционных изданиях и справочниках указывался равным 1943/4 старых каратов, он должен составить 199,62 новых, метрических карата, и именно эту цифру приводят в своих исследованиях зарубежные геммологи, к которым присоединились и некоторые российские.[1024] Правда, по многим справочным опусам отечественных авторов продолжает гулять цифра «194,8», поскольку писателям ни к чему в каких именно каратах, старых или метрических, они указывают вес легендарного индийского камня.[1025]
Окончательная ясность в этом запутанном вопросе наступила почти через полвека. В 1967 году, к полувековому юбилею Октябрьской революции, в полуподвальном помещении здания Оружейной палаты открылась выставка принадлежащих Гохрану вещей «Алмазного фонда». При подготовке скипетра к экспонированию диамант «Орлов» взвесили и, соответственно, в каталоге указали его вес – 189,62 карата, что вошло и в последующие издания.[1026] Через полтора десятилетия, когда Владимир Егорович Жилин, мастер экспериментальной мастерской при Гохране, проводил реставрацию державного жезла российских императоров,[1027] уникальный, самый большой алмаз в собраниях европейских музеев перевзвесили, и сверхточные весы опять зафиксировали на шкале неизменную цифру: 189,62 карата.
Чтобы успокоить общественность, взволнованную разговорами о продажах императорских драгоценностей за рубежом, а заодно привлечь богатых покупателей, 18 декабря 1925 года в Колонном зале Дома Союзов на несколько дней открылась выставка Алмазного фонда, работавшая с 10 утра до 10 вечера, причём входной билет на неё стоил 2 рубля, члены профсоюза могли осмотреть сокровища царей за 50 копеек, а держатели облигаций 2-го крестьянского банка пропускались бесплатно.[1028]
Регалии занимали на ней одно из почётных мест. В маленькой брошюре, выпущенной к этой экспозиции, открыто пропагандировалась последующая распродажа не нужных народу украшений в обмен на приобретение тракторов и машин.[1029] Вскоре последовали и сами распродажи, да ещё по демпинговым ценам. В ноябре 1926 года часть Алмазного фонда, оценённую чуть больше чем в полтора миллиона рублей и измерявшуюся не по числу конкретных ювелирных изделий, а по их общему весу, составившему почти девять килограммов, продали английскому антиквару Норману Вейсу (или Вайсу) за 50 000 фунтов стерлингов. Он, в свою очередь, продал всё оптом аукционному дому Кристи, и вскоре драгоценности, поделенные на 124 лота, быстренько выставили на торги, проведённые в Лондоне 16 марта 1927 года.[1030]
Агафону Карловичу Фаберже, после работы в «ферсмановской» комиссии служившему инспектором Гохрана, по иронии судьбы довелось разбирать груды бриллиантов, вылущенных из безжалостно сломанных и размонтированных украшений, часто работы отцовской фирмы, поступивших из частных «коллекций», конфискованных советским правительством. Вынутые из оправ и промытые алмазы обычно выкладывались на стол партиями по 18–20 фунтов (или 7,2–8,0 килограмм!), образуя гору, которая непрерывно росла, и этакую-то гору Агафон Фаберже сортировал, а затем запечатывал по отдельным пакетикам.[1031]
Не эти ли камни, а точнее, самые крупные и лучшие по качеству из них, попали в вечно закрытый ящик письменного стола Клавдии Новгородцевой, вдовы Якова Михайловича Свердлова? Они были так велики и обладали столь прекрасной игрой, что увидевший их в 1923 году отпрыск этой четы революционеров, однажды не устоявший перед соблазном вскрыть запретный ящик случайно оставленным без надзора ключом, решил: конечно же, «камни поддельные», «откуда у матери может быть такая масса настоящих бриллиантов?»
Однако Борис Бажанов, тогдашний секретарь Иосифа Виссарионовича Джугашвили-Сталина, услышавший эту историю из уст подростка, сопоставил её с косвенными намеками в совершенно секретных документах и понял, что матушка рассказчика была хранительницей сверхтайного партийного фонда. Еще «три-четыре года назад, в 1919–1920 годах, во время своего острого военного кризиса, когда советская власть висела на волоске, из общего государственного алмазного фонда был выделен „алмазный фонд Политбюро“ <…> чтобы в случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения революционной деятельности». Также «было решено, что о месте хранения фонда должны знать только члены Политбюро», и следовало продумать, «чтобы спрятать этот фонд у какого-то частного лица, к которому Политбюро питало полное доверие, но в то же время не играющего ни малейшей политической роли и совершенно незаметного. Это объясняло, почему Клавдия Новгородцева нигде не служила и вела незаметный образ жизни», а также «почему она не носила громкого имени Свердлова», своего супруга, «и продолжала носить девичью фамилию».[1032]
Проработав до 1927 года оценщиком Гохрана, в какой-то момент Агафон Фаберже понял, что он становится нежелательным свидетелем. «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить»: ведь коронные драгоценности давно разобраны и даже на какой-то миг показаны советскому народу; самый большой аукцион тех из них, которые по назначению были ближе к антиквариату, успешно проведён 5 марта 1927 года под эгидой фирмы Кристи-Мэнсон-Вуд в Лондоне; часть же самых лучших, наиболее эффектных царских и великокняжеских фамильных и личных украшений, которые вполне можно носить, продана тихо, поскольку сделки содержались посредниками с глазу на глаз по фотографиям и описаниям каталога, опубликованного именно для этой цели, а вовсе не в интересах науки и тем более сохранности.
Круг же экспертов-ювелиров, с которыми сотрудничал Фаберже, всё время сужался. Агафон Карлович понял, что в скором времени пробьёт и его час, и что тюрьма, прелести коей он уже достаточно изведал, будет ещё наилучшим исходом: нынешние хозяева жизни могли лишить его и чести, и «живота». Он припомнил, как его старушка-мать, покинув Петроград в декабре 1918 года с сыном Евгением, захватившим только одну сумку, с трудом добралась до Хельсинки путаным маршрутом, чтобы сбить преследователей. Сначала беглецы проехали краткий отрезок пути поездом, затем они пересели в сани, а потом им пришлось пробираться пешком по заснеженному лесу.
Поэтому бывший оценщик Кабинета решился бежать через финскую границу. В декабрьскую ночь 1927 года, благодаря помощи знакомого рыбака, Агафону Карловичу Фаберже удалось уйти с женой и маленьким сыном Олегом на финских санках под обстрелом по льду Финского залива в страну Суоми, захватив с собой лишь маленький чемоданчик с коллекцией российских земских марок.
Работавшая в 1928 году в Гохране новая комиссия, в которую вошли А.Е. Ферсман, С.Н. Тройницкий и специалисты-ювелиры, теперь разделила оставшиеся к этому времени бывшие коронные драгоценности и присоединённые к ним сокровища Камеральной кладовой, на четыре категории, причём к первой категории «X» отнесли регалии – «вещи большого исторического значения», к категории «Y» – «просто художественные вещи», а к двум оставшимся, обозначенным литерой «М» – «малоценные вещи».[1033]
Весной 1932 года комиссия экспертов в том же составе провела очередную переоценку. Уменьшившийся на двести предметов, Алмазный фонд теперь насчитывал лишь семьдесят одну драгоценность, причём из-за «снижения процентных надбавок и коэффициента на историческое и художественное значение» отдельные вещи оказалась оценёнными ниже, нежели в 1923 году. Всё опять было поделено на четыре категории.
На этот раз в первую попали «имеющие большое историческое значение» регалии и еще 14 предметов, во вторую – 38 изделий, имеющих «большую материальную ценность и художественное значение». К третьей оказались причислены 12 вещей, «не имеющих ни исторического, ни художественного значения», а обладающих только материальной ценностью. К четвертой же категории отнесли семь «не антикварных, и не имеющих большой цены» изделий.
Была признана возможной реализация предметов всех категорий, за исключением лишь «особо ценной» первой. Предполагалось выставить на продажу 37 вещей «по новой установленной цене» на намечавшиеся осенью 1932 года в Ленинграде торги. Председатель Госбанка лично обратился к генеральному секретарю ВКП(б) И.В. Джугашвили-Сталину с просьбой дать согласие на реализацию отобранных из «правительственного фонда драгоценностей» предметов. Однако в поданной бумаге пришлось советскому банкиру признать, что «был организован широкий доступ посещения иностранных представителей для осмотра Алмазного фонда, был издан фотоальбом на русском и иностранном языках, который распространялся за границей. Однако это рекламирование Алмазного фонда каких-либо серьёзных результатов в смысле реализации отдельных предметов до сего времени не оказало». Поэтому отобранные экземпляры, к счастью, проданы не были.[1034]
Высокие же слова о том, что уникальный и неповторимый Алмазный фонд должен быть сохранён «в государственном русском достоянии» и «выставлен для всенародного обозрения и изучения, как это сделано с коронными драгоценностями во Франции и Англии», остались лишь на бумаге.[1035] Лишь в 1967 году открылась в стенах Кремля выставка вещей Алмазного фонда, находящаяся в ведении министерства финансов.
В 1918 году советское правительство переехало в Москву, и Петроград, через 6 лет перекрещенный в Ленинград, стал экс-столичным городом с областной провинциальной судьбой. Что же касается советских ювелиров, то артельные и тем более фабричные условия, в которых им пришлось трудиться, не позволяли им уделять должное внимание качеству, создавать уникальные вещи им почти не доводилось, главными стали количество и стандартизация, ведущие к непременному упрощению во имя плана и вала. Немногие же подлинные художники, пытавшиеся создавать достойные произведения, вписали свои имена в историю советского ювелирного искусства, хотя, конечно же, им мешало отсутствие нужных материалов, и поэтому до конца раскрыться во многом они так и не смогли, поскольку именно материал и его качество часто диктуют форму, а это важное обстоятельство, к сожалению, не учитывалось.
Тем не менее, в наше время началось подлинное возрождение этого сложного искусства. Мастера всё чаще обращаются к традициям своих предшественников, и этот процесс идёт теперь гораздо успешнее, поскольку многие из них получили наконец-то самостоятельность, что так важно для создания подлинно художественных творений. Лучшие специалисты из них сохранили верный глаз, истинно золотые руки, необходимое терпение – именно те качества, которые, будучи дополнены талантом и стремлением добиться вершин в своём мастерстве, без сомнения, приведут искусство петербургских ювелиров к новому взлёту.
Данное издание является посмертным. Рукопись подготовлена к печати Верой Витязевой и Еленой Новгородских в феврале-июле 2016 года на основе отдельных частей, оставленных автором, при всемерном содействии Сергея и Любови Борисенковых. При подготовке публикации неоценимую помощь оказала Наталия Боровкова, ученица Л.К. Кузнецовой.
Работы Л.К. Кузнецовой
1. Уникальная коллекция //В мире прекрасного. Календарь 1975 г. М., 1974, об. С. «16–28 февраля».
2. Секрет «золотого рубина» //В мире прекрасного. Календарь 1976 г. М., 1975, об. С. «20–26 декабря».
3. Жемчужный лебедь //В мире прекрасного. Календарь 1977 г. М., 1976, об. С. «26–31 декабря».
4. Из сокровищницы Эрмитажа //В мире прекрасного. Календарь 1978 г. М., 1977, об. С. «22–28 мая».
5. Изумрудная каравелла //В мире прекрасного. Календарь 1980 г. М., 1979, об. С. «7-13 июля».
6. Ювелир XVIII века Леопольд Пфистерер. Архивные поиски и находки // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И.Е. Репина. Сборник научных трудов. Вып. IX. Л., 1977. С. 12–22.
7. К вопросу об атрибуции группы ювелирных изделий конца XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И.Е. Репина. Сборник научных трудов. Вып. XI. Л., 1979. С. 22–35.
8. К вопросу об эволюции художественной формы и системы декорировки табакерок работы петербургских мастеров второй половины XVIII века // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И.Е. Репина. Сборник научных трудов. Вып. XIII. Л., 1980. С. 40–62.
9. Петербургский ювелир XVIII века Жан Жак Дюк // Проблемы развития русского искусства /Институт им. И.Е. Репина. Сборник научных трудов. Вып. XIV. Л., 1981. С. 27–39.
10. Творчество петербургского ювелира Франсуа Будде // Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы конца XVII–XIX веков / Государственный Эрмитаж. Сборник научных трудов. Л., 1986. С. 39–49.
11. К истории одного перстня // СГЭ, вып. LVI, Л., 1988. С. 14–16.
12. Георг-Фридрих Экарт и Алмазная мастерская. Его отношения с Позье и работа над короной Екатерины II // Памятники культуры. Новые открытия – 1989. М., 1990. С. 379–391.
13. К истории создания скипетра в Алмазной мастерской // Памятники культуры. Новые откытия – 1990. М., 1992. С. 414–427.
14. О знаках инвеституры последних царей Восточной Грузии // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского / Краткое содержание докладов. СПб., 1993. С. 27–29.
15. О жалованных князю Г.Г. Орлову портретах Екатерины II // Эрмитажные чтения к 100-летию со дня рождения В.Ф. Левинсона-Лессинга /Краткое содержание докладов. СПб., 1993. С. 24–26.
16. Об авторе табакерки Эстергази // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга / Краткое содержание докладов. СПб., 1995. С. 59–62.
17. Об анаграммах из самоцветов на вещах, исполненных по заказу императрицы Марии Федоровны в начале XIX в. // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского: тезисы докладов. СПб., 1996. С. 45–47.
18. О роли ювелирно-минералогической экспертизы в атрибуции знаков инвеституры Гиоргия XII – последнего царя Восточной Грузии // Экспертиза произведений изобразительного искусства / ГТГ – объединение Магнум АрС. 1-я научная конференция. Материалы. М., 1996. С. 152–160.
19. О прототипах нескольких ювелирных изделий // Ювелирное искусство и материальная культура / Государственный Эрмитаж. Семинар. Тезисы докладов участников третьего коллоквиума. СПб., 1997. С. 41–42.
20. О гранатовых уборах Екатерины II // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга / Краткое содержание докладов. СПб., 1997. С. 22–24.
21. Об аметистовом приборе на фрак великого князя Павла Петровича // Ювелирное искусство и материальная культура / Государственный Эрмитаж. Семинар. Тезисы докладов участников четвертого коллоквиума. СПб., 1997. С. 39–41.
22. Тайна табакерки императрицы// «Ювелирный мир», 1998, № 1 (7). С. 40–41.
23. Сотрудничество золотых дел мастера Иоахима Хассельгрена с придворной «Мастерской ЕИВ алмазных дел» в работе над парадным оружием // Страницы истории русской художественной культуры /Государственный Эрмитаж. Сборник научных трудов. СПб., 1997. С. 85–94.
24. Об истории «Кок-де-перлового убора» Екатерины II // Ювелирное искусство и материальная культура /Государственный Эрмитаж. Семинар. Тезисы докладов участников пятого коллоквиума. СПб., 1998. С. 58–59.
25. О жемчужной диадеме, исполненной в 1841 году Карлом Эдуардом Болином // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга. Краткое содержание докладов. СПб., 1998. С. 53–56.
26. О жемчужной диадеме, исполненной Карлом Эдуардом Болином в декабре 1841 года // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства / ГТГ – Объединение Магнум АрС. III научная конференция. Материалы. М., 1998. С. 155–164.
27. Экспонаты Алмазного фонда, связанные с императором Александром I // Александровский дворец. История. Владельцы. Коллекции / Государственный музей-заповедник «Царское Село» / Краткое содержание докладов IV Царскосельской научной конференции. СПб., 1998. С. 27–29.
28. О бриллиантовых вещах цесаревича Александра Николаевича / Там же. С. 39–41.
29. Бриллианты цесаревича Александра Николаевича // «Музеи России». СПб., 1997, № 5. С. 4–9.
30. О некоторых вещах из ризницы Большого собора Зимнего дворца, переданных в 1920-е годы в собрание Эрмитажа // Собор Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце как памятник духовной и материальной культуры / Материалы научной конференции к 2000-летию христианства. Государственный Эрмитаж. СПб., 1998. С. 27–31.
31. Исполненные по повелениям Екатерины II и Павла I работы петербургских ювелиров, хранившиеся в ризнице Большого собора Зимнего дворца // Там же. С. 44–47.
32. К вопросу о предметах утвари, исполненных для Спасского и Воскресенского «верховых» соборов Кремля в 1677–1679 гг // СГЭ, вып. LVIII. СПб., 1999. С. 22–30.
33. «Символы и эмблемата» и алмазный убор императрицы Елизаветы Петровны // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга. / Краткое содержание докладов. СПб., 1999. С. 69–72.
34. Во всех делах помощен // «Русский ювелир», 1999, № 5 (17). С. 58.
35. О часах Екатерины II, исполненных мастерами Робертом Байнамом и Леопольдом Пфистерером // Россия. Англия. Страницы диалога / Краткое содержание докладов V Царскосельской научной конференции. СПб., 1999. С. 134–138.
36. «Аглинской купец» Луи-Давид Дюваль // Там же. С. 88–92.
37. О большом «красном камне», одной описке и Симоне Ушакове // «Пунинские чтения-99» / Сборник тезисов докладов научной конференции. СПб.: Кафедра истории искусства Санкт-Петебургского государственного университета, 2000. С. 6–8.
38. О фермуаре, исполненном Карлом Эдуардом Болином в декабре 1852 года // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. IV научная конференция ГТГ-«Магнум Apc». М., 2000. С. 241–247.
39. Наука в карты побеждать // «Ювелирный мир», № 3 (21). М., 2000. С. 26–27.
40. Петербургский ювелирный карат и атрибуция // Симпозиум «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства» / Сборник тезисов. СПб.; Москва, 2000. С. 52–53.
41. О фельдмаршальском жезле в коллекции Алмазного фонда // Чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга. СПБ., 2000. С. 59–62.
42. Прототипы некоторых работ ювелиров Алмазного фонда СССР // «Пунинские чтения-2000» / Сборник материалов Международной научной конференции в СПбГУ 7–8.04.2000 г. СПб., 2000. С. 162–174.
43. О «колье со шлейфом» и булавках лалового убора Екатерины II // «Ювелирное искусство и материальная культура». Восьмой коллоквиум эрмитажного семинара / Сборник тезисов докладов. СПб., 2001. С. 71–74.
44. О хризолитовом гарнитуре из собрания Алмазного фонда // Там же. С. 151–153. (Доклад шестого коллоквиума.)
45. Создание К.Э. Болином в декабре 1852 года бриллиантового фермуара «в виде подков» и судьба исполненного Л. Пфистерером алмазного убора Екатерины II // Там же. С. 153–157. (Доклад седьмого коллоквиума.)
46. Об истории создания в придворной алмазной мастерской двух сапфировых гарнитуров // Чтения памяти В.Ф.Левинсона-Лессинга / Краткое содержание докладов. СПб., 2001. С. 46–49.
47. «Кабинеты камней» екатерининского Эрмитажа // Ювелирное искусство и материальная культура / Материалы девятого и десятого коллоквиумов семинара. СПб., 2002. С. 23–26. (Доклад девятого коллоквиума.)
48. «Мозаичный прибор» Великого Князя Павла Петровича // Ювелирное искусство и материальная культура / Сборник тезисов докладов одиннадцатого коллоквиума. СПб., 2002. С. 37–39.
49. Красный камень под крестом в короне Императрицы Анны Иоанновны // Минералогические музеи / Сборник материалов IV Международного симпозиума по истории минералогии, геммологи, кристаллохимии и кристаллогенезису, посвященного памятным датам в истории минералогического музея СПбГУ: 225-летию со дня рождения Лоренца Панснера и 200-летию со дня рождения Эрнста Гофмана. СПб.: НИИЗК СПбГУ 2002. С. 45–46.
50. Алмаз «Орлов» и императорский скипетр // Там же. С. 322–323.
51. Работы Екатерины II и великой княгини Марии Федоровны в папье-маше // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга / Краткое содержание докладов. СПб., 2002. С. 79–83.
52. Лаловый убор Екатерины II // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства 22–26 ноября 1999 г., Москва / Материалы V научной конференции. М., 2001. С. 236–243.
53. О медальонах работы Ивара-Венфельта Бука // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства 27–30 ноября 2000, Москва / Материалы VI научной конференции. М., 2002. С. 221–227.
54. Об алмазе скипетра Екатерины II // VI международная конференция «Новые идеи в науках о земле»: тезисы докладов. М.: Московская Геолого-разведочная академия, 2003.
55. Петербургский ювелир Карл Гзель (Гезель) // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов двенадцатого коллоквиума семинара. СПб., 2003. С. 67–70.
56. Парадные шпаги великого князя Павла Петровича // Чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга / Краткое содержание докладов. СПб., 2003. С. 38–44.
57. О «водокшанском лале» под крестом большой короны Анны Иоанновны // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства» / Материалы VII научной конференции 26–29 ноября 2001, Москва. М., 2003. С. 175–182.
58. Сокровища Российской Короны и Галерея драгоценных вещей Императорского Эрмитажа // Новый Эрмитаж. 150 лет со дня создания / Материалы юбилейной научной конференции «Новый Эрмитаж», состоявшейся 19–21 февраля 2002 года. СПб., 2003. С. 116–120.
59. Табакерка Цесаревича Александра Николаевича // Немцы в государственности России. СПб.: Konrad – Adenauer – Stiftung, 2004. С. 41–47.
60. Работы петербургских ювелиров по созданию знаков орденов Святого Георгия и Святого Владимира в XVIII веке // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства / Материалы VIII научной конференции, проведенной в ГТГ 25–27 ноября 2002. М., 2004. С. 198–204.
61. Об эрмитажных и «бриллиантовых» букетах // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов тринадцатого коллоквиума эрмитажного семинара. СПб., 2004. С. 61–64.
62. Эмблематика и символика в работах Жан-Жака Дюка в собрании Государственного Эрмитажа // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга / Материалы конференции. СПб., 2004. С. 40–54.
63. Исполнение орденских знаков в «Мастерской Ее Императорского Величества алмазных дел» при Екатерине II // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников четырнадцатого коллоквиума (11–16 апреля 2005 года). СПб., 2005. С. 44–47.
64. Орденские знаки, созданные при Екатерине II в «Мастерской Е.И.В. алмазных дел.// Тринадцатая всероссийская нумизматическая конференция, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва, 11–15 апреля 2005 г.: тезисы докладов и сообщений. М., 2005. С. 164–165.
65. Три петербургских камня // VII международная конференция «Новые идеи в науках о земле» / Материалы докладов. Т. 2. М.: МГГРУ; 2005. С. 38.
66. Аквамарины в работах петербургских ювелиров второй половины 18 века // Минералогические музеи./ Санкт-Петербургский государственный университет, Россия – Христиан-Альбрехт университет, Киль, Германия – Российское минералогическое общество РАН – Немецкое кристаллографическое общество. Тезисы V Международного Симпозиума по истории минералогии и минералогических музеев минералогии, кристаллохимии, кристаллогенезису, геммологии. СПб.: СПбГу 2005. С. 17–18.
67. Kuznetsova L.K. The Aquamarines in the St.-Petersburg Jewellers of the Second Half of 18th Century Works // Там же. С. 18–19.
68. Парадные сабли великого князя Александра Павловича // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга./ Материалы конференции. СПб., 2005. С. 76–90.
69. Иван Никитич Бартенев // Хранители / Государственный музей-заповедник «Царское Село». Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005. С. 7–23.
70. О времени создания в «Мастерской Ея Императорского Величества алмазных дел» креста ордена Св. Александра Невского «с цветком».// IX научная конференция «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства». 26 ноября – 28 ноября 2003, Москва /Материалы. М., 2005. С. 196–204.
71. Аксессуары костюма XVIII века. (Accessories of the XVIIIth Century's Dress) // Antiq.info / Антик. инфо. № 29. СПб., 2005, июнь. С. 2–5.
72. Украшения императрицы. (Symbology in Adornments of Empress Elizabeth I) // Antiq.info / Антик. инфо, № 30/31. СПб., 2005, июль-август. С. 158–163.
73. Фамильная реликвия Эстергази. (The Family Relic of Count Eszterhâzi) // Antiq.info / Антик. инфо, № 32. СПб., 2005, сентябрь. С. 132–136.
74. История портретов Екатерины II. (History of Two Portraits of Catherine II) // Antiq.info / Антик. инфо, № 34. СПб., ноябрь. С. 94–97.
75. «Кабинеты камней» Екатерины II. (“Gem Cabinets" of Catherine II).// Antic.info / Антик. инфо, № 34. СПб., 2005, ноябрь. С. 138–141.
76. Аметист – камень благородства. (Amethyst – Gem of Nobility).// Antic.info / Антик. инфо, № 35. СПб., 2005, декабрь. С. 130–132.
77. Букеты Галереи драгоценностей // Сообщения Государственного Эрмитажа. Выпуск LXIII. СПб., 2005. С. 24–31.
78. О «колье Екатерины II» // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников пятнадцатого коллоквиума (19–16 апреля 2006 года) эрмитажного семинара. СПб… 2006. С. 43–45.
79. Плантомания в работах петербургских ювелиров XVIII столетия // Плантомания. Российский вариант: Материалы XII Царскосельской научной конференции / ГМЗ «Царское Село». СПб., 2006. С. 196–209.
80. Роль ювелирной экспертизы в уточнении предназначения украшений, входящих в гарнитур старшей дочери Павла I // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы X научной конференции. 10 ноября – 12 ноября 2004, Москва. М., 2006. С. 156–168.
81. Драгоценные букеты. Искусство петербургских ювелиров XVIII века // Собрате: Иллюстрированный журнал по искусству, 2005, декабрь, № 4, Лица. С. 16–25.
82. Бриллиантовый каскад украшений // Antiq.info, 2006, № 38, март. С. 146–148.
83. Табакерка с загадкой // Antiq.info, 2006, № 39, апрель. С. 142–143.
84. Колье Екатерины II // Antiq.info, 2006, № 40, май. С. 124–126.
85. Орден последнего Крымского хана // Antiq.info, 2006, № 44, сентябрь. С. 100–103.
86. Знаки инвеституры царей Грузии // Antiq.info, 2006, № 45, октябрь. С. 122–124.
87. Изготовители регалий императрицы Елизаветы Петровны // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов шестнадцатого коллоквиума (15–20 октября 2007 года) эрмитажного семинара. СПб., 2007. С. 41–45.
88. Табакерки Фридриха II Великого – знаки берлинских контактов и вояжей престолонаследников // Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники: Материалы XIII Царскосельской научной конференции. – СПб., 2007. С. 310–320.
89. Георгий XII: регалии последнего царя // Antiq.info, 2006, № 47, декабрь. С. 68–70.
90. Союз садовника и ювелира // Antiq.info, 2007, № 50, март. С. 74–77.
91. О роли точности воспроизведений портретистами аксессуаров в атрибуции двух пожалованных князю Г.Г. Орлову портретов Екатерины II // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы XI научной конференции 16 ноября – 18 ноября 2005 года, Москва. М., 2007. С. 188–196.
92. Курьезный язык камней знатоков минералогии // Курьез в искусстве и искусство курьеза: материалы XIV Царскосельской научной конференции. СПб., 2008. С. 230–243.
93. Тресила-цитернадели, дофины-перешники и цветки // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников пятнадцатого коллоквиума (14–18 апреля 2009) эрмитажного семинара. СПб., 2009. С. 69–74.
94. Бантик и нитка или «Колье Екатерины II» // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы XII научной конференции 22 ноября – 24 ноября 2006, Москва. М., 2009. С. 226–235.
95. «Готический» браслет Алмазного фонда России // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников восемнадцатого коллоквиума (19–23 апреля 2010) эрмитажного семинара. СПб., 2010. С. 45–50.
96. Венчальная императорская корона // Царское Село на перекрестке времен и судеб: Материалы XVI Царскосельской научной конференции. Сборник научных статей в двух частях. Часть I. СПб., 2010. С. 395–410.
97. Сувенирная табакерка // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников девятнадцатого коллоквиума (18–21 апреля 2011) эрмитажного семинара. СПб., 2011. С. 68–73.
98. Напоминание о несостоявшемся браке // 250 историй про Эрмитаж. «Собранье пестрых глав…». Книга первая. СПб., 2014. С. 64–69.
99. Памятный дар светлейшего князя Г. А. Потемкина Екатерине II: Табакерка с портретом султана Абдул-Гамида // Там же. С. 103–107.
100. Табакерка с картою Крыма // Там же. С. 108–111.
101. Награда «за праздник» // Там же. С. 112–116.
102. «Чернилица» из уральской платины // Там же. С. 166–168.
103. Скрытые символы Александровской колонны // Там же. С. 211–218.
Сокращения
АФ – Алмазный фонд Российской федерации
ГМЗ – Государственный музей-заповедник
ГРМ – Государственный Русский музей
ГЭ – Государственный Эрмитаж
Иллюстрации
Рис. 1. Карл Хелфрид Барбе. Табакерка цветной эмали. Золото, кварц, эмаль, фольга; полировка, роспись. 3,8 × 7,6 × 5,5 см. Около 1850 г. ГЭ
Рис. 2. Карл Хелфрид Барбе. Табакерка мемориальная. Золото, перламутр, эмаль, стекло; чеканка, гравировка, пунцирование. 3,7 × 8,5 × 6,6 см. 1828–1829 гг. ГЭ
Рис. 3. Иоганн Христиан Барбе. Браслет с портретом (миниатюра) Николая I. Золото, серебро, бриллианты, бирюза, мелкий жемчуг. На миниатюре надпись «Winberg». 1842 г.
Рис. 4. Маковский К.Е. Портрет императрицы Марии Феодоровны
Рис. 5. Вуаль Ж.-Л. Портрет императрицы Марии Феодоровны. ГРМ
Рис. 6. Яков Дюваль. Диадема с розовым бриллиантом императрицы Марии Феодоровны
Рис. 7. Знак (наверху) и звезда ордена Св. Андрея Первозванного. Золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», рубины, эмаль; гравировка, роспись. Знак 5,5 × 8,7 см, звезда диаметром 8,3 см. Около 1800 г. ГЭ
Рис. 8. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Табакерка с портретами Александра I и Николая I. Золото, алмазы, сердолик, эмаль; полировка, чеканка, гравировка, резьба, роспись, пунцирование. 2,8 × 10,1 × 6,8 см. Около 1840 г. ГЭ
Рис. 9. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Табакерка с изображением имения Голицыных Гаспра в Крыму. Золото, миниатюра, смальта, стекло; полировка, чеканка, мозаика, пунцирование, роспись. 3,5 × 8,3 × 7,3 см. Конец 1860-х гг. ГЭ
Рис. 10. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Табакерка. Платина, золото, чеканка; полировка, гравировка, пунцирование. 3,8 × 8,8 × 4,2 см. Середина XIX в. ГЭ
Рис. 11. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Навершие к скипетру с польским гербом. Золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», эмаль. 6,0 × 4,0 см. 1829 г. АФ
Рис. 12. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Цепь ордена Белого Орла. Золото, эмаль. Дл. 151 см. Вес 601,4 г. 1829 г. АФ
Рис. 13. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Браслет с портретом Александра I. Золото, портретный алмаз, эмаль, кость, акварель. Длина браслета 20 см. Вес 129,4 г. Портретный алмаз 27,0 кар. 4, 0 × 2,9 см. Толщина пластины 2,5 мм. Первая половина XIX в. АФ
Рис. 14. Икона «Святая Анастасия Узорешительница». Мастерская Кейбеля. Дерево, масло, цировка, позолота, серебро; чеканка. 51,5 × 37,5 см. 1860 г. ГЭ
Рис. 15. Иоганн-Вильгельм Кейбель. Солонка. Золото, серебро, эмаль; литьё, чеканка, гравировка. 16,2 × 8,6 см. 1818–1825 гг. ГЭ
Рис. 16. Карл Болин. Диадема из бриллиантового гарнитура с изумрудами
Рис. 17. Бодаревский Н.К. Портрет императрицы Александры Феодоровны. 1907 г. ГМЗ «Царское Село». Фрагмент
Рис. 18. Братья Зефтиген. Малая императорская корона Марии Александровны. Серебро, золото, бриллианты, алмазы огранки «роза». Вес 363,53 г. 1855 г. АФ
Рис. 19. Рокштуль А.Г. Портрет императрицы Марии Александровны. После 1855 г.
Рис. 20. Леопольд Зефтиген. Малая бриллиантовая цепь ордена Св. Андрея Первозванного со знаком Орла. Золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», рубины, эмаль. Вес 430,83 г. 1855 г. АФ
Рис. 21. Леопольд Зефтиген. Малая бриллиантовая цепь ордена Св. Андрея Первозванного со знаком Орла. Золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», рубины, эмаль. Вес 447,00 г. 1855 г. АФ
Рис. 22. Леопольд Зефтиген (?). Брошь с сапфиром. Золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», сапфир 260,37 кар. 1860-е гг. АФ
Рис. 23. Кёхли. Проект сапфирового убора. 1903–1904 гг. ГЭ
Рис. 24. Фирма «Английский магазин», мастер Самуэль Арнд. Панагия «Богоматерь Смоленская». Золото, серебро, рубины, бриллианты, жемчуг, эмаль, аметисты, а льмандин, перламутр. 11, 5 × 7,1 см. 1855 г. ГЭ
Рис. 25. Самуэль Арнд. Браслет со съёмной брошью. Золото, рубины, кабошоны, бриллианты. 1870-е гг.
Рис. 26. Фламенг Ф. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1894 г. ГЭ
Рис. 27. Копия императорских регалий. Фирма Фаберже. Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, розовый кварцит, дерево, бархат. 1900 г. ГЭ
Рис. 28. Часы «XXV годовщина свадьбы Александра III и Марии Феодоровны». Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин. Серебро, оникс, бриллианты. Высота 71 см. 1891 г. ГЭ
Рис. 29. Васильки с колосками овса. Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин. Золото, бриллианты огранки «роза», эмаль, горный хрусталь. ГЭ
Рис. 30. Блюдо с гербом Петербурга. Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин. Горный хруста ль, серебро, алмазы, эмаль; резьба, шлифовка, гравировка, золочение. ГЭ
Рис. 31. Яйцо «Память Азова». Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин
Рис. 32. Яйцо «Великий Сибирский железный путь». Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин. 1900 г.
Рис. 33. Яйцо «Клевер». Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин. 1902 г.
Рис. 34. Ветка черники в хрустальном стакане. Мастерская Х. Вигстрёма. Золото, нефрит, лазурит, горный хрусталь; резьба, полировка. 1910-е гг.
Рис. 35. Пасхальное яйцо «Московский Кремль». Мастерская Х. Вигстрёма. 1904 г.
Рис. 36. Пасхальное яйцо с моделью яхты «Штандарт». Мастерская Х. Вигстрёма. 1909 г.
Рис. 37. Пасхальное яйцо с моделью памятника Александру III. Мастерская Х. Вигстрёма. 1910 г.
Рис. 38. Сигаретница. Фирма Фаберже. Горный хруста ль, платина, серебро, алмазы огранки «роза»; резьба, гравировка. 1900-е гг. ГЭ
Рис. 39. Романовский грифон. Фирма Фаберже, мастер Юлий Раппопорт. Серебро, нефрит. До 1899 г. ГЭ
Рис. 40. Ваза дымчатого кварца. Фирма Фаберже, мастер Юлий Раппопорт. До 1899 г. ГЭ
Рис. 41. Цилиндрическая ваза из стекла Галле. Фирма Фаберже, мастер Юлий Раппопорт, фабрика Emile Galle. До 1899 г. ГЭ
Рис. 42. Стеклянная чаша в серебряной оправе. Фирма Фаберже, мастер Юлий Раппопорт. До 1899 г.
Рис. 43. А льфред Тилеман. Подарочная брошь. Золото, серебро, бриллианты огранки «роза», сапфиры. Между 1908 и 1917 гг.
Рис. 44. Алексей Козьмич Денисов-Уральский. Попугай
Рис. 45. Алексей Козьмич Денисов-Уральский. «Жаба», аллегория Турции. Лазурит, эффузия, яшма, лабрадор. 1916 г.
Рис. 46. Алексей Козьмич Денисов-Уральский. «Индюк», аллегория Румынии. Гранит, лабрадор, кварц, родонит. 1916 г.
Рис. 47. Алексей Козьмич Денисов-Уральский. «Лев», аллегория Бельгии. Раухтопаз, морион чёрный, кварц молочный. 1916 г.
Рис. 48. Алексей Козьмич Денисов-Уральский. «Сокол», аллегория Японии. Малахит, перматит, горный хрусталь, халцедон. 1916 г.
Рис. 49. Иван Савельевич Брицын. Портсигар. 1903–1908 гг.
Рис. 50. Крест-мощехранительница. Мастерская Фёдора Верховцева. Золото, серебро, позолота, изумруды, рубины, алмазы огранки «роза» литьё, резьба, чеканка. 44,8 × 40,6 см. 1860 г. ГЭ
Рис. 51. Лампада в форме пасхального яйца. Фирма братьев Грачёвых, мастер-монограммист «АП». Серебро, медь, эмаль. 1880-е гг. ГЭ
Рис. 52. Икона «Богоматерь Казанская в серебряном окладе с брелоками» Оклад: фабрика П.А. Овчинникова, 1887. Брелоки: фирма Фаберже. Дерево, темпера; золото, серебро, бриллианты, алмазы огранки «роза», сапфиры, изумруды, рубины, жемчуг, эмаль. 31,5 × 27 см. 1890-е гг. ГЭ
Рис. 53. Фабрика П.А. Овчинникова. Серебряный поднос с инициалами «М» и «А». 1874 г.
Рис. 54. Мастерская А.В. Любавина. Братина. 1908–1913 гг. Оружейная палата Московского Кремля
Рис. 55. Мастерская А.В. Любавина. Чарка в виде шапки лейб-гвардии гусарского полка. 1870-е гг. Оружейная палата Московского Кремля
Примечания
1
Великая княжна Ольга Николаевна. Сон юности: Воспоминания. 1823–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 204. (Далее – Сон юности.)
(обратно)2
Данилова А. Ожерелье светлейшего. Племянницы Потёмкина: Биографические хроники. М., 2003. С. 462.
(обратно)3
Балязин В.Н. Царский декамерон. От Николая I до Николая II. В 2-х кн. Кн. 2. М., 2010. С. 24–25.
(обратно)4
Азарова Н.И. «…Мудрено быть самодержавным» // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 30.
(обратно)5
Шильдер Н. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. В 2-х кн. М., 1997. Кн. 2. С. 10–11, 369 (примечание 9). (Далее: Шильдер, Император Николай… кн. 2.)
(обратно)6
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 369–369 об.; Юферов, 19–20.
(обратно)7
Юферов Д.Б. История коронных бриллиантов // Алмазный фонд СССР. Выпуск 3. М., 1925. С. 18. (Далее – Юферов.)
(обратно)8
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 211 об.-212.
(обратно)9
Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров: воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора. М., 1990. С. 40. (Далее – Тютчева, При дворе двух императоров.)
(обратно)10
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 331.
(обратно)11
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 338.
(обратно)12
Шильдер Н. Император Николай Первый: Его жизнь и царствование. В 2-х кн. Кн. 1. М., 1997. С. 160–161. (Далее – Шильдер, Император Николай… кн. 1.)
(обратно)13
Юферов. С. 20.
(обратно)14
Петербургская жизнь в 1825–1827 гг. По письмам англичанки – извлечение из «Old days In diplomacy. Recollections of a closed century. By the dauther of Sir Edvard Cromwell Disbrowe. London, 1903» // Pycская старина, 1904. T. 117, январь. С. 198, 200, 202.
(обратно)15
Из писем Константина Яковлевича Булгакова к брату его Александру Яковлевичу // Русский Архив, 1904. Кн. 1. С. 436. Письмо от 8 января 1835 г.
(обратно)16
Из писем А.Я. Булгакова к его брату // Русский Архив, 1902, кн. 1. С. 106. Письмо от 21 октября 1831 г. из Москвы.
(обратно)17
Лопато М.Н. Историзм как художественное явление // Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве. 1820-е – 1980-е годы: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 1996. С. 9.
(обратно)18
Бретон Г. От Анны де Боже до Марии Туше. Т. 1–10. Т. 2. М., 1993. С. 225, примечание 139 на С. 324; Забозлаева Т. В. Драгоценности в русской культуре XVIII–XX веков: словарь. История. Терминология. Предметный мир. СПб., 2003. С. 397–400. (Далее – Забозлаева); Ювелирные изделия: Иллюстрированный типологический словарь / авт.-сост. Р.А. Ванюшова, Б.Г. Ванюшов. СПб., 2000. С. 110. (Далее – Ванюшова.)
(обратно)19
Бретон Г. От Анны де Боже до Марии Туше. Т. 1–10. Т. 2. М., 1993. С. 67, 96, 225–226, 324 (примечание 140); Бретон Г. Истории любви в истории Франции. Т. 1–10. М., 1993. Т. 2. С. 517–518.
(обратно)20
Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. Челябинск, 2000. С. 232–233.
(обратно)21
Императрица Мария Феодоровна, материалы к её жизнеописанию // Собственноручные её заметки. 21-го января 1827 г. // Русская старина, 1882. T. XXXIV. С. 325, 359. (Далее – Завещание-1827.)
(обратно)22
Ванюшова. С. 21–23.
(обратно)23
Сон юности. С. 238.
(обратно)24
Там же. С. 291.
(обратно)25
Забозлаева. С. 205–206; Ванюшова. С. 65, 116.
(обратно)26
Сон юности. С. 194–195.
(обратно)27
РГИА. Ф. 524. Он. 1. Д. 372. Л. 230 об., № 72.
(обратно)28
Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 154. (Далее – Россет.)
(обратно)29
РГИА. Ф. 468. Он. 43. Д. 1025, № 310, 311; Д. 1027, № 240.
(обратно)30
Там же, № 279; Д. 1027, № 210.
(обратно)31
Там же. Д. 1025, № 312–315.
(обратно)32
Россет. С. 176.
(обратно)33
Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М., 2003. С. 297–298.
(обратно)34
Сон юности. С. 222.
(обратно)35
Яковлева А.И. Воспоминания камер юнгферы императрицы Марии Александровны // Исторический вестник, 1888, февраль. С. 403.
(обратно)36
Под сенью Павлиньего трона // Живая история Востока: познавательные и занимательные очерки о ярких героях, незабываемых событиях, воинской славе, экзотике и блеске средневекового Востока… М., 1998. С. 323–328; Menzhausen J. Das Grüne Gewölbe. Leipzig, E.A. Seeman Verlag, 1968. S. 108, Kat. 132,133 (III.).
(обратно)37
Исторический вестник, 1888, февраль. С. 367.
(обратно)38
Россет. С. 195–196.
(обратно)39
Гогулина И.Б. Поэма Томаса Мура «Лалла Рук»: к истории костюмированного представления 1821 года в Берлине // Книжные памятники. Авторы, издатели, владельцы: сборник научных статей. СПб., 2004. С. 27–27, 35 (илл.).
(обратно)40
Письмо В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу от 19/6 февраля 1821 года // Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века) // Литературное наследство. Т. 91. М., 1982. С. 657–675. Глава VIII. Томас Мур и русские писатели XIX века.
(обратно)41
Илатовская Т.А., Пахомова-Гёрес В.А. Волшебство Белой Розы. История одного праздника: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2000. С. 4–28, 96. (Далее – Волшебство Белой Розы.)
(обратно)42
Сон юности. С. 206.
(обратно)43
Письмо графа Иосифа Михайловича Виельгорского к В.А. Жуковскому от 19 февраля 1833 г. из Санкт-Петербурга // Русский Архив, 1902, кн. 2. С. 359.
(обратно)44
Сон юности. С. 206, 211, 225–226; Меншикова М.А. Китайский маскарад 1837 года // 250 историй про Эрмитаж. «Собранье пестрых глав…». Кн. 1–3. СПб., 2014. Кн. 1. С. 253–257.
(обратно)45
Дорожные письма С.А. Юрьевича во время путешествия по России цесаревича Александра в 1837 г. // Русский Архив, 1887, кн. 2, вып. 6. С. 178, письмо из Одессы от 8 сентября 1837 г.
(обратно)46
Там же. С. 181, письмо от 9 сентября 1837 г.
(обратно)47
Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. М., 1991. С. 247–248. Может быть, надо читать: «будь верной».
(обратно)48
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 981. Л. 1.
(обратно)49
Сон юности. С. 288.
(обратно)50
Яковлева А.И. (урожд. Утермарк). Воспоминания бывшей камерюнгферы императрицы Марии Александровны // Русские императоры, немецкие принцессы: династические связи, человеческие судьбы. М., 2002. С. 302. (Далее – Яковлева, Воспоминания бывшей камерюнгферы.)
(обратно)51
Сон юности. С. 288.
(обратно)52
Дюма Александр (отец). Путевые впечатления в России: сочинения в 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 35. (Далее – Дюма-отец. Путевые впечатления.)
(обратно)53
Фанни Эльслер. (Новости и мелочи) // Исторический вестник, 1910, август. С. 697; Кузнецова Л.К. Курьёзный язык камней знатоков минералогии // Курьёз в искусстве и искусство курьеза: материалы XIV Царскосельской научной конференции. СПб., 2008. С. 240–241.
(обратно)54
Thieme 17.; Becker F. Allgemeines Lexikon von der Antike bis zur Gegenwart. Band 35 (Waage-Wilhelmson). Leipzig: Velag von E.A. Seemann, 1942. S. 316–317.
(обратно)55
Николаев С.М. Камни. Мифы, легенды, суеверия. Новосибирск, 1995. С. 79.
(обратно)56
Хельсинки, Национальный музей. См.: Tillander-Gоdenhielm 17. Jewels from Imperial St. Petersburg. St.-Petersburg: Liki Rossii, 2012. P. 141 (Возможно, C.M. Weishaupt Söhne, Hanau, с. 1856) (Далее – Tillander-Godenhielm); Татищев С. Император Александр II // Русский биографический словарь. T. I. СПб., 1896. С. 443–450. (Далее – Татищев, Александр II.)
(обратно)57
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 194. Л. 72–72 об.
(обратно)58
Государственный Эрмитаж. См.: Кузнецова Л.К. Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало. М.; СПб., 2012. Илл. 28. (Далее – Кузнецова, Дней Александровых…)
(обратно)59
Tillander-Godenhielm. Р. 125.
(обратно)60
Бройтман А.И., Краснова Е.И. Большая Морская улица. СПб., 1996. С. 80. (Далее – Бройтман, Краснова, Большая Морская…)
(обратно)61
Bäcksbacka L. St. Petersburgs juvelerare, guld-och silversmeder. 1716–1870. Helsingfors. 1951. S. 287, 386. (Далее – Bäcksbacka.)
(обратно)62
Фёлькерзам А.Е. Алфавитный указатель С.-Петербургских золотых и серебряных дел мастеров, ювелиров, гравёров и пр. 1714–1814 / Приложение к журналу «Старые годы». СПб., 1907. С. 4. (Далее – Алфавит); Bruel F.-L. Les orfèvres français à Saint-Pétersbourg de 1714 à 1814 // Bulletin de la Société de PHistoire de Part français. Paris, 1908. P. 52 (Далее – Bruel); Bäcksbacka. S. 287, 386.
(обратно)63
Путевые очерки и воспоминания. Поездка по Франции и Италии: Рукопись из собрания С.Д. Полторацкого // Русская старина, 1892. Т. 75. С. 571–572.
(обратно)64
Государственный Эрмитаж. Костюк О.Г. Петербургские ювелиры XVIII–XIX века: каталог выставки Государственного Эрмитажа. СПб., 2000. С. 106, 90. (Далее – Костюк-2000.)
(обратно)65
Жизнь в свете, дома и при дворе. СПб., 1890. С. 83–85.
(обратно)66
Odom A., Arend L.P. A Taste for Splendor: Russian Imperial and European Treasures from the Hillwood Museum. Alexandria (Virginia), 1998. R 244–245, № 132. (Далее – A Taste.)
(обратно)67
Дюма-отец, Путевые впечатления в России. Т. 3. С. 34–35.
(обратно)68
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы: очерки. М., 1990. С. 166–167.
(обратно)69
Костюк-2000. С. 104, № 88; Костюк О.Г. Редкости бриллиантовой комнаты // Советский музей, 1991, № 2 (118). С. 57.
(обратно)70
A Taste. Р. 244–245, № 132.; Одом Э. Марджори Меривезер Пост открывает русское искусство // Пинакотека, 1999, № 1–2. С. 38 (илл.), 39, № 14; Фаберже, Т. Агафон Фаберже – антиквар // Антиквариатъ, СПб., 2000, осень (Специальный выпуск журнала «Русский ювелир). С. 39; Скурлов В.В. Агафон Фаберже в красном Петрограде. СПб., 2012. С. 55–85, 101–103, 151 (прим. 2–9). О Степане Фёдоровиче Апраксине (1792–1862) см.: Федорченко В.И. Свита российских императоров. В 2-х кн. Красноярск; М., 2005. Кн. 1. С. 54–55.
(обратно)71
Завещание-1827. С. 319–320, 353–354, раздел 1; с. 329–330, 365–366, раздел 9.
(обратно)72
Письмо Екатерины II к барону Мельхиору Гримму от 18 сентября 1790 г. Цит. по: Данилова, Пять принцесс. С. 163–280 (глава III. Мария).
(обратно)73
Сон юности. С. 281–282.
(обратно)74
Мнение Виланда цит. по: Данилова, Пять принцесс. С. 191.
(обратно)75
Сон юности. С. 281–282.
(обратно)76
Шильдер, Император Николай… кн. 1. С. 152–153.
(обратно)77
Государственный Эрмитаж (с 1886 года), инв. № Э-4701; Каталог редкого, старинного и восточного оружия, хранящегося в собственном его императорского величества Арсенале в Царском Селе. В 2-х частях (в одном переплете). СПб., 1840, ч. 1. С. 229, № 65.
(обратно)78
Кузнецова Л.К. Табакерки Фридриха II Великого – знаки берлинских контактов и вояжей престолонаследников // Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники: материалы XIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2007. С. 314–315.
(обратно)79
Сон юности. С. 183, 214, 215.
(обратно)80
Хронологический справочник (XIX и XX века) / Сост. М.И. Перпер. Л., 1984. С. 27.
(обратно)81
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 27. Л. 21.
(обратно)82
Андреева Г.Б. Россия в судьбе художников Доу и Томаса Райта // Незабываемая Россия. Русские и Россия глазами британцев XVII–XIX век: каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее. М., 1997. С. 105–109,264-265.
(обратно)83
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 27; Скурлов В. Браслет с бирюзой и бриллиантами: дело об изготовлении браслета для Ея императорского высочества великой Княгини Марии Павловны (РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 27), 1832 // Антикварное обозрение, 2003, № 3. С. 40, илл.; Тилландер-Гуденйелм. Драгоценности Императорского Петербурга. С. 83, илл. (Аукционный Дом Кристи).
(обратно)84
Завещание императрицы Марии Феодоровны, 1-го ноября 1826 года // Исторический вестник, 1882, январь, пункт IX. С. 93–94,113–115. (Далее – Завещание—1826.)
(обратно)85
Завещание-1826, пункт XII. С. 95, 117.
(обратно)86
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 606.
(обратно)87
Там же. Оп. 5. Д. 230. Л. 6–7 об., №№ 234–238.
(обратно)88
РГИА. Ф. 524. On. 1. Д. 372. Л. 2406, 282 (§ 2.2).
(обратно)89
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1027. Л. 31; Гафифуллин Р. Корона российских императриц // Русский антикваръ: альманах для любителей искусства и старины. Вып. 1. М.; СПб., 2002. С. 25–26. (Далее – Гафифуллин, Корона российских императриц.)
(обратно)90
Кузнецова, Дней Александровых… С. 119–120, илл. 17.
(обратно)91
Алмазный фонд России, инв. № АФ-67; Сокровища Алмазного фонда СССР: каталог выставки. М., 1975. С. 35, № 99, илл. 46 (вес сапфира = 258,15 кар.). (Далее – Сокровища АФ-1975.). Проданные сокровища… С. 259.
(обратно)92
Алмазный фонд СССР. Вып. 1–4. М., 1924–1926. М., 1925, вып. 3. С. 42–43, аннотация к № 134, табл. LXVII, фот. 155 (Далее – Алмазный фонд СССР); Горева О., Полинина И. Алмазная сокровищница России: Путеводитель. Люцерн, 1994. С. 61–62, 80 (илл.) /уточненный вес сапфира = 260,37 карат. (Далее – Горева, Полынина. Алмазная сокровищница России); Буранов Ю. Камень российских императриц // Антикватория, М., 2003, № 5, ноябрь-декабрь (Искушение временем). С. 81 (илл.); Горева О. Алмазная сокровищница России. М., 2006. С. 63 (Далее – Горева-2006); Полынина И.Ф. Сокровища Алмазного фонда России. М., 2012. С. 202 (илл.), 203–204. (Далее – Полынина, Сокровища Алмазного фонда России.).
(обратно)93
Ферсман А.Е. Семь исторических камней Алмазного фонда // Алмазный фонд СССР, М., 1926, вып. 4. С. 9. Досадно, что эту бриллиантовую брошь-фермуар с сапфиром В.В. Никитин ошибочно указал в числе проданных (Драгоценности Российской Короны // Проданные сокровища России, 2000. С. 273, № 134, иллюстрация первая сверху справа).
(обратно)94
Кузнецова Л.К. Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый, бриллиантовый. М., 2009. С. 447–450, илл. 70, 71. (Далее – Кузнецова, Век восемнадцатый…)
(обратно)95
Россет. С. 80, 259,417,498, 573.
(обратно)96
Алмазный фонд СССР, М., 1924, вып. 1. С. 38, № 35, табл. XXIII, фот. 32. Проданные сокровища. С. 262. № 35.
(обратно)97
Тилландер-Гуденйелм У. Драгоценности Императорского Петербурга. СПб., 2013. С. 88. (Далее – Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского Петербурга.)
(обратно)98
Воррес Й. Последняя Великая Княгиня. // Дея Л. Подлинная царица; Воррес Й. Последняя Великая Княгиня. СПб.; М., 2003. С. 221.
(обратно)99
Кузнецова, Восемнадцатый век… С. 36, 104, 146, илл. 3.
(обратно)100
Маковский К.Е. Портрет императрицы Марии Феодоровны. Воспр. в: Лобанова Т., Лобанов Л. Жены русских царей. СПб., 2011. С. 31 и обложка; Зимин И., Соколов Л. Ювелирные сокровища Российского императорского двора. М., СПб., 2013. С. 477.
(обратно)101
Краевский А., Рипка Ю. Диадемы российских императриц и великих княгинь первой трети XIX в. К вопросу атрибуции // Поставщики императорского двора: сборник научных статей XIX Царскосельской конференции. СПб., 2013. С. 169, 170 (илл.). (Далее – Краевский-Рипка.)
(обратно)102
Алмазный фонд России, инв. № АФ-9. Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 25, № 74, табл. XLIV, фот. 74; Сокровища АФ-1975. С. 23, № 61, илл. 28.
(обратно)103
Данилова А. Пять принцесс. Дочери императора Павла: Биографические хроники. М., 2001. С. 208. (Далее – Данилова, Пять принцесс.)
(обратно)104
Краевский-Рипка. С. 171–173, илл. на С. 172.
(обратно)105
Краевский-Рипка. С. 167–169, обе иллюстрации на С. 168.
(обратно)106
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 981. Л. 1 об.
(обратно)107
Там же. Д. 1002. Л. 184, № 1.
(обратно)108
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 12, № 51, табл. XXXIV, фот. 51; Кузнецова, Дней Александровых… С. 115–117, илл. 16.
(обратно)109
Лопато М.Н. Ювелиры Старого Петербурга. СПб., 2006. С. 121. (Далее – Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006.)
(обратно)110
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 19, № 45, табл. XXXI, фот. 45; Дней Александровых… С. 164–166, илл. 25.
(обратно)111
РГИА. Ф. 468. Он. 1. Д. 3943. Л. 38–38 об.
(обратно)112
Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. М., 1862. С. 71 (запись от 24 и 25 июня 1788 года), 73 (записи от 30 июня и 1 июля 1788 года), 98 (запись от 25 августа 1788 года) и 102 (запись от 3 сентября 1788 года), 109 (запись от 18 сентября 1788 года).
(обратно)113
Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. М., 1992. С. 118–119.
(обратно)114
Государственные музеи Московского Кремля, инв. № ДК-1148, 697, 93; Кобеко Д.Ф. Императрица Мария Феодоровна как художница и любительница искусств // Вестник изящных искусств. СПб.: Императорская Академия Художеств, 1884. Т.2. С. 349–410; Завещание императрицы. К 250-летию со дня рождения Марии Федоровны: каталог выставки в ГМЗ «Павловск». СПб., 2009. С. 34–37, 46-47, 145, кат. № 108, 93 (илл.); Коварская С.Я. Произведения императрицы Марии Федоровны в Московском Кремле // Завещание императрицы. С. 59–60.
(обратно)115
Фёлькерзам А.Е. Описи серебра Двора Его Императорского Величества. В 2-х т. СПб., 1907. T. 1. С. 79–80 (Далее – Фёлькерзам, Описи серебра); Алфавит. С. 26, 19; Bäcksbacka. S. 394, 48; Bruel. P. 56; Scheffler W. Berliner Goldschmiede. Berlin, 1968. S. 237 (№ 1203), 259 (№ 1285a); Постникова-Лосева M.M., Платонова Н.Г, Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело XV–XX вв.: территория СССР. М., 1983. С. 197, клеймо № 1772; Биобиблиографический словарь художников народов СССР. Т. 4, ч. 2. СПб., 1995. С. 373.
(обратно)116
Зимин И. Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. Повседневная жизнь Российского императорского двора. М.; СПб., 2011. С. 189–190 (Далее – Зимин, Царские деньги); Дзевановасий В. Штрихи к портрету Армина фон Фёлькерзама // Мир музея, 2012, июль, № 7 (299). С. 29; Дзевановасий В.М. Армии Евгеньевич фон Фёлькерзам (1861–1917). Хранитель Галереи драгоценностей Императорского Эрмитажа // Антикварное обозрение, 2012, № 4. С. 88, 93 (примечание 25).
(обратно)117
Кузнецова, Век восемнадцатый… С. 459, 526 (примечание 956); Добровольская М.А. Вступительная статья // Русские ордена и награды: каталог выставки. СПб., 1996. С. 10.
(обратно)118
Государственный Эрмитаж, инв. №№ Э 287, 288. Знак: 5,5 х 8,7 см, на обороте выгравировано: «K&S 2637». Звезда: диаметр 8,3 см, на обороте выгравировано: «K&S 2636». См.: Костюк О.Г. Шедевры европейского ювелирного искусства XVI–XIX веков из собрания Эрмитажа. СПб., 2010. С. 204–205, илл. (Далее – Костюк, Шедевры.)
(обратно)119
Кузнецова, Дней Александровых… С. 28.
(обратно)120
Кузнецова, Век восемнадцатый. С. 353.
(обратно)121
Там же. С. 374–375.
(обратно)122
Кузнецова, Дней Александровых… С. 84–86.
(обратно)123
Алфавит. С. 30; Bäcksbacka. S. 51; Кузнецова, Дней Александровых… С. 240.
(обратно)124
Bäcksbacka. S. 45.
(обратно)125
Кузнецова, Век восемнадцатый. С. 317.
(обратно)126
РГИА. Ф. 468. On. 1. 4.2. Д. 3919. Л. 224; Д. 3920. Л. 190; Д. 3921. Л. 251–251 об.; Д. 3922. Л. 11 об.
(обратно)127
РГИА. Ф. 468. Оп. 16 (581/2527). Д. 2024 (Книга пенсионов. 2-я половина 1811 г.). Л. 114 об.
(обратно)128
Завещание-1827. С. 327 (французский текст), 362 (русский текст).
(обратно)129
Там же. С. 322, 356.
(обратно)130
Там же. С. 327, 362.
(обратно)131
Завещание-1827. С. 325, 359.
(обратно)132
Фёлькерзам, Описи серебра… T. 1. С. 79–80.
(обратно)133
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 193. Л. 107 об., 110,131.
(обратно)134
Алфавит. С. 29; Bäcksbacka. S. 422; Биобиблиографический словарь художников народов СССР. Т.4, кн. 2. СПб., 1995. С. 373.
(обратно)135
Миролюбова Г.А., Уханова И.Н. «Тогда масоны были все» // Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб., 2013. С. 19–21, 296 (кат. № 283), 322–323 (кат. № 316), 389 (кат. № 370), 475,477; Гаврилова А.М., Левин С.С. Европейские ордена в России. Конец XVIII – начала XX века. Из собраний Музеев Московского Кремля и Государственного Исторического музея. Приложение. М., 2007. С. 57. (Далее – Гаврилова-Левин, Европейские ордена).
(обратно)136
Кант – русская многоголосная песня. – Прим. ред.
(обратно)137
Мальтийский крест с четырьмя раздвоенными концами.
(обратно)138
Миролюбова Г.А., Уханова И.Н. «Тогда масоны были все» // Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб., 2013. С. 19–21; 296 (кат. № 283), 332–333 (кат. № 316), 389 (кат. № 370), 475,477.
(обратно)139
Алфавит. С. 29; Скурлов Б.Б., Иванов А.Н. Поставщики Высочайшего Двора. СПб., 2002. С. 68. (Далее – Поставщики Высочайшего двора.)
(обратно)140
Поставщики Высочайшего Двора. С. 68.
(обратно)141
Из альбомов императрицы Александры Федоровны: Воспоминания 1817–1820 // Николай I. Муж. Отец. Император. М.: Слово, 2000. С. 143. (Далее – Из альбомов императрицы Александры Федоровны.)
(обратно)142
Иванова Н.И. Перемещенные культурные ценности: даты и факты. СПб., 2011. С. 126, примечание 13.
(обратно)143
Музей-заповедник «Царское Село», инв. № ЕД 714-IV. См.: Ботт И.К. Подарок прусского кронпринца. Фридрих Вильгельм и русский двор // Россия – Германия. Пространство общения: материалы X Царскосельской научной конференции. СПб., 2004. С. 89, 91 (илл.), 98 (примечание 1). (Далее – Ботт, Подарок прусского кронпринца.)
(обратно)144
Музей-заповедник «Царское Село», инв. № ЕД 714-IV. См.: Ботт, Подарок прусского кронпринца. С. 91 (илл.). С. 98 (примечание 1).
(обратно)145
Ганшина К.А. Французско-русский словарь. 51 000 слов. Русский язык, 1979. С. 626.
(обратно)146
Платовская, Пахомова-Гёрес. С. 8–11,15.
(обратно)147
Платовская, Пахомова-Гёрес. С. 15.
(обратно)148
Пахомова-Гёрес В.А. О неразгаданной тайне Александрийского столпа, Царицына острова и неизвестном «русском» архитекторе Фридрихе Вильгельме IV // Россия – Германия. Пространство общения: Материалы X Царскосельской научной конференции. СПб., 2004. С. 322, 334 (примечание 4).
(обратно)149
Ботт И.К., Люстра И.Г. Хоссауэра. (К вопросу русско-прусских художественных контактов) // Памятники культуры-1997, Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М., 1998. С. 423, примечание 22.
(обратно)150
Россет. С. 86.
(обратно)151
Россет. С. 185–186; Портфель графа А.Х. Бенкендорфа: мемуары шефа жандармов // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 1999. С. 336, 371, 394.
(обратно)152
Ботт, Подарок прусского кронпринца. С. 90.
(обратно)153
Дневник Александры Федоровны // Николай I. Муж. Отец, Император… С. 144.
(обратно)154
Алмазный фонд СССР, вып. 4. С. 24, № 196, табл. XCV, фот. 224; Twining E.F., Baron. A History of the Crown Jewels of Europe. London, 1960. P. 554, 614 (Далее – Twining); Ильин H.; Семенова H. Проданные сокровища России. M., 2000. С. 275, илл. (первая слева). (Далее – Проданные сокровища России). Браслет прошёл лотом 14 на лондонском аукционе Кристи 16 марта 1927 года. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)155
Русский биографический словарь. Т. (Лабзина-Ляшенко). СПб., 1914. С. 55; Шильдер Н.К. Великий князь Николай Павлович с 1814 по 1822 год // Русская старина, 1901. Т. 107, июль. С. 19; Шильдер, Император Николай, кн. 1. С. 91.
(обратно)156
Шильдер, Император Николай, кн. 1. С. 15; Русский биографический словарь. Т. (Лабзина-Ляшенко). С. 54.
(обратно)157
Детство и отрочество Николая Павловича // Русский Архив, 1896, т. II. С. 290. (Примечание – Русский Архив, 1871. С. 1919).
(обратно)158
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», инв. № МР-635 (1,0×9,5×2,9 см). Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве XII–XVIII вв. М., 1973. С. 44, № 48; Оружейная палата: Альбом. М., 1988. С. 129; Кузнецова Л.К. Об анаграммах из самоцветов на вещах, исполненных по заказу императрицы Марии Федоровны в начале XIX в. // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского: тезисы докладов. СПб., 1996. С. 46 (Геммологическая экспертиза произведена экспертами ГОХРАНа в марте 1991 года); Кузнецова Л.К. Курьезный язык камней знатоков минералогии // Курьез в искусстве и искусство курьеза: Материалы XIV Царскосельской научной конференции. СПб., 2008. С. 238–239.
(обратно)159
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-4671. Завещание-1827. С. 322, 357 («Un bracelet en or avec des cheveux du general Lambsdorf»).
(обратно)160
Ламсдорф, Матвей Иванович, граф // Русский биографический словарь. Т. (Лабзина-Ляшенко). С. 54–55
(обратно)161
Кочерова Е.И. Приданое Великого Князя Михаила Павловича // Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого Дома: сборник трудов международной научной конференции 16–18 октября 2001 года. СПб., 2005. С. 46–47.
(обратно)162
Записки Н.Н. Муравьева-Карского. 1816 и 1817 годы. Путешествие в Персию, в посольстве А.П. Ермолова // Русский архив, 1886. T. 1, кн. 4. С. 522.
(обратно)163
Записки Н.Н. Муравьева-Карского… С. 522.
(обратно)164
Качалов Н. Стекло. М., 1959. С. 252. (Далее – Качалов, Стекло.)
(обратно)165
Воронов Н.В. Дубова М.М. Невский хрусталь: очерки основных этапов развития. Л., 1984. С. 33.
(обратно)166
Ашарина Н.А. Русское стекло XVII – начала XX века. М., 1998. С. 130–137.
(обратно)167
Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996. С. 69, 70 (илл.); Качалов, Стекло. С. 252; Шелковников Б.А. Русское художественное стекло. Л., 1969. С. 134; Малинина ТА. Императорский Стеклянный завод во второй половине XVIII – первой трети XIX вв. // Горный журнал. Цветные металлы, Чёрные металлы: Специальный выпуск посвящён Государственному Эрмитажу. М., 2004. С. 54; Малинина Т.А. Императорский Стеклянный завод. 1777–1917. К 225-летию со дня основания: Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2004. С. 59, 60 (примечания 24, 25); Малинина ТА. Стекло // Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: иллюстрированная энциклопедия. T. 1. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2004. С. 152, 153.
(обратно)168
Купер Дж. Энциклопедия символов. Серия «Символы». Книга IV. М., 1995. С. 235–236. (Далее – Купер.)
(обратно)169
Низовский А.Ю. 100 великих реликвий и сокровищ. М., 2013. С. 288–290.
(обратно)170
Купер. С. 23–236.
(обратно)171
Тегеран, Национальная сокровищница. См.: Николаев Н.Н. Реликвии правителей мира. М., 2010. С. 86; Дворцовые тайны: Интриги и авантюры коронованных особ. СПб., 2014. С. 117–118.
(обратно)172
РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 71. Все цитаты относительно изготовления хрустальной кровати для персидского шаха взяты из документов этого дела.
(обратно)173
Шильдер, Император Николай, кн. 1. С. 357–359.
(обратно)174
Шильдер, Император Николай, кн. 2. С. 24–26.
(обратно)175
Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского Петербурга. С. 87–88.
(обратно)176
Стерлигова А.В. Воспоминания // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2005. С. 105.
(обратно)177
Сон юности. С. 203.
(обратно)178
Посольство поручика Носкова в Персию с хрустальной кроватью // Исторический вестник, 1887, т. XXX. С. 433.
(обратно)179
Шильдер, Император Николай, кн. 2. С. 85, 88.
(обратно)180
Качалов, стекло. С. 253–254.
(обратно)181
РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 71. Л. 132.
(обратно)182
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 329.
(обратно)183
Юферов. С. 19–29; Гафифуллин, Корона российских императриц. С. 24.
(обратно)184
Кузнецова, Дней Александровых… С. 112–115.
(обратно)185
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 169–169 об.
(обратно)186
Там же. Л. 381 об.
(обратно)187
Там же. Л. 387 об.
(обратно)188
Там же. Л. 388 об.-389.
(обратно)189
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 427. Однако, вопреки утверждению Р. Гафифуллина, на данном архивном листе из указанного исследователем архивного дела, имя мастера Кейбеля не только отсутствует, но и не упоминается.
(обратно)190
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 4; Юферов. С. 23; Гафифуллин. С. 25.
(обратно)191
Шильдер. Император Николай I, кн. 2. С. 10.
(обратно)192
Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 248–249.
(обратно)193
Государственный Эрмитаж. Ливен. С. 32; Костюк-2000. С. 112, № 97.
(обратно)194
Щукина Е.С. Два века русской медали: медальерное искусство в России 1700–1917 гг. М., 2000. С. 117–119.
(обратно)195
Из альбомов императрицы Александры Федоровны. С. 160–161.
(обратно)196
Гогель Ф. Из воспоминаний леди Блумфильд // Русский Архив, 1899. Кн. 2, вып. 6. С. 238–239; Ковалевская Н. Воспоминания старой институтки // Русская старина, 1898. Т. 95, июль-сентябрь. С. 624.
(обратно)197
Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского Петербурга. С. 88–89.
(обратно)198
Там же.
(обратно)199
РГИА. Ф. 469. Оп. 8. Д. 486. Л. 519, 589, 730.
(обратно)200
Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22.
(обратно)201
Соболевский В.И., Генкин А.Д. Благородные металлы. Платина. М., 1973. С. 4–5.
(обратно)202
Там же. С. 4.
(обратно)203
Раскин Н.М. Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин: Вице-президент Берг-коллегии, химик и минералог. 1760–1805. Л., 1981. С. 104–117.
(обратно)204
Кулибин С. Архипов, Александр Николаевич // Русский биографический словарь. T. II. СПб., 1900. С. 335.
(обратно)205
Венецкий С.И. Рассказы о металлах. М., 1978. С. 185. (Далее – Венецкий, Рассказы о металлах.)
(обратно)206
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-6455, Э-6456. См.: Мавродина Н.М. Работы камнерезов Колывани: каталог выставки. Л., 1990. С. 33 (кат. №№ 32 и 33), 121 (илл.); Мавродина Н.М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков: каталог коллекции Государственного Эрмитажа. СПб., 2007. С. 317, 318 (илл.), кат. №№ К 32, К 33.
(обратно)207
Архив Государственного Эрмитажа. On. VI, 3, № 9, т. 1 (Опись 1789 года). Л. 217, № 260.
(обратно)208
Венецкий, Рассказы о металлах. С. 185.
(обратно)209
РГИА. Ф. 524. On. 1. Д. 5. Л. 50.
(обратно)210
Волшебство Белой Розы. С. 117.
(обратно)211
Bäcksbacka. S. 289; Русские ювелирные украшения XVI–XX веков из собрания Государственного Исторического музея (Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева, Г. Смородинова, Н. Троепольская). М., 1994. С. 326.
(обратно)212
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-15 (поступила в Эрмитаж в 1896 году из собрания А.Б. Лобанова-Ростовского). См.: Костюк О.Г. «Но если уж табак так нравится тебе…»: каталог выставки. СПб., 2010. С. 96–97 (илл.), кат. № 49; Костюк, Шедевры. С. 232–235 (илл.).
(обратно)213
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 3943. Л. 500.
(обратно)214
Дуров В.А. Русское наградное оружие XVIII – начала XX вв. Москва-Смоленск, 1994. С. 67 (илл. – Проектный рисунок наградной шпаги), 69; Татищев, Александр II. С. 446.
(обратно)215
Зайченко М.Г. Царскосельский Арсенал как музей оружия и памятник историзма //В тени «больших стилей»: материалы VIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002. С. 113.
(обратно)216
РГИА. Ф. 469. Оп. 8. Д. 542 (1841 г.), 559 (1842 г.), 582 (1843 г.), 649 (1846 г.); Оп. 10, Ч. 2. Д. 379 (1851–1852 гг.).
(обратно)217
Брикнер А. История Екатерины Великой. В 2-х тт. СПб., 1885, Т. 2. С. 514.
(обратно)218
Русский биографический словарь. T. 1. СПб., 1896. С. 329, 335,346.
(обратно)219
Поразинский Я.; Цяра Ст.-Е. Сыпек Р.; Курек К. Веттины: биографии, гербы, генеалогические древа. М., 2013. С. 72–77. (Далее – Веттины.)
(обратно)220
Сафонов М.М. Речь Посполитая и «московский заговор» 1817 г.// Россия – Польша. Два аспекта европейской культуры: сборник научных статей XVIII Царскосельской конференции. СПб., 2012. С. 491–503; Гордин Я. Мятеж реформаторов 14 декабря 1825 года. Л., 1989. С. 19.
(обратно)221
Краевский А. Польские короны Московского Кремля // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников семнадцатого коллоквиума 14–18 апреля 2009 года на семинаре Государственного Эрмитажа. СПб., 2009. С. 64–65. (Далее – Краевский, Польские короны Московского Кремля); Краевский А.И. Польские короны российских императоров // Россия – Польша. Два аспекта европейской культуры: сборник научных статей XVIII Царскосельской конференции. СПб., 2012. С. 297, 298 (Рисунки 1–4), 301–302 (примечания 13, 14). (Далее – Краевский, Польские короны российских императоров.)
(обратно)222
Быкова Ю.И. К вопросу об авторстве коронационных регалий императрицы Анны Иоанновны // Петровское время в лицах-2013. К 400-летию Дома Романовых (1613–2013): материалы научной конференции. Труды Государственного Эрмитажа-LXX. СПб., 2013. С. 102–114; Кузнецова, Век восемнадцатый. С. 76–79, 95–97.
(обратно)223
Корсаков Д. Анна Иоанновна // Русский биографический словарь. T. II (Алексинский – Бестужев-Рюмин). СПб., 1900. С. 175.
(обратно)224
Краевский, Польские короны Московского Кремля. С. 64–65.
(обратно)225
Горева О. Алмазная сокровищница России. М., 2006. С. 40–41.
(обратно)226
Стшельчик Побуг-Ленартович А.; Гурчак З. и др. Пясты: Биографии, гербы, генеалогические древа. М., 2013. С. 46.
(обратно)227
Похлёбкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. 3-е изд. М.: Международные отношения, 1995. С. 303–306.
(обратно)228
Кузнецова, Век восемнадцатый. С. 168–184.
(обратно)229
Воспоминания О.А. Пржеславского // Русская старина, 1875, т. 14. С. 177.
(обратно)230
Дуров В. Польские ордена в России // Советский музей, 1991, № 4 (120), июль-август. С. 67–68; Гаврилова Л.М., Левин С.С. Европейские ордена в России. Конец XVIII – начало XX века. Из собраний Музеев Московского Кремля и Государственного Исторического музея. М., 2007. С. 26, 28 (Далее Гаврилова-Левин, Европейские ордена.)
(обратно)231
Алмазный фонд России, инв. № АФ-64 (золото, эмаль; длина цепи 145,0 см; общий вес=601,2 г). Алмазный фонд СССР, вып. 4. С. 21, № 177, табл. ХС, фот. 205; Сокровища АФ-1975. С. 34, № 96; Горева, Полынина. Алмазная сокровищница России. С. 124, 141 (илл.); Секретев, Регалии. С. 26–31.
(обратно)232
Утратив несколько звеньев, эта цепь хранится в Королевском замке в Варшаве. Веттины. С. 76.
(обратно)233
Майков П.М. Царство Польское после Венского конгресса // Русская старина, Т. 121. 1905, январь. С. 157–159; Краевский, Польские короны российских императоров. С. 298–300.
(обратно)234
Шильдер, Император Николай Первый, кн. 2. С. 201–208.
(обратно)235
Панов Н.Н. Исторический очерк российских орденов и сборник основных орденских статутов. СПб., 1891; Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. СПб., 1993. С. 68–69, 71, 120; Можейко, Игорь. Награды. М., 1998. С. 187–200; Секретев, Регалии. С. 26–31.
(обратно)236
Татищев, Александр II. С. 487–488; Балязин В. Сокровенные истории Дома Романовых. М., 1995. С. 363.
(обратно)237
Алмазный фонд России, инв. № АФ-55 (золото, серебро, алмазы, эмаль; 6,0×4,0 см). Сокровища АФ-1975. С. 28, № 75.
(обратно)238
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 61/39; Д. 1027, № 33/61.
(обратно)239
Гаврилова-Левин, Европейские ордена. С. 28.
(обратно)240
Секретев, Регалии. С. 30; Тутова ТА. Передача в Гохран и музеи императорских орденов Николая II и членов его семьи: Обзор и публикация документов 1922 года // (Гаврилова А.М.) Державные кавалеры. С. 255 (пор. № 3748), 258 (прим. 32), 260 (прим. 59), 261 (прим. 74).
(обратно)241
Зуйкова Т.Г., Пивоваров А.Я. Эклектика в ювелирном искусстве XIX века //В тени «больших стилей»: материалы VIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002. С. 212.
(обратно)242
Ферсман А. Сокровища Алмазного фонда // Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 22–24.
(обратно)243
Ферсман А.Е. Семь исторических камней Алмазного фонда // АФ-4. С. 10; Смит Г. Драгоценные камни. М., 1984. С. 229, 230 (примечание 1); Низовский А.Ю. 100 великих реликвий и сокровищ. М., 2005. С. 293–295.
(обратно)244
Пыляев М.М. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление. Третье издание. СПб., 1896. С. 182 (рис. 47), 183.
(обратно)245
Кузнецова, Век восемнадцатый… С. 149–156.
(обратно)246
Гаага, Королевское собрание. См.: Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь Нидерландского двора: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2013. С. 68, 69 (илл.), № 44.
(обратно)247
РГИА. Ф. 468. Он. 5. Д. 187. Л. 1; д. 226. Л. 3 об., № 10; Д. 230 (1829 г.). Л. 1 об., № 5.
(обратно)248
Незабываемая Россия. Русские и Россия глазами британцев XVII–XIX век: каталог выставки в ГТГ. М., 1997. С. 259; То же – Портретная миниатюра XVIII – начала XX века: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания (т. 1). М., 1997. С. 138.
(обратно)249
РГИА. Ф. 524. On. 1. Д. 372. Л. 239а-239б об. – Опись бриллиантовым вещам, завещанным в Бозе почившею Императрицею Александрою Феодоровною Государю Императору: <…> Л. 2396: Браслет с портретом Императора Александра 1-го под плоским бриллиантом б/оценки.
(обратно)250
Цит. по: Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского Петербурга. С. 88–89.
(обратно)251
Сокровища Алмазного фонда-1975. С. 35, кат. № 98, илл. 45.
(обратно)252
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 193. Л. 74-74 об., 107–107 об.
(обратно)253
Купер. С. 60, 78,144–145,157, 297–298, 335, 353, 356–362, 375–376.
(обратно)254
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-4659.
(обратно)255
Костюк О.Г. Ювелирное искусство Франции XVIII – первой трети XIX веков: каталог коллекции. СПб., 2012. С. 355, кат. № 181, илл; Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь Нидерландского двора: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2013. С. 66, 67 (илл.), кат. № 41, инв. № Э-4659, аннотация О.Г. Костюк.
(обратно)256
Завещание-1827. С. 319–388.
(обратно)257
Там же. С. 321.
(обратно)258
Там же. С. 356.
(обратно)259
Федорченко В. Императорский Дом: Выдающиеся сановники. В 2-х т. Красноярск; М., 2001. T. 1. С. 306–307. (Далее – Федорченко. Выдающиеся сановники.)
(обратно)260
Сон юности. С. 184–185; Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 136
(обратно)261
Зайченко М.Г. Царскосельский Арсенал как музей оружия и памятник историзма //В тени «больших стилей»: материалы VIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002. С. 113.
(обратно)262
РГИА. Ф. 469. Оп. 8. Д. 542 (1841 г.), 559 (1842 г.), 582 (1843 г.), 649 (1846 г.); Оп. 10. Ч. 2. Д. 379 (1851–1852 гг.)
(обратно)263
Завадская А.А. Приданое великого князя Александра Александровича: История создания // Судьбы музейных коллеций: Материалы VI Царскосельской научной конференции. СПб., 2000. С. 154.
(обратно)264
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 399 (1850 год). Об И.Ф. Паскевиче (1782–1856) см.: Майков И.М. Паскевич Эриванский, граф Иван Федорович, светлейший князь Варшавский // Русский биографический словарь. Т. (Павел, преподобный – Петр (Илейка)). СПб., 1902. С. 340–345; Федорченко, Выдающиеся сановники. Т. 2. С. 216–217.
(обратно)265
Пашкова Т.А. История портретной «экспозиции» Большого и Малого фельдмаршальских залов Зимнего дворца // Архитектурные тетради: Государственный Эрмитаж. Отдел истории и реставрации памятников архитектуры. Вып. 1. СПб., 1994. С. 19–24.
(обратно)266
Асварищ Б.И. «Совершенно модный живописец» Франц Крюгер в Петербурге: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 1997. С. 35, 39–41, 52.
(обратно)267
Сон юности. С. 237.
(обратно)268
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 399. Л. 1-20.
(обратно)269
Вилков А.И. Фельдмаршальский жезл императора Александра II // Антикварное обозрение, 2005, № 2. С. 56. (Далее – Вилков, Фельдмаршальский жезл Александра II.) О Великом князе Михаиле Николаевиче (1832–1909) см.: Федорченко, Выдающиеся сановники. Т. 2. С. 67–69.
(обратно)270
Кавалеры императорского военного ордена святого великомученика и Победоносца Георгия 1 и 11 степеней (1769–1916) / Авт. – сост. Ф.А. Талберг, Н.И. Подгорная. Рига, 1993. С. 64–65, № 24.
(обратно)271
Федорченко В.И. Двор российских императоров: Энциклопедия биографий. Красноярск; М. 2004. С. 123–125.
(обратно)272
Эрнст С. Майков, Николай Аполлонович // Русский биографический словарь. Т. Маак-Мятлева. М.,1999. С. 33–34.
(обратно)273
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 373. Л. 1-8 об.
(обратно)274
Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия 1797–1917: Биобиблиографический справочник. СПб., 2005. С. 200–201.
(обратно)275
Синай. С. 151.
(обратно)276
Дневник Великого Князя Константина Николаевича // Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. 1857–1861. М., 1994. С. 256.
(обратно)277
Кузьмин. С. 108.
(обратно)278
Пушкарёв И.И. Николаевский Петербург. СПб., 2000. С. 143. (Далее – Пушкарёв, Николаевский Петербург.)
(обратно)279
Скурлов В., Смородинова Г. Фаберже и русские придворные ювелиры. М., 1992. С. 89–90 (Далее: Скурлов – Смородинова.)
(обратно)280
Юферов. С. 22.
(обратно)281
Гаврилова Л.М., Тутова Т.А. Державные кавалеры. Иностранные ордена российских императоров: каталог выставки Музея Московского Кремля. М., 2010. С. 36–37 /илл./, 239 (прим. 46).
(обратно)282
Русский биографический словарь. T. 1. СПб., 1896. С. 75–76.
(обратно)283
Фёлькерзам, Описи серебра… т. 1. С. 80, 81–82; Bäcksbacka. S. 64; A Taste… Р. 250–251, № 136 (Андреевская цепь работы Александра Кордеса, хранящаяся в Музее Хиллвуд (США, Вашингтон)); Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 143.
(обратно)284
Bäcksbacka. S. 64.
(обратно)285
Ori е argenti… P. 179, 203, 228, 251, № 109, (аннотация О.Г. Костюк); Костюк О.Г. Редкости бриллиантовой комнаты // Советский музей, 1991, № 2 (118). С. 57.
(обратно)286
Фёлькерзам, Описи серебра… т. 2. С. 269, Ст. 4 (Солонка № 2).
(обратно)287
Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 126.
(обратно)288
Там же. С. 129, 130,139.
(обратно)289
Там же. С. 141.
(обратно)290
Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 143, 146.
(обратно)291
Там же. С. 148, 149.
(обратно)292
Там же. С. 208, 209.
(обратно)293
Новицкий А. Толстой, граф Федор Петрович // Русский биографический словарь. Т. (Тобизен – Тургенев. М., 1999. С. 104, 109.
(обратно)294
Семевский М.И. Павловск. Очерк истории и описание 1777–1877. СПб., 1997. С. 143–167.
(обратно)295
Костюк О.Г. Семья ювелиров Кейбель в Петербурге // Немцы в Петербурге XVIII–XX веков: биографический аспект. СПб., 2003. С. 214, 215; Костюк, Шедевры. С. 230–231, илл.
(обратно)296
Скурлов-Смородинова. С. 90; Bäcksbacka. S. 437.
(обратно)297
Вилков, Фельдмаршальский жезл Александра II С. 56. О Великом князе Михаиле Николаевиче (1832–1909) см.: Федорченко, Выдающиеся сановники. Т. 2. С. 67–69.
(обратно)298
Вилков, Фельдмаршальский жезл Александра II. С. 56–57. О великом князе Николае Николаевиче (1831–1891) см.: Федорченко, Выдающиеся сановники. Т. 2. С. 134–135.
(обратно)299
Кавалеры императорского военного ордена святого великомученика и Победоносца Георгия I и II степеней… Рига, 1993. С. 66–67, № 25.
(обратно)300
Мосолов Л.Л. При Дворе последнего императора: Записки начальника канцелярии министра Двора. СПб., 1992. С. 144. (Далее – Мосолов.)
(обратно)301
Русский Национальный музей, Фельдмаршальский жезл (золото, алмазы, изумруды, эмаль; длина 48,9 см). Вилков, Фельдмаршальский жезл императора Александра II. С. 57.
(обратно)302
Вилков, Фельдмаршальский жезл Александра II. С. 57.
(обратно)303
Левин С.С. Поставщики Капитула Императорских и Царских орденов в 1905 г. // XVI Всероссийская нумизматическая конференция: тезисы докладов и сообщений. СПб., 2011. С. 197–198.
(обратно)304
Скурлов – Смородинова. С. 90.
(обратно)305
Тилландер-Гуденйельм У. Драгоценности Императорского Петербурга. С. 286.
(обратно)306
Риббинг М. Драгоценности & серебро. «В.А. Болин» – 200 лет. СПб.; Москва; Стокгольм, 1996. С. 9. (Далее – Риббинг.)
(обратно)307
Скурлов, Болины. С. 216.
(обратно)308
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 78. Л. 3; Фаберже Т.Ф., Скурлов В.В. Фаберже и придворные ювелиры России // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 222–223.
(обратно)309
Поставщики Высочайшего двора. С. 68; Риббинг. С. 32.
(обратно)310
Скурлов – Смородинова. С. 54, 81.
(обратно)311
Кюстин, Россия в 1839 году. T. 1. С. 186–187.
(обратно)312
Алмазный фонд СССР. Вып. 1. С. 34. № 9. Табл. XI, фот. 16; Проданные сокровища России: история распродажи национальных художественных сокровищ, конфискованных у царской фамилии, церкви, частных собственников, а также изъятых из музейных собраний СССР в 1918–1937 годах / Проект: Николас Ильин, Наталья Семенова. М., 2000. С. 259.
(обратно)313
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025 (1026), №№ 284–286, 289, 300, 308, 329, 331, 625, 626, 627, 628, 629, 630; Д. 1027. Л. 22. № 224. Кузнецова Л.К. О жемчужной диадеме, исполненной в 1841 году Карлом Эдуардом Болином // Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга: краткое содержание докладов. СПб, 1998. С. 53–56; Кузнецова Л.К. О жемчужной диадеме, исполненной Карлом Эдуардом Болином в декабре 1841 года // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: материалы III научной конференции 25–27 ноября 1997. Государственная Третьяковская галерея. М., 1998. С. 155–164.
(обратно)314
Алмазный фонд СССР. Вып. 1. С. 34. № 10. Табл. XII, фот. 17; Проданные сокровища России. С. 260.
(обратно)315
Искусство Картье. Французское ювелирное искусство с 1847 по 1960 гг.: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Париж, 1992. С. 39, 111. № 28, илл. 14 на с. 39.
(обратно)316
Twining, Р. 550, 556, S 117, Plate 196а.
(обратно)317
Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации. М., 1991. С. 179. Рис. 102.
(обратно)318
Гапанюк Е. Искусство ювелиров Алмазного фонда СССР. М., 1991. С. 62, 63 (илл); Кузнецова Л.К. Прототипы некоторых работ ювелиров Алмазного фонда СССР // Пунинские чтения-2000: материалы Международной научной конференции: доклады и сообщения. СПб., 2000. С. 167.
(обратно)319
Риббинг. С.36.
(обратно)320
Риббинг. С. 34.
(обратно)321
Там же. С. 36, 12 (портрет Карла-Эдуарда Болина, написанный в 1830-х годах неизвестным художником и находящийся в собрании Государственного Эрмитажа).
(обратно)322
Скурлов-Смородинова. С. 52.
(обратно)323
Риббинг. С. 40.
(обратно)324
Завадская А.А. Сюрпризы от Деда Мороза // Ювелирный мир, 1997. № 6. С. 75.
(обратно)325
Кузнецова Л.К. Создание Карлом Эдуардом Болином в декабре 1852 года бриллиантового фермуара «в виде подков» и судьба исполненного Леопольдом Пфистерером алмазного убора Екатерины II // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов 8-го коллоквиума эрмитажного семинара. СПб., 2001. С. 153–157; Кузнецова Л.К. О фермуаре, исполненном Карлом Эдуардом Болином в декабре 1852 года // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: материалы IV научной конференции, 24–26 ноября 1998, Москва, ГТГ. М., 2000. С. 241–247.
(обратно)326
Кузнецова Л.К. Создание Карлом Эдуардом Болином… С. 155.
(обратно)327
Алмазный фонд СССР. Вып. 1. С. 38. № 34. Табл. XXII, фот. 31.
(обратно)328
Риббинг. С. 50.
(обратно)329
Риббинг. С. 46.
(обратно)330
Там же. С. 229–230.
(обратно)331
Риббинг. С. 72–92.
(обратно)332
Бройтман, Краснова. Большая Морская. С. 15–16.
(обратно)333
Риббинг. С. 52.
(обратно)334
Скурлов – Смородинова. С. 81.
(обратно)335
Риббинг. С. 112.
(обратно)336
Иллюстрированное описание Всероссийской Мануфактурной выставки 1870 г. СПб., 1870. С. 67, №№ 17–18.
(обратно)337
Риббинг. С. 64.
(обратно)338
Там же. С. 66.
(обратно)339
Скурлов – Смородинова. С. 54; Solodkoff. S. 165, 209, f. 241.
(обратно)340
Янгфельд, Бенгт, Нобель, Лидваль и другие // Ленинградская панорама. 1991, № 3, март. С. 19.
(обратно)341
Столица и усадьба. 1914. № 5.С. 9-11.
(обратно)342
Риббинг. С. 54.
(обратно)343
Там же. С. 70.
(обратно)344
Мунтян Т. Фирма семьи Болин и её место в русской ювелирной промышленности XIX – начала XX в. // Риббинг М. Драгоценности & серебро. С. 213; Мунтян Т. Фаберже. Великие ювелиры России: сокровища Оружейной палаты. М., 2000. С. 31–32. (Далее – Мунтян, Фаберже.)
(обратно)345
Риббинг. С. 52.
(обратно)346
Там же. С. 228–229.
(обратно)347
Скурлов, Болины. С. 221.
(обратно)348
Скурлов – Смородинова. С. 94.
(обратно)349
Риббинг. С. 69, 70, 228–229.
(обратно)350
Cокровища Алмазного фонда СССР. Вып. 3. С. 44. Колье – № 139В, табл. LXXI, фот. 161; диадема – № 139С, табл. LXXII, фот. 162; пластрон – № 139А, табл. LXX, фот. 160.
(обратно)351
Государственный музей-заповедник «Царское Село», инв. № ЕД-635-Х, холст, масло, 268×135 см, слева внизу подпись: «Н. Бодаревский. 1907. Царское Село» // Николай и Александра. Двор последних русских императоров. Конец XIX – начало XX веков: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 1994. С. 23 (илл.), 274, № 6.
(обратно)352
Боханов А. Судьба императрицы. 2-е изд. М., 2005. С. 217.
(обратно)353
Половцов, А. Дневник государственного секретаря. В 2 т. М., 2005. Т. 2 (1887–1892). С. 378–380, записи от 25, 28, 30 и 31 марта, 1 апреля 1891 г.
(обратно)354
Мосолов. С. 200.
(обратно)355
Риббинг. С. 43 (илл.), шмуцтитул и обложка; Гришкина С. Роман с диадемой // Антикварное обозрение. 2004. № 1–2 (10–11). С. 74–75.
(обратно)356
Уайльд О. Идеальный муж // Женщина, не стоящая внимания: пьесы. СПб., 2008. С. 285–287.
(обратно)357
Юферов. С. 26.
(обратно)358
Риббинг. С. 84.
(обратно)359
Юферов. С. 26–27.
(обратно)360
Витязева В. Каменный остров: историко-архитектурный очерк XVIII–XXI вв. м.; СПб., 2007. С. 171, 263, 242, 248–250, 311.
(обратно)361
Скурлов – Смородинова. С. 73, илл. 28; Риббинг. С. 94, 8 (илл.)
(обратно)362
Риббинг. С. 70.
(обратно)363
Скурлов, Болины. С. 217; Риббинг. С. 130, 136, 70.
(обратно)364
Риббинг. С. 100, 102, 140, 152.
(обратно)365
Алфавит. С. 64; Bäcksbacka. S. 423.
(обратно)366
Скурлов – Смородинова. С. 80–81.
(обратно)367
Скурлов В.В. Придворные ювелиры Болины (Далее – Скурлов, Болины.) // Фаберже Т.Ф., Горыня Л.С., Скурлов В.В. Фаберже и петербургские ювелиры: сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского ювелирного искусства. СПб., 1997. С. 215–216. (Далее – Фаберже и петербургские ювелиры.)
(обратно)368
Завещание императрицы Марии Феодоровны 1-го ноября 1826 года // Русская старина, 1882, т. 1. С. 114–115 (ст. IX), 93–94 (ст. 9).
(обратно)369
Алмазный фонд (СССР). Вып. 1. С. 34, № 9, табл. XI, фот. 16.
(обратно)370
Из писем К.Я. Булгакова к брату… // Русский Архив, 1904. Кн. 1. С. 555–587.
(обратно)371
Скурлов, Болины. С. 216–217; Витязева В. Каменный остров: историко-архитектурный очерк XVIII–XXI вв. М.; СПб., 2007. С. 248–249.
(обратно)372
Чижова И. Давно замолкшие слова: женщины России середины и второй половины XIX века. М.; СПб., 2005. С. 236–240. (Далее – Чижова, Давно замолкшие слова.)
(обратно)373
Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 1838–1839 / под ред. А.Г. Захаровой, С.В. Мироненко. М., 2008. С. 332–333 (письмо Николая I от 23-го/7-го февраля 1839 г.).
(обратно)374
Кюстин, А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной и И. Стаф. В 2 т. М., 1996. С. 165–167 (письмо одиннадцатое).
(обратно)375
Письмо № 499 Екатерины II Г.А. Потёмкину, написанное до 10 июня 1777 года // Екатерина II и ГА. Потёмкин: личная переписка 1769–1791 / Под ред. В.С. Лопатина. М., 1997. С. 115.
(обратно)376
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 59.
(обратно)377
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 75; Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 24.
(обратно)378
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 73.
(обратно)379
Там же. Оп. 8. Д. 103 (само дело выбыло). С. 178.
(обратно)380
Там же. Д. 448.
(обратно)381
Яковлева, Воспоминания бывшей камерюнгферы. С. 395–396.
(обратно)382
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106, лл.4-5об.
(обратно)383
Пушкарёв, Николаевский Петербург. С. 584.
(обратно)384
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 3.
(обратно)385
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Л. 106. Л. 3. Людвиг-Генрих Брейтфус: Алфавит. С. 9) Bäcksbacka. S. 423.
(обратно)386
Поставщики Высочайшего Двора. С. 69.
(обратно)387
Скурлов – Смородинова. С. 81–82.
(обратно)388
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 1.
(обратно)389
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 53 (примечание 84), 57 («Санкт-Петербургские ведомости» от 22 июля 1796 года).
(обратно)390
Сон юности. С. 232.
(обратно)391
Митчелл Р. С. Названия минералов. Что они означают? М., 1982. С. 137.
(обратно)392
Русский биографический словарь. Т. (Ибак-Ключарев). СПб, 1897. С. 612.
(обратно)393
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 6-6 об.
(обратно)394
Там же. Л. 7.
(обратно)395
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 8-8 об.
(обратно)396
Там же. Л. 9-10.
(обратно)397
Там же. Л. 12–13.
(обратно)398
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 323.
(обратно)399
Боханов А. Судьба императрицы. 2-е изд. М., 2005. С. 31.
(обратно)400
Сон юности. С. 266.
(обратно)401
Там же. С. 266.
(обратно)402
Кузнецова Л.К. Табакерка цесаревича Александра Николаевича // Немцы в государственности России. СПб., 2004. С. 41–47; Кузнецова Л.К. Табакерки Фридриха II Великого – знаки берлинских контактов и вояжей престолонаследников // Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники: материалы XIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2007. С. 316–318.
(обратно)403
Сон юности. С. 269.
(обратно)404
Там же. С. 271–272.
(обратно)405
Там же. С. 274.
(обратно)406
Сон юности. С. 278.
(обратно)407
РГИА. Ф. 468. Он. 43. Д. 1025, № 28.
(обратно)408
Сон юности. С. 279.
(обратно)409
Яковлева, Воспоминания бывшей камер-юнгферы… С. 294–295.
(обратно)410
Из альбомов императрицы Александры Федоровны. С. 144.
(обратно)411
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 282; Д. 1027, № 213 (282).
(обратно)412
Юферов. С. 27.
(обратно)413
АФ-3. С. 36, № 99, табл. LVI, фот. 115; Проданные сокровища России. С. 269. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)414
Сон юности. С. 284.
(обратно)415
Русский биографический словарь, т. II (Алексинский – Бестужев-Рюмин). СПб., 1900. С. 528, 530.
(обратно)416
Сон юности. С. 310.
(обратно)417
Там же. С. 315–316.
(обратно)418
Чижова. Давно замолкшие слова. С. 171–172.
(обратно)419
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 334.
(обратно)420
Сон юности. С. 233–234.
(обратно)421
Тютчева, При дворе двух императоров. С. 45, запись от 18 января 1853 года; Федорченко, Выдающиеся сановники. T. 1. С. 28–29, 570.
(обратно)422
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 311.
(обратно)423
РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 289,294.
(обратно)424
Там же. Д. 322,327.
(обратно)425
Там же. Д. 411, 1850 год.
(обратно)426
АФ-2. С. 24, № 69 (по словам А. Фаберже, приобретено у Александры Иосифовны, жены великого князя Константина Николаевича), табл. XXXIX, фот. 69; Проданные сокровища России. С. 263. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)427
Дорожные письма Семена Алексеевича Юрьевича во время путешествия по России с покойным государем Александром Николаевичем в 1837 г. (Письмо 14 из Тобольска, 4 июня 1/2 1-го утра) // Русский архив, 1887. T. 1, кн. 4. С. 462.
(обратно)428
Вещи с уральскими изумрудами: АФ-2. С. 18, № 43, табл. XXIX, фот. 43. (Проданные сокровища России. С. 262, 274): АФ-2. С. 25, № 73, табл. XLIII, фот. 73. (Проданные сокровища России. С. 264.)
(обратно)429
Государственный Эрмитаж. См.: Мавродина Н.М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков: каталог коллекции. Государственный Эрмитаж. СПб., 2007. С. 266–269, кат. № Е 99, илл.
(обратно)430
Текст подглавки, включая цитаты, изложен по: Семенов В.Б., Шакинко И.М. Уральские самоцветы: Из истории камнерезного и гранильного дела на Урале. Свердловск, 1982. С. 59–78.
(обратно)431
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 279.
(обратно)432
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 281; Д. 1027, № 212 (281).
(обратно)433
Там же. Д. 1025, № 280; Д. 1027, № 211 (280).
(обратно)434
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1025, № 283; Д. 1027, № 214 (283).
(обратно)435
АФ-4, С. 16, № 149, табл. 78, фот. 174.
(обратно)436
Яковлева, Воспоминания бывшей камерюнгферы… С. 595–596.
(обратно)437
Там же. С. 595–596.
(обратно)438
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 17–23, 25-30 об.
(обратно)439
Скурлов-Смородинова. С. 53–54.
(обратно)440
РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 106. Л. 31–32; Алфавит. С. 28–29; Bäcksbacka. S. 413.
(обратно)441
Там же. Л. 21 об.-22.
(обратно)442
Денисова А., Черноусое А. Швейцарцы-потомки с петербургским акцентом // Вечерний Петербург, 15 июня 2002 года. С. 5.
(обратно)443
Зефтиген Э.В. Представители семьи Зефтиген в Петербурге // Швейцарцы в Петербурге: сборник статей. СПб., 2002. С. 600–603. (Далее – Представители семьи Зефтиген.)
(обратно)444
Представители семьи Зефтиген… С. 600–606; Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 26–27, примечание 12.
(обратно)445
Представители семьи Зефтиген… С. 600, илл. 66–67. Оба портрета находятся во владении Э.В. Зефтигена.
(обратно)446
Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь. М., 1972. Т. 2 (Бойченко – Геонджиан). С. 422; Власов В.Г. Стили в искусстве. Т. 1–3. Т. 2. Словарь имен А – Л. СПб., 1996. С. 232.
(обратно)447
Представители семьи Зефтиген… С. 601; Лопато М.Н. Швейцарские ювелиры в Петербурге // Швейцарцы в Петербурге: сборник статей. СПб., 2002. С. 229. (Далее – Лопато, Швейцарские ювелиры.)
(обратно)448
Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 25 (ссылка на: РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 623); Секретев К.М. К вопросу о датировке Малой императорской короны и двух бриллиантовых цепей ордена Св. Андрея Первозванного из собрания Алмазного фонда // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: материалы VIII научной конференции 25–27 ноября 2002, Москва, ГТГ. М., 2004. С. 205–207.
(обратно)449
Секретев, К вопросу о датировке Малой императорской короны… С. 205–206.
(обратно)450
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1027, № 637, 636; Секретев, К вопросу о датировке Малой императорской короны… С. 205–206.
(обратно)451
Там же. Л. 30 об.
(обратно)452
Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 35, № 6, табл. X, фот. 12; вып. 4. С. 26, № 211.
(обратно)453
Алмазный фонд России, инв. № АФ-60 (золото, серебро, алмазы; длина 156,5 см). Алмазный фонд СССР, вып. 4. С. 26, № 211; Секретев, К вопросу о датировке Малой императорской короны… С. 205–206.
(обратно)454
Алмазный фонд России, инв. № АФ-38 (золото, серебро, алмазы; длина 148,0 см). Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 35, № 6, табл. X, фот. 12; Сокровищница АФ-1975. С. 32, № 88; Секретев, К вопросу о датировке Малой императорской короны… С. 205–206, 207 (илл.).
(обратно)455
РГИА. Ф. 468. On. 1. Д. 1310. Л. 10-11 об.: Отношение Министра Императорского Двора графа Владимира Фёдоровича Адлерберга к графу Льву Алексеевичу Перовскому от 30 июня 1856 года за № 987.
(обратно)456
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1027, № 368.
(обратно)457
Тютчева, Анна. Воспоминания // Тайны царского двора (из записок фрейлин). М., 1997. С. 258–260.
(обратно)458
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1027, № 4 (Опись 1865 года).
(обратно)459
Тютчева. При дворе двух императоров. С. 55, запись от 25 октября 1853 года.
(обратно)460
РГИА. Ф. 469. Оп. 8. Д. 2016.
(обратно)461
РГИА. Ф. 468. Оп. 8. Д. 2067 (1859 г.).
(обратно)462
Лопато, Швейцарские ювелиры… С. 228, примечание 13 на с.230 (ссылка на: РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 13, 19). Гафифуллин утверждает, что Адольф-Леопольд Зефтиген возведён в потомственное почётное гражданство 15 декабря 1864 года (Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 26–27, примечание 12).
(обратно)463
Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 26–27 (ссылка на: РГИА. Ф. 472. Оп. 23 (253/1269). Д. 9. Л. 146,148).
(обратно)464
Лопато, Швейцарские ювелиры… С. 229.
(обратно)465
Представители семьи Зефтиген… илл. на с. 602. Акварель, до сих пор хранящаяся у потомков ювелира, подписана: «Y.A. Saefftigen. W. Hau».
(обратно)466
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 144.
(обратно)467
Представители семьи Зефтиген… С. 601. Гафифуллин указал, что Леопольд Карлович Зефтиген скончался 16 июня 1889 года (Гафифуллин, Корона русских императриц. С. 27, примечание 12).
(обратно)468
Алмазный фонд России, инв. № АФ-67. Сокровища АФ-1975. С. 35, № 99, илл. 46 (Вес сапфира = 258,15 кар.).
(обратно)469
Алмазный фонд СССР, вып. 3. С. 42–43, аннотация к № 134, табл. LXVII, фот. 155; Горева, Полынина. Алмазная сокровищница России. С. 61–62, 80 (илл.). Уточнённый вес сапфира = 260,37 карат; Буранов Ю. Камень российских императриц // Антикватория, М., 2003, № 5, ноябрь-декабрь (Искушение временем). С.81; Горева-2006. С. 63.
(обратно)470
Зимин, Царские деньги. С. 268, 648 (примечание 427: ссылка на: Великий князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. Кн. 2.1877–1880. М., 2007. С. 249).
(обратно)471
Ферсман А.Е. Семь исторических камней Алмазного Фонда // Алмазный фонд СССР, вып. 4. С. 9. Досадно, что эту бриллиантовую брошь-фермуар с сапфиром В.В. Никитин ошибочно указал в числе проданных (Драгоценности Российской Короны // Проданные сокровища России, 2000. С. 273, № 134, иллюстрация первая сверху справа).
(обратно)472
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 22, № 58, табл. XXXVI, фот. 58; Юферов. Вес сапфира =192 старых карата. С. 273, № 58, иллюстрация вторая сверху справа.
(обратно)473
Сон юности. С. 298.
(обратно)474
Тютчева, При дворе двух императоров. С. 19–20, 157.
(обратно)475
Русские императоры, немецкие принцессы: династические связи, человеческие судьбы. М., 2002. С. 308.
(обратно)476
Vever Н. La Bijouterie française au XIX-e siècle (1800–1900). Vol. I–III. Paris, 1908, V.II. La Second Empire. P. 189–190.
(обратно)477
Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 104–106. (Далее – Пажитнов.)
(обратно)478
Похлебкин В.В. Кушать подано! М., 1993. С. 71, 178, 350.
(обратно)479
Пажитнов. С. 108–110.
(обратно)480
Пажитнов. С. 188.
(обратно)481
Прохоренко Т.Е. Музей ЦУТР барона А.Л. Штиглица. История создания и формирования коллекции // Сборник материалов Всероссийской юбилейной конференции «Учебный художественный музей и современный художественный процесс»: К 50-летию воссоздания Ленинградского художественно-промышленного училища и его музея (б. Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица). СПб., 1997. С. 16.
(обратно)482
Предметы роскоши на Всероссийской выставке в Москве. (X. Z. Предметы роскоши на Всероссийской выставке в Москве. С.-Петербург, 1883) // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 191, 193.
(обратно)483
Щербина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица // Сборник материалов Всероссийской юбилейной конференции «Учебный художественный музей и современный художественный процесс». СПб., 1997. С. 27–31.
(обратно)484
Пажитнов. С. 158–159.
(обратно)485
Завадская А. Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян // Ювелирный мир, 1998, № 5–6 (11–12). С. 32–34. (Далее – Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян.)
(обратно)486
Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 32–33; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 146–147.
(обратно)487
Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 33.
(обратно)488
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-5393 (серебро, позолота, эмаль; высота 15 см; диаметр 19 см). Историзм в России. Стиль и эпоха… С. 241, № 31; Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 33–34, илл.
(обратно)489
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-5393 (серебро, позолота, эмаль; высота 15 см; диаметр 19 см). Историзм в России. Стиль и эпоха… С. 241, № 31; Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 33–34, илл.
(обратно)490
Прошёл на аукционе Sothebys в 1982 году. (Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 33.)
(обратно)491
Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 34.
(обратно)492
Там же.
(обратно)493
Там же.
(обратно)494
Воробьёв Г.А. Епископ Сейнынский, граф Константин Лубенский // Русская старина, 1906, т. III, август. С. 338–339.
(обратно)495
Юферов. С. 23; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 147.
(обратно)496
Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 33.
(обратно)497
Скурлов, Список ювелиров… С. 229; Поставщики Высочайшего двора С. 13.
(обратно)498
Завадская, Петербургский ювелир Жан-Батист Вальян. С. 34; Завадская А.А. Ж.-Б. Вальян – петербургский ювелир второй половины XIX века // Конференция Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, посвящённая памяти Татьяны Михайловны Соколовой: тезисы докладов. СПб., 1995. С. 40–42.
(обратно)499
Скурлов – Смородинова. С. 90; Скурлов, Список ювелиров… С. 234.
(обратно)500
Бройтман А. Гороховая улица. М.; СПб., 2013. С. 168. (Далее – Бройтман, Гороховая.)
(обратно)501
Поставщики Высочайшего Двора. С. 40, 50, 52.
(обратно)502
Гулишамбаров С.И. Характеристика производства изделий из драгоценных металлов и камней в России // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 201.
(обратно)503
Мунтян, Фаберже… С. 196–197.
(обратно)504
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 145–146.
(обратно)505
Скурлов, Список ювелиров… С. 234.
(обратно)506
Скурлов В. Уникальная табакерка // Антикварное обозрение, 2005, № 1 (14), 3-я страница обложки, илл.
(обратно)507
ГМЗ «Московский Кремль», инв. № МР-656 (золото, бриллиант, сапфир; 8,5×5,0 см). Мунтян, Фаберже… С. 127, № 136, илл.
(обратно)508
ГМЗ «Московский Кремль», инв. № МР-12951 (золото, алмазы-«розы», сапфир; 16,7×4,5 см). Мунтян Т. Символ исчезнувшей империи / Ювелирный мир, 1998, № 2 (8). С. 26–29, илл.; Мунтян, Фаберже… С. 107, № 99, илл.
(обратно)509
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 145, 269, илл. 129 (диадема), илл. 130 (брошь). Рисунки находятся в собрании Государственного Эрмитажа.
(обратно)510
Кёхли. Бриллиантовый гарнитур с сапфирами (золото, серебро, бриллианты, сапфиры сиамские или бирманские): А. Колье (длина 52,5; ширина по середине 7,5 см); В. Диадема (окружность внизу 38; высота с ободом 10 см); С. Брошь (12,7×8,2 см); Д. Браслет (длина 18,5; ширина 2,2 см). Сокровища Алмазного фонда, вып. 3. С. 41–42, № 140 A-Д., табл. LXXIII–LXXV, фот. 163–165 (фотографии браслета нет); Проданные сокровища России. С. 260, 263, 270.
(обратно)511
Скурлов, Список ювелиров… С. 230; Мунтян, Фаберже… С. 195; Поставщики Высочайшего двора С. 15.
(обратно)512
Скурлов – Смородинова. С. 85–86; Скурлов, Список ювелиров… //С. 230; Мунтян, Фаберже… С. 195.
(обратно)513
Алмазный фонд СССР, вып. 1, табл. I, фот. 1; Проданные сокровища России. С. 26–27, илл., однако на фотографиях, датированных 1923 годом и представленных на с. 30–31, 32–33, 34–35 и 40, вторая Малая корона отсутствует.
(обратно)514
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 153–154.
(обратно)515
Скурлов – Смородинова. С. 80; Скурлов, Список ювелиров… С. 227; Мунтян, Фаберже… С. 193; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 147.
(обратно)516
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», инв. № МР-655 (золото, алмазы, альмандин, эмаль по гильошировке; 8,5x5,5 см). Мунтян, Фаберже… С. 127, № 135, илл.
(обратно)517
Solodkoff. S. 173.
(обратно)518
Фаберже и петербургские ювелиры. Фотографии на с. 163 и 164 (виды витрины фирмы К. Гана).
(обратно)519
Тилландер Г. Ювелирная фирма А. Тилландер // Блестящая эпоха Фаберже: каталог выставки в Екатерининском дворце Царского Села. СПб., 1992. С. 30–31. (Далее – Тилландер, Ювелирная фирма А. Тилландер.)
(обратно)520
Скурлов, Список ювелиров…!! Блестящая эпоха Фаберже. С. 237.
(обратно)521
Тилландер, Ювелирная фирма А. Тилландер. С. 32.
(обратно)522
Тилландер, Ювелирная фирма А. Тилландер. С. 31–32.
(обратно)523
Bäcksbacka. S. 247; Tillander Н. A short history of the firm of Tillander // Carl Fabergé and his contemporaries: Catalogue of the exhibition. Helsinki: The Museum of Applied Arts, 16. March – 8. April 1980. P. 69–72.
(обратно)524
Bäcksbacka. S. 64; Риббинг. С. 52; Скурлов, Список ювелиров… С. 228–229; Tillander-Godenhielm U. Smycken fran det keyserliga St Petersburg. Kaivopuiston Kirjapaino, 1996. S. 88–89; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 143–144.
(обратно)525
Tillander-Godenhielm, Smycken… S. 90, 111. 84–86.
(обратно)526
Сидорова А.Н. Два альбома императрицы // Плантомания. Российский вариант: Материалы XII Царскосельской научной конференции. СПб., 2006. С. 375.
(обратно)527
Поставщики Высочайшего Двора. С. 11.
(обратно)528
Лопато М.Н. Ювелиры царского двора // Блестящая эпоха Фаберже. С. 37.
(обратно)529
Tillander-Godenhielm, Smycken… S. 89, 92, 111.88.
(обратно)530
Лопато, Ювелиры царского двора. С. 37.
(обратно)531
Полторак И. Высочайшие подарки // Антикварное обозрение, 2002, № 3. С. 33.
(обратно)532
Tillander-Godenhielm, Smycken… S. 90–91.
(обратно)533
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 147, илл. 134–137.
(обратно)534
Tillander-Godenhielm, Smycken… S. 160, 161, 111. 167.
(обратно)535
Там же. S. 138, 111. 131.
(обратно)536
Там же. S.91, 93.
(обратно)537
Скурлов – Смородинова. С. 82–83; Скурлов, Список ювелиров… С. 228–229.
(обратно)538
Гонтарь С.М. Тенденции развития ювелирного дела в России последней трети XIX – начала XX века // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 168, илл.
(обратно)539
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 26.
(обратно)540
Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век / Пер. с англ. Н.Г. и Ю.Н. Беспятых. СПб., 2005. С. 29–30.
(обратно)541
Там же. С. 31.
(обратно)542
Граф С. Шереметев. Из бумаг графа Николая Петровича Шереметева // Русский архив, 1896. Т. 2. С. 505.
(обратно)543
Л.А. Завадская считала, что В. Плинке присоединился к К. Никольсу в 1804 году (Завадская А.А. Английский магазин в Петербурге и серебряные великокняжеские сервизы 1830-1840-х годов // Россия-Англия. Страницы диалога: краткое содержание докладов IV Царскосельской научной конференции. СПб., 1999. С. 142–143.)
(обратно)544
Баженова О.К. История одного подарка: легенда и действительность. Перламутровый станок для бумаг из ГМЗ «Павловск» // Россия – Германия. Пространство общения: Материалы X Царскосельской конференции. СПб., 2004. С. 45 (ссылка на: Granville A. St. Petersburg. Ajournai of travels to and from that capital. London, 1829, Vol. 2. P. 418).
(обратно)545
Баженова, История одного подарка… С. 46 (ссылка на: Северная пчела, 1830, № 79. С. 4).
(обратно)546
Пушкарёв. Николаевский Петербург. С. 622.
(обратно)547
Баженова, История одного подарка… С. 46 (ссылка на: Гордин А.М Гордин М.А. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. СПб, 1995. С. 145).
(обратно)548
Баженова, История одного подарка… С. 46 (ссылка на: Granville, Ajournai… P. 419).
(обратно)549
Из писем Константина Яковлевича Булгакова к брату его Александру Яковлевичу // Русский Архив, 1903, кн. 1. С. 212 (письмо от 17 июня 1822 года из Петербурга).
(обратно)550
Фёлькерзам, Описи серебра… T. 1. С. 86.
(обратно)551
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 27.
(обратно)552
Лопато М.Н. Немецкое художественное серебро в Эрмитаже: каталог. СПб., 2002. С. 99–100, №№ АГ-189 и АГ-189/1 (илл.).
(обратно)553
Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб., 1992. С. 122.
(обратно)554
Лопато, Немецкое художественное серебро… С. 99.
(обратно)555
Фёлькерзам, Описи серебра… T. II. С. 259.
(обратно)556
Завадская, Английский магазин… С. 143.
(обратно)557
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 26.
(обратно)558
Федорченко В.И. Двор российских императоров. Красноярск; М., 2004. С. 50.
(обратно)559
Сологуб Б.А., граф. Воспоминания. С. 553–553.
(обратно)560
Из Записок барона (затем графа) М.А. Корфа // Русская Старина, 1900. Т. 102, апрель-июнь. С. 30–31.
(обратно)561
К истории русско-французской дружбы // Русская Старина, 1891. Т. 72. С. 696, примечание.
(обратно)562
Алфавит. С. 4; Bäcksbacka. S. 390.
(обратно)563
Алфавит. С. 4. Bäcksbacka. S. 407; Постникова-Лосева М.М. и др. Русское ювелирное искусство. Его центры и мастера. XVI–XIX вв. М., 1974. С. 278, клейма 1353,1354.
(обратно)564
Bäcksbacka. S. 438,448; Бройтман, Гороховая улица. С. 91–93,103.
(обратно)565
Купер. С. 77, 78.
(обратно)566
Купер Дж. Энциклопедия символов. Серия «Символы». Книга IV. Москва: «Золотой Век», 1995. С. 77, 78; Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. Челябинск, 2000. С. 44–45, 78.
(обратно)567
Федорченко В. Российская империя в лицах: Энциклопедия биографий. Выдающиеся сановники. В 2-х т. Красноярск; М., 2001, T. 1. С. 67, 134–135.
(обратно)568
Точка зрения автора не исключает того, что панагия была предназначена для архиерея Иннокентия Херсонского и Таврического (1800–1857), участника обороны Севастополя с первого до последнего дня, за участие в боевых действиях удостоенного ордена Св. Гергия IV степени. После окончания войны, во время объезда разрушенных городов и селений своей епархии, он тяжело заболел, вернулся в Одессу, где скончался 26 мая 1857 года. Таким образом, поездка в Петербург, где могло состояться торжественное награждение его памятной панагией «Божией Матери Смоленской» работы С.С. Арнда, не произошло, и она осталась в коронных драгоценностях Императорского Двора. Но возможен и иной вариант: панагия была передана архиерею Иннокентию, но по закону ни архиереи, ни монахи не имели своего имущества, и после его смерти она была возвращена в Министерство Императорского Двора, а затем причислена к коронным драгоценностям. – Прим. В. Витязевой.
(обратно)569
Купер. С. 78, 253; Николаев С.М. Камни. Мифы, легенды, суеверия. Новосибирск, 1995. С. 327.
(обратно)570
Кузнецова, Ювелиры XIX века. С. 130–148.
(обратно)571
Гаврилова А.М. Державные кавалеры. Иностранные ордена российских императоров: Каталог выставки в Музеях Московского Кремля. М., 2010. С. 87 (патент, подписанный Альфонсом XII), 88 (лицевая и оборотная стороны орденского знака), 89 (цепь ордена Золотого Руна).
(обратно)572
Завадская А.А. Английский магазин в Петербурге и серебряные великокняжеские сервизы 1830–1840-х годов // Россия – Англия. Страницы диалога: краткое содержание докладов V Царскосельской научной конференции. СПб., 1999. С. 143.
(обратно)573
Сычев И. Русские светильники эпохи классицизма. 1760–1830. СПб., 2003. С. 197. (Далее – Сычев.)
(обратно)574
Тилландер-Гуденйелм. Драгоценности Императорского Петербурга. С. 276 (примечание 97), 287.
(обратно)575
Завадская, Английский магазин… С. 143.
(обратно)576
Государственный Русский музей. См.: Завадская, Английский магазин… С. 143–144.
(обратно)577
Завадская, Английский магазин… С. 144; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 128.
(обратно)578
Там же. С. 143–144.
(обратно)579
Die Mitgift einer Zarentochter. Meisterwerke russischer Kunst des Historismus // Kunstgewerbemuseum Staatliche Museen zu Berlin; Museum Schlo Fasanerie, Eichenzell bei Fulda, 1997.
(обратно)580
Сычев. C. 196–197.
(обратно)581
Bäcksbacka. S. 183.
(обратно)582
Bäcksbacka. S. 164; Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского Петербурга. С. 287.
(обратно)583
Фёлькерзам, Описи серебра… T. 1. С. 86. Иоганн-Самуэль Арндт: Алфавит. С. 4, Bäcksbacka. S. 407; Андерс Лонг: Bäcksbacka. S. 192; Йонас Аувин: Bäcksbacka. S. 193; А. Тобинков: Bäcksbacka. S. 496; Плинке: Bäcksbacka. S. 91, 92.
(обратно)584
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 129–130.
(обратно)585
Завадская, Английский магазин… С. 144; Bäcksbacka. S. 171.
(обратно)586
Жемчужников М. Заметки и поправки. По поводу рассказа г-жи Соколовой «Император Николай I и васильковые дурачества» // Исторический вестник, 1912, январь. С. 431. (Далее – Жемчужников, Заметки и поправки…)
(обратно)587
Соколова А. Император Николай Первый и васильковые дурачества // Исторический вестник, 1910, январь. С. 105. (Далее – Соколова, Император Николай Первый…)
(обратно)588
Соколова, Император Николай Первый… С. 105.
(обратно)589
Ласкин С. Вокруг дуэли. СПб., 1993. С. 175.
(обратно)590
Штейн В.И. Иностранцы о России. Посольство герцога Мории в Россию // Исторический вестник, 1910. Т. 122, декабрь. С. 1145.
(обратно)591
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 89.
(обратно)592
Жемчужников, Заметки и поправки… С. 431–432.
(обратно)593
Соколова, Император Николай Первый… С. 107–108.
(обратно)594
Жемчужников, Заметки и поправки… С. 431–432.
(обратно)595
Козубский С. Любовная история времён Николая I. (Заметки и поправки) // Исторический вестник, 1910, июнь. С. 1124–1125.
(обратно)596
Ласкин С. Вокруг дуэли. СПб: Просвещение, 1993. С. 205.
(обратно)597
Врангель Н.Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. М., 2003. С. 28, 426 /Примечание 17/.
(обратно)598
Соколова А. Император Николай Первый и васильковые дурачества // Исторический вестник, 1910, январь. С. 104–107.
(обратно)599
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 90.
(обратно)600
Жемчужников, Заметки и поправки… С. 432.
(обратно)601
Штейн В.И. Иностранцы о России. Посольство герцога Морни в Россию // Исторический вестник, 1910. Т. 122, декабрь. С. 1145.
(обратно)602
Шереметев С.Д., граф. Воспоминание. Татьяна Васильева Шлыкова. 1773–1863 // Русский Архив, 1889. Кн. 3. С. 512.
(обратно)603
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 27.
(обратно)604
Завадская, Английский магазин… С. 144.
(обратно)605
Фаберже, Т.Ф., Скурлов В.В. История фирмы Фаберже. СПб., 1993. С. 87.
(обратно)606
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 27.
(обратно)607
Шуйский. С. 311–313.
(обратно)608
Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск 1. СПб., 1869. С. 19, 22–23.
(обратно)609
Шуйский. С. 313.
(обратно)610
Завадская А.А. Приданое великого князя Александра Александровича: История создания // Судьбы музейных коллекций: материалы VI Царскосельской научной конференции. СПб., 2000. С. 153–155. (Далее – Завадская, Приданое…)
(обратно)611
Боханов А. Судьба императрицы. 2-е издание. М., 2005. С. 56–57.
(обратно)612
Всемирная иллюстрация, 1870, № 70. С. 15.
(обратно)613
История сервизов взята из: Завадская, Приданое…. С. 153–158.
(обратно)614
Тилландер-Гуденйелм, Драгоценности Императорского двора. С. 287.
(обратно)615
Русская Старина. 1892. Т. 76. С. 453
(обратно)616
Зотов В.Р. Последний год 2-й республики (По запискам Вьель-Кастеля) // Исторический вестник, 1883. T. II (XII). С. 169.
(обратно)617
Еще из воспоминаний Н.И. Шенига // Русский архив, 1881, т. 1, кн. 1. С. 238–241 (XIX. Любопытное дело Чивиниса и Зосимы).
(обратно)618
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. Очерки. М., 1990. С. 226–227.
(обратно)619
Итальянско-русский словарь. 55 000 слов. Сост. Н.А. Скворцова, Б.Н. Майзель. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. С. 592.
(обратно)620
Владимирский Б.С. Камни. Тайны и таинства. Харьков, 1995. С. 179.
(обратно)621
Владимирский Б.С. Камни. Тайны и таинства. Харьков, 1995. С. 179) «Регент» – название крупной яйцевидной жемчужины весом 337 гран, принадлежавшей ранее французскому королевскому дому». (Смит Г. Драгоценные камни. М., 1984. С. 490) В подписи к иллюстрации этого портрета Улаэ. Тилландер-Гуденйелм указала, что «княгиня изображена со своей знаменитой жемчужиной La Régente, свисающей с сотуара». (Тилландер-Гуденйелм, Улла. Драгоценности Императорского Петербурга. СПб., 2013. С. 192 (илл.), 193 /Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова/).
(обратно)622
Пыляев М.М. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождение и употребление. СПб., 1888. С. 241–242; Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации. М., 1991. С. 178, 180; Низовский А.Ю. 100 великих реликвий и сокровищ. М., 2005. С. 393–394.
(обратно)623
Папи С. Сокровища дома Романовых. М., 2011. С. 144–152.
(обратно)624
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 72.
(обратно)625
Габсбург фон Г. Дом Фаберже в контексте исторического времени // Фаберже: придворный ювелир: каталог выставки. Вашингтон, 1993. С. 38. (Далее – Габсбург, Дом Фаберже в контексте…)
(обратно)626
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 72.
(обратно)627
…лет тому назад. 22 октября // Вечерний Петербург, № 188 (23559), пятница, 19 октября 2007 г. С. 33.
(обратно)628
Скурлов – Смородинова. С. 95; Bäcksbacka. S. 59; Краткая история фирмы Фаберже в изложении Евгения Фаберже в письме Александру А. Фаберже 19 декабря 1947 года (Архив Татьяны Фаберже) // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 110.
(обратно)629
Скурлов, Список ювелиров…// Блестящая эпоха Фаберже. С. 227, 229; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 146.
(обратно)630
Фаберже Т, Скурлов В. Фаберже – «министр ювелирного искусства»: из истории фирмы. СПб., Carl Faberge AWARD Imperial Collection by Tatiana Faberge, 2006, илл. на с. 56 (далее – Фаберже – «министр ювелирного искусства»); Фаберже и петербургские ювелиры. С. 48.
(обратно)631
Добровольская М. Большой государственный герб Российской империи ювелирной работы // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников пятого коллоквиума-семинара в Государственном Эрмитаже. СПб., 1998. С. 31–32.
(обратно)632
Скурлов, Список ювелиров… С. 227, 229; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 146; Фаберже и петербургские ювелиры. С. 169, иллюстрация: реклама с видом магазина К. Бока.
(обратно)633
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 72; Скурлов, Список ювелиров… С. 238.
(обратно)634
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 58.
(обратно)635
Габсбург… Дом Фаберже в контексте… С. 38.
(обратно)636
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 54.
(обратно)637
Бирбаум Ф.П. История фирмы Фаберже. Камнерезное дело и ювелирное и золото-серебряное производство Фаберже / Фаберже и петербургские ювелиры. С. 5. (Далее – Бирбаум.)
(обратно)638
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-17759 (золото, аметисты, эмаль; футляр – дерево, кожа, бархат; диаметр браслета 6,0 см). Zarengold. 100 Kostbarkeiten aus der Eremitage St. Petersburg: Ausstellungskatalog. – Schmuckmuseum Pforzheim: Arnoldsche, 1995. S. 208, 209 (Abb.).
(обратно)639
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-10830 (золото, алмазы, эмаль; 8,7 × 2,3 см). Костюк-2000. С. 117, № 105, илл.
(обратно)640
Фаберже Т, Скурлов В. История фирмы Фаберже. СПб., 1993. С. 54 (Далее – История фирмы Фаберже-1993), Tillander-Gоdenhielm U. Personal and historical notes on Fabergé s Finnish workmasters and designers. // Carl Fabergé and his contemporaries: Catalogue of the exhibition. Helsinki: The Museum of Applied Arts, 16. March – 8. April 1980. P. 28; История фирмы «Карл Фаберже»: краткая справка Евгения Карловича Фаберже, написана 13 февраля 1937 года по запросу Г.Ч. Бейнбриджа // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 182. (Далее – Евгений Карлович Фаберже.)
(обратно)641
Лопато М.Н. Феномен Фаберже // Великий Фаберже. Искусство ювелиров придворной фирмы: Каталог выставки в Елагиноостровском дворце. Л., 1990. С. 17, 20.
(обратно)642
Лопато, Фаберже и царский двор… С. 54–55.
(обратно)643
Андреевский Е.К. Из воспоминаний о генерале-адъютанте Петре Семеновиче Ванновском // Исторический вестник, 1909. Т. 66, июнь. С. 878–879.
(обратно)644
Бирбаум. С. 6.
(обратно)645
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 54.
(обратно)646
Скурлов В.В. Примечания к Воспоминаниям Ф.П. Бирбаума // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 131, 137.
(обратно)647
Бирбаум. С. 5
(обратно)648
Алмазный фонд СССР. М., 1926. Вып. 4. С. 17, № 154, табл. LXXXI, фот. 179; Проданные сокровища России. С. 260.
(обратно)649
Яковлева Е. Тройницкий Сергей Николаевич (19.8.1882–1948) // Сотрудники Императорского Эрмитажа: биобиблиографический справочник. СПб., 2004. С. 148.
(обратно)650
Алмазный фонд СССР. Вып. 4. С. 17, № 153, табл. LXXXI, фот. 78; Проданные сокровища России. С. 270.
(обратно)651
Кузнецова Л.К. О медальонах работы Ивара-Венфельта Бука // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы VI научной конференции-2000. М., 2002. С. 222–223, 224, прим. 9. С. 226, илл. 3.
(обратно)652
РГИА. Ф. 468. Оп. 8. Д. 143.
(обратно)653
Габсбург фон, Г. Фаберже и Всемирная выставка в Париже 1900 г. // Фаберже: придворный ювелир… С. 117–118. (Далее – Габсбург, Фаберже и всемирная выставка…)
(обратно)654
Бирбаум. С. 6.
(обратно)655
Галерея драгоценностей Эрмитажа: Каталог выставки в Музеях Московского Кремля. М., 2006. С. 152–153, № 174; Сокровища Алмазного фонда СССР: каталог выставки. М., 1975. С. 26, № 71.
(обратно)656
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-4745. Габсбург, Фаберже и Всемирная выставка…. С. 260, № 113; Костюк-2000. С. 120–121, № 110.
(обратно)657
Габсбург, Фаберже и Всемирная выставка… С. 121–123.
(обратно)658
Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 128, прим. 3.
(обратно)659
Лопато М. Фаберже и царский двор // Габсбург Г фон, Лопато М. Фаберже: придворный ювелир: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Вашингтон, 1993. С. 65. (Далее – Лопато, Фаберже и царский двор…)
(обратно)660
Bernard М. Exposition Internationale Artistique de Saint-Pétersbourg (1901–1902) // Revue de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie. Paris, 1902, № 22, février. P. 345–369.
(обратно)661
История фирмы Фаберже-1993. С. 44.
(обратно)662
Лопато, Фаберже и царский двор… С. 63.
(обратно)663
Евгений Карлович Фаберже. С. 172–174.
(обратно)664
Скурлов – Смородинова. С. 96.
(обратно)665
Новопольский П. В Осиновой Роще // Вечерний Ленинград, 8 декабря 1977 г. С. 3.
(обратно)666
Евгений Карлович Фаберже. С. 180–181.
(обратно)667
Меньшикова М.А. Сокровища древнего искусства Китая (из собрания Шанхайского музея) / Государственный Эрмитаж. СПб., 2007. С. 10–12.
(обратно)668
Бирбаум. С. 24.
(обратно)669
Белоусова Т. Шпионский роман Карла Фаберже // Совершенно секретно, август 2006, № 8 (207). С. 44–45.
(обратно)670
Евгений Карлович Фаберже. С. 184–187.
(обратно)671
Эрмитаж, который мы потеряли: Документы 1920–1930 годов // Н.М. Серапина. СПб, 2001. С. 105.
(обратно)672
Лопато, Фаберже и царский двор. С. 89–90, илл.7; Тилландер-Годенхилм У. (при участии М. Уини-Эллиса). Новое о мастерской Генрика Вигстрема // Фаберже: придворный ювелир. С. 84–103; Орлова К., Завадская А. Рисунки фирмы Фаберже в Государственном Эрмитаже // Фаберже: придворный ювелир. С. 132–133, 394–425, кат. №№ 302–354; Лопато М.Н. Альбом рисунков ювелирных изделий фирмы «К. Фаберже» // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. LXII. СПб., 2004. С. 27–32; Лопато М.Н. Фаберже и модерн // На рубеже веков… Искусство эпохи модерна. СПб., 2006. С. 89–97.
(обратно)673
Эрмитаж, который мы потеряли… С. 104.
(обратно)674
Докладная записка учёного секретаря М.Д. Философова о состоянии инвентаризации и учёта музейных предметов 1917 года в связи с деятельностью Комитета по реализации Госфондов, от 2 апреля 1929 г. // Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи 1928–1929: Архивные документы. СПб., 2006. С. 322–323, 500.
(обратно)675
Гонтарь С.М. Франц Бирбаум. Портрет ювелира в эпоху русского авангарда // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 473. (Далее – Гонтарь, Франц Бирбаум…)
(обратно)676
Скурлов В.В. Николай Карлович Фаберже (1884–1939). К 120-летию со дня рождения // Антикварное обозрение, 2004, № 3 (12). С. 34–35; Честных С. Продукция фирмы «Петербургская коллекция Тео Фаберже» // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников 14-го коллоквиума-семинара в Государственном Эрмитаже. СПб., 2005. С. 105–109.
(обратно)677
Скурлов В.В. Введение // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 5–13.
(обратно)678
Скурлов В.В. Послесловие // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 162.
(обратно)679
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163.
(обратно)680
Гонтарь, Франц Бирбаум… С. 463–494; Скурлов В.В. Бирбаум и Денисов-Уральский – совпадение биографий // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 302–310; Скурлов В.В. Франц Бирбаум, главный мастер фирмы Фаберже // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников 4-го коллоквиума семинара Государственного Эрмитажа. СПб., 1997. С. 59–60; «Франсуа Бирбаум – главный мастер фирмы Фаберже»: Выставки. Эгль (Швейцария) // Русский ювелир, 1997, № 4. С. 52–53; Скурлов В.В. Послесловие // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 150–169.
(обратно)681
Скурлов – Смородинова. С. 98; Bäcksbacka. S. 263; Tillander-Godenhielm U. Personal and historical notes on Fabergé s Finnish workmasters and designers. // Cari Fabergé… Helsinki, 1980. P. 28–29; Мунтян T, Комаров И. Кортман или Коллин? К вопросу о расшифровке клейма «Э.К.» // Антикварное обозрение, 2005, № 2. С. 58–61.
(обратно)682
Бирбаум. С. 6
(обратно)683
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭР О-6364.
(обратно)684
Ныне в собрании фонда Вексельберга. The Faberge Imperial Easter Eggs. P. 92–93, кат. № 1.
(обратно)685
Бирбаум. С. 18.
(обратно)686
Бирбаум. С. 21.
(обратно)687
Там же. С. 19.
(обратно)688
Бирбаум. С. 24.
(обратно)689
The Faberge Imperial Easter Eggs // Tatiana Faberge, Lynette G. Proler, Valentin V. Skurlov. Christies Books, 1997; Скурлов В. Пасхальное яйцо «Весенние цветы» // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников 14-го коллоквиума-семинара Государственного Эрмитажа. СПб., 2005. С. 79–82.
(обратно)690
Мунтян Т.Н. Фаберже. Пасхальные подарки. М., 2003. С. 73–79. (Далее – Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки.)
(обратно)691
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163.
(обратно)692
Скурлов В. Примечания к Воспоминаниям Ф.П. Бирбаума // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 128, примечание 4.
(обратно)693
Бирбаум. С. 8.
(обратно)694
Ныне в частной коллекции. Фаберже: придворный ювелир: каталог выставки. С. 172–173, кат. № 4, илл.; Бирбаум. С. 20; Скурлов В. Примечания к Запискам Бирбаума… С. 146–147, примечание 45.
(обратно)695
Скурлов В.В. Михаил Перхин. Великий мастер-ювелир // Русский ювелир, 2003, № 5. С. 29.
(обратно)696
Государственный Эрмитаж, инв. № 13353. Фаберже: придворный ювелир: каталог выставки. С. 300, кат. № 172.
(обратно)697
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 181.
(обратно)698
Бирбаум. С. 29.
(обратно)699
Столица и усадьба, № 2, 15 января 1914 г. С. 14
(обратно)700
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-18074. Фаберже: придворный ювелир… С. 258–259, кат. № 111, а также С. 299–300, кат. №№ 171, 172; Навеки застывший лёд… С. 149, кат. № 118.
(обратно)701
Стоун Д. Всё о драгоценных камнях. М.; СПб., 2007. С. 58.
(обратно)702
Бирбаум. С. 29.
(обратно)703
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (далее – ГММК), инв. №МР-645/1-2. Мунтян Т. Пасхальное яйцо «Память Азова» // Ювелирный мир, 1997, № 2. С. 10–11; Мунтян, Фаберже. С. 35–36, кат. № 1; Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки. С. 24–27.
(обратно)704
Плотникова Ю.В. Веера // Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т. 2. СПб., 2006. С. 268.
(обратно)705
ГММК, инв. № МР-646/1-3. Мунтян Т. Экспресс с сюрпризом // Ювелирный мир, 1997, № 5. С. 70–71; Мунтян, Фаберже. С. 38–39, кат. № 3; Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки. С. 32–35.
(обратно)706
ГММК, инв. № МР-654. (Мунтян Т.) «Клевер» – эмблема удачи // Ювелирный мир, 1997, № 6. С. 64–64; Мунтян, Фаберже. С. 40–41, кат. № 4; Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки. С. 36–39. «Клевер».
(обратно)707
Fabergé T., Frôler L. G., Skurlov W. The Fabergé Imperial Easter Eggs: Catalogue Raisonné. London: Christies Books, 1997, p. 164–167, кат. № 28, США, Музей изящных искусств в Ричмонде, коллекция Лилиан Пратт.
(обратно)708
Бирбаум. С. 8; Скурлов – Смородинова. С. 99: Bäcksbacka. S. 74.
(обратно)709
Скурлов В.В. Олонецкий самородок // Вечерний Петербург, № 230 (20120), 14 октября 1993 г. С. 3.
(обратно)710
Родимцева И. Коллекция работ Фаберже в Оружейной Палате // Фаберже. Пасхальные яйца – сувениры, сделанные для русской императорской семьи: Каталог выставки. Музей Искусства города Сан-Диего. Оружейная палата, Государственные музеи Московского Кремля. Мюнхен, 1989. С. 25–26, бал. 29, инв. ОМ-1881.
(обратно)711
Скурлов – Смородинова. С. 98; Bäcksbacka. S. 72; Tillander-Godenhielm. P. 29, 32–33.
(обратно)712
Baäcksbacka. S. 235; Tillander-Godenhielm. P. 32–33.
(обратно)713
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163.
(обратно)714
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-6157. Навеки застывший лёд. Горный хрусталь в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб., 2006. С. 150–151, кат. № 121, илл.
(обратно)715
Интервью Е. Фаберже // Фаберже и придворные ювелиры… С. 281.
(обратно)716
ГММК, инв. № МР-647/1-2. Мунтян Т. Символ славы и духовности // Ювелирный мир, 1997, № 4. С. 58–59; Мунтян, Фаберже. С. 42–43, кат. № 5; Мунтян. Фаберже. Пасхальные подарки. С. 40–43.
(обратно)717
ГММК, инв. №МР-649/1-2. Мунтян Т. Рассекая хрустальные волны. Пасхальное яйцо с моделью яхты «Штандарт» // Ювелирный мир, 1998, № 2(8). С. 32–33; Мунтян, Фаберже. С. 46–47, кат. № 8; Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки. С. 50–55.
(обратно)718
ГММК, инв. № МР-650/1-3 Мунтян Т. Кумир города туманов // Ювелирный мир, 1998, № 3–4 (9-10). С. 32–33; Мунтян, Фаберже. С. 48–49, кат. № 9; Мунтян, Фаберже. Пасхальные подарки. С. 56–59.
(обратно)719
Собрание Вексельберга. Фаберже: придворный ювелир. С. 256–257, кат. № 110.
(обратно)720
Скурлов – Смородинова. С. 100; Bäcksbacka. S. 237; Tillander-Godenhielm. P. 33–34, 36–37; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163; (Скурлов). Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 138.
(обратно)721
Бирбаум. С. 7.
(обратно)722
Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 36, № 21, табл. XVI, фот. 21; Проданные сокровища России. С. 272. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)723
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 20, № 49, табл. XXXIII, фот. 49; Проданные сокровища России. С. 272. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)724
Алмазный фонд РФ, инв. № АФ–155. Сокровища Алмазного фонда СССР: каталог выставки. М., 1975. С. 38, № 112, илл. 53. Кузнецова Л.К. Прототипы некоторых работ ювелиров Алмазного фонда СССР // Пунинские чтения–2000. СПб.: Издательство «Бельведер», 2000. С. 163–164.
(обратно)725
Бирбаум. С. 7.
(обратно)726
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-9294. Навеки застывший лёд… С. 150, кат. № 119, илл.
(обратно)727
Бирбаум. С. 7.
(обратно)728
Искусство Картье. Французское ювелирное искусство с 1847 по 1960 гг.: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Париж, 1992. С. 43–75.
(обратно)729
Скурлов, Примечания // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 138.
(обратно)730
Кшесинская М. Воспоминания. М., 1992. С. 112.
(обратно)731
Скурлов – Смородинова. С. 98–99; Bäcksbacka. S. 72; Tillander-Godenhielm. P. 42.
(обратно)732
Скурлов-Смородинова. С. 99; Bäcksbacka. S. 72; Tillander-Godenhielm. P. 44–45.
(обратно)733
Tillander-Godenhielm. P. 45–46.
(обратно)734
Tillander-Godenhielm. Р. 36–37.
(обратно)735
Алмазный фонд СССР, вып. 3. С. 44, № 139А, табл. LXX, фот. 160; Проданные сокровища России. С. 270. Нынешнее местонахождение неизвестно.
(обратно)736
Алмазный фонд России, инв. № АФ-185. Гапанюк Е. Искусство ювелиров Алмазного фонда СССР. М., 1991. С. 54–55.
(обратно)737
Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 139; Фаберже, Евгений. Фирма Карла Фаберже // Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163.
(обратно)738
Скурлов – Смородинова. С. 99; Tillander-Godenhielm. P. 37, 40.
(обратно)739
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 25, № 73, табл. XLIII, фот. 73; Проданные сокровища России. С. 264. Местонахождение неизвестно.
(обратно)740
Алмазный фонд СССР, вып. 4. С. 19,№ 165, табл. LXXXVII, фот. 193; Проданные сокровища России. С. 270. Местонахождение неизвестно.
(обратно)741
РГИА. Ф. 468. Он. 43. Д. 1025, №№ 155,195; Д. 1027, № 125.
(обратно)742
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-4281. Эрмитаж, который мы потеряли: Документы 1920–1930 годов./ Н. Серапина. СПб.: Журнал «Нева», 2001. С. 289, № 3; с.290, № 13.
(обратно)743
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-6371.
(обратно)744
Павловский дворец-музей, инв. № ЦХ-749-VII. Фаберже: придворный ювелир: каталог выставки-1993. С. 200–201, № 38, илл. Несмотря на клейма Виктора Аарне, М.Н. Лопато отнесла эту работу к творчеству Юлиуса Раппопорта (Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 194, илл. 163).
(обратно)745
Бирбаум. С. 7.
(обратно)746
Скурлов – Смородинова. С. 97; Bäcksbacka. S. 71; Tillander-Godenhielm. P. 40–41; Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 139.
(обратно)747
Скурлов – Смородинова. С. 97; Tillander-Godenhielm. Р. 41–42.
(обратно)748
Бирбаум. С. 9; Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 139.
(обратно)749
Скурлов – Смородинова. С. 99; Bäcksbacka. S. 69.
(обратно)750
История фирмы Фаберже-1993. С. 34, прим. 9.
(обратно)751
Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 146, прим. 44.
(обратно)752
Бирбаум. С. 9.
(обратно)753
Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 146, прим. 44.
(обратно)754
Бирбаум. С. 9, 13.
(обратно)755
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭР О-5001.
(обратно)756
Павловский дворец-музей, инв. № ЦХ-9995-1. Фаберже: придворный ювелир. С. 196, 197, кат. № 33, илл. Императорское пасхальное яйцо 1896 г. США, Музей изящных искусств в Ричмонде, собрание Лилиан Томас Пратт. Faberge, Tatiana… Imperial Easter Eggs. P. 124–125, № 14.
(обратно)757
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-8672. Фаберже: придворный ювелир. С. 324, 325, кат. № 205.
(обратно)758
Павловский дворец-музей, инв. № ЦХ-9989-1. Фаберже: придворный ювелир. С. 199, кат. № 36, илл.
(обратно)759
Государственный Эрмитаж, инв. № 23410. Фаберже: придворный ювелир. С. 214, кат. № 57, илл.
(обратно)760
Государственный Эрмитаж, инв. №№ 22411, 23412. Фаберже: Придворный ювелир. С. 213, кат. № 56; С. 215, кат. № 58.
(обратно)761
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-5395. Фаберже: придворный ювелир. С. 226, кат. № 71, илл.
(обратно)762
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-17576. Фаберже: придворный ювелир… С. 212–213, № 55.
(обратно)763
Скурлов – Смородинова. С. 98; Bäcksbacka. S. 235; Tillander-Godenhielm. P. 43–44.
(обратно)764
Tillander-Godenhielm. P. 43–44.
(обратно)765
Бирбаум. C. 9; Скурлов, Примечания // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 140.
(обратно)766
Государственный Эрмитаж, инв. № ИО-3049. Фаберже: придворный ювелир. С. 272, кат. № 134, илл.; Добровольская М.А. Знаки, жетоны и печати фирмы Фаберже в собрании отдела нумизматики Государственного Эрмитажа // Ювелирное искусство и материальная культура: сборник статей участников семинара Государственного Эрмитажа. СПб., 2001. С. 201, 202, рис. 2, примечание 4 на с. 210.
(обратно)767
Государственный Эрмитаж, инв. № ИО-3043, РМ-5845. Фаберже: придворный ювелир. С. 271, кат. № 131 (инв. № ИО-3043); Добровольская, Знаки… С. 201, 202, рис. 4, примечание 6 на с. 210.
(обратно)768
Государственный Эрмитаж, инв. № Вз-1391. Фаберже: придворный ювелир. С. 276, кат. № 139; Добровольская, Знаки… С. 204, 207, рис. 9, примечание 14 на с. 210.
(обратно)769
Бирбаум. С. 9.
(обратно)770
Бирбаум. С. 15.
(обратно)771
История фирмы Фаберже-1993 С. 34, прим. 7; Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 128, 151.
(обратно)772
Бирбаум. С. 8–9.
(обратно)773
Мухин В. Искусство мастеров фирмы Фаберже // Советское декоративное искусство. № 7. М., 1984. С. 233.
(обратно)774
Мухин, Искусство русской финифти. С. 184.
(обратно)775
Бирбаум. С. 9
(обратно)776
Там же. С. 13.
(обратно)777
Бирбаум. С. 14–15.
(обратно)778
Евгений Карлович Фаберже // Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 162.
(обратно)779
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-307. Фаберже: придворный ювелир… С. 221, № 66, илл.
(обратно)780
Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 136–137.
(обратно)781
Там же. С. 148–149, примечание 56.
(обратно)782
Бирбаум. С. 31.
(обратно)783
Евгений Карлович Фаберже // Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 163.
(обратно)784
Бирбаум. С. 29.
(обратно)785
Государственный Эрмитаж, инв. № Э-14891. Фаберже: придворный ювелир. С. 299, кат. № 171.
(обратно)786
ГММК, инв. № МР-12013. Мунтян, Фаберже. С. 59, 61, кат. № 20; Мунтян Т. Фаберже и его «objets de fantasie» // Ювелирный мир, 1997, № 2. С. 61.
(обратно)787
Скурлов В.В. Борис Оскарович Фредман-Клюзель – художник и скульптор. Шведские корни Фаберже и Фредман-Клюзеля // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 567–604; Скурлов, Примечания… // Фаберже – «министр ювелирного искусства». С. 136.
(обратно)788
Бирбаум. С. 29.
(обратно)789
Бирбаум. С. 31, 27.
(обратно)790
Столица и усадьба, № 2, 15 января 1914 г. С. 14.
(обратно)791
Государственный Эрмитаж, инв. ЭРКм-486.
(обратно)792
Янгфельд, Нобель, Лидваль… С. 19.
(обратно)793
Столица и усадьба, № 2, 15 января 1914 г. С. 14; История фирмы Фаберже-1993 С. 40, прим. 40.
(обратно)794
Столица и усадьба, № 2, 15 января 1914 г., илл. на с. 14.
(обратно)795
Поставщики Высочайшего двора. С. 42.
(обратно)796
Сумины с середины XVIII века работали на Екатеринбургской гранильной фабрике. Иван Васильевич (?—1894) начинает карьеру на том же предприятии. В конце 1868 года, прибыв в С.-Петербург с очередным караваном уральских изделий, он подаёт прошение о приёме его на работу в Кабинет ЕИВ в качестве «мастера при каменной кладовой». В следующем году он открывает мастерскую по огранке и резьбе самоцветов. Его сын, Авенир Иванович, наследует дело отца, расширяя ассортимент камнерезных изделий. Будрина Л.А. Династия камнерезов Суминых: от гранильщика императорской фабрики до поставщика императрицы // Поставщики императорского двора. Материалы XIX Царскосельской научной конференции. СПб., 2013. С. 50–58. – Прим. Будриной Л.А.
(обратно)797
Скурлов В.В. Алексей Козьмич Денисов-Уральский – учредитель общества «Русские самоцветы» // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 299. (Далее – Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский…)
(обратно)798
Скурлов, Список мастеров…!! Блестящая эпоха Фаберже. С. 237.
(обратно)799
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 300, 304.
(обратно)800
Там же. С. 297, 307,304.
(обратно)801
Павловский Б. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1953. С. 113–114,135.
(обратно)802
Скурлов, Список ювелиров… // Блестящая эпоха Фаберже. С. 232; Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 297, 304.
(обратно)803
Ахметов, Камень твоей судьбы… С. 128–129.
(обратно)804
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 297–298, 302.
(обратно)805
Эта приставка появилась на обложке каталога выставки в Екатеринбурге и Перми в 1900. Будрина Л.А. «…Более, чем художник…». К 150-летию со дня рождения А.К. Денисова-Уральского. Научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, 19 февраля – 18 мая 2014. Екатеринбург, 2014. – Прим. Л.А. Будриной.
(обратно)806
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 306, 302.
(обратно)807
Будрина Л. Металл в работах А.К. Денисова-Уральского // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников 14 коллоквиума эрмитажного семинара. СПб., 2005. С. 19. (Далее – Будрина, Металл в работах А.К. Денисова-Уральского.)
(обратно)808
Агентство, открытое в 1903 г., находилось по адресу Алтейный пр., 64, в Петербурге, и по адресу Кузнечная ул., 71–73 в Екатеринбурге. На Мойку, 42, в бывший магазин ювелира Шуберта, агентство Денисова-Уральского переместилось не ранее 1904 г. – Прим. Л.А. Будриной.
(обратно)809
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 304.
(обратно)810
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 298; Скурлов, Список ювелиров… // Блестящая эпоха Фаберже. С. 232, 229–230, 239.
(обратно)811
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 102.
(обратно)812
Ахметов С. Камень твоей судьбы. М., 1992. С. 121–122, 126–129 (Далее – Ахметов, Камень твоей судьбы.); Скурлов-Смородина, Фаберже и… С. 87–88; Мунтян. Фаберже. С. 196.
(обратно)813
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 307.
(обратно)814
Ахметов, Камень твоей судьбы… С. 126–127.
(обратно)815
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 299.
(обратно)816
Будрина, Металл в работах А.К. Денисова-Уральского. С. 20, 21.
(обратно)817
Заметка из газеты «Правительственный вестник» – Санкт-Петербург, 27 января/ 7 февраля 1911 г., № 19. // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 311–312.
(обратно)818
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль, инв. № ДК-92 (топаз, 19,0×15,0 см). Мунтян, Фаберже. С. 64, 66 (илл.), № 9.
(обратно)819
Скурлов В. Камнерезная композиция «Попугай» // Антиквар1атъ: Специальный выпуск журнала «Русский ювелир», 2000, осень. С. 29 и 3-я страница обложки; Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 309–310.
(обратно)820
Ефремов И. Лезвие бритвы: Роман. Нижний Новгород, 1994. С. 12. (Далее – Ефремов, Лезвие бритвы.)
(обратно)821
Там же. С. 7, 9.
(обратно)822
Ефремов, Лезвие бритвы. С. 10–11.
(обратно)823
Там же. С. 8.
(обратно)824
Там же.
(обратно)825
Пермь, Государственная картинная галерея, инв. № не указан (Мартышка – Австро-Венгрия; яшма, каолин, известняк; 14,3×26,0×11,0 см). Блистательная эпоха Фаберже. С. 210, илл. с. 163, № 54.
(обратно)826
Пермь, Государственная картинная галерея, инв.№ не указан (Жаба – Турция; лазурит, эффузия, яшма, лабрадор; 12,5×17,5×12,0 см). Блистательная эпоха Фаберже. С. 210, илл. – С. 161 (низ), № 51; Выставка аллегорической группы мировой войны 1914–1916 гг. А.К. Денисова-Уральского в Петрограде./ «Огонек», 1916, № 12, Петроград // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 311. (Далее – Выставка аллегорической группы…)
(обратно)827
Пермь, Государственная картинная галерея, инв. № не указан (Индюк – Румыния; гранит, лабрадор, кварц, родонит; 11,0×11,2×8,8 см). Блистательная эпоха Фаберже. С. 210, илл. на с. 161 (верх), № 52.
(обратно)828
Пермь, Государственная картинная галерея, инв.№ не указан (Сокол на скале – Япония; малахит, перматит, горный, хрусталь, халцедон; 15,5×10,0×9,0 см). Блистательная эпоха Фаберже. С. 210, илл. на с. 160 (верх), № 55.
(обратно)829
Ефремов, Лезвие бритвы. С. 8.
(обратно)830
Пермь, государственная картинная галерея, инв. № не указан (Лев – Бельгия; раухтопаз, морион чёрный, кварц молочный; 12,6×21,0×15,0 см). Блистательная эпоха Фаберже. С. 210, илл. на с. 160 (низ), № 53.
(обратно)831
Семенова С.В. Очарован Уралом. (Цит. по: Ахметов, Камень твоей судьбы… С. 127–128.)
(обратно)832
Выставка аллегорической группы… С. 310–311.
(обратно)833
Там же. С. 310.
(обратно)834
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 308.
(обратно)835
Там же. С. 304.
(обратно)836
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 305.
(обратно)837
Там же. С. 298.
(обратно)838
Там же. С. 298.
(обратно)839
Там же. С. 302.
(обратно)840
Там же. С. 298.
(обратно)841
Там же. С. 304.
(обратно)842
Денисов-Уральский, Алексей Кузьмич // Художники народов СССР: биобиблиграфический словарь. Т. 3. С. 336.
(обратно)843
Скурлов, Алексей Козьмич Денисов-Уральский… С. 298–299 (ссылка на статью 3. Ерошкиной в книге А.Г. Туркина «Избранные произведения», Свердловск, 1935. С. 3).
(обратно)844
Ахметов, Камень твоей судьбы… С. 126–127.
(обратно)845
Будрина, Металл в работах А.К. Денисова-Уральского. С. 19–20.
(обратно)846
Там же. С. 21.
(обратно)847
Там же. С. 21.
(обратно)848
(Скурлов). Рыбак // Антикварное обозрение, 2002, № 3, 3-я страница обложки.
(обратно)849
Бирбаум. С. 9.
(обратно)850
Брицын А.Ю. Мой дед // Русский ювелир, 2003, № 7 (октябрь). С. 62. (Далее – Брицын, Мой дед.)
(обратно)851
И. Брицын, Мой дед. С. 62; Скурлов В.В. Петербургская эмаль: Иван Савельевич Брицын // Антикварное обозрение, 2004, № 3 (12). С. 30.
(обратно)852
Мунтян, Фаберже. С. 194.
(обратно)853
Скурлов, Петербургская эмаль: Иван Савельевич Брицын. С. 30–31.
(обратно)854
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», инв. № МР-83 (портсигар; золото, серебро, алмазы-розы, эмаль по гильошировке, золочение; 8,5×4,5 см // Мунтян, Фаберже… С. 128,№ 137, илл.); Скурлов, Петербургская эмаль: Иван Савельевич Брицын. С. 30–31, илл. № 1–3, 10, 16.
(обратно)855
Скурлов, Петербургская эмаль: Иван Савельевич Брицын. С. 30–32, илл. № 5–7, 9, 13, 15, 22, 29.
(обратно)856
Брицын, Мой дед. С. 63.
(обратно)857
Там же. С. 62–63.
(обратно)858
Там же.
(обратно)859
Вернова Н.В. Произведения фирм Фаберже и Брицына в Петродворце // Великий Фаберже…: каталог выставки в Елагиноостровском дворце. Л., 1990. С. 45–50.
(обратно)860
Скурлов, Петербургская эмаль: Иван Савельевич Брицын. С. 31.
(обратно)861
Мухин В. Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ» и русское серебряное дело XIX – начала XX века // Блестящая эпоха Фаберже. С. 50, примечание 1 (Далее – Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»…); Орлова К.А. Произведения фабрики Сазиковых в собрании Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа – XXX: Из истории русской культуры-5. СПб., 2004. С. 115. (Далее – Орлова, Произведения фабрики Сазиковых…)
(обратно)862
Скурлов – Смородинова. С. 92; Bäcksbacka. S. 490–491.
(обратно)863
Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 43.
(обратно)864
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 115–116.
(обратно)865
Там же. С. 116.
(обратно)866
Там же.
(обратно)867
Бройтман, Краснова. Большая Морская… С. 104.
(обратно)868
Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 44.
(обратно)869
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 132.
(обратно)870
Краткая характеристика золотого, серебряного и ювелирного производства в России в 1890-х гг. (По статье начальника отделения Департамента торговли и мануфактур А.А. Мурашкинцева в сборнике, посвящённом Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде) // Фаберже и петербургские ювелиры. C. 150.
(обратно)871
Скурлов – Смородинова. С. 92.
(обратно)872
Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 47.
(обратно)873
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 116.
(обратно)874
Скурлов – Смородинова. С. 60
(обратно)875
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 116.
(обратно)876
Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 46.
(обратно)877
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», инв. № МР-605 (серебро; высота 53 см, основание 58,0×54,0 см). Мунтян, Фаберже. С. 154–156, илл.; Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 44, 46; Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 116; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 132–133.
(обратно)878
Петрова Т Историзм в России // Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 1996. С. 27.
(обратно)879
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 117.
(обратно)880
Н.С. Сазиков Павел Игнатьевич // Русский биографический словарь. Т. (Сабанеев – Смыслов). СПб., 1904. С. 54.
(обратно)881
Исаакиевский кафедральный собор // Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 1. СПб., 1869. С. 23.
(обратно)882
Поставщики Высочайшего Двора. С. 30, 71.
(обратно)883
Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях // Русские императоры, немецкие принцессы: династические связи, человеческие судьбы. М., 2002. С. 237–238.
(обратно)884
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 117.
(обратно)885
ГМЗ «Петергоф». Фонд «Редкая книга». См.: Трубановская М.В. Издатели, переплётчики, ювелиры – поставщики Императорского Двора» // Поставщики Императорского Двора: сборник научных статей XIX Царскосельской конференции. СПб., 2013. С. 313–316, 317 (примечания 24, 26, 29).
(обратно)886
Скурлов – Смородинова. С. 60.
(обратно)887
Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 117.
(обратно)888
Поставщики Высочайшего Двора. С. 71.
(обратно)889
Мухин В. Искусство русской финифти конца XIV – начала XX века. СПб., 1996. С. 174–175. (Далее – Мухин, Искусство русской финифти…)
(обратно)890
Фёлькерзам А.Е. Описи серебра двора… T. 1. С. 92.
(обратно)891
Шкатулка. Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРМб-1365 (Серебро, амарант, палисандр, резьба по дереву и серебру, эмаль; 25,0×75,0×60,0 см). Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 118, 122, № 52.
(обратно)892
Скурлов – Смородинова. С. 92.
(обратно)893
Лабзин Н.Ф. Изделия из благородных металлов и ювелирные. (Статья в книге «Всемирная Колумбова выставка 1893 года в Чикаго. Фабрично-заводская промышленность и торговля России». Изд. Департамента торговли и мануфактуры Министерства финансов. С.-Петербург, 1893) // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 195.
(обратно)894
Бенуа А.Н. Записки о моей деятельности // Невский архив: историко-краеведческий сборник. СПб., 1993. С. 22–23.
(обратно)895
Скурлов – Смородинова. С. 92 (Н.М. Рахманов); Мухин, Петербургское отделение фирмы «Сазиковъ»… С. 51, прим. 21; Орлова, Произведения фабрики Сазиковых… С. 118–119; Лабзин, Изделия из благородных металлов и ювелирные. С. 195.
(обратно)896
Коварская С. Ювелирное предприятие И.П. Хлебникова // Блестящая эпоха Фаберже. С. 52; Мухин, Искусство русской финифти… С. 167. (Далее – Коварская, Ювелирное предприятие И.П. Хлебникова.)
(обратно)897
Коварская С. Первой гильдии купец и ювелир // Ювелирный мир, 1997, № 1. С. 30–31; Мунтян, Фаберже. С. 30. Иконография клейм фирмы «Хлебниковъ» (Далее – Коварская, Первой гильдии купец и ювелир.): Дубровин М.Ф. К вопросу об атрибуции российских изделий из драгоценных металлов // Антикварное обозрение, 2002, № 3. С. 38–40.
(обратно)898
Поставщики Высочайшего Двора. С. 35.
(обратно)899
Скурлов, Список ювелиров. С. 239; Коварская, Ювелирное предприятие И.П. Хлебникова. С. 52–56; Мухин, Искусство русской финифти… С. 167–171; Мунтян, Фаберже. С. 30–31; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 136–137.
(обратно)900
Коварская, Первой гильдии купец и ювелир. С. 30.
(обратно)901
Гонтарь С.М. Тенденции развития ювелирного дела в России последней трети XIX – начала XX века // Фаберже и петербургские ювелиры. С. 175–176.
(обратно)902
Поставщики Высочайшего Двора. С. 35, 49.
(обратно)903
Скурлов, Список ювелиров…// Блестящая эпоха Фаберже. С. 239; Коварская, Ювелирное предприятие И.П. Хлебникова. С. 52–56; Коварская, Первой гильдии купец и ювелир. С. 31.
(обратно)904
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-6505 (золото, серебро, позолота, алмазы, рубины, изумруды; 44,8×40,6 см). Завадская Л., Суетова С. (фото). Мастерская Верховцевых в Петербурге // Ювелирный мир, 1998, № 2 (8). С. 75; Синай, Византия, Русь. Православное искусство с 6 до начала 20 века: каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Лондон:, 2000. С. 428–429, № R-219, илл. (аннотация Л.А. Завадской). (Далее – Завадская… Мастерская Верховцевых…)
(обратно)905
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 75.
(обратно)906
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 75–76.
(обратно)907
Там же. С. 76.
(обратно)908
Пушкарев, Николаевский Петербург. С. 584.
(обратно)909
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 76.
(обратно)910
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 76.
(обратно)911
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 139; Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 76; Скурлов, Список ювелиров… С. 230.
(обратно)912
Мухин В. Церковная культура Санкт-Петербурга. СПб., 1994. С. 90. (Далее – Мухин, Церковная культура.)
(обратно)913
Мухин, Церковная культура… С. 144, 149 (илл.). Икона в окладе работы Фёдора Андреевича Верховцева и Льва (Людвига) Брейтфуса в настоящее время находится в Спасо-Преображенском соборе, однако бриллианты давно заменены стразами.
(обратно)914
Шамшин, Михаил Никитич (1777–1846) академик портретной живописи. С 1809 года – учитель рисования в школе при гоф-интендантской конторе. По программе на звание академика написал поколенный портрет профессора скульптуры Ивана Прокофьевича Прокофьева (в музее Академии художеств), 1 сентября 1812 года получил звание академика. (Русский биографический словарь. Т. Чаадаевъ – Швитковъ. СПб., 1905. С. 514–515.)
(обратно)915
Исаакиевский кафедральный собор // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 1. СПб., 1869. С. 23, 25.
(обратно)916
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 74 (илл), 76–77. Собрание Государственного Эрмитажа.
(обратно)917
Скурлов – Смородинова. С. 83–84; Bäcksbacka. S. 461; Solodkoff. S. 175; Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 77.
(обратно)918
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 77.
(обратно)919
Скурлов, Список ювелиров… // Блестящая эпоха Фаберже. С. 230.
(обратно)920
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 77.
(обратно)921
Скурлов, Список ювелиров… С. 230.
(обратно)922
Завадская… Мастерская Верховцевых С. 77.
(обратно)923
Завадская… Мастерская Верховцевых… С. 77; Скурлов, Список ювелиров… С. 230.
(обратно)924
Скурлов, Список ювелиров… С. 232.
(обратно)925
Орлова К.А. Произведения фирмы Грачёвых в собрании Эрмитажа // Ювелирное искусство и материальная культура: тезисы докладов участников 4-го коллоквиума эрмитажного семинара. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997. С. 49. (Далее – Орлова, Произведения фирмы Грачёвых…)
(обратно)926
Гонтарь С. Российский ювелирный Ренессанс // Ювелир, 1996, № 5 (36). С. 33.
(обратно)927
Скурлов, Список ювелиров… // Блестящая эпоха Фаберже. С. 231.
(обратно)928
Скурлов – Смородинова. С. 86–87; Bäcksbacka. S. 463.
(обратно)929
Мунтян, Фаберже. С. 28.
(обратно)930
Государственный Эрмитаж, инв.№ ЭРО-7732 (серебро, эмаль; 29,5×32×19,2 см). Орлова, Произведения фирмы Грачевых… С. 50; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 135.
(обратно)931
Мухин, Искусство русской финифти… С. 171.
(обратно)932
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 137–138. В справочной работе Скурлова В.В. (Поставщики Высочайшего двора) эта информация отсутствует.
(обратно)933
Орлова, Произведения фирмы Грачевых… С. 49.
(обратно)934
Скурлов – Смородинова. С. 91.
(обратно)935
Орлова, Произведения фирмы Грачевых… С. 49–50.
(обратно)936
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-8808 (Лампада в форме пасхального яйца. Петербург, форма братьев Грачёвых, монограммист «АП». Серебро, медь, эмаль; 50×7,4 см). Синай, Византия, Русь… С. 431–432, № R-223a, илл. (аннотация К.А. Орловой).
(обратно)937
Мухин, Искусство русской финифти… С. 171, 174.
(обратно)938
Бенуа, Записки о моей деятельности. С. 27.
(обратно)939
Скурлов, Список ювелиров… С. 231.
(обратно)940
Калязина Н.В., Комелова Г.Н., Косточкина Н.Д., Костюк О.Г., Орлова К.А. Русская эмаль XII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1987. С. 11–12,14, 16–17, 20–27, 39–40.
(обратно)941
Саутов И., Камидян М., Мухин В. От организаторов выставки «Блестящая эпоха Фаберже. Санкт-Петербург – Париж – Москва» // Блестящая эпоха Фаберже. С. 7, 11.
(обратно)942
Скурлов – Смородинова. С. 73–76,109; Bäcksbacka. S. 497, Solodkoff. S. 174; Русский биографический словарь. Т. Обезьянинов-Очкин. СПб., 1905. С. 83.
(обратно)943
Русский биографический словарь. Т. Обезьянинов-Очкин. С. 83; Смородинова Г. П. Овчинников и русское золотое и серебряное дело // Блестящая эпоха Фаберже. С. 57. (Далее – Смородинова, П. Овчинников.)
(обратно)944
Орлова К.А. Изделия фирмы П.А. Овчинникова в собрании Эрмитажа // Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы конца XVII–XIX веков: сборник научных трудов Государственного Эрмитажа. Л., 1986. С. 87; Поставщики Высочайшего двора… С. 26.
(обратно)945
Мунтян, Фаберже… С. 19.
(обратно)946
Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 87.
(обратно)947
Там же.
(обратно)948
Скурлов – Смородинова. С. 65.
(обратно)949
Государственный Исторический музей, инв. № 9089I/ok 14595 (серебро, позолота, эмаль, бархат, бумага, дерево; 51,6×60,0×5,0 см). Блестящая эпоха Фаберже. С. 219, № 186, илл.; Гонтарь С. Российский ювелирный Ренессанс // Ювелир, 1996, № 5 (36). С. 33; Гонтарь С.М. Тенденции развития ювелирного дела в России последней трети XIX – начала XX века // Фаберже и русские ювелиры. С. 168–169; Смородинова, П. Овчинников… С. 60; Акимова Н. Московские ювелирные школы рубежа века // Блестящая эпоха Фаберже. С. 61–64.
(обратно)950
Скурлов – Смородинова. С. 70–72; Смородинова, П. Овчинников… С. 60.
(обратно)951
Русский биографический словарь. Т. Обезьянинов-Очкин. С. 84.
(обратно)952
Смородинова, П. Овчинников… С. 57.
(обратно)953
X. Z. Предметы роскоши на Всероссийской выставке в Москве. СПб., 1883 // Фаберже и русские ювелиры. С. 191.
(обратно)954
Скурлов – Смородинова. С. 68; Гончарова, Инна. Русская эмаль // Ювелирный мир, 1998, № 3–4 (9-10). С. 44–45.
(обратно)955
Мурашкинцев А.А. Краткая характеристика золотого, серебряного и ювелирного производства в России в 1890-х гг. // Фаберже и русские ювелиры. С. 150–152.
(обратно)956
Скурлов – Смородинова. С. 67–68; Мунтян, Фаберже. С. 19; Гончарова, Русская эмаль. С. 44.
(обратно)957
Скурлов В. Серебряный поднос – свадебный подарок любимой дочери императора // Антикварное обозрение, 2004, № 1–2 (10–11). С. 76–77, илл.
(обратно)958
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-6501 (золото, серебро, алмазы, сапфиры, изумруды, рубины, жемчуг, эмаль, дерево, темпера; 31,5×27 см). Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 90, № 15; Синай, Византия, Русь… С. 441, №R-231.
(обратно)959
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭР О-7257 (серебро, бриллианты, жемчуг, эмаль, позолота; 128×85 см). Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 88, 89, № 5; Калязина… Русская эмаль…. С. 245, № 128 (илл.); Николай и Александра. Двор последних русских императоров. Конец XIX – начало XX века: каталог выставки Государственного Эрмитажа. СПб., 1994. С. 87 (илл.), 283, № 18; Синай, Византия, Русь… С. 426, № R-217.
(обратно)960
Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 88; Русский биографический словарь. Т. Обезьянинов-Очкин. С. 84 (датой смерти П.А. Овчинникова указано 9 апреля 1888 года).
(обратно)961
Поставщики Высочайшего двора. С. 26.
(обратно)962
Мунтян, Фаберже. С. 200; О клеймах фирмы Овчинникова см.: Дубровин М.Ф. К вопросу об атрибуции российских изделий из драгоценных металлов // Антикварное обозрение, 2004, № 1–2 (10–11). С. 69–72.
(обратно)963
Мурашкинцев, Краткая характеристика… С. 152.
(обратно)964
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-8659 (серебро, эмалевый лак; 7,8x6,5 см). Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова. С. 88–89, 90, № 14;.Калязина… Русская эмаль… С. 246, № 133, илл.; Мухин, Искусство русской финифти. С. 159, 166 (илл.).
(обратно)965
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-4891 (серебро, эмаль «оконная» по прорезному орнаменту, золочение; диаметр 12 см); Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 90, № 40.
(обратно)966
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-4882 (серебро, эмаль «оконная» по сканому орнаменту, золочение; 6,1×14×7,2 см); Орлова, Изделия фирмы П.А. Овчинникова… С. 90, № 39.
(обратно)967
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 136–137.
(обратно)968
Мухин, Искусство русской финифти. С. 160–162.
(обратно)969
Скурлов – Смородинова. С. 72.
(обратно)970
Смородинова, П. Овчинников… С. 60.
(обратно)971
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 42.
(обратно)972
Скурлов, Список ювелиров… С. 236.
(обратно)973
Скурлов, Список ювелиров… С. 231, 235; Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 138 (Приобретение А.В. Любавиным фабрики у Ф.Э. Генрихсена отнесено к 1898 году).
(обратно)974
Bäcksbacka. С. 274; Алфавит, С. 16.
(обратно)975
Поставщики Высочайшего Двора. С. 23.
(обратно)976
Скурлов, Список ювелиров… С. 235.
(обратно)977
Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 135.
(обратно)978
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-4888. Лопато, Ювелиры Старого Петербурга-2006. С. 134–135, илл.
(обратно)979
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», инв. № МР-6960 (серебро; диаметр чаши 11,0 см, высота 10,5 см). Мунтян Фаберже. С. 143, № 158, илл.
(обратно)980
Скурлов, Список ювелиров… С. 235.
(обратно)981
Поставщики Высочайшего Двора. С. 25.
(обратно)982
Bäcksbacka. S. 268.
(обратно)983
Бройтман, Гороховая улица. С. 242.
(обратно)984
Bäcksbacka. S. 248.
(обратно)985
Скурлов – Смородинова. С. 91–93.
(обратно)986
Скурлов, Список ювелиров… // Блестящая эпоха Фаберже. С. 235.
(обратно)987
Поставщики Высочайшего Двора. С. 25.
(обратно)988
Лурье А.Я., Тарантаев В.Г. Крестьянские землячества в Петербурге // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. III. Раздел «Из истории города». СПб., 1997. С. 428–430.
(обратно)989
Пукинский Б.К. 1000 вопросов и ответов о Ленинграде. Л., 1974. С. 305–306; «Кирпичики» из Гостиного // Вечерний Петербург, № 3 (19893), 6 января 1993 г. С. 3.
(обратно)990
Глинка М.С. Пропавший клад // В.М. Глинка. Воспоминания, архивы, письма. Кн. 2. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2006. С. 354.
(обратно)991
Бейнбридж отметил, что, рассказывая об этом событии, Агафон Карлович Фаберже повернулся к собеседнику и сказал: «Было ли это знамением или предчувствием того, что надвигалось? Единственными сокровищами короны, отправленными в Москву без осмотра, оказались царские регалии – самые важные из всех». (Bainbridge Н.С. Peter Carl Faberge. His Life and Work. Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court. – New York: Crescent Books, 1979. P. 59–61).
(обратно)992
Варшавский С, Реет Б. Рядом с Зимним. Л., 1969. С. 97–98, примечание 1 на с. 97–98.
(обратно)993
Проданные сокровища России. С. 27; Ферсман А.Е. История Алмазного фонда // Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 14–15.
(обратно)994
Бирбаум. С. 14.
(обратно)995
Мухин В. Фаберже и его музы // Натали, № 14, 1993 г. С. 6.
(обратно)996
Белоусова Т. «Распиленные» бриллианты короны // Совершенно секретно, июль 2006, № 7 (206). С. 41. (Далее – Белоусова.)
(обратно)997
Боханов А. Судьба императрицы. 2-е изд. М., 2005. С. 334–350. (История в лицах); Белоусова, «Распиленные» бриллианты короны. С. 43.
(обратно)998
Мосякин А. Антикварный экспортный фонд. Антология документов и фактов. Наше наследие, 1991, № 2. С. 30.
(обратно)999
Белоусова. С. 42.
(обратно)1000
Брицын, Мой дед. С. 62.
(обратно)1001
Все документы приведены по: Мосякин А. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие, 1991, № 2. С. 29–42, № 3. С. 34–48.
(обратно)1002
Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО 7319–7324. См.: Бернякович З.А. Русское художественное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1977. С. 12–15, 264, илл. 43–49.
(обратно)1003
Мосякин. Антикварный экспортный фонд… // Наше наследие, 1991, № 3. С. 42.
(обратно)1004
Мосякин А.Г. Продажа // Огонёк, 1989, № 6, 4-11 февраля; Пиотровский Б.Б. История Эрмитажа // Эрмитаж. История и современность. М., 1990; Серапина Н. Эрмитаж, который мы потеряли // Нева, 1999, № 3; Проданные сокровища России. С. 80–109; Эрмитаж, который мы потеряли: документы 1920–1930 годов. СПб., 2001; Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи 1928–1929 годов: Архивные документы. СПб., 2006.
(обратно)1005
Толмацкий В. Из кладовых госфондов. О ленинградских распродажах 1920-х годов // Антикварное обозрение, 2003, № 2 (8). С. 56–63.
(обратно)1006
Решетникова А. «Сюрпризы» от Фаберже // Спутник, 1990, № 10, октябрь. С. 120.
(обратно)1007
Солодкофф, фон А. По следам сокровищ Фаберже // Фаберже: придворный ювелир… С. 156.
(обратно)1008
Шаффер, Фаберже и Америка. С. 163–164.
(обратно)1009
Белоусова. С. 43.
(обратно)1010
Солодкофф фон, А. По следам сокровищ Фаберже // Фаберже придворный ювелир. С. 156.
(обратно)1011
Лопато, Фаберже и царский двор. С. 70.
(обратно)1012
Носик Б. Привет эмигранта, свободный Париж. М., 1992. С. 82–83.
(обратно)1013
Мосякин А. ГОХРАН. Свидетельствуют документы // Российское золото. T. 1. М., 1993. С. 449–456,467-469.
(обратно)1014
Проданные сокровища России. С. 37, прим. 6.
(обратно)1015
Проданные сокровища России. С. 37–38, прим. 7.
(обратно)1016
Там же. С. 40.
(обратно)1017
Там же. С. 42.
(обратно)1018
Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., 1994. С. 166–169.
(обратно)1019
Bainbridge Н.С. Peter Carl Faberge. London, 1966. P. 61.
(обратно)1020
Алмазный фонд СССР, вып. 1. С. 33, № 3.
(обратно)1021
Ферсман, Сокровища Алмазного фонда. С. 23.
(обратно)1022
Алмазный фонд СССР, вып. 2. С. 13–14; вып. 3. С. 33, № 84, Табл. LII, фот. 93.
(обратно)1023
Ферсман, Семь исторических камней Алмазного фонда. С. 10; Ферсман, Рассказы о самоцветах. С. 219.
(обратно)1024
Смит Г. Драгоценные камни. Изд. 2-е. М., 1984. С. 229; Васильев А.А., Белых З.П. Алмазы, их свойства и применение. М., 1983. С. 66; Прокопчук Б.И., Ваганов В.И. От алмаза до бриллианта. М., 1986. С. 23.
(обратно)1025
Шафрановский ИМ. Алмазы. М.; Л., 1964. С. 105; Милашев В.А. Алмаз. Легенды и действительность. Л., 1981. С. 36; Бурмин Г.С. Чудесный камень. М., 1984. С. 160.
(обратно)1026
Сокровища алмазного фонда СССР. М., 1967, П/З, № 17; Сокровища Алмазного фонда СССР. М., 1975. С. 27, № 74.
(обратно)1027
Искусство ювелиров Алмазного фонда СССР // Е. Гапанюк. М., 1991. С. 26.
(обратно)1028
Проданные сокровища России. С. 46, прим. 15.
(обратно)1029
Алмазный фонд СССР. М.,1925.
(обратно)1030
Проданные сокровища России. С. 46, прим.16; Twining. Р. 515–558, Chapter 21 – Russia.
(обратно)1031
Bainbridge. P. 60.
(обратно)1032
Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1992. С. 92–94.
(обратно)1033
Проданные сокровища России. С. 49–50, прим. 18–20.
(обратно)1034
Проданные сокровища России. С. 50, 53.
(обратно)1035
Там же. С. 53.
(обратно)




![ЦК закрыт, все ушли... [Очень личная книга]](https://www.4italka.su/images/articles/459372/primary-medium.jpg)
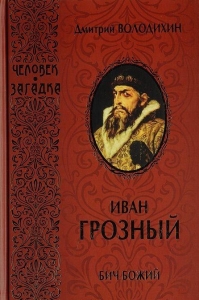
Комментарии к книге «Петербургские ювелиры XIX – начала XX в. Династии знаменитых мастеров императорской России», Лилия Константиновна Кузнецова
Всего 0 комментариев