В. В. Новодворский Ливонский поход Ивана Грозного
© ООО «Издательский дом «Вече», 2010
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Царствование Стефана Батория весьма плохо исследовано, как это прекрасно выяснил проф. В. Закржевский в своем сочинении «Stefan Batory, przegląd historji jego panowania i program dalszych nod nią badąń». Это обстоятельство, между прочим, побудило меня заняться изучением этой эпохи, и таким образом явилось нынешнее исследование.
Говорить здесь о значении борьбы из-за Ливонии в судьбах Восточной Европы считаю делом излишним, ибо пришлось бы повторять то, что всем уже известно. Но позволю себе сказать несколько слов о характере своей работы. В науке допустима одна только точка зрения – научная, т. е. точка зрения истины; однако, к сожалению, в области социальных наук подняться на такую высоту весьма трудно. Тем не менее приблизиться к идеалу объективизма возможно путем монографических, детальных исследований, ставящих себе целью критическую проверку исторического материала. К таким исследованиям принадлежит и мое сочинение, или по крайней мере я желал придать ему такой характер. В сочинении моем существуют, конечно, многие, притом большие недостатки и недочеты; я могу утверждать только одно с чистою совестью, что старался отыскать истину, но насколько к ней приблизился, не мне, понятно, судить об этом. Меня утешает мысль, что если мое исследование имеет какое-нибудь научное значение, оно пригодится в каком-нибудь отношении для других исследователей, которые поведут дело далее, шире и глубже и создадут нечто совершенное.
В заключение позволю себе принести искреннюю и глубокую благодарность тем учреждениям и лицам, которые оказывали мне помощь и содействие в моих разысканиях.
В. НоводворскийI. Перемирия
Война Иоанна IV с Речью Посполитою из-за Ливонии была прервана при Сигизмунде Августе трехлетним перемирием, срок которому истекал к концу июня 1573 года[1]. Но интересы обоих государств были столь противоположны и отношения между ними до такой степени натянуты, что война могла возобновиться во всякое время, еще до истечения срока перемирию. Прекратилась собственно – да и то не вполне – только борьба на полях сражений, но борьба политическая и дипломатическая продолжалась с прежней силой. Заключая перемирный договор с Речью Посполитою, Иоанн в то же время приводил в исполнение проект ливонского королевства, объявляя королем Ливонии герцога Магнуса на условиях вассальной зависимости[2]. Послы Сигизмунда-Августа, заключившие с Иоанном перемирие, донесли по своем возвращении об этом королю и вызвали в нем немалую тревогу, так как эта политическая комбинация направлена была против интересов Речи Посполитой[3]. Со своей стороны, Сигизмунд-Август прилагал все усилия к тому, чтобы уничтожить уже в самом зародыше московский флот на Балтийском море, что тогда называлось нарвскою навигациею, усматривая в ней большую опасность не только для Речи Посполитой, но и для всей Западной Европы[4].
В 1569 году он нанял к себе на службу каперов, которые должны были задерживать иностранные корабли, везшие в пределы московского государства какие бы то ни было товары[5]. На это король датский, сблизившийся с Иоанном Грозным, и его брат Магнус ответили заведением тоже каперских судов, которые не мало вреда причиняли торговым интересам Речи Посполитой, задерживая корабли, шедшие в польские гавани. Таким образом, на море война, собственно, как бы и не прекращалась[6].
Изображение Магнуса, герцога Голштинского на печати. XVI в.
Самое заключение перемирного договора сопровождалось обстоятельствами, которые могли повлечь за собою нарушение перемирия, а следовательно, и возобновление войны. Посольство Сигизмунда-Августа, ехавшее в Москву, от самой границы московского государства подвергалось оскорблениям со стороны московских приставов и их слуг и само платило им тем же. Прибыв в Москву, оно не застало там Иоанна: он не возвратился еще из своего путешествия в Новгород, где он произвел такую ужасную кровавую расправу. По возвращении царя в столицу послы были приняты сначала довольно радушно, но когда прибыл в Москву герцог Магнус, отношения Иоанна к польско-литовскому посольству изменились. Оно стало подвергаться различного рода оскорблениям, к чему, впрочем, и само подавало иногда повод, нанося обиды Москвитянам. Царь приказывал бить посольскую свиту батогами и издевался над польскими обычаями[7]. Когда один из послов, литовский писарь Андрей Иванович Харитонович-Убринский[8], отказался дерзко принять царские подарки, считая их не соответствующими своему званию, Иоанн отправил на посольский двор отряд вооруженных людей, которые на глазах послов разрубили двух коней, подаренных царю послами; начальник же отряда, Булат Арцыбушев, бранил послов поносными словами, топтал ногами подарки, поднесенные посольством, а литовскому писарю вырвал половину бороды[9].
У купцов, Греков и Армян, прибывших с посольством в Москву, были отобраны в казну, по приказанию царя, товары, причем купцы не получили никакого вознаграждения. Мало того, когда посольство выехало из пределов московского государства, Иоанн приказал выгнать их за границу «в однех рубашках, без шапок и босыми»[10]. Затем он произвел избиение польских и литовских пленных, которые были заключены в московских темницах[11].
Оскорбления послов вызвали в Польше сильное негодование. Жалуясь на свои обиды перед королем, они увещевали его нарушить перемирие, подавая ему надежду на благополучный исход войны, так как силы «варвара» истощены постоянными войнами, голодом и моровою язвою, а подданные сильно ненавидят его за его ужасную жестокость[12].
Общественное мнение требовало тоже сначала весьма настоятельно, чтобы король объявил Иоанну войну[13]. Но Сигизмунд-Август не мог последовать этим советам, ибо положение Речи Посполитой вследствие продолжительной войны также было тяжело. Однако он не преминул воспользоваться настроением общественным, чтобы подготовить умы к необходимости новых жертв на ведение борьбы с врагом.
Польский король Сигизмунд II Август. Художник Я. Матейко
Далее, перемирный договор не установил вполне мирных отношений между Речью Посполитою и московским государством: вооруженная борьба продолжалась в витебской и полоцкой областях, там, где находились спорные земли; кроме того, Магнус, получив вооруженную помощь от Иоанна, вторгнулся в пределы польско-литовской Ливонии и произвел опустошение в окрестностях Пернова и Руина[14].
Наконец, Иоанн не совсем точно соблюдал условия перемирного договора: по этим условиям замок Таурус (Taurus), разрушенный войсками Сигизмунда-Августа, не следовало возобновлять, между тем Иоанн приказал его отстроить и поставил в нем гарнизон. Сигизмунд-Август считал это обстоятельство нарушением договора и указывал на него как на повод, вследствие которого война может возобновиться еще до истечения срока перемирия. Это обстоятельство обсуждалось на сейме 1572 г. Действительно, построение этого замка и постановка в нем гарнизона представляли немалую опасность для Литвы, так как крепость находилась недалеко от литовской столицы – города Вильны[15].
Вильно в конце XVI в.
Одним словом, отношения между обоими государствами были весьма неустойчивы; на мир была очень слабая надежда. Ратифицируя условия перемирного договора в 1571 году, польский король подумывал уже о войне и старался подыскать средства на ведение ее[16]. Однако перемирие не было нарушено по следующим причинам. Сигизмунд-Август в последние годы своего царствования был тяжко болен, и вопрос о том, кому достанется корона Речи Посполитой, сильно интересовал соседних государей. К ним принадлежал и Иоанн Грозный. В 1569 году гонцу Федору Мясоедову, отправляемому в Польшу, был дан такой наказ: «…проведать ему того, которым обычаем то слово в Литве и Польше в людях носится, что хотят взять на великое княжество и на Польшу царевича Ивана и почему то слово в люди пущено, обманкою ли, или в правду того хотят и все ли люди того хотят, и почему то слово делом не объявится, а в людях носится»[17]. В 1570 году польско-литовские послы, приехавшие в Москву для заключения перемирия, заявили царю, что так как у их короля нет детей, то «ради Короны Польской и Великого Княжества Литовского желают избрать себе государя от славянского рода и склоняются к тебе, великому государю и твоему потомству». Иоанн отнесся к этому заявлению недоверчиво, что и вполне понятно, так как он мог думать, что это заявление ни более ни менее, как только дипломатическая уловка, сделанная с той целью, чтобы склонить его к большой уступчивости, чем в действительности она и была[18]. Тем не менее Иоанн сильно заинтересовался этим заявлением, как и вообще известиями, приходившими из Речи Посполитой, о том, что там хотят иметь государем его или его сына.
Отправляя в 1571 году для ратификации перемирного договора послов, князей Канбарова и Мещерского, в Польшу, Иоанн не только приказывал им разведать, каково настроение страны по вопросу об избрании преемника Сигизмунду-Августу, но вместе с тем и очистить или оправдать его, Иоанна, в глазах польско-литовского общества, которое могло относиться к нему враждебно за казни, им совершенные[19]. Послы присылали царю «приятные донесения». Между прочим, они писали следующее: «Говоря в Варшаве: нехай не вдолзе Польша и Литва с Москвою посполе будет, король стар и хвор и бездетен, а опричь московского иного государя не искати»[20]. Московское посольство имело тайное поручение устроить брак Иоаннова сына с сестрою короля Софиею[21]. Когда в 1572 году разнеслось известие, что король впал в тяжкую болезнь, Иоанн послал в Польшу гонца Василия Малыгина разузнать, достоверно ли это известие; гонец вскоре донес, что Сигизмунд-Август скончался (7-го июля 1572 года)[22].
Вооружение русской дворянской конницы. Гравюра из книги С. Герберштейна Записки о Московии
Наступившее безкоролевье вызвало большую тревогу в польском и литовском обществе относительно дальнейших судеб Речи Посполитой и безопасности ее от внешних врагов. Положение было действительно критическое. В Литве и Пруссии господствовало столь сильное недовольство условиями люблинской унии, что эти страны, казалось, готовы были расторгнуть узы, соединившие их с Польшею. Внутри происходила ожесточенная социальная и религиозная борьба, борьба между шляхтою и аристократи ею, между католиками и протестантами. К тому же со смертью короля не стало руководителя государственной обороны. Речь Посполитая распадется, казалось, на свои составные части, которые сделаются добычею ее врагов. Но шляхетское общество подумало о средствах спасения той федерации, которую оно само создало, причем проявило замечательную энергию. В различных частях Речи Посполитой были составлены конфедерации с целью самозащиты от внутренних и внешних врагов.
Литве угрожала наибольшая опасность со стороны Иоанна Грозного. Ввиду этого руководители ее поспешили войти в дипломатические сношения с московским царем, чтобы отвратить эту опасность от своей страны. Съезд литовских вельмож, в котором принимал участие и польский подканцлер Франциск Красинский, краковский епископ, как представитель Польши, отправил к Иоанну от имени Речи Посполитой гонца Федора Зенковича Воропая, чтобы известить царя о кончине короля и просить о сохранении существующего перемирия. Чтобы удержать Иоанна от враждебных действий против Литвы, съезд решил прибегнуть к следующей стратегеме. Гонцу было наказано заявить царю, что выбор его на престол Речи Посполитой возможен, и что, если это случится, тогда все спорные вопросы, из-за которых между государствами происходит столь ожесточенная война, сами собою и мирно разрешатся.
Иоанн рассчитывал на такое предложение; тем не менее он счел необходимым подействовать на Речь Посполитую угрозами. Зная по слухам о смерти Сигизмунда-Августа, он притворился, что событие это еще ему неизвестно, и отправил к королю гонца с письмами. Такой образ действий Иоанна встревожил литовских вельмож, ибо возбудил в них подозрение, что царь затевает что-то недоброе[23].
Действительно, письма Иоанна наполнены были угрозами. Он заявлял, что если Речь Посполитая не пришлет к нему в октябре месяце для заключения мира великих послов, на проезд которым в свое государство он присылал с гонцом опасную грамоту, в таком случае он сочтет такое пренебрежительное отношение к себе за обстоятельство, указывающее, что Речь Посполитая не желает соблюдать с ним мир, а потому займет Ливонию. В этих угрозах Иоанна литовские сенаторы увидели еще большую опасность для Речи Посполитой. Им показалось, что находится в опасности не только Ливония, но и Литва, так как царь готов при всяком удобном случае броситься на все, чем только можно легко завладеть.
Надо было предупредить опасность сколь возможно скорее. Гонца выслушали на сеймике в Рудниках и поспешили уверить царя, что великое посольство прибудет к нему согласно его желанию. Гонец тотчас же поехал назад в Москву. Между тем прибыл сюда Федор Зенкович Воропай; он разъехался в дороге с московским гонцом, когда последний направлялся еще в Литву[24]. Иоанн принял Воропая весьма ласково[25]. Стратегема польских и литовских вельмож увенчалась полным успехом. Иоанн поверил искренности заявления, сделанного ему гонцом от имени литовско-польского сената, и счел возможным избрание свое на польский престол. «Скажи польским и литовским панам, – говорил царь гонцу, – чтобы они, переговоривши и посоветовавшись меж собой, присылали ко мне поскорее послов. И если будет то Богу угодно, чтоб я сделался их государем, тогда я обещаюсь перед Богом прежде всего, и им также обещаю сохранить их права и свободы, и если будет нужно, то еще и больше приумножу и от чистого сердца пожалую». Царю нравилась мысль об избрании его в короли главным образом потому, что тогда осуществилось бы его заветное стремление к Балтийскому морю: тогда Ливония, Москва, Новгород и Псков составили бы одно владение. В таком виде представлялось уму Иоанна осуществление делаемого ему предложения. Приобретение Ливонии считал он столь важным для себя, что готов был в том случае, если бы он не был избран королем Речи Посполитой, уступить ей за Ливонию Полоцк с пригородами и далее часть своих собственных московских владений. Перспектива соединить под своею властью столь обширные государства, как московское и литовско-польское, прельщала Иоанна несомненно[26]. Понимая, что слава тирана, которую он приобрел за свои казни всюду, куда доносилось его имя, может повредить успеху дела, он наказывал тем же послам, о которых мы выше говорили, заявлять, что казни – достойное наказание изменников. Точно таким же образом царь оправдывался и перед Воропаем. «Если кто наказан, – говорил он гонцу, – то наказан сообразно своей вине. Скажи, разве у вас измены не наказывают, разве изменникам прощают? Я знаю, что наказывают» – и в доказательство этого привел один случай смертной казни, совершенной в Вильне над неким Викторином, которого обвинили в намерении убить короля по наущению самого Иоанна[27].
Иоанн поверил заявлениям Воропая, а между тем они были неискренни. Литовские вельможи о возведении Иоанна на престол Речи Посполитой и слышать не хотели. Николай-Христофор Радзивилл тотчас после смерти Сигизмунда Августа писал (15-го июля) следующее своему дяде виленскому воеводе: «Боже сохрани, чтобы нами командовал московский колпак и потому, ради Бога, советую вам вовремя принять меры против московского посла». Столь же враждебно к кандидатуре Иоанна относился и главный руководитель тогдашней Литвы Ходкевич[28]. Кандидатура царя была более всего популярна среди польской и литовской шляхты; сочувствовало этой кандидатуре и православное население литовского княжества нешляхетского происхождения, но сочувствие это было, конечно, чисто платоническое, потому что нешляхта была лишена активного участия в государственных делах[29].
Христофор Радзивилл. Гравюра XVI в.
О московской кандидатуре думало также и духовенство, имевшее, конечно, прежде всего в виду интересы церкви, распространение католичества. Но Ходкевич высказывался против этой кандидатуры самым решительным образом, так что мысль об ней была оставлена духовенством[30].
Несмотря на это, литовские вельможи продолжали обманывать Иоанна заявлениями о своем желании подчинить Речь Посполитую власти московских государей. Они отправили к нему нового гонца Степана Матвеева и предлагали корону великого княжества литовского не самому царю, а младшему сыну его Феодору[31], прибавляя, что будут советовать польским панам и склонять их к тому, чтобы и Польша также избрала себе королем царевича.
Но этим литовские вельможи не ограничились. Согласно желанию Иоанна, они отправили к нему посла, которого царь уже знал по предшествовавшим переговорам, присяжного писаря великого княжества литовского Михаила Гарабурду, дав ему поручение разузнать в точности, захочет ли младший сын Иоанна, царевич Феодор, утвердить клятвою свое обещание соблюдать права и вольности Литвы, если он будет избран на литовский престол, ибо они желают иметь у себя царевича великим князем[32]. Вместе с тем они просили царя продолжить перемирие[33], что и было главною целью всех этих дипломатических переговоров.
В отправке Гарабурды произошла задержка до конца 1573 года[34], так как Литовцы, узнав, что Иоанн выступил в поход против Шведов, успокоились: опасность не была уже так грозна.
Гарабурду Иоанн принимал в Новгороде (24, 25 и 28-го февраля и 6-го марта)[35]. Царь отнесся к новым предложениям литовских вельмож недоверчиво, что было вполне основательно. Они оправдывали задержку в отправлении к царю посольства моровым поветрием, которое свирепствовало в Литве и Польше и не позволило съехаться вместе литовским и польским вельможам, чтобы обсудить вопрос, кого избрать в короли Речи Посполитой. Во-вторых, они предлагали корону то самому Иоанну, то его сыну Феодору. Все это могло возбуждать в царе подозрение, что Литва действует неискренно. Однако цель, с какою Гарабурда ездил к Иоанну, была достигнута: перемирие не было нарушено, хотя и не вполне, ибо московские войска, отправленные против Шведов, перешли границу Ливонии, принадлежавшей Речи Посполитой, выжгли и сильно опустошили окрестности замков Буртника и Руина. Это нападение возбудило в Ходкевиче, управлявшем Ливониею, сильное опасение, будет ли он в состоянии дать отпор многочисленной армии врага, так как у него войска немного; да к тому же, за недостатком денег, он не мог платить своим воинам жалованья. Опасения за судьбу Ливонии усиливались у Ходкевича еще вследствие того, что в стране обнаруживалось брожение умов, враждебное польско-литовскому владычеству: по Ливонии разъезжал какой-то аббат и возмущал ливонское дворянство и вообще население страны против Речи Посполитой[36].
Пересылки Литовцев с Иоанном вызывали в Польше неудовольствие и усиливали взаимное недоверие и вражду, которые существовали уже и так вследствие того, что Литва желала возвратить себе те земли, которые по условиям люблинской унии были присоединены к Польше[37]. Здесь ходили слухи, что Литовцы готовы передаться московскому царю. Вражда разъединяла и литовскую знать, притом до такой степени, что некоторые литовские вельможи посылали в Польшу доносы на других, обвиняя их в тайных сношениях с иностранными государствами к вреду Речи Посполитой, именно в сношениях с московским царем[38]. Однако Литва не желала уничтожать унию, так как, очевидно, считала ее для себя весьма полезной.
Несмотря на отчужденность, проявленную ей по отношению к Польше в 1572 году, литовский съезд, созванный на 20 декабря этого года и состоявший из вельмож и шляхты, решил отправить послов на конвокационный сейм, который должен был определить место, время и порядок избрания нового короля. Послами были подканцлер литовский Евстафий Волович и витебский каштелян Павел Пац. Явившись в Варшаву на сейм[39], они самым решительным образом вооружились против слухов о каких-то соглашениях Литвы с Москвой. По их словам, переговоры с Иоанном велись для того, чтобы возбудить в нем надежду на возможность утвердить так или иначе свое владычество над Литвою и таким образом удержать его от враждебных действий против Литвы и Ливонии. Они говорили, что Глебович донес ложно на Литву по давнишней злобе на Ходкевича. Эти объяснения вполне удовлетворили польский сейм, и сенат, и посольскую избу. По желанию Литвы, элекция короля отложена была до весны, т. е. до того времени, когда тают снега и разливаются реки, вследствие чего вторжение в страну особенно затруднительно для неприятеля. Деятельность литовской дипломатии увенчалась полным успехом. Но ей предстояла задача еще труднее – склонить Иоанна к продолжению перемирия. Царь угрожал, что если Речь Посполитая изберет в короли французского принца, тогда он будет промышлять над Литвой. А сейм как раз начал склоняться на сторону французской кандидатуры, Ввиду этого опасность со стороны Иоанна могла быть сильной. Однажды разнеслась даже весть, сообщенная сейму из Литвы Радзивиллом и другими вельможами, что Иоанн прислал в Полоцк своего сына с войском, что он сам следует за ним с другой армией и что таким образом Литве угрожает вторжение неприятеля. Элекционный сейм решил 29-го Апреля отправить к царю послом галицкого чашника Андрея Тарановского[40].
Император Максимиллиан II. Портрет XVI в.
Избрание Генриха на польский престол сблизило Иоанна с императором Максимилианом II, так как оба они потерпели неудачу в Речи Посполитой. Император отправил к царю письмо, в котором жаловался «на злодейство Карла IX, истребившего более 100 000 верных подданных в день св. Варфоломея, единственно за то, что они имели свою особенную веру», говорил с негодованием о дружбе французов с султаном, который помог Генриху приобрести корону Ягеллонов, убеждал Иоанна вступиться за христиан, предлагал ему взять Литву, а Польшу уступить Австрии и заключить тесный союз с империей. Царь немедленно отправил гонца к Максимилиану, убеждая его употребить все меры к тому, чтобы не пропустить Генриха в Польшу и прося прислать поскорее послов для заключения вечного мира между Австрией и Россией. «Мы все будем стараться о том, – писал Иоанн, – чтобы польское королевство и Литва не отошли от наших государств; мне все одно, мой ли, твой ли сын сядет там на престол»[41].
При таких обстоятельствах приходилось исполнять свое поручение Тарановскому, что, конечно, миссию его делало весьма затруднительною. Польского гонца сопровождал известный уже нам литовский гонец Федор Зенкович Воропай. И сам Тарановский добровольно отправлялся только в качестве гонца. Он хотел действовать так, как будто бы он везет лишь письмо к Иоанну, а великое посольство идет вслед за ним.
Посланцы переехали границу московского государства 19-го июня. Их приняли здесь весьма радушно. Велижский воевода сопутствовал им до Новгорода, где тогда был Иоанн и по обыкновению старался выведать от гонцов побольше вестей о том, что происходит в Речи Посполитой. Хитрый Поляк прикидывался сторонником московского царя, отделывался от привязчивого любопытства воеводы и приставов заявлениями, что много обывателей и Польши, и Литвы желают иметь своим государем Иоанна, предлагал свои услуги царю и таинственно намекал, что имеет весьма важные словесные поручения, которые может сообщить только самому государю.
Иоанн принял Тарановского и Воропая весьма ласково, пригласил их к своему столу и щедро угощал. А затем 12-го июля расспрашивал Тарановского, почему и на каких условиях избран французский королевич и почему не избрали его, Иоанна, или его сына, или, наконец, Максимилианова сына. Тарановский дал такой ответ. Сейм с великим сожалением отказался от выборов Иоанна, и только потому, что царь не пожелал прислать, подобно другим государям, своих послов на сейм и таким образом показывал вид, как будто он не хочет приобретать польской короны. Разошелся было слух, что на сейм едет великое посольство от царя, вследствие чего сейм шесть недель провел под Варшавою, не приступая к выборам короля, так как питал надежду на скорое прибытие посольства. Посылали даже двух гонцов, одного по направлению к Полоцку, а другого к Витебску, чтоб узнать от пограничных воевод и старост, едет ли посольство или нет. И когда гонцы принесли известие, что царь посла не пришлет, тогда только сейм приступил к выборам.
Ждать же дольше не было уже никакой возможности. Возле Варшавы собралось с лишком сто тысяч человек, вследствие чего явилась потребность в громадном продовольствии. Дело дошло, наконец, до того, что в окрестных деревнях нельзя было достать ни овса, ни сена, ни травы, ни соломы, нельзя было приобрести съестных припасов даже за деньги. Поэтому пришлось поскорее начинать и кончать выборы. Сын императора и сын самого Иоанна не избраны за молодостью лет. Но если бы сам царь приехал управлять Польшей, тогда получил бы престол Речи Посполитой и сын его Федор. Ибо уже назначены были даже те лица, которые должны были учить его языкам польскому, немецкому, итальянскому и латинскому.
Королевич французский избран, но с таким условием, – намекал ловкий гонец, – что есть еще возможность занять польский престол и самому Иоанну. Французскому королевичу назначен срок приезда в Польшу – день св. Мартина (11-го ноября). Не приедет к этому сроку – и Поляки вольны выбирать другого государя.
А приехать ему трудно, потому что придется ему совершить путешествие или по морю, или через враждебную немецкую страну. К Иоанну же собирается ехать вскоре из Польши торжественное посольство, которое уладит несомненно недоразумения, вызванные отчетом посла Гарабурды. Он донес Полякам и Литовцам, будто царь в беседе с ним заявил, что отпускать сына своего Федора царствовать в Речи Посполитой на условиях, представленных Гарабурдою, не желает. «Сын мой не девка, – сказал будто бы царь, – и я приданого за ним не дам, не уступлю ни Полоцка, ни Смоленска, ни Ливонии; напротив того, пусть Речь Посполитая отдаст мне Киев. Если Федор будет королем, то другому роду уже не царствовать в Речи Посполитой». Эти выражения и другие оскорбили сенаторов Польши и Литвы. Но так как словам Гарабурды никто не верит, то все может хорошо окончиться.
Услышав объяснения Тарановского, Иоанн перестал гневаться на Ляхов, считая причины, вследствие которых они избрали королем французского принца, основательными; по его мнению, поведение Поляков по отношению к нему было вполне корректное, и напутали только Литовцы[42].
Иоанн поверил объяснениям Тарановского, стал питать надежду на возможность своего избрания в польско-литовские короли и вследствие этого заключил с Речью Посполитой перемирие еще на один год[43], вопреки советам цесарского посла Павла Магнуса, который был в это время у Иоанна[44].
Вместе с тем Иоанн поспешил принять меры, направленный к тому, чтобы Генрих не был пропущен в Польшу. С этой целью он сблизился с императором, как об этом мы уже выше говорили, с этою же целью он вошел в сношения с дружественным себе королем Дании. В письме к последнему он просил не пропускать Генриха через пролив Зунд ни из Франции в Польшу, ни назад, обещая за эту услугу отдать всю Ливонию его брату Магнусу и даже самому датскому королю, если у Магнуса не будет потомства[45].
Перед Поляками Иоанн так оправдывал свой образ действий. К нему приезжали Федор Зенкович Воропай и Михаил Гарабурда, которые вели с ним переговоры об условиях, на каких он может занять престол Речи Посполитой, а потому он считал уже дело порешенным и вследствие этого на элекционный сейм послов своих и не посылал. При этом он выражал надежду, что в том случае, если Генрих не прибудет к установленному сроку, Поляки пожелают иметь его своим государем, и обещал отправить для переговоров об условиях его избрания послами ивангородского наместника и своего ближнего дворянина Михаила Васильевича Колычева да дьяка Петра Ерша Михайлова[46].
Вместе с тем Иоанн понял, что главными виновниками неудачи, постигшей его, были литовские вельможи. Они присылали к нему Гарабурду лишь с той целью, чтобы выведать его намерения, а совсем не для того, чтобы договориться об условиях избрания его на польско-литовский престол; он беседовал с послом по душе, без всякого лукавства, но и тайно, а они оповестили весь мир и планы его расстроили[47].
К ведению мирной политики по отношению к Речи Посполитой побудили Иоанна также и неблагоприятные вести, шедшие с востока и с театра войны против Шведов. В казанской и астраханской области произошло возмущение Черемис и Татар, которое принудило царя направить вооруженные силы государства в эту сторону и сохранять мир на западной границе[48]. Кроме того, поражение, которое русские воеводы потерпели от Шведов близ Лоде, сделало Иоанна миролюбивее: он начал переговоры со шведским правительством о заключении мира[49].
Поверив заявлению Тарановского о том, что избрание его королем еще возможно, Иоанн отправил в Польшу посольство, но оно было задержано в Литве до тех пор, пока не соберется вальный сейм[50]. Очевидно, это был только предлог; послы же были задержаны нарочно литовскими вельможами с тою целью, чтобы продлить время до тех пор, пока не прибудет в Польшу Генрих[51]. Так действительно и случилось. Тогда Иоанн отозвал своих послов назад[52].
Иоанн сохранял с Речью Посполитой мир и в царствование Генриха, потому что принуждали его к этому обстоятельства: со Шведами происходила по-прежнему война; кроме того, весной 1574 года стало угрожать московскому государству новое нашествие крымских Татар, так что необходимо было стянуть на берега Оки многочисленный войска[53].
Иван Грозный посылает послов в Литву. Миниатюра XVI в.
К Генриху был отправлен царем гонец Федор Елизарьев сын Елчанинов[54]; ему было поручено взять у короля опасную грамоту для послов, которых царь намеревался отправить к королю для поздравления его с восшествием на престол[55]. Но царский гонец не застал уже в Польше Генриха: в ночь с 18-го на 19-е июня он убежал из Кракова во Францию, опасаясь, что Поляки не отпустят его туда, для того чтобы занять престол, который освободился после смерти его брата Карла IX[56].
Сенат Речи Посполитой отправил к царю Варфоломея Завадского и Матвея Протасовича[57] известить его о возведении Генриха на престол и одновременно же об отъезде его во Францию и вместе с тем просил о продолжении перемирия еще на два года, на что Иоанн немедленно дал свое согласие. Литовско-польский престол снова был свободен и Иоанн снова мог питать надежду на мирное разрешение спора из-за Ливонии, так как опять являлась возможность приобрести корону Речи Посполитой.
Правда, царь заявил, что он желает сноситься только с самим королем, а не с сенаторами Речи Посполитой, но, очевидно, это была только простая дипломатическая вежливость, уместная к тому же и потому, что Иоанн не был еще уверен в бесповоротности отъезда Генриха[58].
Кроме того, у Иоанна был еще, конечно, и иной умысел: выгадать время и через своих послов разузнать лучше положение Речи Посполитой.
Елчанинов явился на конвокационный сейм, созванный в Варшаву на 24-е августа, но отказывался править посольство, заявляя, что у него письмо к самому королю, что он имеет поручения только к некоторым сенаторам, архиепископу, краковскому епископу, краковскому воеводе Фирлею, сандомирскому воеводе Зборовскому и серадзскому воеводе и что он будет говорить только с этими лицами[59].
Между тем Иоанн узнав о бегстве Генриха, выслал в Польшу к Елчанинову гонца Петра Давыдова с инструкциею, как Елчанинов должен действовать в Речи Посполитой при новых обстоятельствах. Этот гонец вез, вероятно, письма и к некоторым вельможам Речи Посполитой: по крайней мере, таковы были слухи[60]. Мало того, Иоанн поспешил отправить послов, которые остановились недалеко от литовской границы, поджидая в Дорогобуже возвращения Елчанинова, чтобы следовать затем дальше в пределы Речи Посполитой[61].
Расчеты Иоанна могли вполне оправдаться. Приверженцы его в Польше и Литве были весьма многочисленны. Волынь, Мазовия, Великая Польша, значительная часть Литвы и Украины желали видеть его на литовско-польском престоле, но аристократия светская и духовная, польская и литовская, всеми мерами противилась его избранию. Когда Елчанинов из Польши отправился в Литву и остановился здесь на долгое время, заявляя, что царь приказал ему ждать возвращения короля, литовские вельможи сильно встревожились. Понимая, что заявления царского гонца один только предлог, для того чтобы прикрыть настоящую цель столь продолжительного пребывания в Литве, именно желание ознакомиться хорошенько с ее состоянием и подготовить почву для успешного исхода выборов царя или его сына, они учредили над московским гонцом самый бдительный надзор и старались стеснить свободу его действий[62]. Виленский воевода Радзивилл и Ян Ходкевич устроили такую стражу на границе Польши и Литвы, что сношения Поляков с Москвой были невозможны[63].
Такой образ действий литовских вельмож вызывал среди польской шляхты негодование, которое особенно сильно обнаружилось по следующему поводу. У одного шляхтича, Христофора Граевского, отправлявшего свои товары в Москву, Иоанн велел отобрать их в казну за то, что не была уплачена какая-то пошлина. Тогда собственник транспорта поехал сам в Москву, чтоб похлопотать о возвращении своего имущества. Иоанн приказал позвать его к себе, расспрашивал его о том, не задержан ли его гонец в Польше, и дал ему отвезти на родину следующие поручения. Он желает соединить свое государство с Польшею такими же узами, какими Ягелло соединил Литву с ней.
Он готов отказаться даже от своей веры и перейти в иную, если только на публичном диспуте будет доказано превосходство последней. В Польшу он явится с небольшой свитой, чтоб договориться относительно условий, на каких он согласен принять корону, если ему будет прислана соответственная опасная грамота. Он убежден, что Поляки позволят ему свободно возвратиться назад в Москву согласно опасной грамоте. Тогда между Польшей и Москвой утвердится вечный мир и союз. Эти обещания со стороны Иоанна, весьма заманчивые для польской шляхты, были, очевидно, дипломатической уловкой с целью усилить еще более расположение к себе своих сторонников в Речи Посполитой. Граевский повез эти предложения в Польшу, но в Дисне, по приказанию виленского воеводы, он был схвачен и заключен под стражу. Об этом насилии польская шляхта узнала случайно из письма, которое заключенный переслал своему брату[64].
Генрих III Валуа
Мер, направленных к тому, чтобы прервать всякие сношения с Москвою, литовским вельможам казалось мало. Они готовы были посягнуть даже на жизнь московского гонца.
Конвокационный сейм назначил бежавшему королю Генриху срок для возвращения – 12-е мая 1575 года, определив, что если он к этому сроку не возвратится, то сейм, который соберется к этому дню в городе Стенжице, приступит к избранию нового короля[65].
Срок этот прошел, а Генрих не возвратился, вследствие чего в назначенный день открылись совещания стенжицкого съезда. Тогда поехал сюда Елчанинов, чтоб сообщить съезду поручения, данные ему царем. Эта поездка вызвала большое беспокойство среди литовских вельмож. Они готовы были отравить его, лишь бы только он не явился в Стенжицу.
Опасения вельможества были совершенно основательны. Шляхта ожидала московского гонца с величайшим нетерпением, надеясь на то, что он привезет с собой предложения, которые обеспечат польско-литовскую корону за царем. Шляхта выслушала заявления гонца с напряженным вниманием и при полнейшей тишине, но разочаровалась в своих ожиданиях. Гонец заявил только, что царь желает получить ответ на письмо, которое он послал еще в 1573 году вместе с Гарабурдой, и узнать мнение о предложениях, сделанных в этом письме[66].
На это заявление гонца решено было дать ответ позже[67]. Переговоры умышленно стали затягиваться, чтобы только выиграть время. Мало того, аристократы пустили в ход свои прежние дипломатические уловки, стали уверять царя притворно в своей преданности и в желании избрать его королем. Гнезненский архиепископ Яков Уханский, глава Речи Посполитой во время безкоролевья и сторонник Генриха Валуа[68], сообщил Елчанинову образцы грамот, какие царь должен прислать к духовенству, вельможам, ко всему рыцарству и к каждому вельможе в отдельности. Поляки и Русские, писал архиепископ, будучи одного племени славянского или сарматского, должны, как братья, иметь одного государя. Виленский каштелян Ян Ходкевич, известный своей непримиримой враждой к Иоанну[69], явился однажды тайком, ночью, на свидание к московскому гонцу и заявил ему, что вся Литва только и ждет к себе царя на государство, причем он изложил те условия, на каких могло бы состояться избрание Иоанна. Трудно, говорил хитрый вельможа, принять литовцам условие наследственности короны в потомстве царя; трудно также отступиться им от Киевской и Волынской земель, которые царь хочет присоединить к своему государству; наконец, трудно им согласиться и на то, чтобы царя венчал московский митрополит. Но если Иоанн откажется от этих требований, выбор его обеспечен[70]. Преданность Литвы царю так была велика, по словам Ходкевича, что царь может отправить посольство в Литву и без опасной грамоты[71].
Карта Ливонии. Антверпен 1573–1598 гг.
Ходкевич прибегал к подобного рода дипломатическим уловкам, чтобы отвратить опасность со стороны московского государства от Ливонии, которой он управлял. На верность этой страны Речь Посполитая не могла вполне положиться, как мы видели уже выше. В описываемый нами момент многие Ливонцы готовы были подчиниться Магнусу, который снова, при поддержке Иоанна, вел войну со Шведами, чтобы приобрести себе шведскую часть Ливонии; Ливонцы надеялись, что единоплеменный с ними государь выручит их родину из того бедственного положения, в котором она находилась[72].
Как бы в оправдание опасений за судьбу Ливонии, в Польшу пришло известие, что Магнус, имея в своем распоряжении московское войско (12 000 человек), завладел городом Перновом, принадлежавшим Речи Посполитой. Противники кандидатуры Иоанна увидели в этом действии царя результат уговора с его сторонниками в Литве и Польше; они думали, что эти последние посоветовали ему подействовать на своих врагов угрозою, чтобы провести свою кандидатуру[73]. Вследствие этого тревога еще более усилилась.
Чтобы затянуть переговоры, сенаторы Речи Посполитой не дали Елчанинову опасной грамоты для царских послов и оправдывались перед царем тем, что многие из них уехали со стенжицкого съезда, на котором присутствовал московский гонец. Важнее всего было для них сохранение мира; об этом они и просили Иоанна в грамоте, которую они послали к царю через Елчанинова[74].
К образу действий вельмож Речи Посполитой Иоанн отнесся недоверчиво[75]; однако вести, сообщенные Елчаниновым, укрепили в нем надежду на то, что выбор его в короли возможен. Вследствие этого он отправил к сенату Речи Посполитой гонца Семена Бастанова, чтоб взять опасную грамоту для посольства, которое царь намеревался отправить в Польшу[76].
Кандидатура Иоанна могла иметь полный успех. Польская и литовская шляхта и после стенжицкого съезда относилась весьма сочувственно к кандидатуре царя[77], так что папский нунций, отстаивавший интересы австрийского двора, готов был поддерживать эту кандидатуру, ибо у него мелькнула мысль о возможности обращения Иоанна в католичество, когда царь сделается королем Речи Посполитой[78]; аристократия же по-прежнему готова была употребить все средства, чтобы посольство Иоанна не явилось на избирательный сейм[79].
Кроме того, успеху царя вредила излишняя осторожность, медленность и неопределенность его политики. Шляхта, собравшаяся на избирательный сейм в Варшаву (7-го ноября), ожидала московского гонца с большим нетерпением[80]. Когда она узнала, что он уже едет, она устроила ему торжественную встречу, выслав для приветствования его делегацию из 10 человек, чтоб выразить свое расположение к царю[81].
Когда гонец прибыл, наконец, на сейм (17-го ноября) и заявил, что у него, кроме письма, нет никаких других поручений от его государя, сеймовые маршалы приказали ему удалиться. Но шляхта стала кричать, чтобы гонец остался, сел и подождал до тех пор, пока письмо его не будет прочитано, ибо все послы имеют на это право. Вследствие этого маршалы должны были указать место гонцу, хотя и сделали это с большим неудовольствием[82].
В письме Иоанн жаловался, что послов и гонцов его задерживают в Речи Посполитой и поздно отпускают назад, заявил, что будет соблюдать мир с Литвою и Польшею, за исключением Ливонии, относительно которой он поведет особенные переговоры, и обещал прислать посла, но не великого посла, а меньшего[83].
Стефан Баторий. Гравюра XVI в.
Эти заявления сильно охладили настроение шляхты: она снова обманулась в своих ожиданиях, и число сторонников царя сразу очень уменьшилось[84].
Пока Иоанн собирался только еще выступить кандидатом на престол Речи Посполитой, здесь произошли уже выборы короля, но выборы двойные: аристократия провозгласила королем германского императора Максимилиана II, шляхта – седмиградского воеводу Стефана Батория. Вследствие этого возможность приобрести польско-литовскую корону продолжала существовать для Иоанна. Двойная элекция вызвала в Речи Посполитой неуверенность и колебание: та и другая партия опасались за успех своих избранников. Пока партии вели переговоры с ними о принятии условий, на которых отдавалась им корона Речи Посполитой, время уходило и были моменты, когда многим казалось, что ни тот ни другой избранник не явятся в Польшу.
Приверженцы императора нарочно рассеивали ложные слухи о Батории, чтобы вызвать смуту в умах своих противников. Они говорили, например, что императорские войска взяли его в плен и увели в Вену[85]. Вследствие этого сторонников Батория мучило сомнение, прибудет ли он к сроку, назначенному для коронации[86]. Император Максимилиан II медлил принятием короны: сторонники его назначили ему срок в один месяц для прибытия в Польшу; срок этот прошел, а император продолжал вести лениво переговоры с польским посольством, отправленном к нему в Вену его партией[87].
Все это возбуждало у многих мысль, что оба избранника не прибудут в Польшу, что произойдет новая элекция и тогда выбор несомненно падет на московского царя[88]. О возможности выбора сообщил Иоанну гонец Бостанов, возвратившийся из пределов Речи Посполитой[89]. Но в этот момент политика Иоанна получила иное направление, оставаясь, впрочем, по отношению к Речи Посполитой так же, как и прежде, недоверчивой и неопределенной. Максимилиан II предложил царю союз против Турок с тем, чтобы Иоанн поддерживал кандидатуру его сына Эрнеста на польско-литовский престол. Царь соглашался отдать Эрнесту только Польшу, а Литву с Киевом желал присоединить к своим владениям; что же касается Ливонии, то продолжал считать ее своей вотчиной[90].
Эти переговоры возбудили у Иоанна надежду приобрести Ливонию путем мирного договора с императором.
Предлагая Максимилиану раздел Речи Посполитой[91], Иоанн в то же время старался приобрести ее для самого себя и с этой целью давал литовским вельможам самые заманчивые обещания: он отказывался от Киева, на владение которым он предъявлял раньше свои права, и готов был заключить унию на тех условиях, на каких она состоялась при Ягелле. Минский каштелян Ян Глебович, которому московский гонец сделал подобного рода заявление, отнесся к ним недоверчиво, однако заинтересовался ими и сообщил о них Ходкевичу, как о деле, достойном внимания и обсуждения[92].
Такие же тайные переговоры Иоанн вел и с польскими вельможами. Гонцу наказано было явиться непременно прежде всего к гнезненскому архиепископу, что совершенно понятно, так как царь, на основании прежних сношений с ним, считал его одним из главных своих сторонников. Гонец, прибыв в Лович, резиденцию архиепископа, не желал ехать дальше в Краков, чтобы здесь в собрании польских сенаторов сделать заявления от имени своего царя, под тем предлогом, что так как в государстве нет короля, то он считает только архиепископа главою государства и получил приказание править свое посольство только там, где будет присутствовать архиепископ[93].
Когда гонцу была дана у архиепископа аудиенция, он потребовал опасной грамоты для главного посла, которого царь желает в возможно скором времени отправить в Польшу[94].
Очевидно, через этого гонца Иоанн хотел выведать состояние Речи Посполитой на случай войны с нею в союзе с Максимилианом для осуществления того плана, который он предлагал императору[95], и вместе с тем узнать, окончательно ли исчезли его шансы на престол Речи Посполитой или можно попытать еще счастья.
Так действовал он в своих тайных переговорах с литовскими и польскими вельможами. Явно же он рекомендовал Полякам избрать королем эрцгерцога Эрнеста, угрожая им войною, если они не подчинятся его желанию[96]. Предложения царя литовцам были несколько иные: он выражал желание быть у них великим князем, отдавая польскую корону Эрнесту, а если Литва не хочет отделиться от Польши, советовал и Литве избрать австрийского эрцгерцога[97].
Такая политика не могла, конечно, возбуждать к себе доверия ни в польских, ни в литовских вельможах. Выражая полную преданность царю через посланника Новосильцева, бывшего в Литве в начале 1576 года[98], Ходкевич делал приготовления для защиты Ливонии в случай войны с царем[99]. Литовский вельможа, усердный сторонник Габсбургов, разошелся со своей партией тотчас же после избрания своего кандидата, императора Максимилиана, на престол, вследствие того, что не получил от него денежных субсидий, на которые он рассчитывал, и перешел на сторону Батория, привлеченный золотом его приверженцев[100]. С этого момента он стал действовать в Литве в пользу трансильванского воеводы.
Пока Иоанн вел дипломатические переговоры на два или даже на три фронта, в Польшу явился Стефан Баторий и с первых же шагов проявил замечательную решительность, быстроту и энергию. Он прибыл в Краков 22-го апреля, а 1-го мая был уже коронован королем. Своим характером он произвел на поляков самое лучшее впечатление. Умеренность, приветливость к окружающим, энергичность в словах и действиях, рассудительность, дар красноречия, образованность и в особенности отличное знание латинского языка – все это сразу очень понравилось его новым подданным[101]. В новой, незнакомой для себя обстановке, он, иностранец, сумел скоро ориентироваться и справиться с затруднениями, которые были немалочисленны и немаловажны. Государству отовсюду угрожала опасность. Хотя между Турцией и Речью Посполитой и существовал мир, но он во всякое время мог быть нарушен запорожскими казаками, которые производили опустошительные нападения на турецкие земли. К тому же, южные области находились в постоянной опасности со стороны Татар, которые своими набегами, точно саранча, уничтожали ежегодно плоды человеческого труда. Великий магистр тевтонского ордена, не прекращавший предъявлять притязаний на свои бывшие владения, мог легко воспользоваться затруднительным положением государства, чтоб возвратить себе свои потери, и это тем легче, что германский император, соперник Батория, мог оказать ему поддержку. Даже такое отдаленное государство, как Дания, в состоянии было причинить немало хлопот Речи Посполитой. Но самым опасным врагом был, конечно, московский царь, для которого Ливония составляла уже давно желанный предмет завоевательных стремлений, в случае осуществления которых возросшее могущество московского государства могло сделаться грозным для самого существования Польши. Эти внешние опасности усугублялись еще и вследствие того, что внутри государства царили анархия и раздоры. Не все области Речи Посполитой признавали Батория своим королем. Литва заняла по отношению к Польше враждебное положение: представители Литвы не присутствовали на коронации нового короля. Можно было думать, что число сторонников Максимилиана весьма значительно и что с ними предстоит упорная борьба, которая казалась тем опаснее, что императору могла оказать помощь империя. К довершению всевозможных затруднений, у короля не было средств для борьбы со встречающимися препятствиями, так как казна была почти совершенно истощена[102].
Во всех этих затруднениях Стефан Баторий обнаружил замечательную проницательность: своим избранием на польский престол он прежде всего был обязан влиятельному в Польше роду Зборовских[103]; поэтому они надеялись на то, что заберут в свои руки государственные дела. Но они ошиблись в своих расчетах; их влияние продолжалось очень недолго. На коронационном сейме из-за должности канцлера возник сильный спор. Канцлер Дембинский был уже дряхлый старик, а потому не мог заниматься делами. Зборовские, открыто заявлявшие, что они доставили польскую корону Баторию, требовали этой в высшей степени важной государственной должности для своей семьи, чтоб еще более усилить свое влияние, и прочили на этот пост придворного маршала Андрея Зборовского. Но король назначил канцлером подканцлера Петра Кольского, а подканцлером – Яна Замойского. Последнее назначение особенно замечательно. Ян Замойский был одним из самых влиятельных вождей шляхетской партии; в лагере своих сторонников он исполнял уже должность канцлера в момент, очень важный для баторианцев, именно тогда, когда Батория не было еще в Польше. Так как канцлер и подканцлер принадлежали к партии императора, то баторианцы поручили Замойскому составить акт избрания Батория, снарядить к нему посольство и вообще иметь наблюдение за государственными делами; шляхта имела к своему вождю такое доверие, что многие, уезжая домой, оставляли ему бланки со своими подписями и печатями, разрешая ему писать на этих бланках все, что он сочтет за необходимое[104]. Замойский оправдал доверие своей партии, и Баторий еще из Трансильвании обратил на него внимание, вступил с ним в переписку и обещал наградить его за оказанные ему услуги[105]. Баторию, незнакомому с языком, обычаями, учреждениями Польши, необходим был помощник, сведущий во всем этом, указания которого давали бы ему возможность ориентироваться в чужой стране. Назначение Замойского подканцлером было весьма удачно: оно еще более расположило шляхту к Баторию и укрепило его положение в Польше. Послы шляхетские были так довольны этим назначением, что публично благодарили за это короля[106].
Баторию предстояло много хлопот, приходилось потратить еще немало энергии, чтоб окончательно упрочить свой престол в стране. Прежде всего необходимо было привести в покорность своих противников. Баторий обнаружил тут замечательный такт. Шляхта хотела принимать против врагов короля суровые меры. Баторий был иного мнения. Он полагал, что нужно действовать осторожно, соответственно тому, каков враг и в каком положении он находится. С Пруссией и Литвой необходимо было, по его мнению, вступить в переговоры и простить им все ради блага Речи Посполитой, на иных надо повлиять ласкою, к третьим отправить соглядатаев, чтоб высмотреть их положение и разом подавить всякое с их стороны сопротивление, наконец, четвертым прямо объявить борьбу и силой заставить их покориться[107].
Ян Замойский. Портрет XVI в.
Баторий и стал так действовать. Главу цесарской партии, гнезненского архиепископа Якова Уханского, он хотел сначала привлечь на свою сторону переговорами и обещаниями, но когда тот вздумал было созывать своих приверженцев на съезд в Лович, свою резиденцию, Баторий заявил ему, что прибудет к нему завтракать, конечно, с вооруженной силой, и архиепископ смирился, а с ним подчинились Баторию и все приверженцы императора[108].
Что касается Литвы, то один из самых важных ее представителей Ян Ходкевич находился уже давно, как мы знаем, в сношениях с партией Батория. На него Баторий подействовал золотом и обещанием должности великого гетмана, на литовских вельмож – тем, что польстил их национальному тщеславию, ставя их выше Поляков. На новом съезде в Мсцибове Литва признала Батория своим королем[109].
С Пруссией король вступил в переговоры, но они не вполне увенчались успехом, так как город Данциг открыто против него возмутился; королю пришлось вести упорную войну, которая затянулась до конца 1577 года[110]. Эта война, потребовавшая присутствия самого короля на театре военных действий, отвлекала силы государства на запад и не позволяла Баторию действовать решительно против самого опасного врага Речи Посполитой – московского царя. Опасность с этой стороны могла угрожать немедленно. Баторий боялся даже, что Иоанн откроет враждебные действия еще до окончания срока перемирию, ибо приходили вести, что царь собирает войска с намерением вторгнуться в литовские пределы; ввиду этого король считал необходимым напомнить Литовцам о том, чтобы их посполитое рушенье было наготове отражать врага[111]. Но посполитому рушенью Баторий не доверял, на успех в войне при таком способе ведения ее, как мы увидим ниже, не надеялся. Между тем срок перемирию с Москвою скоро уже истекал. Вследствие всех этих обстоятельств приходилось избирать путь дипломатических переговоров, чтобы хоть на некоторое время отсрочить неизбежную борьбу из-за Ливонии.
Карта Швеции, Ливонии и России. 1539 г.
Утвердив свой престол в Польше и Литве, Баторий отправил к Иоанну посланцев Юрия Грудзинского и Льва Буковецкого (12-го июля 1576 г.), чтоб известить царя о своем вступлении на престол и взять от него опасную грамоту для великих послов, которых он намеревается отправить для переговоров о заключении мира между Речью Посполитой и Москвой[112].
Грудзинский и Буковецкий приехали в Москву 27-го октября. Прежде чем представить их царю, им задали вопрос о происхождении Батория, объясняя, что царь желает согласно достоинству рода и сана короля поступать с его посланниками. Но посланники не захотели входить в объяснения, каково происхождение их короля и каковы его владения, говоря, что они присланы к царю польским королем и великим князем литовским.
Прием посланников состоялся 4-го ноября. Иоанн развернул при этом всю пышность, блеск и великолепие своего двора, чтоб показать Баториевым посланникам глубокую разницу между его царским величием и положением их короля, которого он считал данником турецкого султана. Иоанн сидел на троне в великолепном одеянии и мономаховой шапке, окруженный роскошно разодетыми боярами, дворянами, дьяками и иными придворными чинами. При представлении посланников царь не привстал, как того требовал обычай, и, спрашивая о здоровье Батория, не назвал его братом. Стола посланникам не было и их не сажали на скамье перед царем[113]. Иоанн был недоволен тем, что Баторий не давал ему царского титула, не называл его князем полоцким и смоленским и не считал его наследственным владетелем Ливонии, однако заключить перемирие согласился и дал опасную грамоту для великих послов Батория[114].
Король был тоже недоволен царем: его оскорбило то, что Иоанн не хотел давать ему титула «брата» и принял его посланников неподобающим образом[115]. Так уже с первых шагов между Баторием и Иоанном начались недоразумения.
Иоанн не вступал пока в открытую борьбу с Речью Посполитою, потому что он не переставал еще надеяться приобрести Ливонию путем соглашения с германским императором. По трактату, который между собою заключили эти государи, Максимилиан уступал Иоанну Литву и Ливонию, оставляя за собою Польшу и Пруссию[116]. Однако этой политической комбинации не суждено было осуществиться, ибо Максимилиан II вскоре после того умер (11-го октября 1576 г.).
Баторий вел переговоры с московским царем о заключении мира и в то же время принимал меры для защиты государства от него. Он приказал литовскому польному гетману Христофору Радзивиллу поставить конные отряды в пограничных замках, в Витебске, Лепеле, Мстиславле, Орше (по 100 человек) и в Уле (50 человек) и уплатил часть жалованья на содержание этих отрядов из собственной казны[117]. Много король не мог сделать, потому что казна была пуста. Он изыскивал различные источники, чтоб раздобыть средства. Так, он поехал в Тыкоцин, чтобы осмотреть сокровищницу, оставшуюся после покойного Сигизмунда, очевидно, с намерением воспользоваться ею для удовлетворения государственных нужд[118], но больших сумм здесь не нашел[119]. Из Тыкоцина он отправился в Кнышин, куда созвал польских и литовских вельможе, чтобы посоветоваться с ними о делах Ливонии[120]. Эта страна требовала особенной бдительности, так как она оставалась почти совсем беззащитною, и Ходкевич отказывался от управления ею.
Королю удаюсь уговорить его остаться администратором Ливонии, но дать значительных средств на ее защиту он не был в состоянии, потому что денег неоткуда было взять. Пришлось ограничиться пока постановкою небольших отрядов в крепостях: в Динамюнде —160 человек, Мариенгаузе —100, в Режице (Розитене) и Люцене по 50 и в Лемзеле – 25. Финансовое положение было до такой степени затруднительно, что нельзя было исполнить королевского приказания относительно высылки отряда в 1500 человек на границы Литвы[121], ибо денег хватило только на 600 человек[122].
Между тем внимание Батория и силы его отвлекла война с Данцигом: король счел необходимым отправиться лично в Пруссию и созвать сюда, поближе к театру военных действий, сейм в Торн[123], чтобы добиться от своих подданных разрешения установить новые налоги на ведение войны с Данцигом и на иные военные потребности, под которыми, конечно, подразумевались прежде всего защита государственных границ на востоке и приготовления к борьбе с московским государством.
На сейме произошел сильный разлад между королем и посольской избой. В королевских предложениях шляхетские послы усмотрели нарушение того порядка совещаний, которого сеймы должны были придерживаться согласно существующим законам, а в королевских желаниях услышали тон приказания подчиняться королевской воле, что они считали оскорблением для своей вольности. «Мы не хотим, – говорили они, – чтобы на нас низринулось ярмо, под которым нам придется говорить не о том, в чем нуждается Речь Посполитая, но о том, что нам прикажут…» Они заявили, что разрешили королю взимать налоги не «из обязанности, но из желания усилить государственную оборону» и под тем условием, что «шляхта впредь этим налогам не будет подвергаться» и что «король будет исполнять свои обязательства относительно защиты государства».
На сейме обнаружился также, по обыкновению, и сильный социальный антагонизм, вызываемый экономическими интересами. Магнаты, владетели королевских имений, говорила шляхта устами своих сеймовых представителей, задерживают доходы, даваемые королевскими имениями, и таким образом лишают государственную казну средств и приводят ее в самое отчаянное положение. А потому все обязаны отдать казне задержанное от смерти его велич. короля Сигизмунда-Августа до отъезда короля Генриха из Польши[124].
Спор обострился еще и по следующему поводу. Баторий домогался, чтоб ему было разрешено делить на части земское ополчение, но встретил столь сильное противодействие со стороны сейма, что должен был оставить этот свой проект военной реформы. Посполитное рушенье представляло собою толпу плохо дисциплинированных, а часто и плохо вооруженных шляхтичей на конях и имело такую же цену в военном деле, как и конница служилых людей в московском государстве. Разделением его король хотел, очевидно, сделать его подвижнее и уменьшить вред, причиняемый этою громадною массою тем областям, по которым она двигалась, производя опустошения на своем пути. Шляхта отнеслась к королевскому проекту недоверчиво: она опасалась, что король, имея право делить земское ополчение, захочет ослабить ее вооруженные силы, чтоб укрепить свою собственную власть, а пожалуй, и захватить полное господство над ней[125]. Непригодность шляхетской конницы для военного дела понимал не только король, но и другие военные люди того времени. Литовские послы, явившиеся на торнский сейм, потребовали, чтобы Поляки, согласно условиям Люблинской унии, оказали помощь Литве в теперешнем ее критическом положении, когда ей угрожает сильная опасность со стороны московского царя. Поляки согласились двинуть на помощь литовцам свое посполитое ополчение; на это литовцы заявили, что оно не только будет вредно, но прямо пагубно для их родины, а потому предложенную поляками помощь отвергли[126].
Сейм разошелся без всякого результата[127], и решение вопроса об усилении государственной обороны отложено было до будущего сейма[128].
Затруднительные обстоятельства, в которых находился Баторий, заставляли его прибегать к дипломатии, чтобы хоть на короткое время отсрочить борьбу с грозным врагом на востоке. Когда Юрий Грудзинский и Лев Буковецкий возвратились из Москвы и привезли с собою опасную грамоту для великих послов, которых король собирался отправить к Иоанну, тогда снаряжено было немедленно посольство, во главе которого стали мазовецкий воевода Станислав Крыский, минский воевода Николай Сапега и дворный подскарбий литовский Федор Скумин[129]. Вместе с тем Баторий строго-настрого приказал соблюдать полное спокойствие на границах с московским государством, чтобы не давать даже малейшего повода к столкновению[130].
Но дипломатия могла оказаться безуспешной. И в самом деле, на такой исход переговоров с московским царем указывали в начале 1577 года некоторые обстоятельства, и притом весьма серьезные. Жители мятежного города Данцига завязали сношения с Москвой и Татарами, чтоб получить оттуда помощь или по крайней мере поставить Батория в затруднительное положение, чего они и добились до известной степени. Царь отправил крымскому хану подарки, и Татары произвели свой обычный опустошительный набег на Волынь и Подолию. Баторий мог подозревать, что Иоанн начнет скоро войну, следовательно, весьма близок момент величайшей опасности для государства. Чтоб отразить ее, необходимо было изыскивать средства, и изыскивать поспешно. Баторий проявил при этом свою обыкновенную энергию. Он созвал на 23-е марта сенаторов в город Влоцлавок и предложил им обсудить миры, необходимые для государственной обороны[131]. Сенаторы посоветовали обратиться к шляхетским сеймикам непосредственно за новыми налогами и не созывать сейма, так как совещания его бывают безрезультатны. Мера, присоветанная королю сенаторами, была противна конституции, тем не менее Баторий решил испробовать ее[132]. Чтоб сильнее повлиять на умы шляхты и таким образом склонить ее к необходимым пожертвованиям на защиту государства, король изобразил печальное состояние страны самыми яркими красками. Жители Данцига не только упорствуют в своем мятеже, но производят неслыханные грабежи и насилия. Они опустошили много шляхетских имений, разрушили монастырь Оливу, намереваются уничтожить и самое имя Польши в Пруссии. Мало того, они обращаются за помощью к врагам Речи Посполитой и строят всюду против нее козни. В то же время Татары своими вторжениями в пределы государства причинили ему немало вреда. Опасность угрожает и со стороны московского царя. Речь Посполитая погибнет, если не будет оказана ей помощь[133]. Так король говорил к шляхте. Одновременно он пробовал добыть средства и из других источников. Маркграф анспахский хлопотал о предоставлении ему опеки над душевно больным герцогом прусским Фридрихом-Альбрехтом. Король согласился исполнить желание маркграфа, но под условием уплаты 200 000 золотых. По просьбе короля, частные лица дали казне денег в ссуду. Вместе с тем Баторий решил привлечь к пожертвованиям и духовное сословие, которое освобождено было от государственных налогов и только по своей доброй воле давало иногда субсидию государству. По этому поводу собрался синод в Петрокове и желание короля было удовлетворено: синод определил дать королю субсидию, которая могла достичь суммы 70 000 золотых. Обращение к шляхте увенчалось тоже успехом. Главные провинциальные сеймики в Коле, Корчине и Варшаве установили налоги согласно положениям, определенным на люблинском сейме 1569 года[134]. Прусский сеймик в Грудзиондзе увеличил побор в 200 000 золотых еще на 100 000. Сенат разрешил Баторию заложить даже коронные драгоценности[135].
Литовцы позамешкались несколько в установлении налогов, необходимых для государственной обороны, хотя опасность со стороны Иоанна была уже близка: он стянул уже свои войска в Новгород и Псков. На эту мешкотность литовцев Поляки обратили внимание короля, и он должен был сделать им упрек за это, побуждая их вместе с тем принимать поскорее меры для защиты Ливонии[136].
Литовцы на своем главном сеймике в Волковыске пришли тоже, как и Поляки на своих главных сеймиках, к заключению, что необходимо установить налог на всех без исключения, ввиду грозной опасности, надвигавшейся со стороны московского государства[137].
Опасения Батория относительно того, что дипломатические переговоры с Москвою могут быть безуспешны, оказались вполне основательными. Баторий напрягал усилия свои к тому, чтобы увеличить средства, необходимые для государственной обороны, а Иоанн принял уже давно (еще 10-го февраля 1577 года) постановление «идти очищать свою отчину Вифлянскую землю»[138].
II. Ливонский поход Иоанна (1577)
Состояние Ливонии в этот момент было весьма печально.
Мы знаем, что еще в 1570 году Иоанн провозгласил королем ливонским на вассальных условиях принца Магнуса, надеясь при помощи такой политической комбинации достичь скорее намеченной цели, а именно утвердиться на берегах Балтийского моря ради торговых и промышленных сношений с Западной Европой. Магнус обязался давать свободный проезд через свои владения иностранным купцам, художникам, ремесленникам и военным людям, направлявшимся в московское государство.
Осуществление этой политической комбинации сильно обрадовало Иоанна: он отпраздновал торжественно возведение Магнуса в короли, выпустил в честь его на свободу всех Немцев, которые находились у него в плену, и обручил своего вассала со своею племянницею Евфимией Владимировною, дочерью кн. Владимира Андреевича[139].
План создания ливонского королевства можно было привести в исполнение только в той части прежней Ливонии, которая принадлежала Шведам, ибо с Польшей было заключено перемирие. Иоанн отправил немедля, уже в августе 1570 года, Магнуса с войском в Эстляндию, но предприятие потерпело крушение при осаде города Ревеля. Эта неудача сильно напугала Иоаннова вассала, в особенности тогда, когда два его пособника, Таубе и Крузе, авторы проекта ливонского королевства, бежали в Польшу, чтоб избежать царского гнева. Магнус опасался и для себя царской опалы, вследствие чего удалился даже на остров Эзель. Но Иоанн продолжал оказывать благосклонность своему вассалу: он выдал даже за него замуж свою вторую племянницу Марию Владимировну, когда первая умерла (12-го апреля 1573 года). Однако царь не питал уже к нему прежнего доверия, боясь измены с его стороны. Магнус должен был удовольствоваться только двумя замками, Каркусом и Оберпаленом, которые царь пожаловал ему во владение. Король-неудачник жил здесь со своей юной женою в весьма бедной обстановке и в постоянной тревоге за свои владения, ибо они подвергались опустошениям не только со стороны Шведов, с которыми московский государь вел войну, но и со стороны отрядов, находившихся на службе Речи Посполитой, несмотря на перемирия, которые она заключала с Москвой[140], так как Иоанн тоже не соблюдал в точности перемирных договоров.
Царь Иван Грозный с воинством. Деталь иконы Церковь воинствуюшая. XVI в.
Речь Посполитая, как мы видели выше, старалась обезопасить Ливонию от притязаний Иоанна путем дипломатических переговоров, что ей и удавалось делать. Существенной же защиты она не могла оказать стране, так как на это в казне не было средств.
Между тем Ливония была страшно опустошена, силы ее истощены; кроме того, в умах населения царила полная неуверенность в том, чем оно владело, а нравственное состояние его отличалось величайшею неустойчивостью. В то время как одни выказывали полную преданность Речи Посполитой, другие готовы были изменить ей во всякую минуту. По стране сновали тайные агенты, которые возбуждали жителей против польско-литовского владычества. К довершению бедствий, ей постоянно угрожало нашествие неприятеля, который действительно иногда и вторгался в ее пределы и производил опустошения. Вопреки перемирию московские войска вторгались в декабре 1572 года[141]; в начале 1575 года они захватили замок Салис[142], в июле того же года завладели городом Перновом, причем во всех этих походах они производили страшные опустошения в стране и страшные жестокости над жителями[143]. После взятия Пернова ливонцами овладела сильная паника: многие искали спасения бегством в Ригу. Решено было обратиться за помощью к Речи Посполитой, что казалось самою настоятельною необходимостью, так как Иоанн соглашался соблюдать мир с польско-литовским государством, за исключением Ливонии[144]. Просьба ливонцев была удовлетворена, но помощь оказана ничтожная. Администратор Ливонии Ходкевич двинулся было с отрядом в 2000 человек против Русских, но вследствие малочисленности своего отряда мог отнять у врага только замок Руин[145].
Сознавая слабость своих сил, Литовцы старались, как мы знаем, удержать Иоанна от завоевания Ливонии путем дипломатических ухищрений, обещая царю избрать его или его сына на престол. Эти ухищрения увенчались успехом. Посылая в Литву Луку Новосильцева, Иоанн обещал и в ливонскую землю рати не посылать[146]. Это обещание обезопасило Ливонию от неприятельских нападений на очень короткое время.
В начале октября 1576 года Магнус напал на замок Лемзаль и завладел им в отмщение за нападение, произведенное курляндскими дворянами на его замок Амботен[147]. Это случилось уже в царствование Стефана Батория.
Страдая от этих неприятельских вторжений, неуверенные в безопасности своего имущества и своей жизни, ливонцы сваливали вину на правительство Речи Посполитой: они осуждали особенно сильно нерадивость администратора Ливонии Ходкевича, обвиняя его даже в тайном пособничестве видам московского государя. Но эти обвинения были, как мы знаем, совершенно неосновательны. Ливонцы жаловались также и на то, что их страна не была включена в перемирный договор, как будто бы она не входила в состав Речи Посполитой; между тем Ходкевич уверял, что перемирие распространяется и на Ливонию, и вследствие этого требовал, чтобы никто в Ливонии не вооружался, ибо это раздражает могущественного соседа и колеблет мирные отношения, в которых состоит с ними Речь Посполитая. В этих обвинениях заключалась весьма малая доля истины: как нам известно, Иоанн только в 1575 году явно исключил Ливонию из перемирного договора, но затем через Новосильцева дал обещание не вести войны и в Ливонии. Речь Посполитая действительно защищала слабо Ливонию, но, может быть, не хуже, чем свои другие области, ибо ее постоянные вооруженные силы были ничтожны; дипломатия же прилагала все свои усилия к тому, чтобы поддержать мир с московским государством.
Если ливонцы жаловались на то, что Речь Посполитая слабо их защищает и даже не позволяет им самим защищаться и в этом усматривали главную причину своих бедствий, то они забывали, что польско-литовское правительство не могло питать к ним доверия, так как в стране гнездилась измена.
Многие замки находились в руках немецких начальников, состоявших в сношениях с врагами Речи Посполитой и ставивших в стеснительное положение тех, которые оставались преданными польско-литовским властям. Вероломство ливонцев сделалось, по словам Батория, их обыденным пороком[148]. Ввиду этого Ходкевич опасался созывать посполитое рушенье в Ливонии, ибо оно могло обратить свои действия против Речи Посполитой, запрещал производить вообще какого бы ни было рода вооружения[149].
Администратор был так раздражен против вероломных ливонцев, что на просьбу их о помощи заявил, что помочь им он не в состоянии, а если бы он и мог это сделать, то он не прислал бы им в виде вспоможения даже и никуда не годную корову[150].
Стефан Баторий делал все, что только мог, чтоб усилить оборону Ливонии: посылал туда войско, какое для этой цели имелось у него в распоряжении[151], приказывал исправлять ливонские замки, увещевал Ходкевича отправиться в управляемую им область и устранить тех начальники крепостей, которым нельзя было доверять, уговаривал Литовцев не скупиться деньгами на отражение врага и т. п.
К тому же король рассчитывал еще на успех дипломатических переговоров, хотя и не вполне. Снарядив великое посольство, он известил Иоанна об этом и предлагал пока соблюдать перемирие по всем границам обоих государств, но Иоанн в своем ответном письме Ливонию обошел молчанием, что встревожило короля.
Выезд Ивана Грозного на борьбу с Ливонией. Художник Г. Э. Лесснер
Отправление великих послов в Москву замедлилось вследствие болезни мазовецкого воеводы Станислава Крыского[152].
Между тем приходили весьма тревожные вести из Ливонии: туземные и иностранные купцы извещали, что царь собирает громадные силы в Пскове и готовится опустошать огнем и мечом Ливонию. Ввиду этого ливонские каштеляны просили короля выслать войско по направленно к Пскову, чтобы преграждать движение врагу[153]. На эту просьбу Баторий мог ответить только обещанием удовлетворить ее, но исполнить не был в состоянии, так как война с Данцигом была в самом разгаре[154].
Усилия короля не увенчались желанным успехом: Речь Посполитая начинала только еще готовиться к отражению врага, когда он нагрянул на Ливонию.
Решив еще в феврале занять ее вооруженной силой, Иоанн стал делать соответствующие приготовления. Главными сборными пунктами для войск были назначены Новгород и Псков, а чтобы усыпить внимание настоящего врага, был пущен слух, что это сборы в поход против Ревеля[155]. Действительно, московские войска осаждали этот город зимою 1577 года, но неудачно, так что слуху можно было поверить[156].
Приготовляясь к войне с Речью Посполитой, Иоанн в то же время возобновлял проект ливонского королевства, на иных только условиях, и возобновлял, конечно, с той целью, чтобы легче было осуществить планы своей политики. Орудием ее опять явился Магнус.
Положение этого короля, короля только de nomine, было очень тягостно, и он захотел выйти из него как-нибудь. Получая сведения об энергических действиях Стефана Батория, он стал подумывать о приобретении его покровительства для себя, т. е. об измене Иоанну. Уже в конце 1576 года[157] он вошел посредством польских офицеров в Ливонии в сношения с Ходкевичем, обещая передать Баторию Иберполь, Каркус, Лемзаль и другие свои замки, если будут приняты предлагаемые им условия[158]. Затем он обратился по этому делу к посредничеству курляндского герцога, и так начались переговоры с самим Стефаном Баторием[159]. Конечно, их старались вести в совершенной тайне, однако слух об них дошел до Иоанна. Предполагая, что измена его может быть легко открыта и опасаясь вследствие этого попасть в руки Москвитян, Магнус стал переезжать из одного замка в другой, что еще более усилило подозрительность Иоанна. Тогда царь приказал арестовать своего вассала, которого он подозревал в вероломстве, но Магнусу удавалось некоторое время избегать московских отрядов, высланных с целью задержать его[160].
Положение Магнуса было критическое. Чтобы выйти из него, он притворился в полной преданности своему сюзерену. Иоанн потребовал его к себе во Псков, куда он, конечно, волей-неволей должен был поехать, чтобы оправдаться перед царем. Оправдания эти имели успех до известной степени. Иоанн поверил им или по крайней мере показал вид, что им верит. По особенному соглашению Магнус получил от Иоанна область к северу от реки Аа (частью этой области он уже владел) и к югу город Венден. Ливония между Аа и Двиною переходила во владение Иоанна; занимать здесь отдельные пункты Магнус имел право только с Иоаннова соизволения[161].
Прежде чем выступать в поход на Ливонию, Иоанн отправил сюда разведочный отряд Татар, чтобы узнать, каковы силы страны. Польский полковник Матвей Дембинский пытался было остановить движение татарской конницы, но вследствие малочисленности своего отряда был разбит и обращен в бегство. Когда Татары донесли Иоанну, что войска в Ливонии ничтожны, он двинулся в поход из Пскова[162], имея с собою до 30 000 человек[163] (13-го июля).
Еще раньше (9-го июля) из Новгорода царь выслал вперед отряд в 4316 человек под начальством князя Тимофея Романовича Трубецкого, приказав ему идти на Трикат и Вольмар[164].
Трубецкой произвел сильное опустошение и избиение жителей в окрестностях замков Триката, Вольмара, Нитау, Зегевольда, Трейдена, Кремона и других[165] и таким образом достиг Западной Двины у замка Крейцбурга[166].
Между тем сам Иоанн подступил к замку Мариенгаузену (16-го июля).
В укреплении находилось всего 25 человек гарнизона и 8 пищалей[167]. Вследствие этого сопротивление многочисленному войску Иоанна было невозможно, да и охоты сражаться у немецких солдат не было. Поэтому неудивительно, что замок сдался царю без боя, когда он послал к начальнику крепости грамоту с приказанием, «чтоб они (т. е. воины) из государевы вотчины вышли вон, а город бы Государю отворили того часу», и вместе с тем велел обстреливать крепость[168]. Царь отпустил весь гарнизон с начальником его на свободу, приказав остаться в городе только местным жителям[169].
Оставив в Мариенгаузене 75 человек гарнизона, Иоанн двинулся к Люцину, который тоже подчинился ему без боя (24-го июля). Начальником замка был Юрген фон-Ольденбокум. Лица, посланные в царский стан, сказали, что они верно служили королю Жигимонту-Августу, но что «за Стефаном быти не хотели и ему не присягнули и по се время, а надеялись на Государя, что их Государь пожалует под сильную руку возьмет для того, что Лифлянская земля вотчина государева». Когда их спросили, почему они в таком случае до царского прихода бить челом государю не присылали, они ответили, «что надеялись на Государя, а иное чаели себе помочи от Цысаря и от Цысаря о том присылка к нам не бывала и помочи себе от него не почаяли; а коли ныне пришел под город под Лужу Государь царь и великий князь, ино город да они в Божей, да в царских руках»[170].
Руины Люцина
Немцы, находившиеся в крепости, изъявили желание служить московскому государю. А потому Иоанн приказал отправить их в Москву и «разобрав, устроить поместьми и деньгами; а которые пригодятся в пушкари и в стрельцы, и тех устроить жалованьем денежным и хлебным»[171].
В Люцине было оставлено 100 человек гарнизона. Намереваясь направиться затем к городу Режице, Иоанн призвал к себе бывшего начальника крепости немца Юргена фон-Ольденбокума (Юрия Букана) и отдал ему такое повеление: «ныне велели есьма тебе и твоему сыну Вернову ехать с собою до Резицы для того, как мы будем у Резицы, и ты б приказал к сыну своему Христофору, или к тем, которые в Резице державцы сидят от сына твоего, чтоб сын твой Христофор нашу отчину город Резицу нам отдал потому ж, как ты нам город Лужу очистил и крови б на себя сын твой тем не навел и нашея ярости не взводил». На это «немчин Юрий Букан и сын его Вернов Государю били челом: мы подданы твоего Царского Величества на твоей великой милости челом бьем. И царь и великий князь немчина Букана и сына его Вернова пожаловал, велел им быть у стола».
Режицею Иоанн овладел, не произведя и одного выстрела (27-го июля). Лишь только царские войска подступили к городу, как тотчас же вышли из него «мызники и били челом Государю царю и великому князю, что город Резица Божья да его государева вотчина, а их бы Государь пожаловал, велел устроити в своих государевых городех, потому ж как Государь пожаловал и лужских немец». Вследствие этого Иоанн милостиво обошелся со сдавшимися Немцами и также принял их на свою службу[172].
Оставив в крепости 178 человек войска, Иоанн направился к Динабургу (Невгину). Начальником гарнизона был здесь поляк Соколинский[173], который, выслав в царский стан двух Немцев, объявил, что сдает город на всей государевой воле (9-го августа). Иоанн велел расспросить сдавшихся, хотят ли остаться у него на службе или получить свободу, обещая, что тех, «которые похотят на его государево имя и Государь их пожалует на свое имя, взять их велит и устроит, как им быти; а которые на государево имя не похотят, а учнут бити челом, чтоб их Государь пожаловал, велел им дати повольность, и Государь пожалует, отпустить их велит». Невгинские люди били челом, чтоб их государь пожаловал, велел им дать волю.
Руины Квадратной башни Динабургского замка
Иоанн не только дал им свободу, но и удостоил их особой милости, пригласил к своему столу и пожаловал им шубы и охобни.
В Динабурге оставлены были 350 человек и значительная артиллерия[174].
По пути к Лаудону (не доходя 3 версты от него) Иоанн послал отряд в 200 человек к Крейцбургу под начальством Елчанинова. Последний (6-го августа) донес царю, что «он приехал под город, аже город горит, а ворота де городовые, выгорев, завалились». Тогда Иоанн приказал «досмотрити того, доехал ли Иван Елчанинов до Круцборха или не доехал?» Посланный принес царю известие, «что он под Круцборхом был и про Ивана Елчанинова сказал, что он ж с детьми боярскими и с стрельцы стоит у города у Круцборха, а в город ехати ему нельзя, потому что де город горит и ворота у города выгорели». Город был зажжен, очевидно, отрядом кн. Трубецкого, достигшим Западной Двины у этого именно пункта.
Иоанн приказал Крейцбург осмотреть, и из осмотра оказалось, «что в городе в Круцборхе стараго города стена разсыпалась вся, а в вышегороде домы погорели все, а в вышке мосту и кровли нет»[175].
Затем царь двинулся к Лаудону, который подчинился добровольно. Лаудонские немцы были отпущены за Двину, но «Левдун велел Государь разорить»[176].
Когда Иоанн подступил к Зессвегену (Чиствину) и послал к «чиствинским людям грамоту, чтоб чиствинские люди город Чиствин Государю очистили без кровопролития», чиствинские Немцы грамотой, по-немецки писанной, ответили, что они хотят «Королевскому Величеству польскому верны быти и целованья забыти» не хотят. Царь послал вторую грамоту, но посланный в город Латыш принес ее назад и сказал, «что у него той грамоты не взяли, а хотели его застрелить». Тогда Иоанн расставил полки, чтобы силою принудить сопротивляющихся к сдаче. Но из города явился в московский стан перебежчик, один Немец, который на допросе заявил, «что в городе большой человек Немчин Ернист фон-Минин да мызников 12 человек, и Ернист ранен, застрелен из лука и с тое раны умирает, чаю и умрет, а его Волка Амоса Ернист и все мызники Царскому Величеству послали бити человеком, чтоб их Царское Величество пожаловал, от смерти живот дал, а из города выпустить велел, а они Государю город отворят и во всей воли государской учинится».
Царские бояре поставили им в вину, что они «своровали, грамоты царские не взяли». Немцы сознались в вине, что «по первой грамоте города не отворили, в том пред Государем виноваты, в милости и в казни волен Государь».
Того же дня пришли в царский стан другие Немцы из города и тоже просили для себя пощады. Но бояре им сказали: «нынча вы у Государя милости просите, а дотудова Государь к вам писал две грамоты, чтоб вы город отворили, а государь вам милость покажет, как будет пригоже; и вы того не послушали, и Государю нашему как вам в том милость давать». И затем летописец лаконически замечает, что «августа в 20-й день Бог поручил Государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси город Чиствин», обходя, очевидно, молчанием те казни, которым были подвергнуты жители его за сопротивление[177].
Из немецких источников мы узнаём, что начальников города четвертовали, разрывали на части лошадьми, сажали на кол и рассекали саблями, а женщин подвергали насилованию[178].
Оставив в Зессвегене 120 человек гарнизона и соответственную артиллерию[179], Иоанн того же 20-го августа послал отряд войска в 2013 человек к городу Шванебургу (Гольбину); на следующий день город был разорен, а артиллерия[180] его перевезена в Зессвеген.
После того Иоанн взял (22-го августа) Берсов (Борзун), где оставил 140 человек гарнизона и артиллерию, состоявшую из 38 пищалей и 7 самопалов[181].
Затем Иоанн направился к Кокенгаузену (Куконосу). Когда он находился уже вблизи города (на последнем стане), приехал к нему оттуда князь Иван Белосельский с грамотой от короля Магнуса и донес, что последний взял Венден (Кесь) и послал отряд в 50 человек занять Кокенгаузен.
Здесь необходимо сказать несколько о деятельности Магнуса в это время. Когда московские войска произвели вторжение в Ливонию, он обратился с воззванием к Ливонцам, увещевал их подчиниться московскому государю: силы их ничтожны, помощи ждать неоткуда, а царь идет с грозною силою; подчинение смягчит его гнев и остановит его дальнейшее движение. Он, герцог, находится в добром согласии с московским государем, а потому можно положиться на его помощь. Мало того, его, герцога, предприятия в Ливонии одобряются империею и императором и покровительство их Ливонии обеспечено. Ливонское государство будет состоять под управлением голштинских герцогов или в случае прекращения их династии – под управлением герцогов мекленбургских.
Это воззвание так подействовало на ливонцев, что они возмутились против польско-литовского владычества, изгнали из многих городов польские и литовские гарнизоны и 14-го августа в Вендене провозгласили Магнуса своим королем[182].
Жители Кокенгаузена передались тоже на сторону Магнуса и просили его прислать им поскорее войско для защиты. Город был вне пределов, определенных псковским договором, а потому Магнус не имела права занимать его без ведома и согласия Иоанна. Однако Магнус сделал это, чем и навлек на себя гнев царя[183]. Он известил своего сюзерена уже о совершившемся факте грамотой, о которой мы сказали выше.
Царь приказал прочесть ее в присутствии бояр и дворян, и те выразили мнение, что «король Арцымагнус учинил не гораздо через договор». Нарушение Магнусом договора не ограничилось только тем, что был занят Кокенгаузен. Оказалось также, что Магнус хотел овладеть Пебалгом (Пиболдою), но русские, находившиеся здесь, не допустили до этого: ограбив немцев, они отпустили их к королю.
В своей грамоте Магнус перечислял города, которые ему сдались, и в числе их были такие, которые не были уступлены ему Иоанном. Ввиду всего этого царь приговорил послать к королю грамоту, «выписав его непригожее дело, которое он через договор чинил»[184].
Иоанн писал, между прочим, следующее своему вассалу: «Прислали к нам твои люди, а того не ведомо, кто имянем писал, твою грамоту, а в твоей грамоте писано, что тебе сдались город Кесь (Венден), город Нитов (Нитау), г. Шкуин, г. Зборск, г. Голбин (Шванебург), г. Чиствин (Зессвеген), г. Тыржин, г. Пиболда, г. Лавдун, г. Борзун, г. Канцлов, городок Ерла, городок Фес, городок Леневард, городок Воршевад, городок Сунжел, городок Роденож, городок Кокенгауж. И по той по твоей грамоте, сложись с нашими недруги, нашу вотчину отводишь, а которая у них казна и ты тое казну у нас теряешь; а как еси у нас был в Пскове, и мы тобе тех городов не поступывались, одну есмя тобе позволили доставити Кесь, да те городки, которые на той стороне Гови (Аа) реки, и ты в те городки вступился неподельно… А будет тебе не ничем на Кеси и на тех городках, которые за Говею сидят и ты поди в свою землю Езел да и в Датскую землю за море, а нам тобя имати нечево для, да и в Казань тобя нам ссылали; то лутчи только поедешь за море, а мы с Божиею волею очистим свою отчину Вифлянскую землю и обережем»[185].
Русские войска в Ливонии. Летучий листок. 1561 г.
25-го августа Иоанн послал к Кокенгаузену отряд в 2059 человек под начальством воевод окольничего князя Петра Ивановича Татева и Даниила Борисовича Салтыкова. Немцы не хотели пустить их в город, требуя, чтобы они показали им грамоту короля Магнуса, разрешающую занять город. За такое противодействие воеводы, войдя в Кокенгаузен, приказали перевязать Немцев и донесли об их сопротивлении царю. Прибывший к Кокенгаузену Иоанн «за королевы Арцымагнусовы непригожие дела, что он через договор учинил, приказал и велел тех немец казнити смертью» и оставить в живых только трех, четырех человек, чтоб было с кем отослать к королю государеву грамоту. Царево приказание было исполнено в точности: в живых оставлены только «толмач Анц да служивый немчин Ганус Берга»[186].
Оставив в Кокенгаузене 1007 человек гарнизона и значительную артиллерию[187], Иоанн двинулся к Эрли. Между тем отряд в 796 человек детей боярских и 700 стрельцов под предводительством Богдана Яковлевича Бельского взял Ашераден (26-го августа). Старик ландмаршал Каспар Мюнстер был подвергнут Москвитянами сечению розгами, а затем сброшен со стены и умерщвлен, другие пленники обезглавлены, женщины заперты в саду и отвратительным образом изнасилованы[188].
Находясь у Эрли, Иоанн узнал, что Магнус послал отряд в 80 человек занять Вольмар[189]. Здесь начальником гарнизона был князь Александр Полубенский. Он находился в самом критическом положении: гарнизон не имел продовольствия в достаточном количестве, а крепость – орудий для защиты; между тем помощь из Литвы, несмотря на самые настоятельные просьбы Полубенского, не являлась[190]. Поэтому неудивительно, что отряд Магнуса легко завладел Вольмаром. Узнав об этом, Иоанн отправил к Вольмару войско (в 2603 человека) под предводительством Богдана Яковлевича Бельского и Дементия Ивановича Черемисинова, дав воеводам такой наказ. Когда они прибудут к городу, пусть пошлют к начальнику немецкого гарнизона требование выехать из города или впустить в город присланный царем отряд. Если Немцы выедут, тогда Бельскому и Черемисинову «Немец переимати и самим ехати в город, а мелких людей побити»; оставить в живых только начальника и лучших людей. Полубенскому, который, по слухам, сидит еще в Вольмаре (в Вышгороде), Иоанн приказал обещать свою милость и отпуск к королю Магнусу. Когда Полубенский выедет из крепости, следует пристава к нему приставить и обходиться с ним хорошо, но казну и лошадей у него отнять. Если Немцы и Полубенский запрутся в Вольмаре, то воеводы должны промышлять над городом «государевым делом, по государеву наказу». Если Полубенского не будет в городе, тогда воеводам под городом не стоять, а возвращаться к государю; а если они узнают, что Полубенский находится от них в верстах 20-ти или 30-ти, то преследовать его и догнать. Воеводы стали действовать согласно царскому приказу.
Осада войсками Ивана Грозного ливонского города во время Ливонской войны 1558–1583 гг. Художник Ф. А. Модоров
Полубенского нельзя было сразу найти: одни говорили, что он находится уже в Вендене, а другие, что сидит еще в Вольмаре[191]. Между тем Немцы не хотели пускать Русских в город; поэтому Иоанн приказал своим воеводам промышлять над ними. Во время осады крепости Полубенский попал в руки осаждающих и отведен был к Иоанну. Царь обошелся с ним милостиво: он отпустил вскоре затем пленника на родину[192].
Пока происходила осада Вольмара, Иоанн взял крепость Эрлю[193] и после этого усилил артиллерию под Вольмаром посылкою новых орудий. 1-го сентября Бельский и Черемисинов стали делать приготовления к штурму. Тогда осажденные произвели попытку прорваться сквозь ряды осаждающих, но большая часть их была перебита; в живых остались только 12 человек и начальник гарнизона Георг Вилькин[194].
29-го августа сдался Иоанну Ленсвард. Город занял своим отрядом Магнус. Но взятие Кокенгаузена так напугало Немцев, что они добровольно подчинились царю[195].
Из Эрли Иоанн направился к Шуину, но миновал этот город и пошел к Вендену, к которому он прибыл 31-го августа. Он тотчас же потребовал к себе Магнуса. Последний побоялся явиться лично к царю; он послал к своему сюзерену только двух посланцев. Их наказали кнутом и послали сказать королю, что он сам должен прибыть к своему повелителю. Сопротивляться являлось безумством, ибо силы были слишком неравны. В сопровождении небольшой свиты из 25 человек поехал Магнус в царский лагерь. Здесь его немедленно арестовали, отняли орудие и привели к Иоанну. Лишь только он увидел царя, как тотчас же сошел с коня и бросился на колени умолять о пощаде. Сверх ожидания, царь принял его милостиво. Но в это время раздался выстрел из крепости и ядро пролетело мимо самой головы Иоанна. Подозрительный царь усмотрел в этом адский умысел на свою жизнь. Разразившись сначала потоками брани, он ударил затем в припадке гнева своего вассала по лицу[196], приказал взять его под стражу и держать в полуразвалившейся избе. После этого гнев царя обратился на тех, которые, казалось ему, посягали на его жизнь.
Город был уже занят царскими войсками, ибо Магнус, еще до своего свидания с Иоанном, распорядился открыть городские ворота. Выстрел из крепости раздражил Москвитян, вследствие чего они при занятии города произвели немалую резню. Те, которые избежали ее, спаслись в замок. 1-го сентября началось жестокое обстреливание крепости, продолжавшееся до 5-го сентября. Положение осажденных становилось с каждым часом ужаснее. Их мучил голод и жажда, ибо не только хлеба, но и воды не хватало; между тем средства к защите истощались. Несчастным предстоял один конец – смерть. Однако и в этом безысходном положении был выбор. Смерть в руках врага, если он возьмет крепость, соединена была с ужасными мучениями; самоубийство от них освобождало; мало того, оно окружало погибших блестящим ореолом геройского мученичества. Страх и отчаяние, благородство и мужество слились в одно, и осажденные приняли решение – умереть добровольно. Решено было взорвать замок на воздух. С этой целью в замковой часовне приготовили несколько бочек пороху. Капитан Генрих Бойсманн поджег порох, последовал взрыв, который под развалинами замка похоронил много жертв. Однако борьба и после того не прекратилась: она происходила в нижних частях крепости, уцелевших от взрыва. Осаждающие врываются сюда, но следует новый поджог мин, новый взрыв, и ожесточенная борьба прекращается[197].
Овладев Венденом[198], Иоанн отправил в Трикатен к польским начальникам крепости Яну Бычковскому и Щенсному Малиновскому грамоту с требованием отворить город, за что обещал отпустить их к их королю Стефану с женами и с детьми «безо всякие зацепки». Король Стефан, прибавлялось в царской грамоте, хочет прислать к царю послов для заключения мира, и царь готов помириться, лишь бы были только подходящие условия. Предложения были заманчивы, сопротивление же невозможно, тем более что на помощь Речи Посполитой нечего было рассчитывать[199], и Трикатен был сдан комендантами[200].
Несколько раньше сдался Иоанну Роненбург. Эту крепость долгое время защищал мужественно от войск Магнуса Полубенский, находившийся здесь до своего переезда в Вольмар: он отбил нисколько приступов врага и принудил его отступить от крепости. Но переехав в Вольмар и попав в плен, он, по желанию Иоанна, написал грамоту к начальникам гарнизона в Роненбурге о неизбежной необходимости сдать крепость царю, что те и сделали[201].
Взяты были еще замки Смильтен, Шуйен и Юргенсбург[202]. Так Иоанн завладел почти всей Ливонией, не встречая почти нигде в открытом поле сопротивления. Небольшой отряд в 100 всадников, наткнувшийся на московские войска при Эрли и Нитау, принужден был вступить с ними в сражение, но, конечно, без всякого успеха[203]. Военные силы Речи Посполитой в Ливонии были ничтожны. Князь Христофор Радзивилл командовал здесь отрядом в 300 всадников, стоявшим в Кокенгаузене. Ввиду ничтожности собственных сил и многочисленности врагов литовский предводитель не в состоянии был дать решительного отпора врагам, тем не менее он пытался это сделать, притом с некоторым успехом, ибо ему удалось захватить в плен и Москвитян, и Татар[204].
Но оставаться в Ливонии ввиду громадных сил неприятеля и измены со стороны самих Ливонцев, угрожавшей на каждом шагу[205], было бы для Радзивилла безумием, поэтому он с приближением войск самого Иоанна к Двине поспешил переправиться на ту сторону реки. За ним последовал отряд польских гусар (тоже в 300 человек), находившийся под командою ротмистра Альберта Оборского[206].
Герб Ливонского ордена. Замок в Дундаге
Администратор Ливонии Ходкевич держал свое войско в 4000 человек вне пределов страны, полагая благоразумно, что борьба с врагом, у которого 30 000 человек войска, невозможна[207].
При известии о нападении Иоанна на Ливонию Стефан Баторий, занятый войною с Данцигом, не знал, что делать. Противник посполитого рушенья, он готов был употребить в дело даже и эти военные силы, но недоумевал, куда их направить, против ли самого Иоанна, или в пределы московского государства, чтобы отвлечь силы царя из Ливонии для защиты своих собственных владений. Король предоставлял выбор плана военных действий на усмотрение виленского воеводы Николая Радзивилла. Вместе с тем он советовал воеводе нанимать поскорее солдат, потому что только при помощи их можно успешно вести борьбу[208].
Момент был действительно критический. После покорения Иоанном Ливонии опасность угрожала и самой Литве. Ввиду этого Баторий созвал литовское посполитое рушенье и назначил великим гетманом виленского воеводу Радзивилла[209].
Посполитое рушенье собиралось по обыкновению весьма медленно[210], а когда собралось, то в таком ничтожном количестве, что о движении против врага нечего было и думать[211].
Иоанн торжествовал: Ливония покорилась ему, истоптана была ногами его коней, по его собственному выражению. Завоевание страны он не считал нарушением договора с Речью Посполитой, ибо «николи того слова не было имяновано, что с Лифляндскою землею мир»[212]. Цель была достигнута: о дальнейших завоеваниях Иоанн не думал и готов был заключить с Речью Посполитой мир, лишь бы только Ливония признана была за ним[213]. Баторий смотрел на дело иначе.
III. Приготовления к войне
И он желал поддерживать пока мир с Москвою, но, конечно, под тем условием, что Иоанн откажется от своих притязаний на Ливонию.
Мы знаем, что к царю снаряжено было великое посольство, с мазовецким воеводой Станиславом Крыским во главе, еще в начале января 1577 года. На сборы послов в путешествие ушло несколько месяцев, а Иоанн в это время произвел вторжение в Ливонию, вследствие чего посольство остановилось на пути в Вильне и обратилось за особыми инструкциями к королю. Вместе с тем оно, по совету литовского сената, вошло в сношения с Иоанном. Иоанн заявлял, что он никогда не откажется от Ливонии, угрожал вторжением в другие области Речи Посполитой и выражал свое неудовольствие на то, что Стефан Баторий не хочет признать за ним царского титула[214], прибавляя, что если последует новый отказ в этом титуле, королевское посольство рискует подвергнуться опасности. Ввиду этого глава посольства Станислав Крыский советовал Баторию не включать Ливонию в условия договора, ибо ее можно будет возвратить силою оружия подобно тому, как силою оружия покорил ее неприятель.
Но Стефан Баторий не согласился принять этот совет. Он считал невозможным давать врагу время укрепиться в Ливонии: искусный в построении замков, он воздвигнет в ней такие укрепления, что ее почти нельзя будет отнять. Кроме того, владея Ливонией, он постоянно будет угрожать Литве и по истечении перемирия легко может захватить самую столицу Литвы, Вильну. Не включать Ливонию в перемирный договор казалось Баторию делом опасным, ибо таким образом можно отшатнуть Ливонцев от Речи Посполитой и толкнуть их в объятия другого государства. Воевать с Москвою из-за одной Ливонии значило, по мнению Батория, тратить попусту труд и время, ибо вести войну в Ливонии неудобно. Баторий уже в это время думал о походе под Полоцк или под Смоленск[215].
Ввиду всего этого король наказывал послам двигаться в пути медленно и медленно вести переговоры («barbarum verbis ducendum»), чтоб протянуть время до сейма, который, как надеялся Баторий, должен дать ему средства на ведение войны с Москвой[216].
Послы стали действовать согласно указаниям короля. Они остановились на несколько месяцев в Орше и завязали переписку с королем и московскими боярами по поводу требования Иоанна давать ему царский титул[217]. Между тем Баторий отправил к Иоанну гонца Мартына Полуяна объяснить причину задержки великого посольства в пути и узнать, желает ли царь вести переговоры о мире или нет[218]. Посылка гонца имела целью в действительности затянуть еще более ведение переговоров.
Стефан Баторий. Неизвестный художник XVI в.
Вследствие этого посольство приехало в Москву только в самом начале 1578 года[219]. Иоанн принял послов пренебрежительно, отзываясь оскорбительно о Поляках, Литовцах и самом короле и давая посольству дурное содержание[220]. Во время переговоров о мире он заявил, что корона польская и великое княжество литовское – его вотчины, ибо род Гедимина, владевший Литвою и Польшей, прекратился, а потому его наследие должно перейти к московским государям, как к ближайшим родственникам Гедиминовичей. Царь обосновывал это родство на происхождении своем от Пруса, брата римского императора Августа и родоначальника литовских князей[221], а права Анны Ягеллонки, жены Стефана Батория, на польско-литовское наследие устранял замечанием: «королевская сестра государству не отчич». К королю Стефану он относился свысока, как владетелю какого-то Седмиградского государства, о котором «никогда не слыхали», а потому полагал, что Стефану в равном братстве быть с ними непригоже; «а захочет с нами братства и любви, так он бы нам почет оказал»[222].
Примирить желания договаривающихся сторон было невозможно. Баториевы послы получили следующую инструкцию. Вечный мир они должны заключать на условии возвращения всего, что было отнято от великого княжества литовского, и прежде всего возвращения всей Ливонии целиком. Если царь поведет речь о перемирии, то договариваться послам о возвращении Пернова и иных замков, которые были захвачены Москвитянами во время мира, включить непременно Ливонию в перемирный договор, заключать перемирие на короткий срок и в документе договора не называть Иоанна царем и не давать ему титулов Смоленского, Полоцкого и Ливонского[223].
Со своей стороны, Иоанн о мире на девять лет или о перемирии на восемь месяцев, как того желал Баторий, и слышать не хотел. Он соглашался на трехлетнее перемирие, начиная от Благовещения 1578 года, но исключал из условий договора Ливонию, называя ее своею вотчиною и причисляя к ней Ригу и Курляндию, владения, которые не были им завоеваны[224]. «Тебе, соседу нашему, – так говорилось в перемирной грамоте Иоанна, – Стефану королю в нашей отчине Лифляндской и Курляндской земле, в наши города, мызы, пристанища морские, острова и во всякие угодья не вступаться, не воевать, городов не заседать, новых городов не ставить и ничем зацепки всякой и шкоды в Лифляндской и Курляндской земли не делать и из Лифляндской и Курляндской земли людей и городов к себе не принимать»[225].
В свою грамоту этого условия Баториевы послы включать не желали и не включили[226]. Таким образом, договор собственно не состоялся: царь скрепил присягою только свою договорную грамоту, а послы лишь свою[227]. Вследствие этого борьба в самом скором времени была неизбежна.
В конце 1577 года Баторий окончил войну с Данцигом и таким образом освободился от одного из важных затруднений, которые парализовали его деятельность в северных и восточных областях государства.
Он мог теперь готовиться к войне с восточным врагом. За средствами на ведение ее надо было, конечно, обратиться к шляхте. Чтоб побудить ее к большим жертвам, король и его помощник в подобных делах Замойский постарались изобразить грозную опасность, надвигающуюся с севера и востока на Речь Посполитую, самыми мрачными красками. В руках царя уже почти вся Ливония, и отсюда ему нетрудно будет проникнуть в Литву, овладеть ее столицей, а затем и всей страной. Если допустить, что замыслы царя направлены не на Литву, то и в таком случае опасность одинаково велика. Царю легко теперь добыть Курляндию, вторгнуться в Пруссию и сделаться владыкой Балтийского моря. Решается судьба не только Литвы, но всей Речи Посполитой. Как видим, всемирно-историческое значение борьбы из-за Ливонии понимали ясно тогдашние руководители польско-литовского государства Баторий и Замойский.
Ввиду грозной опасности необходимо особенно энергическое напряжение народных сил, необходимы чрезвычайные средства. Земское ополчение для этой борьбы не годится, так как для добывания пограничных крепостей нужны пешие воины, а чтобы их собрать и содержать, нужны деньги. Между тем государственная казна совершенно истощилась, а королевской едва хватает на удовлетворение самых необходимых потребностей. Вследствие этого установление новых налогов – дело прямо неизбежное[228]. Чтоб еще сильнее повлиять на умы шляхты и расположить ее еще более к себе, король обещал осуществить наконец реформу суда, которой шляхта давно уже добивалась[229].
Это королевское воззвание произвело желанное действие. Сейм, созванный королем в Варшаве, и открывший свои совещания 20-го января 1578 года, решил вести войну с московским царем, и притом вести ее «в пределах неприятельских, так как прежний способ держать войска внутри собственных границ и только обороняться от врага был осужден на основании происходящего отсюда домашнего вреда и на основании примера прошлого года»[230]. Этот план военных действий был подсказан сейму – в этом нельзя сомневаться – самим королем. Вскоре по окончании сейма Баторий заявлял папскому нунцию Лаурео, что начиная войну с царем, он думает не о возвращении Ливонии, но о завоевании самой Москвы, и что это предприятие не так трудно, как может сначала показаться: стоит только взять Полоцк и Смоленск, и Москва будет в его руках[231]. Чтоб обсудить вопрос, какие нужно сделать приготовления для войны, была выбрана комиссия из сенаторов, которая и представила соответствующий доклад сейму. Тогда сейм, оканчивая свою деятельность (10-го марта), установил на ведение войны сбор налогов в течение двух лет, и притом налогов столь значительных, что никто о подобных в то время не помнил, именно поземельную подать в размере одного злотого и акцизную пошлину в размере 1/8 с продажной цены каждой бочки пива. Сейм обставил эти значительные налоги условием, что король лично будет вести войну и принимать участие в походах[232]. Это условие показывало, что сейм относится к королю с некоторым недоверием, но оно было неуместно, так как Баторий горел желанием совершать военные подвиги наподобие Цезаря
.
Но король мог не быть доволен исходом сеймовых совещаний, так как не все послы выразили свое согласие на установление вышеозначенных налогов: послы воеводств краковского, сандомирского и серадзского заявили, что они не уполномочены одобрить налоги в таких размерах[233]; противилась налогам и Пруссия также[234]. Эта оппозиция являлась немалою помехою для Батория: он не мог сразу решиться, что ему делать, начинать ли войну или мириться с Иоанном[235]. Приходилось созывать сеймики в упорствовавших воеводствах, чтобы убедить шляхту в неотложной необходимости расходов, определенных на сейме, приходилось тратить попусту драгоценное время. Противники Батория, желая возбудить против него общественное мнение, распускали о нем нелепые слухи: говорили, что он намеревается уехать в Венгрию, оставив в Польше губернаторами Замойского и белзского воеводу Андрея Тенчинского[236]. Эти слухи могли казаться основательными, так как король по окончании сейма отправился из Варшавы (14-го апреля)[237] не в Литву, не к границам Ливонии, как можно было бы предполагать ввиду предстоявшей войны с Иоанном Грозным, а во Львов, к границам Венгрии. Кажущаяся основательность слухов производила, конечно, влияние на общественное мнение, возбуждала недоверие к Баторию и усиливала среди шляхетского сословия оппозицию. Король и Замойский старались подавить ее, изображая громадность опасности, угрожающей Речи Посполитой со стороны Москвы. Если восточный враг овладеет одной, двумя гаванями на Балтийском море, он приобретет постепенно господство над всем морем; тогда Данциг потеряет все свое значение для Речи Посполитой, что самым пагубным образом подействует на ее благосостояние. Решается притом судьба не одной Ливонии, но Курляндии и Пруссии и наконец самой Литвы: мало того, гибель грозит всей Речи Посполитой. если граждане ее не будут действовать единодушно[238].
Это воззвание подействовало на шляхту серадзского воеводства. На пути во Львов Баторий узнал, что она согласилась на постановления сейма относительно налогов, но два другие воеводства, подстрекаемые вожаками оппозиции, продолжали упорствовать. Чтобы сломить противодействие, король по пути во Львов заехал в Сандомир и пригласил к себе некоторых местных вельмож, чтобы словом повлиять на них, но они медлили приездом[239].
Сеймики краковского и сендомирского воеводства разрешали королю взимать налоги только в размерах, установленных в 1565 году, т. е. поземельную подать по 20 грошей с лана и акцизный сбор (чоповое) с освобождением от него городов и шляхетских деревень. Шляхта заявляла, что, соглашаясь на эти налоги, она производит насилие над собою и своими крепостными крестьянами, поступает вопреки своим правам и вольностям и желает, чтобы установленные налоги обращены были на военные нужды. Шляхта выражала недвусмысленно подозрение, что король на иные цели употребит полученные от нее доходы. Краковское воеводство давало королю обещание увеличить налоги до нормы, принятой в остальных воеводствах, когда король на самом деле начнет войну, а сандомирская шляхта заявляла лишь готовность выступить посполитым рушеньем против врага, если король откажется принять те налоги, которые оно ему предлагало[240]. Подобное решение сеймиков не могло понравиться королю, ибо противодействие двух воеводств могло оказаться делом опасным, подавая заразительный пример другим воеводствам[241]. Вследствие этого надо было настаивать на том, чтобы и упорствующие воеводства пришли к решению, принятому на сейме. С этой целью Баторий созвал сеймик, общий для этих воеводств, в Новый Корчив, в надежде на то, что он своего добьется, хотя ему, прежде всего вождю, любившему действовать энергично и быстро, сеймиковые совещания весьма и весьма не нравились[242].
Король вместе со своим помощником Замойским еще раз изобразил перед шляхтою самыми мрачными красками опасности, угрожающие Речи Посполитой, стараясь таким образом подействовать на ее патриотизм. Он повторял опять, что грозит гибель Речи Посполитой; а если она погибнет, шляхту, ее жен и детей ожидают всякого рода жестокости, которые будет совершать враг над своими жертвами, ожидают – еще хуже рабства – позор, поругание и посмешище у других народов[243].
Надежды короля не осуществились. Новокорчинский сеймик пришел к такому же почти решению, как и воеводские сеймики: уступки, сделанные королю, были самые незначительные. Малопольскую шляхту возбуждали против Батория главные его противники Зборовские, недовольные тем, что лишились при дворе всякого влияния; к ним присоединился и известный предводитель шляхты Шафранец[244]. В Польше начиналась политическая борьба, виновниками которой были Зборовские, борьба, которая в последующее время вызвала немало замешательств.
Изображение Ивана Грозного на пушке
Король находился в затруднительном положении; он готов был идти на уступки и хотел уменьшить подать со шляхетских имений, оставляя для королевских и церковных имений прежнюю. Голоса сенаторов, к которым он обратился за советом по данному вопросу, разделились. Одни склонялись к мнению короля, другие протестовали против всяких уступок, говоря, что это будет весьма дурным примером, что другие воеводства, узнав о компромиссе короля с новокорчинским сеймиком, потребуют и для себя таких же уступок, а тогда все дело о новых налогах сведено будет на ничто. В то время как король находился в нерешительности, что делать в данном случае, явились к нему два посла от новокорчинского сеймика, донесли в присутствии сенаторов о принятом на сеймике решении и торжественно объявили от имени той шляхты, которая их послала к королю, что она не даст ему на следующий год совсем налогов, если он не примет надлежащих мер по отношению к владельцам королевских имений, чтобы понудить их внести в королевскую казну положенные 1/4 арендной платы[245]. Таким образом, оппозиция имела ту социально-экономическую подкладку, какая всегда обнаруживалась в социальной жизни Польши с тех пор, как шляхта начала играть самостоятельную роль в государстве. Баторий готов был идти напролом: он намеревался пренебречь постановлением упорствовавших воевод и издать универсал о взимании налогов в таких размерах, в каких они были определены на последнем варшавском сейме, хотя и опасался, что это может вызвать замешательство в стране. Однако дело уладилось компромиссом. Замойский пригласил к себе вышеупомянутых послов от новокорчинского сеймика и сумел убедить их в необходимости согласия с остальными воеводствами Польши. В налогах с краковского и сандомирского воеводств сделана была ничтожная сбавка[246]; кроме того, король обязался употребить налоги с этих воеводств исключительно на издержки московской войны и добавить денег из своей казны на заготовку артиллерии и амуниции[247].
Так было устранено одно препятствие, мешавшее осуществлению военных планов Батория, но предстояло впереди еще немало иных помех. Налоги одобрены, но еще не собраны, находятся еще не в казне. На собирание их уйдет немало времени и придется затратить немало энергии. Враги Батория, очевидно, все те же Зборовские, стали собирать сеймики и возбуждать шляхту против короля, распространяя среди нее мнение о необходимости рассмотреть финансовые дела на новом сейме, так как не все воеводства пришли к одинаковым решениям по вопросу о размере налогов. Приходилось принимать меры против этой агитации, причем немаловажную услугу оказал королю по обыкновенно в данном деле Замойский[248].
В Пруссии проявилась тоже сильная оппозиция. Прусские чины не прислали даже своих депутатов на варшавский сейм. Поэтому необходимо было созывать и здесь сеймик, отправлять посла, представлять опасности, угрожающие Речи Посполитой и в особенности Пруссии со стороны московского врага, убеждать, вести переговоры, тратить время, чтобы только добыть средства на государственные нужды. Пруссия не сразу выразила готовность помогать королю. Сеймик, собранный в Грудзиондзе, ограничился жалобами на тяжелое экономическое положение страны и на нарушение привилегий, дарованных Пруссии. Вследствие этого являлась необходимость собрать новый сеймик, который согласился наконец дать королю 50 000 флоринов[249].
Далее, налоги были собраны в казну только к началу 1579 года[250], следовательно, начинать войну в 1578 году было весьма трудно, далее невозможно, так как встречались еще и иные затруднения, притом громадной важности. Прежде чем объявить войну на севере, необходимо было обезопасить предварительно южные области государства от Татар и Турок. С этой стороны могла разразиться сильная гроза.
Стефан Баторий тотчас по вступлении своем на польский престол постарался заключить мир с турецким султаном, имея в виду не только интересы Речи Посполитой, но и интересы Трансильвании, которую Турки легко могли отнять у рода Баториев. С этою целью в Константинополь был отправлен галицкий каштелян Ян Сененьский, которому удалось склонить Турцию к союзу с Речью Посполитой. Султан обещался не только удерживать Крымских Татар от набегов на польские земли, но и оказывать военную помощь Баторию[251].
Пока велись переговоры с Портой, Татары по своему обыкновению произвели весной 1577 года опустошительный набег на Киевскую землю, Волынь и Подолию[252]. Положение Батория в этот момент было весьма затруднительно: приходилось бороться с мятежным Данцигом, отражать близившееся нападение Иоанна на Ливонию и принимать меры против татарских набегов. Кризис не миновал и в конце 1577 года. Данциг, правда, был усмирен, с Турциею заключен союз, но зато Ливония покорена Иоанном: мало того, и со стороны Турции, несмотря на мирный договор, угрожала война. На юге произошли события, которые едва не уничтожили дружественного соглашения с Портой.
Среди запорожских казаков явился атаман, по имени Иван Подкова, прозванный так за свою необыкновенную физическую силу (он легко ломал подковы): он увлек своих удальцов на смелое предприятие. Валах по происхождению, он задумал низложить с престола Валахии господаря Петрила, ибо считал себя основательно или притворно законным наследником страны. При содействии некоторых польских панов и при помощи московского золота авантюристу удалось осуществить свой замысел.
Но властвовать в Валахии пришлось ему недолго. Изгнанный валашским воеводой при помощи Турок, он удалился в пределы Речи Посполитой, в Подолию, в окрестности города Немирова. Опасаясь нарушить мир с Турцией, Баторий приказал арестовать Подкову брацлавскому воеводе князю Янушу Збаражскому, угрожая последнему судом, если он не пожелает подчиниться королевскому приказанию: король подозревал, что воевода был сторонником авантюриста[253]. Подкова был задержан каменецким каштеляном Николаем Сенявским[254] и передан затем князю Збаражскому, который доставил его королю в Варшаву, явившись сам сюда, чтоб оправдаться перед королем в возведенном на него обвинении, будто он помогал Подкове в его походе на Валахию[255].
Казаки после этой неудачи не успокоились. Брат пойманного Ивана Подковы, Александр, предпринял с Запорожцами новый поход на Молдавию, захватил ее столицу Сучаву и провозгласил себя господарем[256]. Тогда Баторий, опасаясь, чтобы султан не присоединил Молдавию к своим владениям и не послал туда паши управлять ею, что было бы немалой опасностью для Трансильвании, посоветовал своему брату Христофору, трансильванскому воеводе, отправить вспомогательное войско молдавскому господарю, осадившему Александра Подкову в Сучаве. Подкова был побежден и попал в плен, где и погиб, посаженный на кол, а казаки были отчасти рассеяны, отчасти умерщвлены или отправлены в цепях в Константинополь[257].
Последствия этих казацких предприятий не замедлили обнаружиться. В феврале 1578 года крымский хан лично произвел опустошительный набег на Волынь и Подолию и осадил князя Острожского в его замке Острог. Король отправил против Татар брацлавского воеводу князя Збаранажского, чтобы прекратить их грабежи, но объявлять войну хану пока считал делом невозможным, из опасения нарушить мир с Турцией. Напротив того, он полагал, что необходимо и с ханом поддерживать дружественные отношения, поэтому обещал давать ему ежегодно поминки, если он направит свои набеги на земли московского государства[258].
Все эти события, происходившие в южных областях Польши, могли повлечь за собой величайшую опасность для Речи Посполитой, особенно ввиду приближавшейся войны с Москвой. Вот что вызвало короля во Львов. Здесь он принимал турецкого чауса и татарских послов.
Князь К. И. Острожский. Портрет XVIII в.
Нападение Подковы на Валахию и Молдавию сильно раздражило султана: он грозил Баторию разрывом союза и войной, если король не накажет примерно казаков, не казнит Ивана Подкову или не выдаст его живьем Туркам[259].
Несмотря на оскорбительные требования, Баторий принужден был извиняться перед султаном, заявляя через своего посла Христофора Дзержка, отправленного в Константинополь, что нет возможности ни истребить казаков, ни удержать их от набегов на турецкие владения[260]. Вместе с тем король постарался привести в действие самые суровые меры, чтобы прекратить казацкие походы и грабежи[261].
Наконец, в угоду султану, Иван Подкова, по приказанию Батория, был обезглавлен в присутствии турецкого чауса, несмотря на то, что многие в Польше ходатайствовали перед королем о даровании жизни смелому атаману[262]. Тогда с Турцией восстановлено было дружественное соглашение.
В это же время происходили переговоры и с крымским ханом. Баторий соглашался посылать ему обычные поминки и соблюдать мир на тех условиях, какие существовали при прежних королях[263], но хан хотел изменить эти условия. Он требовал, чтобы король давал ему ежегодно поминки даже и в том случае, если Татары не будут служить польскому правительству и будут находиться в союзе с Москвой. Кроме того, он требовал, чтобы оба берега Днепра были уступлены Орде, а казаки изгнаны совсем из Запорожья[264].
Однако после продолжительных торгов со стороны татарских послов, при посредничестве турецкого чауса, не без сильного влияния богатых подарков, мир с ханом был заключен на прежних условиях; Татары обязались за получаемые поминки вести войну с московским государством. Над заключением договора Баторию пришлось потрудиться немало. Угрозы турецкого султана и затруднительные обстоятельства, в которых король находился тогда вследствие того, что близилась война с Москвой, усиливали требовательность крымского хана. К счастью для Речи Посполитой, он принужден был, по приказанию турецкого султана, своего сюзерена, послать 30 000 своих подданных на войну с Персами, что ослабило силы Орды, вследствие чего татарское посольство сделалось сговорчивее и пошло на уступки[265]. Так состоялся договор, но только в сентябре 1578 г.[266] Пока шли переговоры с Татарами, король не мог рассчитывать на безопасность южных областей государства, а потому полагал, что его присутствие во Львове, поблизости к этим областям, необходимо[267]. Он уехал из Львова только во второй половине сентября[268].
Вот были причины, вследствие которых приходилось отложить объявление войны Иоанну Грозному до 1579 года. Чтобы удержать царя от новых враждебных действий, король считал необходимым прибегать к дипломатическим уловкам. Получив из Москвы извещение от послов о том, что Ливония исключена из перемирного договора, он послал к Иоанну дворянина Петра Гарабурду просить, чтобы Иоанн и в Ливонии сохранял мир до тех пор, пока перемирный договор не будет им, королем, ратификован[269]. Вместе с тем король отдал приказ не впускать московских послов в пределы Речи Посполитой, пока не вернется из Москвы Гарабурда[270].
Между тем Иоанн отправил к Баторию для ратификации договоров великое посольство, во главе которого стоял дворянин Михаил Далматович Карпов[271]. Согласно королевскому приказу, московских послов задержали сначала на границе Литвы[272], а потом задерживали нарочно уже в самой Польше. Баторий желал затянуть таким образом время до осени и дождаться момента, удобного для начала военных действий[273]. Аудиенция послам у короля назначена была сначала в Люблине[274], потом во Львове[275] и состоялась, наконец, в Кракове (5-го декабря) по возвращении сюда короля из Львова[276].
Послы не захотели начинать переговоров, так как король нарушил установленный церемониал. Желая высказать к ним, а вместе с тем и к самому царю, пренебрежение за то, что царь в лице его, короля, послов не почтил его, как равного себе, Баторий не встал при приеме посольства и не осведомился, стоя с открытой головой, о здоровья царя.
Послы заявили, что им под страхом смертной казни запрещено их государем править посольство, если требования этикета, обычного при приеме посольств, не будут исполнены[277]. Тогда аудиенция была прервана, и посольство уехало из Кракова (11-го декабря). Но прежде чем оно оставило город, король приказал (9-го декабря) литовскому подскарбию Лаврентию Войне задержать его в литовском городке Мсцибове до своего приезда в Гродну, под тем предлогом, что он хочет дать еще раз аудиенцию посольству в присутствии литовских вельмож[278].
Задержка была произведена в возмездие за то, что Иоанн задержал королевского гонца Петра Гарабурду с той целью, чтобы до возобновления переговоров о Ливонии возвратить здесь потери, понесенные московскими войсками после покорения Иоанном этой страны[279].
Происходили переговоры о мире, противники выражали желание находиться друг с другом в приязненных отношениях и в то же время вели уже собственно войну.
Баторий готовился к ней весьма деятельно. Земское ополчение шляхты он признавал негодным для военных целей и не желал им вовсе пользоваться. Поэтому необходимо было организовать наемное войско. Венгерские полководцы Каспер Бекеш и Михаил Вадаш получили поручение нанять солдат в Венгрии, Христофор Розражевский и Эрнест Вейер – в Германии, польским ротмистрам даны деньги авансом на собирание отрядов в самой Польше. Кавалеристы должны были являться в панцирях, шишаках, с копьями, саблями или мечами и иметь сильных и здоровых лошадей, пехотинцы в платьях одинакового цвета и покроя, с рушницами, топорами, мечами или саблями. Предписывалось командирам набирать людей здоровых, сильных, умеющих владеть оружием и поддерживать в отрядах строгую дисциплину: отряды должны были идти прямо на сборный пункт, не делая никаких притеснений мирным жителям. Одновременно заготовлялась амуниция; свозились пушки, ядра, порох, ружья и т. п.; что касается пушек, то в Вильне устроен был завод, который отливал их по рисункам, составленным самим Баторием[280].
Кроме наемного войска, Баторий сделал попытку организовать вооруженные силы государства путем возложения воинской повинности на крестьян, обрабатывавших королевские имения. По королевскому проекту, крестьяне обязаны были доставлять с каждых 20 ланов одного пехотинца в определенном вооружении; такой крестьянин-воин освобождался от всяких иных повинностей: чинша, барщины, дачи подвод и др.
Эти последние повинности распределялись между 19 крестьянами, к группе которых принадлежал крестьянин-воин. Крестьяне-воины должны были собираться в определенные пункты к своим начальникам, которые обязаны были вести их против неприятеля всякий раз, как враг угрожал государству. Очевидно, этот проект имел в виду создать в Польше правильно организованное постоянное войско, но этому проекту не суждено было осуществиться так, как задумал его Баторий. Если бы задуманная королем военная организация развилась надлежащим образом, она оказала бы немаловажное влияние даже на судьбы Речи Посполитой, как основательно замечают польские историки. Оборона родины собственной грудью пробудила бы в крестьянине патриотизм и вывела бы его из того косного состояния, в каком он находился; косность же крестьянской массы была одной из важнейших причин гибели Речи Посполитой. Одним словом, рассматриваемый проект Стефана Батория представлял собою замечательный по глубине и целесообразности замысел. Но в 1579 году войско из крестьян не было набрано.
Король сумел привлечь для войны и силы запорожских казаков. Они прислали к королю во Львов (15-го сентября 1578 г.) 5 послов с предложением своих услуг везде, куда король прикажет им идти. Король принял благосклонно это предложение и нанял на службу отряд в 600 человек с платою каждому по 6 коп. литовских грошей и по куску сукна на армяк ежегодно. Черкасский староста назначен был казацким гетманом, и запорожцы обязались повиноваться королю и не предпринимать походов в Молдавию или Турцию[281].
В приготовлениях к войне прошел целый 1578 год; начинать войну зимой было неудобно, а потому объявление ее приходилось отложить до весны или лета 1579 года. Кроме того, были и другие важные причины отсрочки. Короля беспокоил недостаток денежных средств. К началу 1579 года в казне собралось, правда, 540 000 злотых, но эти деньги израсходованы были на уплату жалованья наемным отрядам венгерским, немецким и польским, и на приготовление амуниции и продовольствия войскам[282]. Ввиду этого король созвал в Краков сенаторов на совет, чтоб спросить их мнения относительно того, нельзя ли обратиться к чинам государства с предложением увеличить налоги, но сенаторы указали королю на неудобство этой меры и он должен был от нее отказаться[283]. Он намеревался созвать для этой же цели сейм в марте 1579 года, но и это намерение должен был оставить, так как раздавались сильно голоса против этого[284]. Вследствие всех этих обстоятельств король решился вести войну на те средства, которые явятся в казне в 1579 году и какие можно будет приобрести путем займа.
Еще будучи в Кракове, он подумал об избрании главнокомандующего армии и посоветовался с сенаторами по вопросу о том, назначить ли пожизненного гетмана или временного. Большинство высказалось за назначение предводителя только на время войны[285]. Направляясь из Кракова в Варшаву, Баторий вызвал туда подольского воеводу Николая Мелецкого и предложил ему гетманство, которое тот принял только на время первого похода против московского царя[286]. Это назначение объясняется тем, что Мелецкий был одним из вождей той партии, на которую Баторий опирался в Польше[287], притом вождей деятельных, которые энергически старались расстраивать козни противников Батория.
Из Варшавы король отправился в Гродну, чтобы обсудить с литовскими вельможами государственные нужды и план предстоящей войны с Москвой. По этому поводу высказаны были здесь различные мнения. Одни советовали ударить прежде всего на Великие Луки, другие на Псков, иные на Полоцк. Ян Замойский, главный помощник Батория, советовал идти к Полоцку, мотивируя свое мнение поговоркою: бери то, что ближе всего.
Результат совещаний мог порадовать Батория, потому что вельможи Литвы предложили королю доставить на время всей кампании отряд в 10 000 конницы и обещались содержать его на свой счет.
Такая щедрость Литовцев обязывала короля отнестись к их делам с большим вниманием, а они жаловались на неурядицы в администрации своей страны: так многие судебные дела не разрешены были еще со времен Сигизмунда-Августа[288]. Приготовления к войне и судопроизводство задержали Батория в Гродне до начала марта, а затем он направился в Вильну[289]. Тут в исполнении королевских намерений опять произошла проволочка. Войска собирались очень медленно. Король еще в начале января (9-го) распределил пути, по которым должны будут двигаться отдельные отряды, чтобы совместное их движете по одной дороге не было слишком обременительно для мирных обывателей[290]. Срок, назначенный для сбора, прошел уже давно, а польские солдаты еще не появлялись. Первыми прибыли Венгры[291].
Ко всем этим затруднениям присоединились еще и морозы, которые в 1579 году продолжались в Литве дольше, чем когда-нибудь[292].
IV. Полоцк
Так Баторий принужден был откладывать выступление в поход, но война, хотя и не была еще формально объявлена, началась уже собственно в 1577 году. По уходе Иоанна из Ливонии литовские предводители Борис Сава и Вильгельм Плятер отняли у Москвитян Динабург при помощи хитрости: они послали в подарок московскому гарнизону бочку водки; воины перепились, а Литовцы, воспользовавшись их опьянением, завладели крепостью (в ноябре 1577 года)[293]. Несколько позже Иоанн потерял и Венден. Польский военачальник Матвей Дембинский и немец Иоанн Бюринг, секретарь администратора Ливонии Ходкевича, заняли крепость с помощью Латышей, отворивших им ворота города[294]. Те же предводители отняли у Русских и другие замки в Ливонии: Зонцель, Эрлю, Лемзаль, Буртних, Ропе, Нитау, Пуркель и др.[295]
В начале февраля 1578 года русские воеводы пытались овладеть снова Венденом, простояли под крепостью четыре дня, сделали даже пролом в крепостной стене, но принуждены были отступить, ибо гарнизон, несмотря на недостаток съестных припасов (ему пришлось есть даже лошадей), мужественно защищался и, кроме того, получил подкрепление от Матвея Дембинского, сумевшего проникнуть в крепость[296]. Потери Иоанна в Ливонии увеличились еще вследствие измены Магнуса, подчинившего Баторию те свои владения, которые принадлежали еще ему в этой стране.
Сношения герцога с королем начались уже в конце 1577 года[297]. Баторий поручил вести переговоры с Магнусом виленскому воеводе Николаю Радзивиллу[298], который советовал королю поставить герцога во главе управления Ливониею на условиях феодальной зависимости[299].
О немедленном возвращении потерь в Ливонии нельзя было пока и думать Иоанну, так как приходилось действовать против Шведов, которые летом 1578 года причинили немало вреда русским[300].
Только в октябре этого года московские воеводы, отняв у Шведов замок Оберпален, сделали опять попытку взять Венден. После непродолжительной осады[301] им удалось уже разрушить стену крепости[302]. Но на выручку ее поспешило польско-литовское войско под начальством Андрея Сапеги и Матвея Дембинского. Соединившись с шведским отрядом, которым командовал Георг Бойе[303], оно стало переправляться через реку Аа (Говью). Тогда Москвитяне бросились на врага, чтоб оттеснить его назад за реку, но безуспешно. Завязался жаркий бой, и Русские, несмотря на свое численное превосходство[304], были побеждены. Часть русского войска была обращена в бегство[305], причем с поля битвы бежал и главный воевода, князь Иван Юрьевич Голицын[306]. Но зато воины, оставшиеся на поле сражения, засев в окопах, мужественно оборонялись всю ночь и только на следующее утро после отчаянного боя в окопах, когда враги ворвались сюда, сложили оружие, причем убито было несколько воевод и много простых воинов[307].
Андрей Сапега
Враги завладели всем лагерем, многочисленной артиллерией и захватили в плен 9 воевод и многих солдат[308], но сами потерпели незначительный урон[309]. Русские пленные отправлены были к королю в Гродну, а пушки в Вильну[310].
Это поражение встревожило Иоанна. Понимая, что война неизбежна, и сам готовясь к ней, он попытался затянуть переговоры, чтоб иметь больше времени приготовиться к борьбе. Поэтому он отпустил теперь Баториева гонца Гарабурду и сам послал от себя к королю гонца Андрея Тимофеева с предложением вести новые переговоры относительно Ливонии: пусть король присылает к нему для этой цели своих великих послов, скрепив предварительно присягой состоявшийся уже перемирный договор.
Пушки времен Ивана Грозного в одном из ливонских замков
Ведя дипломатические переговоры о мире, Иоанн в то же время, подобно Баторию, делал приготовления к войне, притом в больших размерах. Он уже в декабре 1578 года решил с боярами и духовенством «идти на свое государство и земское дело, на немецкую и литовскую землю»[311]. Затем царь отправился в Новгород, где принимал великое посольство, возвратившееся из Кракова (15-го июля)[312]. Послы доносили царю, что Баторий идет к московским границам, но что следуют за ним немногие охочие люди из литовской шляхты, из польских же панов и шляхты никто не идет. «Король говорил панам, чтоб шли с ним всею землею в Ливонию доступать тех городов, которые Москва захватила, но паны ему отговаривают, чтоб он и в Ливонию не ходил, а послал бы наемных людей защищать те города, которые за ним, а над другими промышлять. А во всей земле – в Польше и Литве, у шляхты и у черных людей, у всех одно слово, что у них Стефану королю на королевстве не быть, а пока у них Стефан король на королевстве будет, до тех пор ни в чем добру не бывать, а сколько им себе государей не выбирать, кроме сыновей московского государя или датского короля, никого им не выбрать; а больше говорят во всей земле всякие люди, чтоб у них быть на государстве московского государя сыну». «Донесения послов были справедливы», говорит Соловьев[313], а мы скажем – нет. Баторий не мог уговаривать панов, чтоб шли с ним всей землей в Ливонию, потому что понимал всю непригодность земского ополчения для военного дела. Паны не могли отговаривать, чтоб Баторий не ходил в Ливонию, потому что сейм 1578 года согласился на установление налогов только под условием личного участия короля в войне[314]. О низложении Батория могли говорить послам только немногочисленные его противники. Донесения были ложны, а между тем на них Иоанн строил свои завоевательные планы относительно Ливонии и Литвы; эти донесения должны были вселять в него уверенность, что можно будет легко осуществить задуманное предприятие. Иоанн собрал громадные войска против Батория: численность их доходила, по словам папского нунция Калигари, до 200 000 человек; один царский полк заключал в себе 40 000 воинов[315]. Но эта исполинская масса была плохо организована и дисциплинирована, чужда тому военному искусству, которое давало победы войску Батория. К тому же она не имела хорошего руководителя, каким для своего войска являлся Баторий, проницательный, в высшей степени даровитый или даже, как хотят некоторые исследователи[316], гениальный стратег. У Иоанна не было плана военных действий, какой до начала войны составил себе польский король. Царь мог только принять решение идти «на свое государство и земское дело, на немецкую и литовскую землю», но по какому плану следует это решение исполнить, над этим вопросом он не задумывался. Он сразу принужден был вести оборонительную войну, хотя и предпринимал наступательную, хотя замыслы Батория должны были быть известны ему, по крайней мере, по слухам. Правда, поход на Полоцк решен был Баторием окончательно только в самый момент выступления в поход, однако намерения королевские были уже раньше известны. Иоанн ограничивался только угрозами, что если король пойдет на Полоцк, то он двинется на Вильну[317].
Силы Батория были гораздо меньше: они доходили до 60 000 человек. Но всеми этими силами король не мог воспользоваться: он должен был отрядить одну часть на соединение со Шведами, с которыми он желал поддерживать дружественные отношения[318], другую – на защиту различных крепостей государства, так что свободным оставался отряд в 40 000 человек[319].
Несмотря на численное превосходство московской армии, и несмотря на то, что из Польши и Литвы приходили желанные известия о затруднительности положении Батория, Иоанн мог тревожиться за успешный исход борьбы с королем. После битвы при Вендене успехи войск Баториевых не прекратились. Литовский гетман надворный Христофор Радзивилл, сын виленского воеводы, сжег город Дерпт, опустошил его окрестности, разрушил довольно сильную крепость Киремпе, захватил несколько вражеских орудий и много пленных[320] (в марте 1579 г.).
Окончив приготовления к походу, Баторий отправил к Иоанну гонца Вацлава Лопацинского с письмом, в котором объявлял царю войну, мотивируя свое решение так. Иоанн нарушил перемирие, вторгнувшись сам со своим старшим сыном в Ливонскую земно: бросился ты, – говорит Баторий, – на христианский народ, наших подданных, производя резню и кровопролитие, к чему ты улучил время, когда мы отъехали в отдаленные стороны наших государств, завладел ты нашими некоторыми замками вероломно, умерщвляя невинных людей». Царь требует уступки Риги и Курляндской земли, предъявляет притязания на право владеть наследственно Литвой и Польшей. Он ведет войну не только в Ливонии, но и в Витебской земле, где он недавно построил замок Усвят и куда он посылает свои войска. Договорная грамота, данная царем, заключала в себе условия, на которые королевские послы не давали своего согласия. Тем не менее царь «вероломным обычаем» скрепил ее присягою. Поэтому он, Баторий, не может этой договорной грамоты принять и отсылает ее назад царю[321].
Рига в конце XVI в.
Вскоре после этого (30-го июня) король двинулся из Вильны в Свирь, где он созвал военный совет, чтобы решить окончательно вопрос, в каком направлении предпринимать поход против врага. Литовцы советовали королю идти на Псков: этот город плохо укреплен, говорили они, его стены пришли в ветхость, враг не ожидает нападения на этот пункт, а потому крепостью можно будет легко завладеть[322]. Здесь сосредоточены главные неприятельские силы, вследствие чего удачный удар, направленный сюда, скоро положит конец войне. Баторий высказался против этого взгляда. Осаждать Псков было, по мнению короля, при теперешнем положении дел противно правилам военного искусства, так как пришлось бы в таком случае оставить у себя в тылу несколько неприятельских крепостей. Цель настоящей войны – освобождение Ливонии, но для достижения этой цели надо выбрать самые подходящие средства. Вести войну в самой Ливонии неудобно: она слишком разорена, вследствие чего войска будут страдать от недостатка продовольствия; в ней слишком много замков и добывание их замедлит ход военных действий. Следует прежде всего взять Полоцк, потому что эта крепость угрожает Литве и даже самой столице ее Вильне, потому что неприятель посылает из Полоцка вспомогательные войска и продовольствие в ливонские крепости, потому что этот город господствует над течением Двины и является важным торговым пунктом; с его взятием плавание по Двине сделается вполне свободным, что имеет существенное значение для торговых сношений Риги, которые теперь останавливаются постоянными нападениями неприятеля. На эти соображения короля некоторые замечали, что Полоцк – сильная крепость, снабженная военными снарядами в большом количестве, поэтому взять ее будет трудно, а неудача в начале войны может отозваться пагубно на всем ее ходе. Король возражал на это, что именно в начале войны, пока силы армии еще свежи и бодр ее дух, и следует приступить к осаде крепости; неприятель, потеряв самую сильную крепость, потеряет веру в свои собственные силы, между тем как солдаты-победители укрепятся еще более в надежде на успешное ведение дальнейших предприятий. Король заключал, что не следует уклоняться от задуманного еще раньше плана войны. Так решен был поход на Полоцк.
Русские войска атакуют Полоцк. Гравюра XVI в.
Выступая в этот поход, Баторий постарался обеспечить фланги своей армии следующим образом. Он мог ожидать нападения Иоанна с востока, со стороны Смоленска, и с запада, со стороны Жмуди, так как Иоанн заявлял, что Курляндия – его вотчина. Правый фланг своей армии Баторий приказал защищать оршанскому старосте Филону Кмите, а левый – жмудскому каштеляну Ивану Тальвошу. Движение Иоанна на Курляндию, которое предвидел Баторий, не замедлило последовать. Находясь в Пскове, царь выслал в Курляндию (1-го августа) воевод князя Хилкова и Безнина, с отрядом, в котором было 20 000 нагайских и казанских Татар. Перейдя Двину у Кокенгаузена, отряд вторгнулся в Курляндию и сильно опустошил ее. Экспедиция этим и ограничилась, так как Иоанн, узнав об осаде Полоцка, отозвал это войско назад[323].
Защитив фланги своей армии, Баторий двинулся из Свири через Поставы и Глубокое к Десне[324], выслав вперед к Полоцку Николая Радзивилла с сыном и Каспара Бекеша, чтобы они, став под стенами Полоцка, помешали неприятелю усилить гарнизон крепости[325]. По пути к королю присоединились отряды троцкого воеводы Стефана Збаражского, полоцкого воеводы Николая Дорогостайского и некоторых частных лиц. В Дисне Баторий произвел смотр войскам (17-го июля). Одни отряды были вооружены по-казацки: они имели луки, сабли, шлемы, панцири и копья, чтобы колоть ими врага при нападении и метать их в него, когда он бежит. У других отрядов, вооруженных по-татарски, на шеях лошадей были привязаны куски тафты, похожие на бороды. Лошади легко вооруженных солдат были покрыты шкурами волков или тигров, кроме того, лошади вельмож украшены были драгоценными камнями, жемчугом, золотом и шелком; оружие вызолочено и также усеяно драгоценными камнями[326].
В Дисне присоединились к армии запоздавшие отряды виленского каштеляна Ивана Ходкевича, минского каштеляна Ивана Глебовича и других панов, равно как и немецкие наемники, предводимые Христофором Розражевским и Эрнестом Вейером[327].
Войска представлялись в отличном виде. Великий гетман поддерживал среди них строгую дисциплину. В речи, обращенной к солдатам, он запрещал им осквернять храмы и делать насилия над женщинами даже в неприятельской стране[328].
В то время как главная армия двигалась к Полоцку, литовские казаки завладели замками Козьяном (28-го июля) и Красным (31-го июля), а Венгры и Литовцы – Ситном (4-го августа)[329]. Баторий хотел сначала ударить на крепость Сокол, находившуюся между реками Дриссою и Нищею, на псковской дороге, опасаясь, чтобы из этого замка Москвитяне не мешали подвозу провианта его армии, что они могли легко делать, получая совершенно свободно подкрепления из Пскова. Однако, посоветовавшись с гетманом Мелецким, король оставил это намерение, не желая терять дорогого времени добыванием незначительных замков, и направился к Полоцку. Сюда раньше короля прибыл скорым маршем Николай Радзивилл, которого король еще в начале марта 1578 года назначил великим гетманом литовским[330].
Радзивилл должен был воспрепятствовать проведению подкреплений полоцкому гарнизону; однако небольшой отряд Москвитян успел за два дня до прихода королевского авангарда проникнуть в крепость. Радзивилл занял ближайший к крепости пост и преградил всякий доступ в нее[331]. В Полоцк же он отправил королевскую грамоту, которую приказано было распространять повсюду среди жителей полоцкой области. В этой грамоте Баторий, изложив обстоятельно причины, побудившие его начать войну с московским царем, обещал всем, которые подчинятся его войскам добровольно вместе с замками, городами и поместьями, сохранить их обычаи, веру и их права и далее все это приумножить, если они только приобретут благорасположение короля за свою верную службу. Тем, которые не пожелают изъявить покорности, Баторий приказывал удалиться из своих замков, земель и городов, ибо в противном случае они, сопротивляясь королевским войскам, подадут повод к кровопролитию и навлекут на себя плен и строгость меча. Ослушники, – так оканчивал свою грамоту Баторий, – не могут винить его и рыцарство его войск, за то, что произойдет, ибо они упорствовать будут против самой справедливости[332].
Грамота эта не произвела желанного действия. Полоцкие воеводы, увидев неприятеля, вывели свои войска из-за укреплений и выстроили их в боевой порядок у самых ворот крепости, но затем без боя удалились назад в город. Тогда литовская конница бросилась их преследовать, гнала вплоть до самой крепости и успела убить несколько человек[333].
Наконец 11-го августа прибыл и сам Баторий[334]. Королевскому войску пришлось совершить весьма утомительный переход. Солдаты должны были прорубать себе просеки в густых лесах, которые успели вырасти с тех пор, как Иоанн взял Полоцк (в 1563 г.), потому что поля не возделывались; приходилось идти по запущенным топким дорогам, которые от проливных дождей сделались еще непроходимее. Все это замедляло движение армии[335].
Подступив к Полоцку, Баторий осадил его, расположив свои войска в трех местах. Численность его армии простиралась до 16 000 человек[336]. Полоцкий гарнизон состоял из 6000 человек. Командовали им воеводы: князь Василий Иванович Телятевский, Петр Иванович Волынский, князь Дмитрий Михайлович Щербатый и Иван Григорьевич Зюзин[337].
Город и крепость Полоцк представлялись тогда в следующем виде. Река Полота, плывя с севера на юг, поворачивает недалеко от своего устья сначала назад, а потом на юго-запад и в таком направлении впадает в Двину. Пространство между Двиной и первым изгибом Полоты представляет собою довольно возвышенное плоскогорье, которое, подходя к Полоте, ниспадает довольно круто к реке. На этом возвышении находились два замка: один из них, стоявший у самого слияния Полоты с Двиной, назывался Высоким, а другой, построенный к востоку от первого, Стрелецким Острогом. За Полотою, на правом ее берегу, лежал посад Заполотье, обнесенный деревянной стеной и соединенный мостом с Высоким замком. Таким образом, Высокий замок, как главная крепость, был окружен с востока Стрелецким Острогом, с запада Заполотьем и с севера Полотою; с южной стороны Двина делала доступ к нему совершенно невозможным. Иоанн Грозный, взяв Полоцк в 1563 году, укрепил Высокий замок новыми башнями в несколько этажей для боковой стрельбы, а всю крепость обвел стеной и глубоким рвом[338].
Осада Полоцка войсками Стефана Батория в 1579 г. Гравюра конца XVI в.
Войска Батория расположились следующим образом: на правом фланге у Двины – Венгры, рядом с ними влево, тоже на правом берегу Полоты – Литовцы, за Полотою, на левом берегу – Поляки, на левом фланге, тоже как и Венгры, у самой Двины – Немцы.
Лишь только Баторий прибыл к Полоцку, как тотчас же отправился осматривать местоположение города и крепости, взяв с собой Замойского и Бекеша, предводителя венгерских войск. Осмотрев местность, он пришел к тому заключению, что все усилия надо направить на Высокий замок, ибо и доступ к крепости с этой стороны удобнее и – что еще важнее – с падением главного укрепления город и Стрелецкий Острог, лишившись провианта и огнестрельных снарядов, которые хранятся в Высоком замке, сами собою сдадутся. Напротив того, Бекеш был того мнения, что осаду следует начинать со стороны Заполотья; он мотивировал свое мнение следующими соображениями: если по завоевании города неприятели удалятся в крепость, то это поставит осажденных в более затруднительное положение, так как они будут стеснены в одном месте, что ослабит у них надежду на избавление от осады и, напротив того, уменьшит труд осаждающих и усилит их мужество: к тому же добывать замки со стороны города немногим теперь труднее, чем с другой стороны, ибо реку Полоту везде можно перейти вброд. Замойский соглашался с королем и уговаривал его настаивать на исполнении своего плана, указывая на выгодные стороны его, которые он заметил во время вторичной рекогносцировки местности, когда он, один подъехав к тому месту, на котором стоял город до 1563 года (место это называлось Пожарищем), увидел, что здесь нет ни рвов, ни высоких холмов и поэтому с этой стороны доступ к крепости легче.
Однако король не совсем последовал совету Замойского; он отступил несколько от своего собственного мнения. Не желая возбуждать национального антагонизма, он предоставил известную долю самостоятельности каждой национальности в своей армии. Немцам разрешено было вести подкопы против Стрелецкого Острога, а Бекешу с его Венграми – действовать против Заполотья. Венгерский предводитель начал обстреливать город на другой день осады, от чего в городе произошел пожар. Тогда Русские, видя, что защищать город нет возможности, зажгли его со всех сторон и со всем имуществом удалились в Высокий замок[339].
После этого Баторий направил главные силы на эту крепость, и именно на выступ, обращенный к северу, так как гарнизон не мог защищать его ни прямыми, ни боковыми выстрелами[340]. Король послал предварительно в крепость гонца с предложением сдаться добровольно. Русские задержали посланного на всю ночь, а в это время так энергично стали работать, что успели поднять еще выше деревянную башню, которая находилась против королевского лагеря. На следующий день они выпустили гонца, приказав сказать королю, что ключи от крепости находятся в руках их государя, а потому пусть король попробует сам отворить крепость, если только он будет в состоянии сделать это[341].
Баторий решил взять крепость приступом, но для этого надо было сделать пролом в стене. С этой целью попробовали сначала пробить стену артиллерийскими ядрами, однако безуспешно. Тогда начали бросать в крепость особенные раскаленные ядра, которые Баторий употреблял уже в Венгрии. Но и это средство не достигало цели: ядра, направленные выше стен, перелетали через них, а направленные к основанию стены зарывались в землю. Вследствие этого была сделана попытка поджечь стены при помощи лучины и смолы. Солдаты в надежде на большую награду, обещанную за такой подвиг, карабкались энергично по крутой покатности холма, на которой стояла крепость, и приближались к стенам, но встречали тут мужественный отпор. Осажденные скатывали на них громадные бревна, которые увлекали вниз карабкавшихся смельчаков и умерщвляли их.
А если удавалось зажечь в каком-нибудь месте стену, тогда осажденные, дряхлые старики, женщины и даже дети, с опасностью жизни спешили потушить пожар водой. Неустрашимость осажденных доходила до того, что многие при самой сильной пальбе из неприятельских орудий «решались спускаться на канатах за стены и лили воду, подаваемую им другими, свешиваясь с более высокого места для того, чтоб потушить огонь, приближавшийся извне». При этом многие гибли, но их с таким же самоотвержением заступали другие. По словам самого Батория, Москвитяне доказали тогда своей энергией и усердием, что в деле защиты крепостей они превосходят все прочие народы[342].
Осада затягивалась также вследствие проливных дождей и недостатка провианта. Лето 1579 года было в высшей степени сырое во всем Прибалтийском крае. По словам Рюссова, в течение пяти недель не было в Ревеле и трех дней без дождя[343]. Под Полоцком от непрерывных дождей дороги так испортились, что вьючные лошади, не будучи в состоянии выкарабкаться из грязи, падали и гибли от истощения сил, почва так пропиталась водой, «что даже под кожами в самых палатках магнатов не оставалось места, где можно было бы лежать». Дурное состояние дорог затрудняло весьма подвоз провианта. К тому же продовольствие надо было доставлять из отдаленных местностей, так как окрестности Полоцка были безлюдны. Затруднительность подвоза увеличивалась наконец от нападений, которые производились на шедшие к Полоцку обозы русскими отрядами из окрестных замков, Суши, Туровли и Сокола. Вследствие всех этих обстоятельств купцы очень редко показывались в полоцком лагере. Поэтому цены на съестные припасы и сено достигли неслыханных размеров. Армия Батория начала страдать от сильного голода. Дошло до того, что некоторые Поляки и Венгры не задумывались есть мясо падших лошадей. Сырая погода, голодание и дурная пища вызвали болезни в войске, от которых особенно страдали Немцы: многие из них умирали от кровавого поноса[344].
При таких обстоятельствах осажденные имели возможность наносить еще больший вред своим врагам, и особенно Немцам[345]. Однажды немецкие солдаты, предавшись веселью и пьянству, легли беззаботно спать на траве врассыпную. Заметив это, русские произвели вылазку, напали тихонько на сонных, многих умертвили, а некоторых захватили и унесли с собой в замок. Велико было изумление и ужас плененных, когда они проснулись и поняли, где они находятся. Они стали умолять своих врагов о пощаде, но те были безжалостны к ним и подвергли их страшным мучениям. Пробуравив у них плечи и продев через отверстия веревки, жестокосердые враги спускали их с высокой стены совершенно обнаженными и заставляли умирать в этих ужасных пытках медленной смертью[346].
Несмотря на затруднения, осаждающие пытались производить приступы, но неудачно. Во время одного из таких приступов погиб, пораженный ядром, один из храбрых венгерских предводителей, Михаил Вадаш, прославивший свое имя в турецких войнах[347].
Полоцк в XVI в.
Все эти неудачи побудили Батория созвать военный совет, чтоб решить вопрос, что делать дальше? Большинство было того мнения, что надо произвести со всех сторон нападение на крепость всеми войсками. Но король не согласился с этим мнением, опасаясь неудачи, вследствие которой пришлось бы отступить от крепости, что равносильно было бы крушению всего предприятия.
Баторий полагал, что прежде всего необходимо сделать отверстие в стене, через которое солдаты могли бы проникнуть в крепость, и согласно этому убеждению продолжал действовать. С этою целью он издал воззвание к солдатам, обещая большие награды тем, которые подожгут стены. Не следует, – говорилось в воззвании, – возвращаться из-под стен до тех пор, пока пламя не разгорится как следует, что прежде упускалось из виду. От поджога зависит успех предприятия, а поэтому лучше погибнуть доблестною смертью под неприятельским огнем, чем опозорить себя постыдно отступлением. Воззвание подействовало на солдат: они бросились бодро исполнять королевское желание. А тут и судьба начала им благоприятствовать. Дожди стали утихать, небо прояснилось и засияло солнце. Это было 29-го августа. Солдаты побежали к крепости: одни спускались во рвы, другие переплывали через Полоту, иные, преодолев различного рода затруднения, карабкались на возвышенность[348]. Первым прибежал к передней крепостной башне какой-то медник из города Львова; он принес с собой, как рассказывали, котел, наполненный раскаленными угольями, и смолистую лучину и, поджегши башню, пустился бежать назад. Вдогонку ему осажденные послали много стрел, и одна из них попала ему в спину; однако он благополучно возвратился вплавь через Полоту к своим. За этот подвиг король возвел его в дворянское достоинство, дал ему фамилию Полотинского и пожаловал имение[349]. Другие солдаты подожгли крепость в других местах, пламя быстро охватило громадное пространство, и огня нельзя уже было потушить. Тогда король послал в крепость грамоту, предлагая осажденным добровольно сдаться и обещая отпустить на волю всех с женами, детьми и имуществом, какое каждый будет в состоянии нести на себе; тем же, которые пожелают служить ему, королю, он обещал такие же права и милости, какими пользовались граждане великого княжества литовского; осажденные должны были выйти из крепости до полудня[350].
Зарево поджара так ярко освещало небо, что его можно было видеть на далеком расстоянии. Ввиду этого король начал опасаться, чтобы гарнизон крепости Сокола, заметив пожар, не прибыл своим на помощь. Чтоб предупредить нападение с этой стороны, Баторий вывел почти все войско из лагеря и построил его в боевой порядок на правом берегу Полоты. Но опасения короля оказались напрасны.
В это время из крепости спустилось со стен 10 человек и явилось в неприятельский лагерь просить пощады, но венгерские солдаты умертвили несчастных перебежчиков. Остальные осажденные показывали тоже вид, что желают сдаться, но, как оказалось вскоре, притворно. Пользуясь тем, что громадное пламя закрывало их от неприятеля, они насыпали в том месте, где прогорела стена, вал, провели ров и поставили орудия. Сильный пожар продолжался до самого вечера, а поэтому король, не желая вести солдат через огонь, отложил приступ до следующего дня. Но некоторые венгерские и польские солдаты, побуждаемые жаждою добычи, попытались через пламя вторгнуться в крепость, однако огонь так сильно обжигал их и враг так мужественно отражал, что они были принуждены возвратиться назад. Русские пустились их преследовать, но на помощь бегущим бросился отряд пехотинцев Замойского (200 челов.). Тогда завязалась горячая схватка. Король, узнав о штурме, поспешил занять дорогу, ведущую из Сокола, а Мелецкий – защитить орудия и окопы. Русские открыли в это время из крепости по неприятелю сильную пальбу. Король и Замойский подверглись в этот момент немалой опасности: один из всадников был убит ядром подле самого короля на том месте, которое оставил Замойский с той целью, чтоб переменить лошадь. Штурм был отбит, но и Русские, преследовавшие штурмовавших, должны были возвратиться с значительным уроном: во время этой схватки погибло, по польскому официальному известию, 27 солдат из войска Батория и 200 человек из крепостного гарнизона[351].
Эта неудача возбудила сильные раздоры между Поляками и Венграми: Поляки называли поступок Венгров безрассудством, а Венгры, в свою очередь, обвиняли Поляков в том, что они недостаточно энергически им помогали при штурме. Вследствие этих раздоров утро следующего дня до полудня прошло в бездействии. Король снова послал в крепость грамоту с требованием сдачи, заявляя, что опасная грамота будет действительна только до 3-х часов дня[352]. Но осажденные не думали пока еще сдаваться. Они намеревались укрепить ту башню, которая была подожжена, и хотели сюда возвратиться. Однако король не позволил им исполнить это намерение. По его приказанию Венгры, предводительствуемые Петром Рачем, напали внезапно на эту башню и подожгли ее. Новый пожар продолжался всю ночь; всю ночь также производилась пальба из орудий. Осаждающие успели в эту ночь провести рвы на расстоянии нескольких шагов от неприятельских укреплений. Однако пожар в крепости произвел такие опустошения, что защита сделалась невозможной. Тогда стрельцы и дети боярские[353] вступили с королем в переговоры о сдаче крепости и сдали ее, как этому ни сопротивлялись великолуцкий архиепископ Киприан и воеводы, которые хотели даже взорвать крепость на воздух, предпочитая геройскую смерть постыдной сдаче. Не будучи в состоянии склонить гарнизон к этому подвигу, они заперлись в церкви Св. Софии, так что пришлось – по приказанию Батория – выводить их оттуда насильно. Приведенные к королю, они ударили ему челом, причем воевода Петр Волынский стал жаловаться Баторию на своего товарища Василия Микулинского за то, что этот последний оклеветал его перед царем, и поэтому царь приказал заключить его, Волынского, в оковы. Но король не пожелал за недостатком времени разбирать этой жалобы и поручил надзирать за воеводами и архиепископом литовскому подскарбию Лаврентию Войне[354]. Затем он послал несколько Венгров и несколько Поляков (Нищицкого, Пенкославского, Немоту и Красицкого) принимать замок. К ним вздумали было присоединиться еще некоторые Поляки, увлекаемые, вероятно, жаждой добычи, что сильно рассердило короля: он бросился на одного из них, Доброславского, с саблей, чем обидел гетмана Мелецкого, так как Доброславский был его слугой[355].
Приняв замок, король приказал Москвитянам выходить из него, предоставляя каждому на выбор – возвратиться на родину или остаться у него на службе. Большая часть, побуждаемая любовью к родине и преданностью царю, предпочла возвращение в отечество и службу своему государю, хотя «каждый из них мог думать, что идет на верную смерть и страшные мучения». Однако царь пощадил их, «или потому, – замечает польский историк, – что, по мнению его, они были вынуждены сдаться последнею крайностью, или потому, что он сам вследствие неудач упал духом и ослабел в своей жестокости». По приказанию царя, они были размещены в окрестных замках: Великих Луках, Заволочье, Невеле, Усвят, чтобы они смыли, защищая эти крепости, позор сдачи Полоцка доблестными подвигами в дальнейшей борьбе с врагом. Король приказал охранять выходивших из крепости от обид и сам наблюдал за этим. Когда один из солдат, надеясь на то, что он останется незамеченным в толпе, стал грабить их, Баторий бросился на него и прибил его булавой[356]. С целью охраны от грабителей дана была Москвитянам, по приказанию короля, стража из литовских панов и казаков (2 эскадрона), под начальством ротмистра Садовского, для сопровождения их в пути[357].
«Но когда они пришли на ночлег, то всякий сброд, который потянулся за ним от войска, начал их терзать и грабить, чему помогали и посланные охранять их казаки». Увидев это, встревоженные Москвитяне стали разбегаться, кто куда попало, так что Садовский не мог собрать их снова. Узнав об этом, Баторий выразил сильное сожаление, что так случилось[358].
Взяв крепость, король хотел совершить благодарственное молебствие в тот же самый день в самом Полоцке, но множество трупов и сильное от них зловоние не позволили ему войти в город, а потому он приказал отслужить молебен на следующий день в лагере[359].
В крепости победители нашли 38 орудий, 300 гаковниц, около 600 длинных ручниц[360], 2500 центнеров пороха[361], много пуль и ядер[362] и значительную добычу, хотя Москвитяне, уходя на родину, и взяли с собой много сокровищ. Венгры в течение нескольких дней выносили разного рода вещи из замка, много продали явно в лагери и много, – то, что получше, – у себя спрятали[363]. Кроме того, победителям досталась драгоценная библиотека, состоявшая из летописей и сочинений отцов церкви на славянском языке[364].
При разделе добычи между венгерскими и польскими солдатами произошли раздоры, которые достигли до такой степени, «что, выстроившись в боевой порядок, они едва не бросились друг на друга с обнаженными мечами. Уже раньше этого польские солдаты, собираясь в кружки, шумели по всему лагерю, говоря, что их храбрость пренебрегается Венграми, что те присваивают себе во всем преимущества, одни только захватывают плоды побед и всю добычу, как будто война предпринята для их славы и выгод». Возник раздор и между начальствующими лицами. Гетман Мелецкий, недовольный умалением своей власти, высказывал вражду к виленскому воеводе Радзивиллу, Замойскому и Бекешу, королевским любимцам, которым Баторий предоставлял столько власти, что они могли действительно стеснять распоряжения гетмана[365]. Король прекратил раздор между солдатами раздачей подарков из своей казны.
Чтоб упрочить окончательно за собой владение Полоцком, Баторий должен был взять окрестные крепости Сокол, Туровлю и Сушу, которые находились еще в руках Москвитян. Туровля расположена была в четырех милях от Полоцка вверх по Двине[366], у впадения речки Туровли, так что крепость заключена была между двумя реками; с третьей стороны примыкало к ней озеро. Находясь посредине Улы, Витебска и других крепостей, принадлежавших Речи Посполитой, Туровля легко могла преграждать и действительно преграждала подвоз съестных припасов в Полоцк из этих местностей, отчего в лагере Батория под Полоцком недостаток в съестных припасах все более и более усиливался. Ввиду этого еще во время осады Полоцка была сделана попытка устранить это препятствие. Николай Разивилл послал отряд войск, под начальством Франциска Жука, взять Туровлю, но эта экспедиция потерпела неудачу как вследствие мужественной обороны гарнизона, стоявшего в Туровле, так и вследствие недостаточного количества орудий, взятых с собою Жуком. Неоднократные нападения его на крепость были отражены Русскими с успехом[367]. Взяв Полоцк, Баторий приказал идти к Туровле Венграм. Но Радзивилл сделал попытку взять крепость при помощи легких отрядов. Он послал туда известное количество всадников и пеших легковооруженных казаков, под начальством ульского старосты Константина Лукомского[368].
Вследствие взятия Полоцка гарнизон Туровли упал духом, а потому Москвитянами овладела паника, лишь только они увидели неприятеля. Полагая, что приближается все войско Батория, они бросились из крепости через противоположные ворота и обратились в бегство. В крепости остались только воеводы, которые считали для себя позором покидать крепость. Они-то и достались в плен воинам Батория вместе со всеми припасами и военными снарядами, находившимися в крепости (4-го сентября). Спустя несколько дней после этого крепость сгорела вследствие неосторожного обращения солдат с огнем; празднуя взятие крепости, они устроили фейерверк, от которого и произошел пожар[369]. Сожжение Туровли огорчило Батория, так как оно отсрочило взятие Суши, гарнизон которой приободрился, ибо у них явилась надежда на возможность получить подкрепление и припасы.
В то время, когда все это происходило, король отправил к Соколу гетмана Мелецкого с отрядом польской конницы и польской и немецкой пехоты[370]. Сокол лежал в пяти милях[371] к северу от Полоцка по дороге во Псков. Крепость, имевшая 11 башен[372], расположена была между реками Дриссою и Нищею, окружена деревянной стеной и защищена с той стороны, где реки расходились друг от друга глубоким рвом. В ней находился гарнизон, достигавший 5000 человек[373].
К обычному гарнизону, защищавшему доступ к Полоцку с севера, присоединился отряд, посланный Иоанном Грозным на защиту Полоцка, когда царь узнал о походе Батория на эту крепость[374]. Прибыл в крепость и Юрий Булгак с 2000 стрельцов[375]. Так как этот отряд мог явиться большой опасностью для Баториева войска, осаждавшего Полоцк, то произведены были из-под Полоцка нападения на Сокол, сначала под предводительством Ивана Волыминского, а потом Христофора Радзивилла, к которому присоединился и минский каштелян Иван Глебович[376]. Гарнизон Сокола держался постоянно близко укреплений; нападающим не удалось выманить его оттуда, и дело окончилось схватками, во время которых было убито несколько человек с той и другой стороны и несколько человек взято в плен[377]. Эти неудачи побудили Батория отложить экспедицию против Сокола до тех пор, пока не будет взят Полоцк, т. е. до того времени, когда можно будет послать большее войско.
Мелецкому, отправленному под Сокол, пришлось испытать немалые препятствия и лишения: дороги были размыты дождем; кроме того, в обозе польского гетмана чувствовался недостаток провианта. При переправе через реку Дриссу представилось особенно большое затруднение, так как вода в реках от непрерывных дождей сильно поднялась. Брацлавский воевода Иван Збаражский переправился через нее вплавь с отрядами всадников, а остальное войско перешло по мосту, который построили, по совету Николая Уровецкого, начальника конницы, из толстых бревен, связывая их железными цепями или другими крепкими связями. Гарнизон Сокола ничего не сделал для того, чтобы помешать переправе. На противоположном берегу реки разъезжали только всадники, перекликаясь между собою и заявляя громогласно, что в Соколе находятся казанские, астраханские и иные войска, чем, конечно, старались внушить страх неприятелю. Переправившись через реку, Мелецкий немедленно двинулся на врагов. При этом большую часть своей конницы он поставил в лесу, который находился между обеими реками, протекавшими вблизи крепости, а пехоте приказал проводить на достодолжном расстоянии рвы и окопы, что Поляки вдоль Нищи, а Немцы вдоль Дриссы стали приводить в исполнение так, чтобы укрепления сомкнулись под крепостью. Ивану Збаражскому приказано было стать за меньшей рекой Нищею, в том месте, где врагу легче всего было убежать из крепости и поручено было стеречь это место. Когда укрепления были окончены и орудия поставлены (дело было к вечеру), тогда начальник артиллерии Доброславский, желая попробовать, нельзя ли будет произвести пожар в крепости, бросил туда три раскаленных ядра, из которых два были потушены Русскими, а третье, засев в стене, подожгло ее, отчего вспыхнул громадный пожар[378], который охватил большую часть крепости. Это произвело страшную панику среди гарнизона. Большая часть его бросилась в суматохе бежать через южные ворота, обращенные к Нище[379]. Но навстречу им двинулись, по знаку, данному гетманом Мелецким, из своих укреплений Поляки, а за ними вскоре отряд немецких стрелков, и Русские были отброшены назад в крепость. Придя в отчаяние, они стали давать различные знаки, что желают добровольно сдаться. Но Немцы, не понимая русского языка, не обращали на это никакого внимания, а раздраженные жестокостями, которые были произведены Русскими над их соотечественниками в Полоцке, стали истреблять врагов с величайшим озлоблением, что, в свою очередь, возбудило ярость в русских воинах. Они сбросили на врагов, вторгавшихся в крепость, решетку, которая находилась над воротами, и таким образом одним врагам отрезали отступление, а другим преградили доступ, но вместе с тем заперли и себя среди укреплений. Тогда произошло нечто ужасающее по своему трагизму: среди всепожирающего пламени враги в страшном остервенении истребляли друг друга.
В то же время нападающие пытались удалить решетку; им удалось наконец сокрушить ее. Тогда те, которые остались живы среди ужасной сечи, происходившей в крепости, раненые и обгорелые, бросились вместе с Русскими бежать из крепости; другие, напротив того, ворвались в нее и предались грабежу, спеша унести из пламени то, что только возможно было спасти. Русские, бежавшие из крепости, наткнулись на укрепления или посты Немцев и были все перебиты. При этом пали воеводы Борис Шеин, Андрей Палецкий, Михаил Лыков и Василий Кривоборский. Но те, которые попали в руки Поляков, остались живы[380]. Убитых Русских насчитано было около 4000, а пленных оказалось такое множество, что было их по нескольку не только у начальников и офицеров, но даже и у простых солдат[381]. Пало много солдат и из войска Батория: одних Немцев было убито в крепости 500 человек[382]. Многие ветераны, и между ними старый полковник Вейер, утверждали, что хотя они видели на своем веку немало битв, но такой ужасной резни не приходилось им встречать[383]. Крепость сгорела. Тем не менее победителям удалось захватить немалую добычу, много серебра, которое хранили московские бояре в особых шкатулках, и много драгоценных платьев[384].
В руках Москвитян оставалась еще Суша. Но добывать эту крепость король не считал пока делом нужным. Он полагал, что она, отрезанная от подкреплений и подвоза съестных припасов, будет принуждена сама добровольно сдаться, а между тем осада ее представлялась весьма затруднительной ввиду того, что ее окружали обширные озера и болота и приближалась ненастная осенняя погода. Поэтому он ограничился только тем, что расположил вокруг крепости обозом отряды солдат, с тем, чтобы они не допускали в Сушу подкреплений. Расчеты Батория оправдались. С потерей Полоцка Иоанн потерял надежду на возможность удержать за собою Сушу, а потому приказал сушскому воеводе Петру Федоровичу Колычеву зажечь крепость и удалиться из нее, причем гарнизон должен был предварительно спрятать в землю образа, церковные книги и вообще священные предметы, уничтожить порох и амуницию, а орудия погрузить в воду[385]. Гонцы с царскими грамотами проникли в Сушу, но одного враги перехватили и доставили его Мелецкому. Гетман, опасаясь за целость артиллерии, которой он хотел завладеть, послал тотчас же в Сушу предложение сдаться на следующих условиях: воины могут унести с собою свое имущество и вполне безопасно возвратиться на родину. Эти условия были приняты гарнизоном, и крепость была сдана со всеми военными снарядами полоцкому воеводе (который присылал также гарнизону предложение сдать крепость) и отряду солдат, посланному Мелецкому (6-го октября)[386].
В то время как происходили рассказанные нами события на главном театре военных действий, были произведены тоже вторжения и в пределы московского государства. Оршанский староста Филон Кмита сжег в смоленской области до 2000 селений, уничтожил огнем предместья самого Смоленска и, производя всюду на своем пути страшные опустошения, возвратился назад в Оршу с огромной добычей[387]. Точно таким же образом князь Константин Острожский с сыном Янушем и брацлавским каштеляном Михаилом Вишневецким опустошил черниговскую область, сжег город Чернигов, но взять черниговскую крепость не был в состоянии, так как ее доблестно защищал московский гарнизон. Тогда Острожский, отступив от Чернигова, разослал во все стороны легкие конные отряды, которые разорили северскую область до Стародуба, Радогоста и Почепа[388]. В то же время мстиславский староста Иван Соломерецкий разрушил город Ярославль и много деревень[389].
Так окончился поход 1579 года; полоцкая область была завоевана. Завладев ею, Баторий занялся тотчас же ее устройством. Он постарался восстановить укрепления Полоцка, для чего дал 7000 золотых, на которые нанято было для постройки стен 63 плотника в Витебске и 14 в Двинске. В Полоцкой крепости он оставил гарнизон в 900 человек (400 всадников и 500 пехотинцев) под начальством воеводы Николая Дорогостайского, которому дал в помощники вольного писаря Войцеха Стабровского и городничего Франциска Жука, поручив последнему производить смотры солдатам полоцкого гарнизона и уплачивать им жалованье[390]. На границе с московским государством поставлены были военные отряды: гетман Мелецкий, по приказанию короля, разделил польское войско на три части и, назначив начальниками над ними Христофора Нищицкого, Мартина Казановского и Сигизмунда Розена, указал им места для зимних стоянок.
Стефан Баторий. Неизвестный художник XVI в.
Сильная паника, овладевшая врагом[391], подавала Баторию надежду на дальнейшие успехи в борьбе с ним, и король сильно желал продолжать войну. Однако значительные препятствия заставили короля отложить на время исполнение своих желаний: армия была утомлена, пало громадное количество лошадей, а главное – ощущался сильный недостаток в финансовых средствах; кроме того, ко всему этому присоединялось еще осеннее ненастье, которое все более и более усиливалось[392] и которое, конечно, могло повлиять пагубно на здоровье солдат.
Ввиду всего этого Баторий приостановил военные действия[393] и, устроив необходимые дела в Полоцке, уехал отсюда 17-го сентября[394] по реке Двине в Дисну, куда он приказал перевезти все пушки (они были оставлены здесь до следующего похода). Еще накануне отъезда из Полоцка (16-го сентября) он послал Иоанну письмо, в котором извещал его о взятии Полоцка и заявлял, что кровь христианская по вине Иоанна проливается. Вместе с тем он припоминал царю о том, что он – вопреки международным обычаям – задерживает до сих пор его, Баториева, посланца Вацлава Лопатинского; пусть он отпустит его немедленно, равно как и того посланца (Богдана Проселка), с которым король посылает эту грамоту[395].
Из Дисны Баторий отправился в Друю, а оттуда через Брацлавль в Вильну, где ему, как победителю, устроена была торжественная встреча. Папский нунций Андрей Калигари, многие вельможи, шляхта и мещане приветствовали победоносного вождя, прославляя его доблести и подвиги. Навстречу вышли и русские пленные, которые поднесли королю, по своему обычаю, хлеб-соль[396].
В то время как Баторий одерживал свои блестящие победы, Иоанн вел себя очень странно: он оставался в полном почти бездействии, никуда не двигаясь из Пскова. Получив известие об осаде Полоцка, царь ограничился только тем, что послал па помощь крепости небольшой отряд войска под командой Шеина, Лыкова, Палецкого и Кривоборского, но воеводы не были уже в состоянии проникнуть в крепость и, как нам известно, отправились в Сокол, где и оставались до взятия этой крепости войсками Батория.
Как объяснять себе поведение Иоанна? Польский исследователь[397] обращает внимание на то, что Иоанну пришлось действовать одновременно против двух врагов, что во время похода Батория на Полоцк «Шведы свирепствовали в окрестностях Нарвы и Нейшлоса, в Карелии и Ижорской земле, что шведский полководец Бутлер сжег Киремпе», а потому Иоанн не знал, куда ему следует двинуться. Но такое объяснение не вполне правильно. Оказывается, что успехи Шведов были не особенно значительны, что «попытка их в сентябре осадить немецкую Нарву окончилась неудачно, так же как и план захвата Гапсаля», что «у Нарвы они, как говорили, потеряли 4000 человек убитыми»[398]. Современники объясняли неподвижность Иоанна различным образом.
Одни говорили, что царь был совершенно уверен в невозможности взять Полоцк, полагаясь вполне на крепость его стен и храбрость гарнизона; другие рассказывали, что царь не хотел выступить в поход, так как боялся возмущения своих подданных, которые ненавидели его за жестокость[399]. Конечно, эти объяснения надо считать только догадками современников, однако догадками, в которых заключалась известная доля истины, как это мы сейчас увидим. Мы не можем согласиться с мнением знаменитого Соловьева, который объясняет бездеятельность Иоанна таким образом.
Московское правительство сознавало у себя недостаток военного искусства, а потому московские воеводы весьма неохотно вступали в битвы с войсками, на стороне которых виделось большое искусство. «И вот в это время, когда московское правительство так мало надеялось на успех в решительной войне с искусным, деятельным полководцем, на престоле Польши и Литвы явился государь энергический, славолюбивый, полководец искусный, понявший, какими средствами он может победить соперника, располагавшая большими, но только одними материальными средствами. Средства Батория были: искусная, закалившаяся в боях наемная пехота, венгерская и немецкая, исправная артиллерия, быстрое наступательное движение, которое давало ему огромное преимущество над врагом, принужденным растянуть свои полки по границам, над врагом, не знающим, откуда ждать нападения. Вот главные причины успеха Баториева, причины недеятельности московских воевод, робости Иоанна»[400]. По нашему мнению, причины неудач, постигших московские войска в 1579 году, указаны или прямо неверно, или весьма неточно. Иоанну незачем было растягивать свои войска по границам, так как война происходила в определенной местности, в Ливонии или на ее границах, и царь на самом деле не разбрасывал свои силы, а сосредоточил их в двух пунктах, Новгороде и Пскове. Военные планы Батория не могли быть неизвестны московским воеводам, а о возможности движения Батория на Полоцк Иоанн мог догадываться: говорили, что если король нападет на эту крепость, то царь двинется на Вильну[401]; мало того, царский гонец Михалков, возвратившись из пределов Речи Посполитой в Смоленск, уведомил 25-го июня Иоанна, что польский король имеет намерение напасть на Полоцк и Смоленск[402]. Соловьев говорит, что Иоанн располагал большими, не только материальными средствами, и забывает о необычайном самоотвержении, преданности царю и храбрости, нравственных качествах, какие обнаружили московские воины в битвах с наемными солдатами Батория. Наконец, военный гений короля развернулся только во время похода 1579 года, так что это обстоятельство не могло еще приводить в смущение московских воевод и внушать робость Иоанну.
Я думаю, что главным виновником поражений 1579 года был сам Иоанн. Не обладая дарованиями полководца, он не мог составлять наперед планов войны, а потому не был в состоянии оказать надлежащего сопротивления проницательному сопернику. Излишняя самоуверенность помешала царю подготовиться к борьбе с энергическим противником: царь слишком полагался на укрепления Полоцка и храбрость находившегося здесь гарнизона. По своему характеру Иоанн легко переходил от чрезмерной самоуверенности к подозрительности, а затем и излишней робости. Взятие Баторием Полоцка до такой степени озадачило его, что он потерял совершенно голову и, имея громадные военные силы, ни на один шаг не двинулся из Пскова. Если принимать этот взгляд на поведение Иоанна в 1579 году, тогда придется признать, что мнения современников о деятельности царя были до некоторой степени основательны.
Узнав о падении Полоцка и Сокола, Иоанн решил вступить с врагом в переговоры о мире, причем, чтоб пощадить свое собственное самолюбие, он принял для этого следующую форму. Он созвал на совещание бояр, и на этом совещании было постановлено отправить (28-го сентября) от имени бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, наместника владимирского, князя Василия Ивановича Мстиславского, наместника астраханского, и Никиту Романовича Юрьевича-Захарьина, наместника новгородского[403], к виленскому воеводе Николаю Радзивиллу и Троцкому каштеляну Евстафию Воловичу письмо такого содержания: когда вражда двух могущественнейших государей достигла до такой степени, что оба взялись за оружие и король польский завоевал Полоцк, тогда великий князь московский готов был, в свою очередь, отомстить за это, но они вместе с прочими боярами бросились к ногам своего государя и стали умолять его пощадить кровь христианскую. Тронутый этими мольбами, он приостановил выступление в поход. Теперь им (воеводе и каштеляну) и прочим советникам короля следует, с своей стороны, похлопотать о том, чтобы он склонился к такому же решению, прекратил военные действия и заключил с великим князем московским мир, касающийся и Польши, и Литвы, равно как и Ливонии; но пусть они уговорят короля прежде всего, чтобы он удалился в свою столицу и приказал своим войскам, стоящим на границах Литвы и Ливонии, воздерживаться от всяких враждебных действий по отношению к Москвитянам. Великий князь московский сделает то же самое: он возвратится к себе домой и воспретит своим подданным совершать насилия и обиды над подданными короля. Между тем необходимо приложить старание к тому, чтобы государи, переславшись между собою посольствами, заключили мир и согласие, что является делом полезным и весьма необходимым. В конце грамоты бояре, от имени которых она была написана, приносили извинение за задержку Лопатинского[404], через которого король объявил великому князю московскому войну, и давали обещание в том, что лишь только оба государя возвратятся в свои столицы, они постараются, чтобы их государь немедленно отпустил его домой[405].
Грамоту эту повез гонец Леонтий Стремоухов на Нищерду и Полоцк. Полоцкий воевода Николай Дорогостайский распечатал грамоту и заявил, что гонец должен направляться в Литву на Смоленск и Оршу. Тогда Иоанн приказал Стремоухову ехать на эти города, дав ему новую грамоту такого же содержания, как и прежняя[406].
Намерения Иоанна восстановить мир с Речью Посполитою были совершенно искренни. Он приказал смоленскому воеводе охранять строго спокойствие на литовской границе, о чем Батория известил оршанский староста Филон Кмита[407].
Из Пскова Иоанн уехал в Москву, откуда возвратился в Новгород. Сюда прибыл (17-го ноября) к нему Баториев гонец Богдан Проселко. Царь принял его весьма милостиво, пригласил к своему столу и подарил ему парчовую одежду). Королевский гонец привез с собою список московских пленных, находящихся в Литве[408], и заявил, что воеводы Федор Шереметев, Борис Шеин, князь Михаил Лыков и Юрий Булгаков, отпущенные королем на свободу, не пожелали возвратиться домой[409].
Отпуская Богдана Проселка (21-го ноября), Иоанн дал ему к Баторию грамоту[410], в которой писал, что хочет с королем «доброй приязни и братства», но об условиях, на каких мирный договор может состояться, ничего определенного не говорил, а выражал только желание, чтобы король прислал к нему своих великих послов, «которые бы тое дело доброе межи нас попригожу постановить могли». А пока пусть бы король «приказал воеводам своим и кашталянам и старостам и врядникам по всем границам как в Коруне Польской, так и в Великом Княжестве Литовском и в Лифлянской земле» соблюдать мир, подобно тому, как он сам отдал такой приказ «по всем украйным своим границам». Задержку Лопатинского Иоанн объяснял таким образом: «А что гонец твой Вацлав Лопатинский позадержался, и он позадержался тым обычаем, что есмо были в своей отчине во Пскове, а ты к нам его присылал на Смоленск, а сам еси пришел к нашему городу к Полоцку, и мы посылали и нему дворянина своего думного Баима Васильевича Воейкова, да дьяка своего Ивана Филипова Стрешнева, и велели у него тех грамот просити, и он ту грамоту нашему думному дворянину и дьяку дал, и та грамота писана, кабы разметным обычаем, а ты в те поры пришел к нашему городу к Полоцку и ему было ехати в нашу отчизну во Псков далеко, а нам было отпустити его тогда вскоре не вместилося, и мы ему тогды велели ехати на свое господарство на Москву, и ныне нам его отпустити неколи, что будет часа того на свое господарство на Москву и как Бог даст, приедем на свое господарство, и мы часа того твоего гонца Вацлава Лопатинскаго к тебе отпустим и своего гонца к тобе с своею грамотою с ним вместе и о всем к тобе подлинно отпишем»[411]. Иоанн дал Проселку и опасную грамоту для тех послов, которых, как он ожидал, может прислать к нему Баторий[412].
V. Великие Луки
Между тем король думал не о мирных переговорах, а о продолжении войны. Если он приостановил военные действия в конце 1579 года, то сделал это по необходимости и главным образом вследствие недостатка в финансовых средствах. Расходы на первую кампанию были весьма значительны: они достигали 329 488 злотых, между тем как Баторий получил от Речи Посполитой только 212 101 зл., так что ему пришлось покрывать издержки деньгами из своей собственной казны и различного рода займами (на сумму 117 387 зл.)[413].
Ввиду этого он уже на возвратном пути из-под Полоцка решил созвать сейм, чтобы обсудить, каким образом и на какие средства продолжать войну и довести ее до желанного конца. Бросать предприятие, начало которого было так счастливо и дальнейший ход которого предвещал такие же успехи, казалось ему делом невозможным. Сильнейшие крепости были завоеваны у врага, доступ в его владения открыт, он сам находился в паническом страхе, на что указывало уклонение его от борьбы в открытом поле и уклонение от подачи помощи своим укреплениям. Король ускорял созыв сейма, так как ему было известно, что московский государь имел обыкновение начинать военные действия зимой. Сейм созывался в Варшаву на 22-е ноября. Сенаторы и шляхта Литвы просили короля устроить сеймовые совещания в пределах их страны, поближе к театру войны, но Баторий не пожелал отступать от существовавших постановлений относительно места, в котором сеймы должны собираться[414]. Уже на возвратном пути король разослал из Брацлавля к шляхте универсалы, приглашая ее собраться на сеймики 2-го октября и прислать на сейм с неограниченными полномочиями[415].
Затем на Вильну и Гродну Баторий направился в Варшаву, чтоб присутствовать на сейме, от решений которого зависела участь задуманного королем второго похода. Результат совещаний сейма обусловлен был настроением общества, т. е., конечно, главным образом настроением шляхты.
Победы Батория вызвали восторг в обществе: проповедники в своих речах[416], поэты в своих стихотворениях прославляли его подвиги и выражали ему глубокую благодарность за его великие деяния[417].
Шляхта поспешила, по зову короля, на сеймики в большом числе и выразила согласие дать средства на дальнейшее ведение войны[418]. Но нашлись и такие, которые осуждали деятельность победоносного короля. Некоторые из них вооружались против политики захватов. Если допустить, что даже вся Московия поступит под нашу власть, то найдется ли, спрашивали они, надлежащее средство при таких обширных границах управлять таким громадным государством; к тому же, какая польза будет от этого, когда сама Речь Посполитая страдает многими болезнями. У других противников Батория сказывался национальный антагонизм. Они были недовольны тем, что король, Венгерец по происхождению, покровительствует своим соотечественникам, а потому нарочно преувеличивали раздоры, происходившие между Поляками и Венграми, жалуясь на то, что чужестранцы презирают военную власть. Иные нападали на политику фаворитизма, какая действительно обнаруживалась в деятельности Батория. Возвратившись из Полоцка в Вильну, он заместил вакантные должности, отдав большую часть их фамилии Радзивиллов, магнатам, которые составляли главную его опору в Литве. Многие вооружались против подобной политики из эгоистических побуждений, досадуя на то, что они обойдены королевскими милостями, которые они себе заслужили теми или иными своими деяниями. При этом были такие, – прежде всего, конечно, Зборовские, – которые утверждали, что Баторий обязан им своим престолом, так как они подали за него свои голоса при избрании его в короли[419].
Это враждебное королю настроение обнаружилось и на сейме. Противники королевские заговорили прежде всего о том, что Баторий не исполнил обязательств избирательного договора, что он не уплатил государственных долгов, что иностранцы получают староства и различные почести, что герцог Курляндский утвержден во владении своим герцогством не в обычном месте и не в обычное время и на менее выгодных для государства условиях[420]. Говорили, что новые налоги излишни или могут быть меньше, если только будет исполняться конституция, изданная при короле Сигизмунде-Августе, относительно уплаты староствами ¾ доходов. Распускали слух, что король намеревается развестись с женою, которою он пренебрегает, и что уже с этою целью ведутся хлопоты в Риме.
Король легко опровергнул все взводимые на него обвинения. Он принес многие денежные жертвы в пользу Речи Посполитой, уплатив значительные суммы из своей казны на жалованье ратным людям, на усмирение Данцига и на ведение настоящей войны. У него нет ничего отдельного от государства, он готов все пожертвовать ему, даже свою собственную жизнь.
Что касается конституции Сигизмунда-Августа об уплате староствами 3/4 доходов в государственную казну, то на это правительство так ответило: во-первых, об этом в конституции вполне ясно ничего не говорится; во-вторых, несправедливо было бы лишать лиц, получивших староства за свои заслуги, пожалованных им наград. Если не поощрять доблести и храбрости наградами, то кто захочет оказывать услуги государству на войне, при отправлении посольств, или вообще при исполнении какой-нибудь общественной должности? Кто станет служить ради величия и славы своего отечества, если ему не будет обещано за то никаких выгод?
Польский король Стефан Баторий. Художник Я. Матейко
По вопросу о пользовании услугами иностранцев король сделал следующего рода заявления. Иноземных солдат он нанял по необходимости, потому что ему нужна была пехота, а Речь Посполитая, имея прекрасную конницу, которая даже превосходит этот род войска в других государствах, не располагает достаточным количеством пехотинцев. На упреки в том, что король предпочтением, отдаваемым иностранцам, ронял авторитет высшей военной власти, он ответил, что у него не могло быть подобного желания и намерения, что, назначив Бекеша начальником венгерского отряда, он не давал тем самым права распоряжаться по своему усмотрению, а желал только иметь в лице венгерского вождя посредника, при помощи которого можно было бы сноситься с венгерским войском. Вообще, по вопросу о том, следует ли пользоваться услугами иностранцев или нет, большинство сейма было того мнения, что иностранцы могут принести большую пользу государству; только следует подчинять их общегосударственным законам, не давать им общественных должностей и почестей, а вознаграждать их за службу землями или иными подобного рода милостями.
Относительно герцога Курляндского сейму дано было объяснение, что условия, на которых он признал себя вассалом Речи Посполитой, выгоднее прежде заключавшихся условий, и в доказательство представлен договор.
Чтоб рассеять слухи о желании короля развестись с женой, оглашено было содержание переговоров, которые были ведены в Риме при посредстве плоцкого епископа, и таким образом было уничтожено всякое подозрение по этому поводу.
Некоторые высказали желание, чтобы король не принимал участия в походах, а поручал ведение их своим заместителям, тогда он не будет подвергать себя опасности. Но король заявил, что он считает уклонение от войны недостойным своего сана и мужества. Кроме того, присутствие его будет полезно для ослабления раздоров, какие могут возникнуть между польскими и литовскими военачальниками; наконец, на войну явится больше охотников, если ему будет известно, что они будут сражаться на глазах короля.
Баторий и Замойский, его главный советник и помощник, который совершенно вошел в его замыслы, сумели увлечь сейм завоевательными планами. По словам Гейденштейна, наибольшее впечатление произвела на сейм речь Замойского. Политик, применявшийся искусно к обстоятельствам, он сумел ловко разжечь в шляхетском сословии аппетиты к захватам чужих земель. «Есть немало таких, – говорил он, – которые опасаются трудностей управления при слишком большой обширности владений и думают, что не следует более увеличивать пределов владычества Речи Посполитой, ибо приобретение потребует издержек и большого труда, а пользы от этого республике не будет никакой. Но может показаться удивительным, отчего в своих частных делах никто не рассуждает так, как по отношению к государству. Существуете ли хоть один человек, который не предпочел бы десяти имений одному? Тяжелы заботы, налагаемые обширным имением, но они вознаграждаются большими выгодами и удобствами. Положение нашего государства, мне кажется, таково, что если мы только хотим иметь пружину дел (nervus rerum, деньги) и если желаем сохранить настоящее состояние республики, то совершенно необходимо присоединить к ней какое-нибудь новое владение. Все подчиненные области, присоединявшиеся к нашему государству, получили полное гражданство на равных совершенно правах, нет ни одной, которая обращена была бы в зависимую провинцию, или поставлена в условия данничества; таким образом, при одинаковой для всех свободе, для всех уравнены и податные тягости. Если бы мы захотели облегчить их для себя, то какое могли бы иметь к тому средство, кроме присоединения к государству нового владения, по образцу всех бывших великих империй: установив в нем подати и пошлины, мы могли бы освободить себя от некоторой значительной доли общих тягостей». Таким образом, Речи Посполитой предлагалась политика порабощения других стран и народов, политика, шедшая вразрез с основами ее государственного строя, покоившегося на федеративных началах. Однако речь Замойского увлекла представителей шляхетского сословия и они уже без всякого колебания, замечает историк, изъявили свое согласие на продолжение войны и на дальнейшее взимание налогов для нее[421]. Норма обложения была принята та же, что и в прошлом году. Кроме того, старосты, под влиянием речей, произнесенных на сейме, о необходимости привлечь их к уплате 3/4 доходов в государственную казну, предложили, посоветовавшись между собой, уплатить двойную кварту за один год на военные издержки, с тем условием, что делают это они только на этот один раз, ввиду крайней государственной необходимости, и что впредь к тому не будут принуждаемы[422]. Наконец и духовенство обязалось дать на ту же цель субсидию «со всех епископств, аббатств, титулованных приходов (probostw, którc są infułatowe), от капитулов кафедральных церквей, от владык и архимандритов», в размере приблизительно около 33 000 золотых[423]. Сроком взноса установленных налогов назначен был день св. Войтеха (24-го апреля), но затем король, с согласия сената, решил ускорить взимание их, ввиду того, что денежные средства ему нужны были скорее, и назначил срок на четвертое воскресенье поста (niedzielę środopostną).
Но как и в прошлом году, сбор налогов совершался медленно и приготовления к войне тянулись гораздо дольше, чем желал того король.
Между тем велись переговоры о мире. Московский гонец Леонтий Стремоухов, о котором мы говорили выше, явился к литовским вельможам, к которым он был послан, в ноябре месяце[424] и передал им царскую грамоту. Они дали ему такой ответ. Король, как христианский государь, выше всего ценит мир и согласие между соседями, и если начал войну, то только в силу крайней необходимости, принужденный к тому самим великим князем московским, который завладел уже Ливонией и стремится завладеть Курляндией. Задержав у себя гонца Лопатинского, великий князь довел дело до такой степени, что им, королевским советникам, не следовало бы ни о чем просить короля; однако они, сожалея о разлитии христианской крови, обратились к королю с просьбой о том, чтобы переговоры о заключении мира были начаты. Но королю нет никакого основания посылать к московскому государю послов, так как он не считает себя вправе подвергать кого-либо из своих подданных оскорблениям, каким они раньше подвергались в московском государстве. Король согласен, однако, принять у себя московских послов, для которых они, королевские советники, испросили у короля проезжую грамоту, и если послы немедленно прибудут в Польшу, король обещает сохранять спокойствие на границах до тех пор, пока будут происходить переговоры[425].
Свое желание заключить мир Иоанн выразил и через королевского гонца Богдана Проселка, который уехал из Новгорода 23-го ноября[426]. Мало того, царь решил отпустить гонца Лопатинского, для чего приказал привезти его в Москву, куда сам возвратился 29-го декабря. Спустя несколько дней Лопатинский был отпущен, и Иоанн, не дожидаясь возвращения первого своего гонца, отправил к Баторию вместе с Лопатинским второго – дворянина Елизария Ивановича Благово. При отпуске Лопатинскому было сделано от имени царя следующее внушение. Он привез с собою грамоту, в которой «Стефан король как бы с розметом и многие укоризненные слова писал», чем совершил деяние, за которое таких людей везде казнят. Но он, государь христианский, его убогой крови не хочет и «для покою христианского по христианскому обычаю» отпускает его к его королю[427].
Вместе с тем Лопатинскому дано было поручение убеждать литовских вельмож, чтоб они склоняли короля к миру. «И ты говори, – наказывали ему Андрей и Василий Щелкаловы, – паном своим Николаю Юрьевичу, воеводе виленскому, да Остафью Воловичу, Троцкому пану, да Степану Збаражскому, воеводе Троцкому (и иным их милости панов поменяли и Яну Иеронимовичу[428] нечего говорить, он большую смуту межи господарей делает и с своим паны бранит, што бы они Стефана Короля, господаря своего, тым же обычаем умолили, што бы он серцо свое утулил, а по обычаю христианскому с господарем нашим в миру жил, а тую брань обчо против неверное руки поганское обернул»[429].
Через гонца Благово Иоанн по-прежнему заявлял Баторию о своем желании мириться, причем опять увещевал короля прислать великих послов для этой цели к нему в Москву[430].
Этим царь не ограничился. Когда возвратился Лев Стремоухов (3-го февраля)[431] и донес, что Баторий не желает отправлять послов, а прислал через него, Стремоухова, опасную грамоту для московского посольства, Иоанн приказал своим боярам написать новую грамоту к литовским вельможам. В этой грамоте московские бояре припоминали им «милосердие и прихильность» своего государя к ним и ко всей их земле, польской короне и великому княжеству литовскому. Когда после смерти Сигизмунда-Августа Речь Посполитая прислала своего гонца, Федора Зенковича, просить о продолжении перемирия, их государь, как государь христианский, щадя кровь христианскую, скорбя о смерти короля Жигимонта-Августа, и видя, что «христианская рука ущипок приимует, господари христианские изводятся без потомка и бесерменские господари размножаются», внял этой просьбе и приказал соблюдать по всем границам мир, хотя рать у него вся уже была наготове. Такое же расположение к Речи Посполитой государь их оказал после того, как «Бог поручил» ему и он Полоцк взял. По просьбе литовских панов, он далее Полоцка и сам не пошел и рати своей ходить не велел, хотя рати у него были тогда великие.
Теперь необходимо панам радам литовским и им, боярам московским, приводить государей своих к тому, чтобы между ними утвердилось мирное постановление. Но сделать это можно не так, как думают литовские паны. Та «грамота (писали московские бояре), что есте прислали к нам, именуючи опасною грамотою, не по прежнему обычаю прислана, чого николи не бывало, а издавна вам, паном радам и братьи нашей самым в ведоме, что господаря нашего послы и посланники наперед литовских послов не хаживали, а ходили за все литовские послы к господарям нашим, и вы бы, братья наша, новых причин чого николи не бывало, не всчинали». А потому «мы вас, братью свою, панов рад напоминаем для своего и вашего обычая, чтоб нам и вам, братьи нашей, всем с обе стороны, на такие дела смотрели, которые идут к покою христианскому и господаря своего Стефана короля наводили, чтоб господарь ваш с нашим господарем похотел добраго пожитья и послов бы своих ко господарю нашему неомешкаючи слал, по господаря нашего опасной грамоты, которые бы могли доброе дело постановить».
Эта грамота московских бояр была отправлена в Литву с гонцом Грязновым Шубиным[432] в конце февраля[433].
Таким условиям ведения переговоров Стефан Баторий, как победитель, подчиняться не желал. Он принимал московского гонца Елизара Благова в Гродне, куда прибыл по окончании варшавского сейма[434]. С Благовым он послал к Иоанну грамоту, в которой заявлял, что так как Иоанн прежних его послов «с незвыклым и к доброй приязни непригожим постановлением отправил», и Иоанновы послы, которые являлись к нему, «ничего к доброму делу не становили», то вследствие этого посылать ему послов к Иоанну непригоже. Если же Иоанн хочет мира, то пусть он своих послов немедленно к нему присылает. Что касается предложения относительно обмена и выкупа пленных, то пусть в Москве рассудят, годится ли это делать во время войны[435].
Иоанн и после этого не перестал делать попыток отсрочить войну путем дипломатических пересылок, но характер этих сношений изменяется: он понижает сильно тон своих требований и желаний. Вскоре после того как в Москву возвратился Елизар Благово (15-го апреля), царь, посоветовавшись с боярами, отправил к Баторию нового гонца – дворянина Григория Афанасьевича Нащокина (23-го апреля). В грамоте, посланной с этим гонцом, царь жаловался на то, что перемирие со стороны Речи Посполитой не соблюдается: «Воеводы и державцы твои, – писал Иоанн, – чаем без твоего ведома, из Чечерска, из Гомля и из Мстиславля приходячи в наши украйные города, в Стародубский уезд и в Почепской и в Рославской, а из Орши и из Витебска приходя в Смоленской уезд и в Вельской и в Торопецкой и в Луцкой, многое розлитие крови христианской починили многижды воинским обычаем, а в Лиолянской земле нине пришедши, твои люди Матвей Дембинский с товарищами заняли место город Шмылтын и приходячи из Шмылтына твои люди на Псковские места и на Говейские и на Юрьевские, многие места повоевали и разлитие крови христианской починили»[436].
Иоанн опять повторял свое желание, чтобы Баторий присылал к нему послов, но вместе с тем дал Нащокину и такой тайный наказ. Если король, отказавшись отправить от себя посольство, будет готовиться к походу на Украину, тогда Нащокин должен испросить себе у короля частную аудиенцию и объявить, что царь пришлет своих послов, лишь бы только военные действия были приостановлены[437].
Между тем возвратился в Москву (30-го мая) Грязнов-Шубин, который привез с собой ответ панов литовских. Они говорили, что не видят, чтоб из переговоров вышел какой-нибудь прок. В московском государстве задержаны и даже в темницу посажены многие купцы, которые отправились туда ради торговли во время мира; при этом в казну московского государя отобраны их имущества ценностью свыше 200 000 злотых[438].
Нащокин исполнил свое поручение так, как ему было приказано. Так как Баторий и не думал отправлять послов в Москву, то московский гонец, согласно тайному наказу, объявил королю в частной аудиенции, что его государь соглашается прислать к королю своих послов под тем условием, что будет заключено перемирие и король не двинется дальше со своими войсками. «Пусть король ожидает послов в Вильне, так как и его предшественники всегда оказывали ту особую честь великим князьям московским, что послы их выслушивались только в столице или королевства польского, или великого княжества Литовского»[439].
Баторий смотрел на переговоры лишь как на стратегему со стороны Иоанна целью протянуть время сколь возможно дольше[440] и разузнать состояние противника[441], а потому он приказал сказать Иоанну, что уже готовится выступать в поход и предоставляет разрешение спора между ними на суд Божий. Но если Иоанн пожелает прислать к нему послов, то он примет их и во время похода, да это и лучше будет, так как послам придется совершить путешествие покороче[442]. После заявления Нащокина о том, что царь готов отправить посольство, Баторий согласился воздержаться на некоторое время от войны, назначил срок в пять недель (от 14-го июня) для приезда московским послам[443] и дал им опасную грамоту[444].
Это время нужно было королю, чтобы окончить сборы на войну; он намеревался принять московских послов в лагере, очевидно, с тою целью, чтобы придать больше веса своим требованиям[445]. К искренности намерений Иоанна заключить мир он не мог питать доверия по совершенно основательным причинам. Во время пребывания Нащокина в Литве произошло событие, которое возбудило сильное подозрение в короле, что Иоанн присылает к нему гонцов с целью выведать положение его сил и вообще положение его государства; мало того, он убедился, что царь имеет даже замыслы, опасные для него самого и его государства. Нащокин вошел в тайные сношения с литовским знатным паном Григорием Осциком, который начал пересылаться с Москвою еще во время безкоролевья 1574 года. Осцик обещал московскому правительству возмутить Литву, чтобы подчинить ее московскому царю, и даже убить при удобном случае короля. Изменник ловко обманывал при этом тех, кому он служил. Он подделал печати многих сенаторов, чтобы показать Москвитянам, будто он действует в согласии с другими вельможами, и таким образом приобрести большее доверие к себе. Заговор был открыт, и Осцик вместе с своим сообщником, одним евреем, казнен[446].
Это обстоятельство было последним поводом, заставившим Батория вести переговоры с Иоанном о мире, ведя с ним одновременно борьбу, к которой он деятельно приготовлялся.
По окончании вального сейма в Варшаве Баторий через Гродну прибыл в Вильну, куда он созвал, будучи еще в Гродне, на 17-е апреля съезд из литовских панов рад, врядников земских и депутатов от литовской шляхты для обсуждения вопросов, касающихся предстоящего похода, безопасности Литвы и иных земских дел[447]. Съезд решил помочь королю, как и в прошлом году, не только деньгами, но и вооруженными отрядами, которые, очевидно, могли быть доставлены только людьми богатыми; шляхтичи мало состоятельные явились, конечно, только сами[448].
Гродно в конце XVI в.
В приготовлениях к войне происходила задержка не только потому, что налоги собирались медленно, но также и оттого, что солдаты неохотно отправлялись в поход, «Многие из тех, – говорит историк, – которые были в первом походе, потерпев большой урон и лишившись лошадей и всего вооружения вследствие непогод и дурного состояния дороги, теперь слишком ясно представляли себе все тягости столь отдаленной службы и потому очень неохотно записывались в нее»; другие отговаривались недостатком времени[449]. При наборе войска большие услуги оказал королю Замойский. Он составил отряд, который содержал на свой счет. К этому Гейденштейн прибавляет еще и следующую заслугу. Посоветовавшись с королем, говорит он, Замойский всенародно объявил, что будет сам набирать и конницу, и пехоту; когда это стало известно, то во всех проявилось великое рвение и отовсюду стали являться охотники[450].
Кроме того, король привел в исполнение меру, одобренную еще на сейме 1578 года, относительно набора крестьян в королевских имениях по одному человеку с каждых 20-ти ланов. Эта мера встретила противодействие со стороны королевских державцев. Они или не разрешали брать крестьян у себя, или не освобождали их от тяготевших на них крестьянских повинностей, или воспрещали пользоваться им льготами, которые были им предоставлены.
На сейме 1579–1580 годов набор этот снова был одобрен. Тогда король разослал к старостам и державцам универсалы о том, чтобы они не сопротивлялись этой мере, и угрожал им за это наказанием[451]. Несмотря на противодействие помещиков, набор состоялся; он доставил королю около 1500 солдат[452]. Ко всем этим войскам присоединилась, так же как и в прошлом году, венгерская пехота, которую, по поручению Батория, набрал ему брат его Христофор, трансильванский воевода.
Вместе с тем совершалась заготовка пороху, ядер, оружия и иной амуниции[453].
Иоанн тоже делал приготовления к войне, и притом опять в обширных размерах. В январе 1580 года он созвал в Москве духовный собор, на котором торжественно заявил, что церковь и православие в опасности, что бесчисленные враги восстали на Россию, что он с сыном своим, с вельможами и воеводами бодрствует день и ночь для спасения государства, но что духовенство обязано помочь ему в этом великом подвиге; войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют. Поэтому он, государь, требует жертвы от духовенства, и если оно совершит ее, Всевышний благословит его усердие к отечеству. Собор приговорил отдать в государеву казну земли и села княжеские, пожалованные когда-либо духовенству или когда-нибудь духовенством купленные, равно как и имения, заложенные духовенству. Таким образом Иоанн старался увеличить государственные доходы[454] для того, чтобы иметь возможность собрать побольше войска. Служилых людей царь приказал привлекать к исполнению их повинности при помощи принудительных мер: детей боярских, укрывавшихся или бежавших от царской службы, отыскивали особые чиновники, разъезжавшие по областям, били кнутом, сажали на некоторое время в тюрьму и затем отправляли на государеву службу во Псков[455].
Так удалось Иоанну собрать большую армию, но как и в прошлом году, она представляла собою массу плохо организованную и плохо руководимую: у Иоанна опять-таки не было определенного плана войны[456]. А тут Баторий сумел еще ввести царя в заблуждение своими действиями. Король назначил сборным пунктом для своей армии местечко Чашники, находившееся на перекрестке дорог в Великие Луки и в Смоленск, так что Иоанн не мог сразу узнать, куда враг намерен двинуться, на Смоленск или на Великие Луки. Заготовив продовольствие и амуницию, Баторий отправил артиллерию с венгерской пехотой в Поставы, приказав ей плыть оттуда на судах по Дисне и З. Двине в Витебск, и затем сам выехал из Вильны 15-го июня через Минск и Борисов в Чашники[457]. Благословил короля в поход сам папа, прислав ему через Павла Уханского в Вильну освященный меч[458]. 8-го июля Баторий прибыл в Щудут, село в пяти милях от местечка Чашников, разместил по окрестным деревням прибывших солдат и сам остановился на некоторое время в Щудуте в ожидании остальных войск.
Тут он собрал военный совет, чтоб обсудить вопрос, на какой пункт неприятельских владений направить вооруженные силы, хотя сам уже давно наметил окончательной целью этого похода Великие Луки[459]. На совещаниях обозначились три мнения: одни советовали идти к Пскову, другие – к Смоленску и третьи – к Великим Лукам[460]. Первое предложение было, по словам Гейденштейна, не отвергнуто, а лишь отложено до более удобного времени, когда будут взяты неприятельские крепости, которые остались бы в тылу наступавшей армии и таким образом являлись бы для нее немаловажной опасностью[461].
Стоявшие за поход под Смоленск указывали на многолюдство и богатство этого города и на то, что с его завоеванием легко подчинится Речи Посполитой вся северская область. Противники приводили в опровержение этого мнения следующие доводы. Во-первых, путь к Смоленску пролегает по областям, которые были сильно опустошены собственными же войсками Речи Посполитой, так что легко может явиться недостаток в продовольствии[462]. Во-вторых, движение к Смоленску отвлечет вооруженные силы слишком далеко от Ливонии, освобождение которой составляет главную цель настоящей войны[463] и откроет неприятелю доступ к Литве, даже к самой Вильне, так как у него с той стороны Двины имеются замки в двадцати каких-нибудь милях от литовской столицы[464]. И в-третьих, нельзя надеяться, что враг ради защиты города, находящегося на окраине его государства, рискнет противопоставить свои силы силам противника[465]. Поход к Великим Лукам имеет гораздо больше выгод. Правда, придется двигаться по местности, покрытой лесами, но зато и прорезанной реками Двиною и Усвячею, по которым с меньшими трудностями можно будет перевозить артиллерию и провиант. К тому же Великие Луки угрожают Ливонии, и король был того мнения, что если он овладеет этим городом, то отрежет врагу сообщение с Ливонией. Затем королю приходило на ум и такое соображение. Великие Луки находятся как бы в предсердии московского государства[466] и являются сильнейшею крепостью, и поэтому можно предполагать, что враг, потеряв надежду заключить мир, для защиты ее устремит сюда все свои силы, и тогда представится случай помериться с ним силами в открытом поле, что было для короля предметом самого горячего желания. Далее, в окрестностях Великих Лук, отличавшихся плодородием и изобиловавших съестными припасами, легко было прокормить и людей, и животных[467]. Затем, Великие Луки представляют удобный пункт, из которого легко производить нападения на какие угодно области неприятеля; помещенный тут отряд войска будет задерживать легко его движения и на Литву по смоленской дороге и на Ливонию по псковской, так как будет находиться в одинаковом расстоянии от этих дорог. Вследствие этого и московский государь стягивает сюда свои войска, ибо он отсюда удобно может нападать на ту область, которая покажется ему для этого наиболее подходящею[468].
Наконец, московские воеводы, присягнувшие королю на подданство, на вопрос его, какая крепость считается в Москве имеющею большее значение, Смоленск или Великие Луки, ответили, что первый славится как место замечательных событий, но последние по своему значению в военном деле ценятся больше[469].
Баторий старался держать в тайне свой план похода на Великие Луки как можно дольше, чтобы неприятель не мог догадаться скоро, какое он изберет направление для своего наступательного движения. Поэтому-то король и приказал своим войскам собираться в Чашниках, так как этот сборный пункт мог вызывать в неприятеле лишь недоумения относительно замыслов Батория: из этого пункта можно было удобно идти под Смоленск и под Великие Луки.
В Чашниках Баторий оставался до тех пор, пока не собрались все отряды его армии. Вместе с тем он выжидал и окончания пятинедельного срока, который был назначен для приезда московских послов.
Этот срок показался Иоанну слишком коротким. Он прислал на Щудут в Чашники своего гонца Феодора Шишмарева известить об этом короля. «В пять недель, – писал Иоанн, – поспети не токмо к тебе, к Стефану королю у Вильно невозможно, и на рубеж к тому сроку поспети не возможно» не только послам, но и гонцу легкому на подводах без своих лошадей. Царь извещал, что послы его прибудут в Смоленск 1-го, на Литовскую границу 6-го и на месте будут 15-го августа. Вместе с тем он выражал желание, в исполнимость которого он сам, должно быть, не верил, – желание, чтобы король принял его послов «у Вильни по прежнему обычаю не ходя в поход ратью к нашим украйнам, занеже нашим послом в походе, в рати мимо Виленское место, мимо прежний обычай, на посольства у тебе быти непригожо», одним словом, желал, чтобы король возвратился назад из похода[470]. Шишмарев явился к Баторию 19-го июля, т. е. в тот день, когда истекал назначенный Баторием пятинедельный срок[471]. Король отвечал, что все эти пересылки имеют в виду одно – оттянуть начало войны. Послы могли бы прибыть вовремя, потому что путь для них сократился вследствие того, что он, король, приблизился к границам московского государства. Он нарочно в ожидании послов подвигался вперед с войском медленно, хотя это было к вреду его подданных и с ущербом для начала военных действий, но теперь, когда войска собраны, откладывать войну трудно. Однако она не помешает ведению переговоров о мире. Он примет послов Иоанна всюду, где бы он, король, ни находился со своими войсками, лишь бы только дело ведено было без всякой хитрости с целью установить мирное христианское житье между ними, государями, и их государствами без ущерба его, короля, славе и без вреда для его государства. Он обещает полную безопасность послам Иоанна и их имуществам согласно первой охранной грамоте, высланной в Москву, каков бы ни был результат переговоров[472].
Иоанн не ограничился посылкой Шишмарева. Вскоре после отъезда этого гонца царь отправил новую грамоту, которую переслать велел смоленскому воеводе князю Даниилу Андреевичу Ногтеву с боярским сыном Легково к Шишмареву, чтобы последний вручил ее Баторию. Иоанна встревожили вести, которые он получил из Литвы. Он узнал, что из Орши приходили в смоленский уезд королевские солдаты, захватили в плен «сторожей детей боярских» в Голювицах, подступали два раза с «приметом» к Озерищам, а теперь, по слухам, идут к Заволочью. Кроме того, ему стало известно, что король выступил в поход из Вильны и пришел в Чашники. Ввиду этого Иоанн так писал Баторию: «И ты б, Стефан король, своего слова не порушил, а того дела добраго, что меж нас почалося не порвал, сам ратью не ходить и с коня сета и воротился в свое, в Виленское место, или где велишь у себе нашим послом быти: и панов радных и воевод на наши украины не посылал, и рать свою воротил, и по границам, по всем местам и в Лиолянской земли заказать велел накрепко; а своих есмо послов к тебе отпустили, и наши послы уж нине, в дорозе, а будут на рубежи и ранее того сроку августа пятого на десять дня»[473].
Иоанн становился уступчивее, в чем он и сам сознавался перед королем, отправляя к нему новую грамоту, в которой писал, что, «смиряясь перед Богом и перед ним, королем, велел к нему своим послам идти»[474]. Но уступчивость эта была формальная, так как касалась только места и времени приема Баторием московских послов, но не затрагивала сути дела: Иоанн ни одним словом не обмолвился о существенных уступках, какие он сделает Баторию, чтоб восстановить мир, а ведь только такими уступками можно было сделать переговоры успешными.
Последнюю грамоту от Иоанна Баторий получил 28-го июля, выехав уже из Чашников. Король дал царю такой же ответ, как и прежде. Между тем новый московский гонец привез Шишмареву письмо, но передать его не мог, так как последний уже выехал из королевского лагеря. Приближенные Батория говорили, что это письмо надо распечатать, но король не согласился на это и возвратил его гонцу нераспечатанным[475].
Отправляясь из Чашников, король произвел тщательный смотр войскам: стоя на холме, он осматривал каждого солдата особо, в то время как армия проходила по узкому мосту, и нашел ее в хорошем состоянии; забраковать пришлось немного лошадей[476].
По пути в Витебск Баторий осмотрел укрепления в Лепеле и Уле; армия в это время двигалась по направлению к Витебску. Во время стоянок устраивались совещания относительно дальнейших военных действий: решено было взять крепости Велиж и Усвят[477], так как они, находясь в тылу армии, могли причинить немало хлопот. Взять Велиж было важно еще потому, что в таком случае освобождалось окончательно плавание по Двине, вследствие чего перевозка по реке всякого военного транспорта могла совершаться беспрепятственно; кроме того, проистекали от этого и немаловажные выгоды для торговли, ибо велижский уезд изобиловал лесом[478].
Доспехи Стефана Батория. Художник Я. Матейко
Во главе экспедиции к Велижу король поставил канцлера Замойского, вследствие чего возникли пререкания между Поляками и Литовцами. Последние усмотрели в назначении Замойского начальником самостоятельной экспедиции оскорбление для своего гетмана и требовали предоставления ему начальства над экспедицией. Коронный гетман Мелецкий, несмотря на просьбы Батория, не принял участия в походе, а потому Поляки заявляли, что литовский гетман должен оставаться при короле, как заместитель его по военным делам. Литовцы на это возражали, что таким заместителем может быть великий маршал коронный, канцлер или польный гетман. На это Поляки отвечали, что маршалу принадлежит только гражданская юрисдикция при королевской особе и только в случае отсутствия его заступает его место канцлер, должность же польного гетмана нельзя сравнивать с двумя последними, она гораздо ниже их; ввели ее частным образом сами гетманы и замещается она по их рекомендации[479].
Одержали верх в этом споре Поляки, так как литовское войско не было еще вполне собрано, а у Замойского все уже было заготовлено. Как ближайший советник Батория, он знал его планы еще до выступления в поход, а потому и сделал все необходимые приготовления к экспедиции, которая ему поручалась. Мнения, которые Замойский высказывал на военных советах, присутствуя при осаде Данцига или участвуя в походе под Полоцк, советы, которые он давал по вопросам военного дела, вселили в Батория уверенность в том, что его канцлер обладает выдающимися военными талантами, и он пожелал испытать его в этом отношении. Вот чем следует объяснять отправление Замойского под Велиж. Канцлер заготовил заблаговременно все необходимое для похода: артиллерию, амуницию, продовольствие, палатки, плотников и других ремесленников. Он приказал все это переправить из своего Кнышинского староства вниз по Неману в Ковку, отсюда вверх по Вилии в Михалишки, далее сухим путем в Поставы и, наконец, по Дисне и Двине в Витебск. В этот город прибыл и набранный им отряд войска, в котором было немало лиц сенаторского звания, немало таких, которые занимали выдающиеся должности в государстве или служили при королевском дворе и, кроме того, большое число знатных юношей. Конница отряда состояла из гусар и казаков, вооруженных, по распоряжению Замойского, вместо луков карабинами за плечом, короткими ружьями, пистолетами за поясом, саблями и пиками. Пехота была набрана по большей части в Венгрии. Все воины в отряде Замойского носили одежду, оружие и убранство черного цвета в знак траура по жене и дочери своего полководца, которых он недавно лишился[480]. В отряде было 944 пехотинца и 1042 всадника; к нему король присоединил еще около 4000 человек пехоты и конницы, так что численность всего корпуса, которым командовал Замойский, простиралась до 6000 человек.
Канцлер первым прибыл в Витебск, но вскоре за ним последовал и король[481]. В Витебске представляли королю свои отряды паны и рыцарство литовское, князья Слуцкие, тиуны и чины земли Жмудской: отряды эти состояли из наемников и добровольцев, служивших безвозмездно[482]. Явились одновременно и некоторые польские войска, наемные и охочие, которым пришлось идти из более отдаленных частей Речи Посполитой, так что они могли поспеть только в Витебск.
Пробыв два дня в Витебске, Замойский двинулся[483] к Велижу вдоль реки Двины, расположив свои войска следующим образом. Команду над авангардом он поручил своему родственнику Луке Дзялыньскому, воину опытному, деятельному, осторожному и легко переносившему всякие лишения походной жизни; в помощники ему он дал такого же храброго и предусмотрительного офицера – Николая Уровецкого. Главным корпусом отряда канцлер сам командовал, избрав себе в наместники Станислава Жолкевского, прославившегося военными подвигами в борьбе с Татарами. В ариергарде двигался обоз, который был разделен Замойским на три части, соответственно разделению походной колонны: каждой части обоза приказано было следовать за своим отрядом. Таким образом гетман устранил те замедления, какие происходят вследствие того, что весь обоз движется вместе по одному и тому же пути; для прикрытая обоза назначены были особенные отряды. Артиллерия отправлена была вперед, и прикрывать ее Замойский приказал венгерской коннице, которая и двинулась по левому берегу Двины под командой Стефана Лазаря[484].
Так канцлер достиг реки Каспли, через которую он быстро перекинул мост, чтоб перевести войско в Сураж, крайний пункт владений Речи Посполитой. В этом городе он пробыл один день, чтоб дождаться прибытия артиллерии, которая плыла по Двине, и посоветоваться, по какой дороге двигаться дальше, по этой ли стороне Двины, на которой он находился, или по другой. Он избрал первый путь, так как, двигаясь по второму пути, пришлось бы два раза переправляться через Двину, первый раз у Суража и второй раз у Велижа, и, следовательно, строить два раза мосты. Поход по первой дороге представлял тоже громадные трудности, так как вся местность, по которой надо было идти, покрыта была дремучими лесами, через которые никто со времен Витовта не проводил войска[485].
Стоя в Кураже, Замойский выслал вперед отряд пехотинцев, чтобы они проложили в лесу дорогу, вырубив деревья и устроив гати через попадавшиеся болота. Когда дорога была готова на протяжении трех миль[486], авангард, по приказанию гетмана, двинулся в поход и, пройдя это расстояние, остановился в селе Верховье в ожидании самого гетмана, который прибыл на следующий день (1-го августа) около полудня. Осмотрев дорогу, по которой войску приходилось дальше двигаться, и сделав распоряжения относительно ее исправления и постройки мостов, он издал приказ, запрещавший солдатам под страхом смертной казни при приближении к крепости Велижу стрелять из ружей, бить в барабаны, трубить, кричать, вообще производить какой бы то ни было шум, ввиду того, что необходимо подойти к неприятелю как можно тише. «На нынешнем и на следующем ночлеге, – говорилось в приказе, – у меня не будут давать сигнала седлать лошадей и садиться на коня ни барабанным боем, ни трубою. Когда выставят над моим шатром одну зажженную свечу – это знак вставать, две – седлать лошадей; если еще не рассветет, будут выставлены три свечи, а если уже рассветет, тогда вывесят на копье красное сукно в знак того, что необходимо садиться на коней. Назначить отроков смотреть за этими сигналами. Возам идти в установленном порядке, каждому держаться своего определенного места, чтоб другим не было тесно; солдатам вообще не разбрасываться». Замойский хотел напасть на Велиж внезапно, но этот замысел не удался, как мы увидим.
Отряд прошел в течение дня четыре мили и ночевал в деревне Студяной, которая теперь уже не существует, в расстоянии не более одной мили от Велижа[487].
Когда уже хорошенько рассвело, гетман, созвав офицеров, приказал им собираться в путь, но притом брать с собою провианта только на одну ночь, говоря, что обоз останется пока в Студяной и прибудет на место только на следующий день. Сделано это было, очевидно, с той целью, чтобы дорога от Велижа до Студяной была свободна на тот случай, если экспедицию постигнет под крепостью неудача и войску придется поспешно назад возвращаться[488].
После этого гетман издал военные артикулы касательно дисциплины во время похода и борьбы с неприятелем[489].
Распоряжения эти характеризуют гуманность, насколько она, конечно, может обнаруживаться в таком деле, противном гуманности, каким является война. Грабителям и поджигателям храмов грозила смертная казнь: запрещалось убивать детей, престарелых людей и духовных лиц.
Отряд готов был уже двинуться в поход, когда казаки привели к гетману боярина, захваченного в плен в то время, когда он ехал из Велижа в свою деревню[490]. Пленного стали пытать[491]. Тогда он сказал, что в Велиже знают о приходе врага, но не ожидают его нападения сегодня.
Это заявление подало Замойскому надежду на осуществление его замысла – овладеть крепостью внезапно. Имея это в виду, гетман взял только часть войска, с нею приблизился к крепости лесом и на самом краю его остановился[492], чтоб посоветоваться, каким образом исполнить предприятие. Венгерцы советовали подождать ночи, когда можно будет воспользоваться темнотою, чтобы подкрасться под замок и зажечь его стены. Иные были того мнения, что следует сейчас же напасть на крепость со всех сторон, и утверждали, что успех обеспечен, так как неприятель не знает об их приходе и потому будет застигнут врасплох. Выслушав мнения, Замойский принял такое решение. Так как замок со стороны Двины слабее всего укреплен, то необходимо направить на этот пункт пехотинцев с топорами; иных следует послать со стороны города, так как можно надеяться, что они легко проникнут в замок вместе с городскими жителями, когда последние начнут убегать ради спасения в крепость. Кавалерия должна была гарцевать со стороны, противоположной замка, чтобы отвлечь внимание и силы неприятеля в эту именно сторону.
Замок Велиж лежал на высоком холме и его покатости, спускавшейся к реке Двине. Он имел вид четырехугольника, сторонами которого являлись деревянные укрепления, состоявшие из трех бревенчатых срубов, между которыми насыпана была земля и каменья. Стены были обмазаны глиною, а внизу присыпаны дерном; на углах и посредине стен возвышались башни, в которых и между которыми находились бойницы. С северо-запада замок спускался вниз к самой Двине; северо-восточная стена находилась над глубоким оврагом, по дну которого протекала речка Велижа, впадавшая в Двину и имевшая шлюз для поднятия уровня воды. Глубокий и обрывистый овраг защищал крепость с юго-запада, а с юго-востока устроен был ров, доступ к которому заграждался частоколом, состоявшим из круглых бревен, кверху заостренных[493]. В замке находилось 200 детей боярских, 400 стрельцов и около 1000 человек простого народа; для защиты замка было 14 пушек, из них 4 больших, 80 гаковниц, много пороху, пуль, ядер и большое количество провианта.
Лишь только нападающие показались из лесу, как из крепостной пушки раздался выстрел. Это был знак для городских жителей спасаться в крепость, что они, действительно, и сделали, зажегши предварительно город. Таким образом, Замойскому не удалось застигнуть врага врасплох, и это расстроило его планы. Правда, пехота бросилась с криком к крепостному мосту, а конница помчалась к крепостным стенам и стала гарцевать перед ними, желая выманить неприятеля из-за укреплений, но все это не привело уже ни к чему. Русские не выходили из укреплений и только часто стреляли в неприятеля. Из войска Замойского отделились 4–5 пехотинцев, которые засели вблизи крепостного частокола и стали стрелять в замок. Пальба из крепости прекратилась только вечером, но убитых и раненых в войске Замойского не оказалось, а со стороны Русских погиб один человек.
Нападение окончилось неудачею; вследствие этого приходилось брать крепость осадой. Осаждающие расположились следующим образом: с северо-востока, на том месте, где находился прежде город, Борнемисса с Венграми, с юго-востока Трембецкий, с юго-запада Уровецкий; за Двиной устроили окопы казаки, бывшие под начальством Остроменцкого[494].
В следующий день, 4-го августа, прибыл обоз; тогда гетман приказал солдатам заняться устройством лагеря. В то же время он созвал ротмистров и напомнил им, что необходимо соблюдать величайшую осторожность, так как, по словам пленных, на выручку крепости идет 20 000 Русских. В крепость Замойский послал грамоту с предложением добровольно сдаться, обещая свободу тем, которые пожелают уйти к своему государю, и материальное обеспечение тем, которые захотят быть подданными короля. На это осажденные заявили только, что должны отослать грамоту к царю и что они сделают то, что он им велит. В этот день бомбардировать крепость нельзя было, так как артиллерия еще не прибыла.
На следующий день Замойский ездил осматривать крепость, чтобы выбрать, по указанию сведущих лиц, которые гетмана сопровождали в этой поездке, место для постановки артиллерии, которая прибыла вечером в тот день[495]. Явился также отряд королевской пехоты в 1000 человек, который тотчас же начал строить шанцы. Замойский послал начальнику Венгров Борнемиссе 400 талеров в награду тому, кто подожжет замок, польским солдатам обещал выхлопотать у короля 12 волок земли в виде награды за то же дело. Так прошел день 5-го августа.
6-го августа чуть свет осаждающие начали со всех сторон бомбардировать крепость. Осажденные стали давать знаки, что желают вступить в переговоры. Канонада прекратилась, но вскоре опять возобновилась, так как переговоры не привели ни к чему.
Осажденные снова завязали переговоры[496], прося прекратить стрельбу на два часа, пока они не согласятся между собою относительно того, что им делать. Замойский удовлетворил их желание и послал им даже часы. Когда прошло урочное время, осажденные ответили, что сегодня они не могут придти к соглашению и просят о перемирии до следующего дня[497]. Полагая, что все это делается осажденными с той целью, чтобы выиграть время, Замойский приказал возобновить бомбардировку. В это время Венгры стали бросать в крепость раскаленные ядра и успели произвести пожар, но гарнизон, мужественно защищаясь, тушил огонь всюду, где он появлялся. Поляки тоже зажгли при помощи раскаленных ядер одну башню, но так, что она лишь тлела. Вечером, уже после заката солнца, солдатам Уровецкого удалось зажечь крепостной мост. Тогда 50 пехотинцев бросились с лучинами поджигать замок. Увидев это, Русские прислали к Замойскому заявление, что желают сдаться, лишь бы только замок оставлен был в целости. Гетман прекратил пальбу и послал в крепость одного офицера, Завихойского, потребовать, для большей безопасности, чтобы воевода с именитейшими боярами явился к нему в стан. Действительно, около 3-х часов ночи русские воеводы прибыли в польский лагерь[498], целовали руку Замойскому и просили походатайствовать за них перед королем, чтобы он пожаловал их своими милостями, что было Замойским обещано.
На следующий день Замойский принял замок, велел составить опись всего, что в нем было найдено[499], а жителей Велижа отправить на плотах вниз по Двине. Их высадили на некотором расстоянии на берег, окопали валом и стерегли до тех пор, пока не прибыл в Велиж король. Ему Замойский послал шесть знатнейших бояр в Сураж, где Баторий в то время находился. Первый самостоятельный шаг канцлера на военном поприще засвидетельствовал, что он способный ученик своего учителя – Батория: опыт, вынесенный из походов, совершенных вместе с королем, не пропал для Замойского даром, он научился военному искусству. Крепость была взята главным образом благодаря раскаленным ядрам, при помощи которых удалось произвести пожар и таким образом принудить гарнизон к капитуляции. Панику в крепости вызвало отчасти и внезапное появление неприятеля, именно с той стороны, откуда его не ожидали[500].
Ожидая прибытия Батория, Замойский созвал к себе ротмистров и издал распоряжения относительно того порядка, какой должен быть соблюдаем в лагере при встрече короля, а затем с теми же ротмистрами выехал встречать его. В приветствии, сказанном на латинском языке, Замойский поздравил Батория с победой, желал ему дальнейших успехов, хвалил мужество, деятельность и расторопность своих боевых товарищей и ходатайствовал для них о милостях за их службу. Баторий благодарил канцлера, а ротмистрам обещал дать со временем щедрые награды. Потом он осмотрел кругом замок и шанцы, в которых пехота стояла так, как в то время, когда добывали крепость. Когда король въехал в лагерь, ротмистры и солдаты стали перед своими палатками, ударили в барабаны и затрубили в трубы.
Король остановился в палатке Замойского, где ужинал и ночевал. Вечером явился гонец от оршанского старосты Филона Кмиты с извещением, что московские послы уже едут к королю.
На следующий день (9-го августа) Баторий посетил замок, еще раз осмотрел его внимательно и выразил радость по поводу того, что укрепления сохранились в целости и что они так же хороши, как и укрепления в Полоцке.
После этого он возвратился назад в Сураж. Вслед за тем Замойский поехал в московский лагерь и объявил от имени короля, что те из пленных, которые желают возвратиться к своему государю, свободны, а те, которые останутся служить королю, будут пожалованы имениями. Большинство выразило желание возвратиться под власть своего государя. Замойский приказал сопровождать их отряду казаков (в 150 человек) на протяжении шести миль для охраны от солдат-победителей. Так как Москвитяне должны были идти пешком, а путь предстоял им далекий, то они отдавали своих детей, которые не в состоянии были совершить столь дальнего путешествия, Полякам. Оставшиеся на месте были отведены в замок. В этот день победители делили между собой добычу, которая была значительна. «Провианта, фуража, пороха и военных снарядов, – говорит историк, – было найдено в этом городе так много, что, несмотря на то, что отсюда было наделено все наше войско, еще осталось всего столько, сколько нужно было для гарнизона».
Между тем Баторий деятельно готовился к дальнейшему походу. Мосты через реку Двину возле Суража были уже готовы к 10-му августа и в этот день началась переправа войск, которыми командовал лично сам король, а 11-го августа двинулся в поход из Велижа и Замойский.
Иоанн же слал новую грамоту к Баторию. Царь уже не требовал, чтобы король возвратился назад для приема его послов, но только приостановил свое наступательное движение. «А сам не похочешь воротити, – говорилось в грамоте, – и ты б тут дожидался на Украине, и мы тебе о том ведомо учиним, как нам с тобою в миру быти»[501].
На это Баторий ответил требованием, чтобы Иоанн вывел свои войска из Ливонии и уступил ее ему, Баторию, как его законную собственность; тогда можно будет начинать переговоры о мире, а о каких условиях может идти речь во время этих переговоров, король намекал предъявлением притязаний на Великий Новгород и Псков, землю смоленскую и северскую, Великие Луки и иные пригороды, построенные в волостях полоцких и витебских[502].
Узнав о движении Батория к Великим Лукам, Иоанн поспешил выслать, спустя три дня после вышеотмеченной грамоты, новую, в которой просил короля подождать послов в течение трех-четырех дней, так как послы находятся уже близко к местопребыванию короля[503]. Но и эта грамота успеха не имела: Баторий продолжал сомневаться в искренности заявлений Иоанна[504] и похода своего не приостановил.
Армия Батория двигалась двумя отдельными отрядами: одним командовал сам король, другим – Замойский. Между этими частями не было совершенно сообщений, да они не были и возможны, так как войска были отделены друг от друга непроходимыми лесами и болотами. Это разделение сил врага являлось обстоятельством весьма благоприятным для Иоанна, но он не умел им воспользоваться: царь держал свои военные силы далеко от места борьбы[505]. Вместо решительных действий он продолжал дипломатическую переписку, бесполезности которой, ввиду заявлений и образа действия Батория, он не мог не замечать. В новой грамоте к королю он так оправдывал медленность в движении своих послов: ехать им спешно невозможно, так как королевские люди ограбили посланца, который приехал в Оршу известить, что послы скоро прибудут[506]. На это обвинение в грабеже Баторий ответил тоже обвинением, но уже обвинением самого Иоанна в насилии, произведенном над провожатым, который сопровождал московского гонца Григория Нащокина: на границе московские люди схватили королевского провожатого, отвели его в Москву и представили царю, который приказал пленника подвергнуть пыткам, желая выведать от него какие-то известия[507].
Великие Луки. Фрагмент городских укреплений
Эта бесцельная дипломатическая переписка свидетельствует, что Иоанн совершенно растерялся: на него напал страх, которому он, как человек психически больной, часто подвергался. У нас есть известие, что он в это время потерял доверие к своим подданным. Очевидно, его расстроенное воображение охватили тогда, как это часто с ним случалось, навязчивые представления и том, что он окружен со всех сторон изменой. Чтоб рассеять мучительный страх и увериться в преданности своих подданных, он прибегнул к обычному для него средству. Призвав к себе митрополита и иное духовенство, он публично стал каяться в грехах, просил прощения и обещал быть впредь милостивым. Все, конечно, заявили, что прощают своему царю и присягают ему оставаться всегда верными[508].
Но и после этого Иоанн не обнаружил большей решительности в своих отношениях к Баторию. Царь не перестал рассчитывать на успех своей дипломатии, причем он проявил, надо сказать, большое искусство. Иоанну были небезызвестны проекты союзов, составлявшиеся императорами и папами против Турок. Поэтому он решил вопреки своей обычной политике примкнуть к такому союзу, лишь бы только заручиться поддержкою империи в борьбе его с победоносным польским королем. В Рим Иоанн задумал обратиться потому, что папа, как царю было известно, являлся главным деятелем по составлению проектов нового крестового похода на мусульман.
Еще в марте 1580 года был послан в Вену предложить союз против Турок гонец Афанасий Резанов[509], а в конце августа – Истома Шевригин. Царь объяснял причины войны с Баторием таким образом. В соглашении с Рудольфовым отцом Максимилианом он старался возвести на польский престол Рудольфова брата Эрнеста. В отмщение за это Баторий, ставленник турецкого султана, и начал с ним, Иоанном, войну в союзе со своим сюзереном, турецким султаном. Идет борьба христианства с мусульманством, разливается кровь христианская и высится мусульманская рука. Ввиду этого Иоанн предлагал императору утвердить с ним докончание и братскую любовь и действовать вместе против общих врагов, чтоб «Стефан король таких дел впредь не делал и на крестьянское кроворазлитие не стоял и с бесерменскими государи не складывался на крестьянство». Царь надеялся привлечь к этому союзу всех князей Германской империи и папу. Поэтому Истома Шевригин из Вены должен был ехать в Рим к папе[510].
А Баторий действовал в это время оружием. Из Суража он отправился по течению реки Усвячи к замку Усвяту. Во время похода соблюдался, по обыкновению, строгий порядок в расположении войск. Авангардом начальствовал полоцкий каштелян Волминский, на которого была возложена обязанность производить рекогносцировку местности. Она повсюду оказывалась пустою, так как жители, по приказанию Иоанна, были взяты в ряды войска или отправлены защищать крепости. За Волминским следовал польный гетман литовский Христофор Радзивилл с литовскими наемными отрядами, а за ним его отец великий гетман литовский Николай Радзивилл с литовскими добровольцами. Литовские войска шли впереди на расстоянии нескольких миль от главного корпуса, в котором находился сам король. Авангард этого корпуса составлял отряд, которым командовал надворный гетман Ян Зборовский; за ним шел с венгерской конницей Габори Бекеш. В тылу у них на расстоянии нескольких верст следовала венгерская пехота под командой Карла Иствана, а за ней уже сам король со свитою из 800 красиво одетых и вооруженных стрелков. В арьергарде шел с польской конницей и пехотой брацлавский воевода князь Януш Збаражский[511]. Орудия и иные тяжести тащили вверх по течению реки Усвячи, что представляло немалые трудности, но вместе с тем являлось единственным способом перевозки подобных грузов в местности, покрытой труднопроходимыми лесами и болотами. Литовские войска, шедшие впереди, с трудом прокладывали себе среди них дорогу. Ввиду этого король отправил отряд отборнейшей венгерской пехоты в 800 человек на помощь Литовцам, и дорога была скоро расчищена[512]. Литовцы, именно полоцкий каштелян Волминский, первые подступили к замку Усвяту (15-го августа)[513]. Замок находился на холме между озерами Узмень и Усвят, на берегу реки Усвячи, соединявшей озера. Когда гарнизон крепости узнал о скором приближении врага, тогда жители посада зажгли свои дома и ушли в крепость, под защиту ее стен[514]. Приблизившись к ней, великий гетман литовский послал гарнизону письмо с Москвитянином, которого захватили в плен казаки, требуя от гарнизона добровольной сдачи, потому что крепость не будет в состоянии сопротивляться могущественному королевскому войску. Если жители Усвята добровольно сдадутся, будут помилованы; если нет, пощады не будет. Москвитяне ответили, что они не могут прочесть литовского письма, так как у них нет никого, кто бы обучен был грамоте не только литовской, но и московской. Дав такой уклончивый ответ, они открыли пальбу по неприятелю, переправлявшемуся в это время через реку Усвячу. Ввиду этого пришлось начать осаду, которую и повел Христофор Радзивилл (15-го августа). Гарнизон продолжал отстреливаться. Тогда Христофор Радзивилл послал в крепость казацкого старшину с увещанием прекратить стрельбу, ибо в противном случае гарнизон будет без пощады истреблен. Москвитяне ответили, что они не могут сдавать замок, не испробовав своих сил в борьбе, и стрельбу продолжали, но причинили осаждающим незначительный вред: убили одного шляхтича и двух лошадей.
Вечером того же дня король прислал на помощь Литовцам несколько сотен Поляков и Венгров. Они устроили ночью шанцы так близко к крепости, что осажденные, открыв утром на следующий день пальбу по этим шанцам, почти совсем не могли в них попадать: они ранили только двух Венгров. Видя, что усилия их отразить врага безуспешны, осажденные сдались в полдень, выговорив себе право свободного выхода из крепости с имуществом, которое каждый будет в состояния на себе вынести. Замок был отдан врагу в целости с 8 орудиями, 50 гаковницами, 143 рушницами и значительным количеством ядер, пуль и пороха. После сдачи оказалось, что гарнизон крепости состоял из 53 детей боярских (с 50 слугами), 345 стрельцов и 624 человек простого народа. Из гарнизона только 66 человек присягнуло Баторию и отправилось в Литву, остальные же возвратились на родину, за исключением, впрочем, крестьян, которые остались на месте; они принесли присягу на подданство королю.
Воеводы Михаил Вельяминов, Иван Кошкарев и стрелецкий голова Иван не хотели добровольно выходить из крепости; тогда их вывели силой и, по приказанию Батория, отправили в Витебск[515]. На следующий день, 17-го августа, король прибыл в Усвят и принял замок от великого гетмана литовского, который по этому случаю произнес длинную речь; Баторий ответил на нее коротко, выразив благодарность победителям. Успех Литовцев вызвал некоторое чувство досады и зависти в Поляках[516].
Осмотрев замок, Баторий решил продолжать путь на следующий день. Дальнейший поход совершался в таком же порядке, как и прежде[517]. Пришлось только вытащить из реки орудия и везти их на колесах. Переход был весьма труден: к прежним затруднениям присоединился еще недостаток корма для лошадей, ибо в лесу было мало не только травы, но и вереска[518]. Существовала еще другая дорога, по более плодородной местности, но более длинная, притом перерезанная реками, так что пришлось бы, идя по ней, строить много мостов. Дорожа временем, Баторий предпочел ей более короткий путь. С особенным трудом передвигалась артиллерия, сопровождать которую король приказал Николаю Сенявскому[519].
22-го августа король останавливался на ночлег на реке Комле, впадающей в Ловать, 23-го – у озера Долгое, на расстоянии 4 миль от прежней остановки. Тут к королю привели от Николая Радзивилла четырех пленных касимовских Татар, пойманных казаками князя Острожского. Пленные принадлежали к легкому кавалерийскому отряду в 150 человек, высланному для разведок о силах врага. Их подвергли допросу, каждого в отдельности, и они все дали согласные показания. Они заявили, что московский государь запретил своим воеводам вступать в сражение с королевскими войсками в открытом поле, так как он сильно напуган известиями о многочисленности Баториевой армии: лазутчики донесли ему, что у Батория 106 000 хорошо вооруженных людей. Царь разрешил своим воинам производить только нападения при удобном случае на неприятельские войска ради захвата в плен отдельных лиц, чтоб получить от них сведения о состоянии сил врага. Тогда же прислал королю Замойский начальника вышеупомянутого татарского отряда. Пленного звали Улан Износков; он подтвердил показания своих Татар.
24-го августа король оставался на том же месте целый день, а 25-го, пройдя три мили, прибыл в монастырь «Коптя»[520], находившийся в двух милях от Великих Лук. Здесь должен был соединиться с главным корпусом армии Замойский. В тот же день Баторий, в сопровождении обоих литовских гетманов, каштеляна Зборовского, Габория Бекеша и Барбелия[521], ездил осматривать Великие Луки[522], причем подъезжал так близко к крепости, что можно было легко попасть в него пулей даже из хорошей рушницы. Гетманы останавливали короля, прося его щадить свою дорогую жизнь, но напрасно; он отвечал только: пустяки, ничто мне не повредит. В короля и его свиту стреляли из крепости, но убили только лошадь под слугой Христофора Радзивилла. 26-го августа Баторий ездил вторично осматривать Великие Луки, но уже с другой стороны; он переправлялся вброд через реку Ловать. При этом осмотре король указывал места, где следовало расположиться обозам, чтобы начать осаду крепости.
В тот же день прибыл в лагерь к королю и Замойский со своим отрядом. Проследим, как он двигался из Велижа. Оставив в этой крепости две роты пехотинцев, под командой ротмистров Свирацкого и Гойского, он выступил отсюда 11-го августа. Вперед был выслан Дзялыньский со своим полком для постройки моста через Двину, а остальное войско шло по левому берегу реки. Когда мост был готов, войско переправилось через Двину и пошло дорогой на урочища Черная ость, Наранский город и Боброедов[523]. Многие солдаты, недавно поступившие в войско, так испугались трудностей пути, что совершенно упали духом и стали разбегаться в разные стороны. Строгие наказания, которым Замойский подвергнул двух-трех дезертиров, восстановили дисциплину в войске[524]. По дороге было много мостов из длинных и очень толстых бревен, от ветхости пришедших в такое состояние, что солдатам пришлось немало потрудиться над их починкой[525]. Эта починка задержала движение войска на целые сутки в Боброедове. Воспользовавшись этой остановкой, Дзялыньский выслал в окрестную местность фуражиров под прикрытием отряда в 100 человек конницы. Но Замойский по своем прибытии в Боброедов строго-настрого приказал соблюдать установленный порядок следования в пути: никто без разрешения гетмана не должен был отправляться на фуражировку, никто не должен отделяться от войска; ротмистры обязаны высылать вперед три воза с съестными припасами на 100 человек для приготовления солдатам пищи.
Из Боброедова отряд прибыл к речке Полоне, где произошла небольшая стычка с московскими Татарами. Выбрановский, командовавший в этот день (16-го августа) передовым сторожевым отрядом, был отправлен с 200 гайдуков вперед строить мост на Полоне. Оставив своих людей рубить деревья, он сам с одним поручиком поехал дальше осматривать дорогу и удалился от своего отряда версты на две. Тогда бросились на них три Татарина, громким криком созывая остальных своих товарищей. Опасаясь попасть в засаду, Выбрановский поскакал назад, пустив вперед поручика, который, видя, что у него плохой конь, соскочил с него и бросился бежать пешком, укрываясь от врагов за деревьями. Число Татар увеличилось, и они гнались то за одним, то за другим до того места, где находился отряд Выбрановского. Солдаты начали метать в Татар топорики и копья и одного Татарина убили. Тогда преследовавшие, захватив убитого, убежали быстро назад[526].
Получив известие об этой схватке, Замойский прискакал тотчас же на то место, где она происходила, и, узнав подробности дела, распорядился, выслушав мнения офицеров, чтобы вперед, на расстояние 2–3 верст, высылались небольшие сторожевые отряды и устраивались засады. С этого дня Дзялыньский, командовавший авангардом, определил посылать на разведки 30 казаков, 100 гусар и 100 пехотинцев.
21-го августа отряд Замойского, находясь в деревне, которая носила название Северской, повернул с главной дороги влево, чтоб соединиться с главной армией еще до прихода последней в Великие Луки, как того желал король, приславший Замойскому письмо[527]. При урочище Лубаи (22-го августа) произошла опять небольшая схватка с Татарами, причем казак Викентий взял в плен их начальника[528]. Пленного подвергли пытке, и он сказал, что московский государь запретил своим войскам вступать в сражение с врагом, однако от решительного боя не отказывается, ждет только момента, когда неприятельское войско поубавится.
В Лубаях Замойский узнал, что литовское войско первое придет к Великим Лукам. Это известие причинило ему великую досаду; он послал к королю письмо, в котором жаловался на свое несчастье и просил, чтобы король разрешил ему первым явиться у крепости.
Вместе с тем канцлер стал просить Дзялыньского идти со своим полком скорым маршем днем и ночью без роздыху, чтобы только как-нибудь опередить Литовцев. Но в это время пришло от короля письмо, успокаивавшее опасения канцлера и советовавшее ему не спешить, так как у него достаточно еще времени. Вследствие этого Замойский отдал своему войску приказание двигаться обыкновенным шагом. Пройдя урочище Рахново и переправившись через речку Санчиту, отряд остановился в поле, недалеко от лагеря главной армии[529] вправо от литовского войска. Между Литовцами и Поляками началось соревнование. Великий гетман литовский выслал к Великим Лукам лазутчиков, но они не дошли до крепости, так как не могли найти брода на реке Ловати[530]. Баторий разрешил спор между Литовцами и Поляками, согласно своему прежнему обещанию, в пользу последних. При этом он приказал Замойскому осмотреть крепость и ее окрестности[531].
Разведочный отряд, взятый с собой канцлером, двинулся к Великим Лукам на рассвете 26-го августа в таком порядке: впереди Сверчевский с 20 казаками, за ним Дымко с 50 казаками, далее Фаренсбах с 30 рейтарами, Розражевский тоже с 30 рейтарами, Вейер и Костка с несколькими слугами, Уровецкий с 40 всадниками, за ними стрелки, наконец Замойский и Дзялыньский. Прикрывали этот отряд сзади Зебржидовский с сотней всадников; справа шли гайдуки, а слева пешие казаки (по 30 человек). Когда крепость показалась уже издали, Замойский послал Уровецкого, Розражевского и Вейера поискать брод на реке Ловати. Те не могли его долго найти, вследствие чего Замойский, соскучившись в ожидании, отправился за ними по торопецкой дороге[532], до такой степени топкой, что он принужден был возвратиться назад; тем не менее ему удалось подъехать близко к крепости, которую он и осмотрел с этой стороны, скрывшись за одним холмом. Между тем найден был брод, и лица, посланные искать его, переправились через реку Ловать, но тотчас же возвратились назад, когда увидели, что против них направляется отряд Москвитян, высланный из крепости. Когда Замойскому донесли, что брод отыскан, он отправился на другой берег реки и осмотрел замок и с этой стороны. Заметив опять неприятеля, Москвитяне начали потихоньку приближаться к нему с намерением напасть на него внезапно. Но тут бросился на них с своими рейтарами Фаренсбах и стал в них стрелять, а Москвитяне пустились бежать назад в крепость. После этого Замойский подъезжал со своим отрядом к самой крепости, чтоб определить место, где следует устраивать шанцы. Из крепости производились выстрелы, но не причинили почти никакого вреда неприятелю: была убита одна лошадь и двое лиц ранено. В тот же день подъезжал к замку и венгерский полководец Борнемисса со своими Венграми; отъехав слишком далеко от своих, он наткнулся на отряд Русских, которые чуть не захватили его в плен: преследуя его, они уже настигали его, хватали уже за плащ, который и оборвали, но, к счастью для него, подоспели ему на помощь его товарищи[533].
27-го августа вся армия Батория двинулась к Великим Лукам. Первым прибыл утром в этот день со своим полком Дзялыньский и расположился на холме с правой стороны Ловати вблизи крепости. В полдень пришло литовское войско, вечером явился король, и наконец со своим отрядом Замойский[534]. После этого король произвел смотр войскам и остался видом их весьма доволен.
Численность Баториевой армии под Великими Луками определяется таким образом: Венгров и Поляков было 17 455, Литовцев – 12 700, нисколько тысяч добровольцев[535], так что вся армия едва ли превышала 35 000 человек[536].
Посмотрим теперь, каковы были силы осажденных. Крепость Великие Луки находилась на небольшом холме и состояла из таких же деревянных укреплений, как и другие московские крепости. Опыт прошлого года убедил Русских, что против огня деревянные укрепления не могут устоять. Чтоб защитить их от поджога, придумано было такое средство: стены были обложены сверху донизу слоем земли и дерна такой толщины, что на этом слое могли быть поставлены весьма вместительные корзины с землей. У крепости протекала река Ловать с юга и запада, делая доступ к крепости с этих сторон весьма затруднительным; кроме того, крепость была окружена рвом, прудами и болотами[537]. С востока примыкал к крепости многолюдный и богатый торговый город[538], тоже обнесенный стеной с башнями, но 25-го августа Москвитяне, узнав о приближении неприятеля, сожгли его по своему обыкновенно и сами со своим имуществом ушли в крепость.
Численность гарнизона в крепости простиралась до шести – семи тысяч человек[539]. Командовали им воеводы князья: Федор Иванович Лыков и Михайло Федорович Кашик, Юрий Иванович Аксаков, Василий Иванович Бобрищев-Пушкин, Василий Петрович Измайлов и Иван Васильевич Отяев[540]. Главным воеводой был Лыков. Не доверяя ему, равно как и другим воеводам, Иоанн прислал в крепость Василия Ивановича Воейкова наблюдать за ними[541].
День 28-го августа прошел в бездействии, так как в лагере Батория ожидали прибытия московских послов, которые действительно и явились.
Во главе посольства находились: князь Иван Иванович Сицкий-Ярославский, стольник и наместник нижегородский, думный дворянин Роман Михайлович Пивов, стольник элатьмовский и дьяк Фома Пантелеевич Дружина. Послы прибыли к границе Речи Посполитой 14-го августа, на речку Иватку[542]. Сюда навстречу им приехал посланный от оршанского старосты Филона Кмиты, которого Баторий за военные подвиги, совершенные в 1579 году, пожаловал титулом смоленского воеводы, давая обещание предоставить ему ту власть и почести, какими пользовались смоленские воеводы, с того момента, как только Смоленск будет опять во владении Речи Посполитой[543]. Ввиду этого понятно, почему лицо, посланное Кмитою, назвало его при встрече с московскими послами смоленским воеводой. Но этот титул показался им оскорбительным: «Филон затевает нелепость, – сказали они, – называя себя воеводой смоленским; он еще не тот Филон, который был у Александра Македонского; Смоленск вотчина государя нашего; у государя нашего Филонов много по острожным воротам»[544].
Прибыв в Сураж, они заявили, что не желают ехать дальше и просили провожатых, которые были присланы от имени Батория встречать их, чтобы они тащили их силой. На это заявление ответили им смехом и замечанием, что над ними не будет совершено никакого насилия, если поедут дальше, а если хотят возвратиться, то никто их не будет задерживать. Послы продолжали свое путешествие, заявляя, что делают это, принуждаемые к тому насилием[545]. Обстоятельства были таковы, что честь и достоинство их государя требовали, чтоб они возвратились назад, но они этого не сделали, а только постарались успокоить свою гордость формалистическим заявлением, что они поступают так вопреки своей воле, под давлением принуждения[546].
Посольство прибыло в лагерь Батория 28-го августа[547]. Король высылал ему навстречу брестского старосту Мелецкого, литовского стольника Зеновича, секретаря Агриппу и отряд войска в тысячу с лишком человек; но из сенаторов никто не ездил[548]. На следующий день[549] утром происходил прием посольства. Король посылал за ним брестского старосту с отрядом в 100 всадников. Главные послы, одетые в роскошные, усеянные жемчугом и драгоценными камнями одежды, с такими же дорогими шапками на голове, явились в королевский шатер в сопровождении свиты, численностью в 500 человек. Им пришлось ехать на конях между рядами пехоты, которая вся вытянулась в две шеренги перед королевским шатром[550]. Став перед королем, послы сняли шапки и поклонились, касаясь рукой земли, а потом перекрестились. Тогда выступил троцкий каштелян Христофор Радзивилл и сказал, обращаясь к королю, что послы желают поцеловать руку его королевского величества; это было разрешено сделать только главным послам, но свита их не была допущена к исполнению этой церемонии.
После этого послы отдали свою верительную грамоту, которую прочел литовский подскарбий Война. Баторий против имени московского государя не встал, шапки не снял и о здоровье государевом не спросил, как это было в обыкновении[551]. В свою очередь, и Иоанн продолжал оказывать Баторию свое прежнее к нему пренебрежение: он не называл его еще братом, как это было принято в пересылках между государями[552]. Когда от имени короля приказано было послам править посольство, они заявили, что их государь приказал им сделать это в Вильне, а потому пусть король возвратится туда и уведет свои войска из областей их государя, тогда они и посольство будут править. Послам было разрешено сесть. Затем литовской подканцлер заявил от имени короля, что исполнить желание послов невозможно, поэтому пусть они излагают поскорее свое дело и не теряют понапрасну времени. Послы стояли на своем. Тогда король через того же подканцлера сказал им, что их государь в последнем своем письме соглашался, чтобы король принял его послов в каком угодно месте. Но послы твердили одно и то же, что посольство они будут править только в Вильне. После этого король приказал сказать им так: вы приехали ни с чем, а потому и уедете ни с чем, а теперь отправляйтесь в назначенные вам шатры. Пристава отвели их туда, а король, посоветовавшись с сенаторами, приказал сказать послам, чтоб они готовились на следующий день в обратный путь; он надеялся подействовать этой угрозой на них, но ошибся в своем расчете[553]. Послы не отступили от своих требований и были задержаны умышленно королем до тех пор, пока крепость не будет взята. События, очевидцами которых они были, ничем их не могли порадовать: они принуждены были следить изо дня в день за поражениями своих соотечественников. Так тотчас же по своем прибытии к Баторию они должны были выслушать подобного рода печальное известие. Отряд Литовцев в 200 человек, отправившись на фуражировку, наткнулся на московский отряд в 2000 человек, который остановился было отдыхать, так что воины и лошадей уже расседлали. Увидя, что враг не приготовлен к бою, Литовцы ударили на него, обратили в бегство и преследовали на расстоянии целой мили; многие были убиты (говорили, 800 человек), некоторые утонули в реке Ловати, а 10 человек попали в плен. Из литовского отряда погиб только один и двадцать было ранено. Христофор Раздивилл отдал этих пленных королю еще до приема послов[554].
В тот же день Баторий приказал Замойскому расположиться на другом берегу Ловати, что было им и исполнено, но лагерь в этот день, за недостатком времени и ввиду трудности переправы через реку, не был устроен и начали только копать шанцы: Поляки, под командой Уровецкого с южной стороны, а Венгры, с Борнемиссой во главе – с западной. К отряду Замойского присоединился, по приказанию короля, и Карл Истван, оставив при королевских шатрах только 800 человек из венгерской пехоты[555]. Тогда же прибыла и артиллерия, состоявшая из 30 больших орудий, под прикрытием 1000 всадников и 2000 пехотинцев.
30-го августа Замойский приказал своему отряду устроить лагерь, окружить его, по польскому обычаю, телегами и окопать валом на расстоянии двух сажен от телег. Ширина вала внизу была аршина 3, вверху 2, а глубина рва, проведенного снаружи, в рост человека. Кроме того, солдаты занимались плетением шанцевых корзин. Заметив, что при шанцах остался только небольшой отряд неприятелей, осажденные сделали вылазку, напали на этот отряд и обратили его в бегство, причем захватили знамя, взяли в плен двух гайдуков и двух ранили. Замойский, разгневанный на знаменоносца за потерю знамени, хотел его казнить, но благодаря просьбам других пощадил и посадил его только на цепь, а пехоту, сторожившую шанцы, устранил и поставил на ее место другой отряд[556].
Работы по укреплению лагеря продолжались и ночью. Заметив, что вблизи замка находится пруд, в котором вода задерживается гатью, Баторий приказал уничтожить последнюю, чтобы осушить пруд и таким образом устранить преграду для штурма крепости[557]. Замойский поручил наблюдение за исполнением этого дела завихостскому каштеляну Петру Клочевскому. Но лишь только он явился сюда, как был убит выстрелом из крепости[558].
Весь следующий день происходили еще работы по укреплению лагеря. В стан Замойского было привезено 18 орудий, которые и были поставлены на определенных позициях. На рассвете 1-го сентября Поляки и Венгры начали обстреливать крепость. Замойский приказал оповестить солдат, что тому, кто зажжет укрепления замка, будет дана награда: чужеземцу четыреста талеров, Поляку хорошее имение, если он шляхтич, и кроме того, шляхетское достоинство, если он не шляхтич[559].
Король, явившийся в стан Замойского посмотреть на осадные работы, заметил, что раскаленные ядра, бросаемые с целью поджечь крепостные стены, не могут проникнуть через толстый и свежий дерн, а потому посоветовал направлять выстрелы на те части укреплений, которые легче зажечь. Тогда Венгры начали стрелять в бойницы и вскоре зажгли их[560]; поощряемые королем, они бросились к крепостному валу, чтоб отдернуть от башен дерн и таким образом открыть доступ огню, а кроме того, чтоб подложить больше горючего материала и усилить пожар. За Венграми последовали Поляки. Но осажденные мужественно защищались: на нападающих посыпался град выстрелов и камней, вследствие чего многие (около 200 человек) были ранены и убиты, а остальные принуждены отступить[561].
Пожар замка напугал московских послов, и они просили у короля аудиенции, которая и дана была им 2-го сентября. Послы произнесли поочередно весьма длинные речи, которые произвели на Поляков впечатление бормотания, ибо послы говорили очень много о том, что совсем к делу не шло: они излагали ход переговоров между Иоанном и Стефаном Баторием с начала царствования короля и в конце концов потребовали, чтобы король возвратил им назад Полоцк с пригородами и не вступался в ливонскую и курляндскую землю[562]. Подобное требование могло бы, конечно, прервать тотчас же переговоры, но послы просили короля разрешить им переговорить об условиях мира с панами радами, на что король дал свое согласие. Ведение переговоров поручено было великому гетману литовскому Николаю Радзивиллу, виленскому каштеляну Евстафию Воловичу, князю Стефану Збаражскому, жмудскому старосте Яну Кишке, волынскому воеводе князю Андрею Вишневецкому, новогрудскому воеводе и литовскому ловчему Николаю Радзивиллу, гнезненскому каштеляну Яну Зборовскому, люблинскому каштеляну Андрею Фирлее и минскому каштеляну, вместе с тем и литовскому подскарбию, Яну Глебовичу. Указанные лица вместе с московскими послами удалились в другой шатер. Послы потребовали, чтобы королевское войско отошло от крепости, но получили отказ. Потребовали, чтобы с завтрашнего дня была прекращена канонада, на что последовал ответ, чтобы не теряли времени и поскорее излагали бы, с чем приехали.
Заявили, что их государь соглашается давать королю титул брата, и уступили королю Полоцк с пригородами[563]. Им было сказано от имени Батория, что они уступают то, что составляет издавна собственность великого княжества литовского. Король ее возвратил и постарается с Божьей помощью возвратить все, что было когда-либо от его государства отнято. Послы прибавили еще Курляндию и те города в Ливонии, которые были во владении герцога Магнуса. На это им ответили, что курляндский герцог – свободный государь в своей стране, добровольно подчинившийся польской короне и великому княжеству литовскому, а потому послы пустяки говорят. Герцог Магнус тоже держит замки свои на известных условиях в зависимости от Речи Посполитой. Тогда послы спросили, каких уступок желает король. Поляки заявили, что он требует северской земли, Пскова, Новгорода, Смоленска и всей Ливонии; кроме того, требует покрытия всех военных издержек, так как не он начал войну. Послы на это ничего не ответили, но просили доложить об этих требованиях королю[564]. К нему пошли, по их просьбе, три литовских сенатора. Они стали уговаривать короля согласиться на предложения московского посольства, так как они хотели прекратить поскорее войну, которая может всей своею тяжестью лечь на их страну, Литву. Если будут взяты Великие Луки, защищать их придется Литве, а защита будет весьма затруднительна, так как они отделены от Литвы громадными лесами и окружены поблизости неприятельскими крепостями. Король не хотел снимать осады, но когда сенаторы стали указывать на трудность ее, он пригласил на совещание Замойского, чтобы узнать, в каком положении находятся осадные работы. Сенаторы предложили канцлеру вопрос о том, возможно ли надеяться на счастливый исход осады, и заявили, что если надежды нет, то лучше заключить теперь же мир на условиях, предлагаемых московскими послами, чем потом, когда придется принимать менее почетные условия. Замойский ответил, что военное счастье весьма изменчиво; однако он, полагаясь на ум и счастье короля и на храбрость солдат, питает самые лучшие надежды и думает, что не следует упускать теперь удобного случая взять крепость, так как потом, когда наступит осень и пойдут проливные дожди, всякая надежда на взятие крепости может быть потеряна.
Это заявление Замойского укрепило Батория еще более в его прежнем мнении о том, что перемирия не следует заключать[565]. Сенаторы, возвратившись к послам, заявили насмешливо, что король уступает им Псков и Новгород. Тем не менее дипломатическая переторжка возобновилась. Послы уступили несколько замков в Ливонии и в обмен за пленных, содержимых королем, Усвят и Озерище[566]. Поляки ответили, что все это уже находится в руках короля, а потому это – не уступка. Пусть послы выскажут наконец все, что содержится в их полномочиях от их государя, потому что они не хотят уже с ними попусту беседовать. Послы заявили, что у них нет больше полномочий, но государь их дал им такой наказ: если король не согласится принять предложенных условий, они должны послать к своему государю гонца за новым наказом.
Ввиду этого они просили разрешения отправить с гонцом письмо к Иоанну. Баторий согласился на это и сам выслал к царю своего гонца литовца Григория Лозовицкого с грамотою, в которой, излагая ход переговоров и указывая на их безрезультатность, доносил Иоанну, что воздержаться от войны не может, как того просили послы. Пусть Иоанн пришлет новые полномочия для них, и поскорее, так чтобы гонец застал их еще у Великих Лук[567].
Между тем поджог крепости кончился в этот день для осаждающих неудачно: огонь, дойдя до земляной насыпи, отчасти сам потух, отчасти был потушен Москвитянами, которые отважно спускались со стены крепости на веревках, чтобы заливать его водою[568]. Ввиду этого король приказал Венгерцам устроить под крепостным валом подземный ход и положить туда порох. Венгерцы энергически стали исполнять королевское приказание, неустрашимо подкапываясь под вал, несмотря на то, что враги осыпали их градом пуль и камней и обливали варом; несколько человек (12) было убито, много ранено, но на их место явились новые, присланные Борнемиссой. Увидев их, осажденные подняли сильный крик, думая, что готовится приступ. Поляки же сочли этот крик за воззвание к вылазке, бросились на коней и стали приготовляться к бою, но понапрасну[569].
В это время Замойский не переставал надеяться на то, что ему удастся зажечь крепость из своего лагеря, не устраивая подкопа, хотя многие и высказывали мнение, что без него не обойтись. Канцлер полагал, что едва ли найдется на болотистой земле место для подкопа. Он обратил внимание на одну башню, которая выступала вперед настолько, что выстрелы, направленные с других башен в ее сторону, не могли причинять вреда солдатам, подступившим близко к этой башне. Имея в виду это обстоятельство, он приказал провести сюда ров. За это дело взялся ревностно Лука Сирней с черными полками, но на пути встретил препятствие в виде огромных кольев, которые были вбиты Москвитянами в землю на значительном расстоянии перед валом[570]. Пальба, производимая осаждающими, была так сильна, что 3-го сентября были сбиты с вала шанцевые корзины, за которыми осажденные поставили свои пушки, так что они были принуждены и сами спрятаться, и спрятать свои орудия.
Положение гарнизона становилось все затруднительнее и затруднительнее. Ввиду этого Замойский попытался склонить осажденных к добровольной сдаче. По его приказанию в крепость была пущена стрела с запиской, в которой гетман увещевал гарнизон сдаться, обещая ему различные милости от имени короля. На это предложение осажденные ответили грубой бранью по адресу Батория, Замойского и иных врагов и сильной пальбой[571]. Эта упорная защита осажденных заставляла вести дальше осадные работы. Мало того, сделана была попытка захватить крепость штурмом. Совершить это дело решилась часть польского войска, хотя и не получила на то приказания. Сговорившись между собою, Поляки бросились к той башне, о которой мы только что говорили, и в то время как одни, подставив лестницы, стали взлезать на вал, другие старались проникнуть в крепость через ворота, выходившие с востока к реке Ловати. Русские мужественно отразили это нападение, причем многие из нападающих были тяжело ранены и остались на месте происшедшей схватки… Замойского не было тогда в лагере. Узнав о нападении, он тотчас же возвратился назад и, заметив упомянутых раненых, обещал денежную награду тем, которые их принесут назад. Канцлер носил с собой известное количество денег для раздачи солдатам, чтоб поощрять их усердие при осаде. Желание его было исполнено, и раненые возвращены в свой лагерь.
После этого гетман призвал к себе одного солдата, дал ему кирку и указал, что он должен сделать, обещая награду за удачное исполнение поручения; другие солдаты должны были следовать за своим товарищем. Замойский решил быстрым нападением устранить от башни дерн и землю. Чтобы отвлечь внимание неприятеля от этого нападения, он принял следующие меры. По его приказанию Выбрановский с несколькими солдатами должен был подойти ближе к башне, к задним воротам крепости, а Вейер должен был непрерывно стрелять из пушек в том случае, если осажденные произведут вылазку с той целью, чтобы не допустить Поляков исполнить план, задуманный Замойским.
По данному сигналу солдат, которому канцлер дал кирку, пошел по дну рва, направлявшегося к башне, и, дойдя до кольев, о которых мы выше говорили, побежал с большою скоростью к валу среди беспрерывных неприятельских выстрелов; затем, остановившись около него, он начал заступом срезывать дерн. Осажденные сделали вылазку, но были принуждены вскоре возвратиться назад, так как в тылу у них появился Выбрановский со своим отрядом и так как из-за окопов производилась убийственная канонада.
Во время этой схватки Поляки взяли в плен одного русского храбреца, Сабина Носова, который был контужен в лоб двумя пулями. Когда он пришел в себя, его начали расспрашивать о положении крепости. Тогда он нарочно стал сообщать такие сведения, которые могли ослабить у врага надежду на возможность взять ее. По его словам, она была окружена весьма толстым валом, башни покрыты плотным слоем дерна, а потому безопасны и от пушечных выстрелов, и от пожара; один только больверк, стоящий впереди, похож на очень сильную крепость, ибо каждая из его стен состоит из трех рядов огромных бревен и он прикрыт толстым слоем дерна; нельзя далее подвести под него подкоп, ибо местность болотиста, да и фундамент больверка составлен из самых крепких балок и огромных цельных камней.
Эти сообщения укрепили Замойского еще более в намерении исполнить задуманный им план. Так наступило 4-е сентября. На рассвете этого дня Венгры положили порох в свой подкоп, Замойский же приказал провести другой ров вдоль реки, разместил в нем засаду для защиты от неприятельских вылазок и, переправив орудия на другой берег реки, поставил их против задних ворот. Еще раньше этого он приготовил с помощью Станислава Костки большое количество дров, которые покрыл паклей и облил серой и смолой. Этот горючий материал должен был служить средством для усиления пожара. Весьма рано утром Замойский послал с заступом солдата к больверку, а за ним других воинов, и приказал им срезать дерн. Работа пошла успешно, и в слое дерна, прикрывавшем башню, сделано было значительное отверстие, которое могло поместить по крайней мере 30 человек.
В то же время Замойский попытался склонить осажденных к добровольной сдаче. Опять были пущены в крепость стрелы с записками. Поляки кричали, чтобы Москвитяне сдавались или вообще что-нибудь отвечали, но они сохраняли молчание. Для крепости наступал решительный момент.
Осаждающие опасались, чтобы Русские против их подкопа не подвели с своей стороны контрмину, но это опасение рассеял перебежчик из крепости. Он заявил, что осажденные заметили подкоп, но не подозревают, что в нем находится порох, и приготовили только трубы для заливания водой огня. Замойский сделал последнюю попытку убедить осажденных добровольно подчиниться, так как король желал сохранить в целости крепость и пощадить ее гарнизон. С этой целью приблизили к крепостной стене того же перебежчика, одев его в роскошную одежду, очевидно с той целью, чтобы он своим видом свидетельствовал о щедрости короля, и приказали ему сказать осажденным, что для них настал последний час опомниться и спасти себя; ибо если они будут упорствовать в своем безумии и предпочтут испробовать действие силы действию королевской милости, тогда они могут подвергнуть себя свирепости разъяренных солдат. Эти слова осажденные встретили грубой бранью, крича, что они скорее дадут себя распять на кресте, чем послушаются совета изменника[572].
Ввиду этого приходилось продолжать борьбу оружием. Замойский, желавший добыть крепость при помощи поджога, уступил требованию Венгров и согласился, чтобы они произвели взрыв сделанного ими подкопа[573]. Король сам наблюдал за ходом осадных работ. В этот день вечером он приблизился к крепостной стене и сказал окружающим: «Вот увидите, что мои пехотинцы скоро зажгут эту стену». Действительно, не прошло и четверти часа, как вспыхнуло громадное пламя, которое, казалось, ничем нельзя уже будет потушить. В королевском лагере солдаты стали готовиться к приступу, ожидая его с минуты на минуту. Но Русские проявили обычную свою энергию и пожар потушили, при чем помог им и дождь, который шел в течение половины ночи, так что в королевском лагере потеряли надежду на взятие крепости[574]. Между тем в лагере Замойского произошли события, которые не только ее оживили, но и обратили в действительность. Вечером гетман стал вызывать охотников поджигать стены крепости. Явилось сорок человек. Взяв с собою лучины, смолу и иные горючие материалы, они отправились к той башне, о которой мы выше говорили, и одни из них стали откапывать дерн, а другие с факелами в руках взбираться на башню, чтоб зажечь ее сверху, не обращая внимания на выстрелы, которыми осыпали их осажденные. Смельчакам удалось добраться до отверстия в стены, которое давно было приготовлено для стрельбы. Осажденные стали колоть через него копьями нападающих, но последние мужественно защищались, хватали даже руками копья, отняли таким образом пять штук и двадцать воловьих шкур, которыми Русские собирались тушить огонь, и успели сделать свое, т. е. устроить поджог[575]. Однако огонь весьма слабо горел, так что, казалось, попытка зажечь крепость и с этой стороны кончится полной неудачей. Но около полуночи подул сильный ветер[576], отчего вспыхнуло громадное пламя. Тогда в лагерях осаждающих забили тревогу и солдаты построились в ряды, чтоб по данному сигналу идти на приступ. Король со своим и литовским войском стал на берегу реки. Русские бросились тушить пожар, но осаждающие кидали в огонь смолу и серу, так что пламя стало принимать все большие и большие размеры. Сгорела церковь Спасителя, ближе всего находившаяся к месту поджога; стали гореть и другие здания. Надежды унять огонь не было уже никакой, и осажденные на рассвете начали кричать, что желают сдаться. Тогда Замойский потребовал, чтобы они прислали к нему своих воевод, но они не исполнили этого требования и отправили к Замойскому епископа с несколькими другими лицами[577]. Замойский настаивал на своем. Он послал в крепость Павла Гиулана и Ивана Христофора Дрогоевского потребовать от Москвитян сдачи на милость победителя, угрожая в противном случае штурмом и поголовным избиением. Побежденным ничего не оставалось, как подчиниться требованию врага. К Замойскому явилось пять воевод. Увидев их, солдаты, которым гетман приказал не отходить от своих знамен[578], стали громко роптать. Врагов опять отпускают на волю, они в третий раз возьмутся за оружие на погибель товарищей. Враг издевается над снисходительностью и милосердием короля. Пусть те, кто чувствует горечь от перенесенных трудов и от полученных ран и испытывает печаль о погибших сотоварищах, отомстят за их смерть кровью врагов[579].
Дикой свирепостью дышали эти слова, и надо было небольшой искры, чтобы она разразилась взрывом самого ужасного остервенения. В лагерь Замойского явился король, который, поблагодарив канцлера за усердие, выказанное им при осаде крепости, приказал не впускать никого в нее и потушить пожар, так как он желал спасти крепость от уничтожения.
Замойский стал исполнять королевские приказания. По его распоряжению Москвитяне начали выходить из крепости, причем каждый нес с собой образок. Так вышло уже около 500 человек, у которых отняты были лошади и оружие. В это время в крепость направились за порохом и пушками 50 гайдуков. Увидя их, маркитанты и обозные служители бросились за ними, чтобы поскорее захватить добычу, за которою, как они думали, идут и гайдуки. Ворвавшись, они стали грабить и убивать Москвитян. Вид этот привел в ярость солдат. Добыча, казалось им, уйдет из их рук. Венгры, а за ними и Поляки, двинулись в крепость, ворвались в нее, как ни старались остановить их капитаны, ротмистры и сам гетман, и произвели здесь страшную резню, умерщвляя всех без разбора, женщин и детей. В этом остервенении забыты были совсем приказания власти, даже самого короля. Пожара никто не тушил, вследствие чего огонь охватил весь замок, достиг погребов, в которых хранился порох, и произвел ужасающий взрыв. 36 пушек, несколько сот гаковниц, нисколько тысяч рушниц, множество золота, серебра, шуб и иных драгоценностей сделалось жертвою пламени. Погибло при этом до 200 грабителей. Добыча досталась победителям незначительная: платье да деньги, которые они не стыдились отнимать у покойников[580]. Сколько погибло побежденных при взятии Великих Лук, неизвестно, но надо предполагать, что несколько тысяч человек[581], и между ними воевода Иван Воейков. Когда его привели к Замойскому, канцлер стал его допрашивать, а потом приказал отвести в лагерь. Московский воевода подумал, что его будут пытать, а потому, увидев издали Фаренсбаха, своего знакомца с того времени, когда последний служил московскому государю, кинулся умолять его о пощаде, что Венгры сочли за желание убежать, напали на него и умертвили[582].
Место, где находилась крепость, представляло весьма печальную картину: всюду валялись громадные кучи тел и земля была обагрена кровью даже ни в чем не повинных женщин и детей. Обозревая побоище, король едва мог удержаться от слез[583]. Он приказал маркитантам похоронить трупы, а солдатам засыпать рвы, которые были проведены во время осады крепости. Он намеревался выстроить новую, чтоб упрочить свое владычество в покоренной стране.
Но по своему обыкновению, дело о постройке крепости, которое он уже сам решил, отдал на обсуждение военного совета, который был созван на следующий день после взятия Великих Лук. Тут обсуждались вопросы относительно дальнейшего хода кампании и приняты следующие постановления: возобновить крепость и не двигаться с места до тех пор, пока постройка ее не будет кончена; королю с армией не идти дальше вперед, а по истечении трех недель возвратиться с добровольцами назад в Польшу; послать только отряд войска на Холм, если там имеется значительная артиллерия, чтоб захватить ее или сжечь эту крепость.
После этого Баторий осмотрел местность и пришел к заключению, что лучше всего возобновить великолуцкий замок на прежнем месте[584]. Общий план крепости король составил сам, а руководство строительными работами поручил архитектору Доминику Рудольфини из Камерина, который приобрел уже известность, как инженер, своим участием в укреплении Канеи на острове Кандии. Ему помогали при возведении великолуцкой крепости Николай Карлини и Андрей Бертони. Сами строительные работы были разделены между венгерскими, литовскими и польскими солдатами[585].
Для охраны строительных работ от неприятеля Замойский избрал место на берегу какой-то речки, на расстоянии одной мили от Великих Лук. Но когда он хотел двинуться туда со своим отрядом, солдаты, принадлежавшие к так называемой черной пехоте, пришли к нему и заявили, что они пойдут только тогда, когда им будет уплачено жалованье. Переговоры с ними Замойского не привели ни к чему, так что он счел необходимым остаться один день на прежнем месте. На следующий день повторилось то же самое. Три раза, по приказанию гетмана, давали барабанным боем сигнал выступать в поход: конница двинулась вперед, но черная пехота не тронулась с места. За войском Замойского пошли только ротмистры со своими отрядами. Прибыв на место стоянки, канцлер позвал их вечером к себе и угрозами стал требовать от них, чтобы они привели пехоту; если они не сделают этого добровольно, то он в таком случае пошлет за нею гайдуков. Слова эти оскорбили ротмистров, и они уехали назад к своим солдатам, говоря, что на них лежит обязанность разделять с ними и хорошую, и дурную судьбу. Кончилось все это тем, что пехотинцы сами явились к Замойскому и просили его простить им эту глупость[586].
Неповиновение воинской дисциплине в литовской армии приняло еще большие размеры. Многие литовские добровольцы уехали сами, без всякого спроса, а литовские паны хотели тайком отправить свои отряды назад, на родину. Ввиду этого король поставил сильную стражу у Суража, которая должна была задерживать всякого, кто не имел пропускного свидетельства. Мало того, 12-го сентября он сам занял со своим корпусом соответственную позицию на торопецкой дороге, на некотором расстоянии от лагеря Замойского. Сделано это было также и с той целью, чтобы лучше было наблюдать за неприятелем, который сосредоточил свои силы у Торопца. Но в каком месте войско его находилось в данную минуту, в точности не было известно. 11-го сентября донесли Замойскому, что значительный неприятельский отряд готовится ударить на его лагерь. Гетман приказал своим солдатам быть наготове, а между тем выслал на разведки отряд в 30 всадников под командой Сверчевского. Последний донес, что на расстоянии нескольких миль вокруг он никого не видел и заметил только вдали на дороге около 300 человек[587].
Казалось, можно было рассчитывать на полную безопасность со стороны неприятеля. Случилось иначе. Князь Януш Острожский выслал 80 человек за фуражом. Отряд наткнулся на 50 человек Татар. Произошла схватка. Татары дали знать своим; те явились на помощь, ударили со всех сторон на фуражиров, отчасти перебили их, отчасти взяли в плен[588]; спаслось только три человека, да и то раненных. То же самое произошло и с отрядом Венгров в 40 человек.
Эта неосторожность солдат сильно разгневала короля. Он призвал к себе ротмистров и разбранил их за нерадение по службе. Он собственными глазами видел, как плохо держат караул солдаты, ложась спать на своих постах, как снимают с себя вооружение, как распускают лошадей и как ослабляют лагерь, удаляя из него телеги. Ввиду этого он увещевал офицеров наблюдать внимательнее за своими подчиненными, сохранять тишину ночью и посылать за отправляющимися на фуражировку прикрытия из отрядов по 1000 человек[589].
Доспех польского шляхтича XVI–XVII вв.
Желая узнать, что это было за московское войско, которое разбило вышеупомянутые отряды фуражиров, Баторий отправил несколько сот Поляков и Венгров, под командой Филипповского и Барбелия, присоединив к ним 500 гайдуков и запретив посланным вступать в битву с неприятелем, пока они не получат особенных инструкций[590]. Оставив свой отряд в расстоянии четырех миль от королевского лагеря, Филипповский возвратился назад (18-го сентября), чтоб попросить короля дать ему еще солдат. Он донес королю, что наткнулся на сторожевой отряд врагов, прогнал его, но не мог захватить никого в плен, однако узнал от одного московского перебежчика, что у неприятеля четыре тысячи человек.
Получив эти сведения, король дал Филипповскому еще 2000 воинов, приказав ему идти под самую крепость Торопец. Замойский присоединил из своего корпуса к этой экспедиции несколько отрядов в 250 человек конницы, под начальством Фаренсбаха. Командование экспедицией поручено было брацлавскому воеводе Ивану Збаражскому[591].
Догнав Барбелия[592], Збаражский устроил поход экспедиции следующим образом. Дав отдохнуть лошадям один день, он выслал вперед отряд из венгерских и польских всадников (24) под начальством Альберта Киралия[593], приказав следовать за ним на некотором расстоянии Барбелию, Георгию Сибрику и Гиерониму Филипповскому с 200 всадников. Сам Збаражский двигался в арьергарде[594].
Передовой отряд экспедиции[595] наткнулся на неприятельский караул. Завязалась схватка. Москвитяне пустились бежать, а Поляки и Венгры – их преследовать, но догнать не могли, потому что дорога была узка и болотиста. Преследующим удалось только сбросить двух врагов с коней. Погоня продолжалась до моста, перекинутого через лесной ров, у которого в засаде находились московские стрельцы. Завидев врага, они выскочили из засады и стали осыпать преследователей выстрелами, чтоб не допустить их переправиться через мост[596]. У моста завязалась снова жаркая схватка. На помощь московским стрельцам прискакало 50 татарских всадников, которые находились невдалеке от этого места. Видя численное превосходство врага, Киралий послал за помощью к отряду, следовавшему за ним, но она не являлась. Тогда он скомандовал своим атаковать мост и громко при этом кричать, чтобы враг подумал, что на него двигается многочисленное войско. Хитрость удалась. Русские покинули мост и, соединившись с Татарами, удалились к ближайшему отряду московского войска. Киралий прекратил погоню, ибо опасался засад и численного превосходства неприятеля; к тому же наступила ночь. Отряд Киралия остановился на ночлеге у моста. На следующий день утром прибыл сюда Барбелий, а за ним и остальной разведочный отряд[597].
Узнав от одного из пленников, что московское войско достигает 40 000 человек, Збаражский созвал ротмистров на совет, чтоб решить вопрос, что делать дальше. Одни советовали возвращаться, другие – окопаться на месте, и тем временем послать к королю за дальнейшими инструкциями и вспомогательными отрядами, третьи, наконец, – идти осторожно вперед, производя рекогносцировки, чтобы, в случае громадного перевеса врагов, вовремя ретироваться. Збаражский согласился с последним мнением. Он выслал разведочные отряды в три стороны, а сам стал двигаться медленно вперед[598]. В авангарде шел снова Киралий, но уже с более многочисленным отрядом: к прежнему его отряду было прибавлено 25 казаков и столько же пеших пищальников. По пути венгерский предводитель захватил в плен трех Москвитян[599]. От пленников Збаражский узнал, что в московском войске всего 10 000 человек и что от этого войска отделились 2000, которые готовятся напасть на его отряд[600]. Действительно, спустя несколько часов авангард экспедиции столкнулся с отрядом Русских и Татар. По совету Киралия, решено было атаковать врагов с двух сторон: немецкие всадники бросились с правого фланга, венгерские с левого. Во время схватки убито было несколько человек.
Заметив, что приближается уже весь разведочный отряд неприятеля, Русские отступили сначала за болото и устроили здесь в какой-то мельнице засаду. Однако когда враг приблизился к ним, вступить в бой с ним они не осмелились и бросились бежать. Дело было уже около Торопца. Узнав о приближении врагов, торопецкий гарнизон сжег по обыкновению город и удалился вместе с мирными жителями в крепость, готовясь отбивать неприятельские приступы[601], но совершенно напрасно, так как враг не имел намерения брать крепость. Экспедиции Збаражского дана была лишь задача разузнать силы Русских около Торопца и отогнать их подальше от Великих Лук. Несмотря на то что из крепости производились сильные выстрелы и приближалась уже ночь, польский воевода продолжал преследовать бежавших врагов и дальше за Торопцом, на протяжении двух миль[602]. Во время этой погони погибло Москвитян и Татар 300 человек, попало в плен – 24[603]; в числе пленных были два знатных боярина, Дмитрий Черемисинов и Григорий Афанасьевич Нащокин, тот самый, который ездил в посольстве к Баторию и находился в тайных сношениях с Осциком[604]. Исполнив свое поручение, Збаражский возвратился назад в лагерь к королю (23-го сентября)[605].
После взятия Великих Лук не вся еще великолуцкая область находилась в руках Батория, так как держались еще крепости Невель, Озерище и Заволочье. Необходимо было завладеть и этими пунктами. Баторий еще по пути к Великим Лукам отправил из Усвята к Невелю полоцкого воеводу Николая Дорогостайского. Невельская крепость состояла из двух замков, меньшего на севере и большего на юге, соединенных между собой стеной, и окружена была озером, что затрудняло к ней доступ. Гарнизон доходил до 1000 человек, а артиллерия состояла из 10 больших орудий, 100 малых и с лишком 500 пищалей.
Немногочисленный отряд Дорогостайского, состоявший из неопытных солдат, долгое время безуспешно осаждал крепость, которую мужественно защищал гарнизон, производя стрельбу из орудий и делая смелые вылазки из крепости; к этому надо прибавить еще то, что место для осады было выбрано неудачно, именно то, с которого доступ к крепости был особенно труден[606].
Взяв Великие Луки, Баторий послал на помощь Дорогостайскому сначала 500 человек из черной пехоты Замойского[607], а затем, немного спустя, 700 венгерских пехотинцев с тремя орудиями, под начальством Борнемиссы[608]. Расположившись у крепости, Венгры вместе с солдатами Дорогостайского стали устраивать траншеи и пододвигаться ближе к крепости. Но осажденные не унывали; напротив того, они с особенною смелостью производили вылазки из крепости, бросая на врагов громадные железные крюки, привязанные к веревкам, чтобы захватить кого-нибудь издали в плен. Борнемисса также стал сомневаться в успехе своего предприятия и поэтому обратился к королю с просьбою о присылке подкреплений. Между тем он продолжал вести дальше свои осадные работы, притом так искусно, что солдаты его сумели приблизиться к крепостным стенам незаметно для врага и поджечь укрепления. Пораженные внезапностью поджога, осажденные сдались, несмотря на сопротивление своих воевод (29-го сентября). Они не были и в состоянии защищаться, так как у них вышел почти весь порох[609]. Сдавшимся позволено было унести с собою имущество, но приказано выдать все оружие. Так как они этого условия не исполнили, то Дорогостайский разрешил гайдукам ограбить побежденных до последней сорочки. Затем побежденные были отпущены на свободу, но большая часть из них осталась жить под властью победителя[610].
После взятия Невеля, Озерище, отстоявшее от Невеля в расстоянии трех миль, очутилось в весьма критическом положении: оно было отрезано совсем от московских владений и окружено отовсюду войсками неприятеля.
Новые его укрепления, отличавшиеся прочностью и замечательным изяществом, могли бы выдержать продолжительную осаду, но гарнизон крепости, понимая, что помощи ждать ему неоткуда, сдался добровольно виленскому воеводе Николаю Радзивиллу, которого король выслал под Озерище из Невеля 12-го октября, но сдался под тем условием, что гарнизону будет разрешено уйти свободно в пределы московского государства.
Оставалось еще Заволочье – крепость, взять которую оказалось делом не особенно легким. Баторий послал сюда Замойского. Дойдя до села Александрова, канцлер отправил вперед отряд под командой Дзялыньского, приказав последнему как можно скорее явиться к Заволочью, воспрепятствовать, если посад еще не сожжен, сожжению его, пресечь сообщение с Псковом, откуда могло прибыть подкрепление, и не допустить в крепость тех Русских, которые выпущены были из Невеля. С этою целью Дзялыньский должен был поставить на псковской дороге роты солдат ленчицкого старосты Розражевского и Дымка, а сам занял позицию на невельском тракте[611]. Выступив в поход 2-го октября, он по пути узнал, что посад и крепостной мост сожжены. Поэтому, явившись уже на второй день рано утром под Заволочьем, он поспешил исполнить остальные приказания гетмана.
В этот же день вечером приехал к Заволочью сам Замойский в сопровождении только нескольких всадников, осмотрел кругом крепость, выбрал место для лагеря и орудий и возвратился назад к своему войску, которое оставил позади себя на расстоянии двух миль. Заволочье расположено было на острове озера Подсошь, в южной его части, там, где и в настоящее время существуют еще следы валов, окружавших крепость[612].
Ввиду этого о взятии крепости штурмом нечего было и думать, тем более что крепостные стены подходили к самой воде; действие артиллерии против деревянных стен оказалось из опыта безуспешным; оставалось только поджечь укрепления. Затруднительность предприятия усиливалась еще вследствие того, что наступило осеннее время, а потому можно было ожидать проливных дождей и холодов[613]; кроме того, местность кругом озера была гористая и болотистая, так что устроить лагерь в одном месте не было возможности, и Замойский позволил солдатам расположиться там, где каждый отряд находил для себя удобнее, лишь бы только недалеко друг от друга[614].
Гетман решил взять крепость во чтобы то ни стало, тем более что король занятие этого пункта считал делом весьма важным для будущей кампании. Он думал уже о походе на Псков, к которому лучше всего было идти долиною реки Великой, а Заволочье лежало как раз у самых ее истоков[615].
Прибыв 5-го октября к крепости, Замойский послал гарнизону ее грамоту с требованием добровольной сдачи, но получил в ответ одну только сильную брань. На следующий день он призвал к себе ротмистров и просил их помочь ему поусерднее плести корзины и возить деревья для постройки моста. Ротмистры дали ему охотно обещание служить со всем своим усердием. Действительно, солдаты обнаружили замечательную энергию: корзины и мост были приготовлены в течение двух дней. Между тем прибыли орудия, для которых тотчас же устроены были батареи, и на следующий день (9-го октября) открыта по крепости усиленная канонада. Затем (10-го октября) гетман приказал наводить мост, устроенный Уровецким из бревен одного здания, которое уцелело от сожженного Русскими посада. Солдаты бросились энергически исполнять это приказание среди беспрерывных неприятельских выстрелов, стали гнать мост к тому месту, где пространство между берегом озера и крепостью было уже, но мост оказался коротким, так что пристать к острову не было возможности, поэтому от осуществления плана приходилось пока отказаться. А между тем предприятие потребовало немало труда и жертв: погибло 80 человек, и среди них ленчицкий староста Христофор Розражевский, убитый пулей выше правого глаза в то время, когда он, по приказанию Замойского, наблюдал за действием артиллерии.
Пополудни гетман приказал удалить плот с того места, где он был установлен, в более безопасное, где бы можно было удлинить его. Но когда два гайдука, находившиеся на нем, стали отталкиваться от берега, оборвался канат, плот понесло, и притом весьма быстро, вследствие сильного ветра, на середину озера. Заметив это, Русские бросились в лодки и стали плыть, чтобы поймать плот. Тогда Замойский приказал бить тревогу, и солдаты его кинулись спасать плот: одни сели в лодки и поплыли по озеру, другие поскакали на конях по берегу туда, куда плот уносило течением. Притом с той и с другой стороны шла беспрерывная пальба. Русские уже достигали плота, одна их лодка уже приставала к нему и находившиеся в ней готовы уже были высадиться на него, но гайдуки, стоявшие на плоту, потопили лодку. А тут стали приближаться к нему и солдаты Замойского; тогда Москвитяне отступили. Таким образом удалось спасти плот[616]. Он был удлинен затем еще более в тот же самый день.
На следующее утро, лишь только рассвело, плот стали опять наводить, причем для прикрытия солдат, наводивших его, от неприятельских выстрелов было придумано следующее средство: по бокам плота поставлены были громадные мешки, набитые шерстью. За наводку брались солдаты теперь не особенно охотно[617], так как были напуганы предшествовавшей неудачею. Поэтому Замойский поручил исполнение дела своему родственнику, Уровецкому, который, поместив на плоту несколько солдат и укрывшись с ними за мешки, совершил успешно наводку под многочисленными выстрелами врагов[618].
После этого гетман приказал идти на приступ Венграм, так как они, согласно распоряжению короля, должны были по взятии крепости остаться в ней. Но когда они в количестве человек около трехсот двинулись вперед, тогда ударил на них с двух сторон отряд из крепости, и Венгры пустились бежать назад. Видя это, Замойский послал им на помощь Поляков. Последние встретились с Венграми на самом мосту, и здесь произошла настоящая свалка (так как Венгры не хотели возвращаться в бой), отчего мост прорвался. Для нападавших наступил весьма опасный момент, так как из крепости производилась весьма частая пальба. Поляки и Венгры понесли значительные потери: утонуло и убито было 50 венгерских дворян и 150 гайдуков и много ранено. Москвитяне лишились только до 30 человек. После этого Замойский приказал оттащить плот назад[619].
Неудача эта произвела на осаждающих удручающее впечатление; они стали сомневаться в возможности овладеть крепостью и поэтому начали поговаривать о необходимости отступления, тем более что наступившая ненастная погода причиняла им сильные страдания. Ввиду этого настроения Замойский созвал в тот же день ротмистров, чтоб посоветоваться с ними, что делать дальше. Некоторые были того мнения, что надо отступать[620], но большинство заявило, что они готовы сойти с коней, сами идти на приступ, готовы скорее умереть, чем подвергнуться такому позору[621]. Однако и они считали положение до такой степени затруднительным, что не знали, как быть дальше, и посоветовали обратиться за инструкциями к королю. Согласно этому совету, Замойский отправил к Баторию некоего Георгия Сибрика[622] с письмом, в котором, однако, не за новыми инструкциями обращался к королю, а просил только, чтобы король не отзывал его от крепости. Канцлер писал, что неудача произошла от чрезмерной поспешности солдат и что рассчитывает на успех, ибо план осады выбран им удачно, и войско, находясь в стране, изобилующей хлебом, скотом, водою и фуражом, не может страдать от недостатка в съестных припасах[623]. Баторий согласился с мнением своего канцлера и прислал ему вспомогательный отряд, состоящий из 900 польских всадников и около 1000 венгерских пехотинцев[624].
Польский гусар. Гравюра XVII в.
Энергия начальников подбодрила солдат, хотя условия, среди которых пришлось им вести осаду, ухудшились. К холодам и дождям присоединилась какая-то эпидемическая болезнь, проникшая в Польшу и Литву из Западной Европы и проявлявшаяся сначала сильным ознобом в спине, а потом головными болями, страшными стеснениями в груди и общей изнурительной лихорадкой[625].
Несмотря на все это, солдаты принялись с новым рвением за осадные работы. Решено было построить два моста[626] и приготовить много лодок, чтобы сделать нападение на крепость со всех сторон. В течение четырех дней (12, 13, 14, 15-го октября) войско энергически исполняло приготовительные работы, необходимые для нового приступа: свозились деревья для постройки нового моста и починки старого и собирались лодки из окрестных деревень и даже отдаленных озер[627]. Заметив это, Русские поспешили удалить свои суда и оставили только одно, так как за ветхостью считали его уже никуда не годным. Оно принадлежало монахам Заволочья и употреблялось ими для вытаскивания больших неводов. Так как судно было весьма обширно (оно могло вместить до 80 человек), то Замойский решил воспользоваться им при нападении на крепость, починив его предварительно и заткнув в нем щели отчасти воловьими кожами, отчасти мхом[628].
Когда 16-го октября прибыли от короля вспомогательные войска, Замойский расположил их так, что теперь осаждающие находились со всех сторон крепости. Артиллерия при этом была поставлена так, что стрельбу можно было производить по крепости с трех сторон.
Замойский составил следующий план приступа. Мосты должны быть поставлены с одной стороны замка; по одному пойдут Поляки, по другому – Венгры; этим распоряжением Замойский желал, очевидно, устранить возможность вторичного столкновения между польскими и венгерскими отрядами. В то же время с остальных трех сторон войско должно было двинуться к крепости на лодках, чтобы отрезать осажденным совершенно путь к отступлению. Тот, кто первый подожжет крепость, получит большую награду, именно от него, гетмана, – имение с тремя деревнями, а от короля – пожизненное владение. Этот план Замойский сообщил ротмистрам. А затем на следующий день (19-го октября) на военном совете решено было производить перед приступом в течение двух дней беспрерывную канонаду, во-первых, с той целью, чтобы попробовать, не удастся ли ядрами зажечь крепость, а потом, чтобы измучить осажденных и таким образом уменьшить сопротивление их при штурме[629].
Прежде чем начинать стрельбу, Замойский избрал пункт, куда выстрелы следовало направлять по преимуществу. Он сел с несколькими военными людьми на большое судно и тщательно осмотрел укрепления, после чего приказал стрелять в три больверка, находившиеся против крепости, чтобы сбить с них ядрами по крайней мере глину, расщепить бревна и таким образом облегчить поджог крепости[630].
Накануне приступа канцлер послал осажденным грамоту, приглашавшую их добровольно подчиниться и обещавшую, по обыкновению в таком случае, тем, которые пожелают остаться под властью польского короля, различные милости, а остальным – свободный пропуск в отечество[631]. Осажденные грамоты не хотели принимать и только говорили: «Пускай король шлет грамоты в свои города, а не к нам, мы никакого короля не знаем и не желаем его слушать». В день, назначенный для приступа (23-го октября), утром было совершено молебствие, причем многие, готовившиеся идти на приступ исповедались и причастились. В это время наводились мосты, причем осажденные производили усиленную стрельбу, но она мало вредила наводившим мост: убит был только один солдат и два ранены.
После молебствия Замойский стал вызывать тех, которые записались идти на приступ, затем произнес к ним речь, в которой благодарил их за готовность пожертвовать даже жизнью ради дела, превозносил их мужество, говоря, что подвигом своим они приобретут бессмертную славу, и обещал выхлопотать у короля для них различные милости. После этого наступил момент прощания. Замойский подавал всем руку и с плачем благословлял. Воины тоже плакали, прощаясь друг с другом. Затем гетман приказал им идти к траншеям и не начинать приступа до тех пор, пока он сам к ним не явится. Венгры и Поляки, согласно этому приказанию, стали у траншей, а Замойский приготовил между тем материалы, необходимые для поджога крепости. Когда все было готово, он приказал воинам садиться на лошадей и сам, сев на коня, поехал к траншеям. Увидев, что враги приближаются уже к мостам, осажденные стали кричать, что желают вести переговоры, но с условием, что будет прекращена пальба. Замойский прекратил ее и послал спросить, чего осажденные хотят. Они ответили, что желают прочесть королевскую грамоту и после этого скажут, сдаются ли они, или нет. Прочтя ее, они выразили через посредство уполномоченных (шести человек) готовность сдаться на условиях дарования им жизни и свободы и разрешения унести с собою оружие, причем требовали подтверждения этих условий клятвой со стороны Замойского.
Условие о сохранении оружия Замойский отвергнул, но даровать жизнь и свободу клятвенно обещался. Тогда гарнизон отправил к гетману еще семь уполномоченных заявить, что воеводы не хотят сдаваться; поэтому пусть он возьмет их силою. Замойский послал за ними несколько десятков человек и приказал Русским ради их собственной безопасности не выходить из крепости до завтрашнего дня, а уполномоченных пригласил к себе в шатер и устроил им тут угощение. Когда привели воевод, гетман заявил им, что берет их в плен, так как они не хотели сдаться добровольно[632].
Таков был ход военных действий на главном театре войны. Теперь посмотрим, что происходило на флангах Баториевой армии. На левом фланге в Ливонии, где находился Матвей Дембинский с отрядом в 3000 человек, господствовало спокойствие[633], а на правом шла весьма оживленная борьба. Тут действовали оршанский староста Филон Кмита и казацкий гетман Оришовский: первый предпринимал поход к Смоленску, а второй – к Стародубу.
Собрав из шляхты, жившей вокруг Орши, отряд в 700 и отряд пехоты и казаков в 1000 человек, Кмита направился[634] к небольшому замку, находившемуся на расстоянии нескольких миль от Смоленска, надеясь соединиться здесь с королевскими войсками, но ошибся в своих расчетах. Несмотря на это, он двинулся дальше, к самому Смоленску, из которого, лишь только он подступил к городу, ударило на него несколько сот стрельцов, но он их разбил и принудил возвратиться назад в крепость. Однако он отступил от Смоленска, опасаясь, очевидно, разгрома своего войска. Действительно, когда Кмита расположился лагерем на некотором (1/2 мили) расстоянии от Смоленска, отсюда вышел отряд в 400 всадников и 3000 пехотинцев с целью догнать его и нанести ему поражение.
Но Кмита первый ударил на врага, не обращая внимания на его численное превосходство. Битва, начавшаяся вечером, затянулась до поздней ночи и кончилась победой Кмиты, причем он взял многих врагов в плен, но сам понес потери незначительные. Однако ввиду того, что у него много было раненых и воины его сильно утомились, он отступил немедленно по направлению к Орше и расположился лагерем на ночлег на берегу одной речки, в расстоянии десяти миль от Смоленска. Тут-то напало на него 25 000 Русских и Татар, стараясь окружить его со всех сторон. Он пустился бежать, а они его преследовали и громили; ему приходилось уже очень плохо, но, к счастью для него, прибыли ему на выручку шедшие под Великие Луки две роты, которые, узнав, что король взял уже крепость, повернули на восток, чтоб соединиться с Кмитою, ибо им известно было, что он предпринимает экспедицию в неприятельскую страну. Русские, заметив свежие силы у противника, прекратили преследование. Во время этой погони Кмита потерял 700 человек убитыми, два орудия и 12 гаковниц, которые захватили враги. Чтоб облегчить себе бегство, оршанский староста умертвил всех пленных[635].
Месяца два спустя после того (в ноябре) Оришовский опустошил сильно северскую область, достиг Стародуба, сжег город и часть его укреплений; затем он произвел нападение на Поченово, но был отбит; тогда он вернулся назад, забрав с собою большую добычу[636].
Так окончилась кампания 1580 года: Баторий приобрел еще один важный стратегический пункт, Великие Луки, что сильно подвигало вперед осуществление военного плана, составленного королем.
VI. Псков
В Великих Луках Баторий находился до тех пор, пока не была окончена постройка крепости в главных своих частях, причем он сам деятельно наблюдал за ходом строительных работ. Снабдив крепость всем необходимым и оставив в ней гарнизон из 1117 человек конницы и 1000 пехоты под начальством оршанского старосты Филона Кмиты, Баторий 3-го октября отправился в Невель[637]. Сюда последовали за ним московские послы. Но ведение переговоров не давало никаких результатов. Вскоре после взятия Великих Лук (7-го сентября) король получил от Иоанна письмо, которое, очевидно, было прислано только с той целью, чтоб известить Батория об успехе царских войск в Ливонии: они отняли назад, как доносил царь, у Поляков город Крейцбург[638]. Тон письма свидетельствует о том, что у Иоанна явилась некоторая надежда на более успешный для него ход военных действий или что известием о победе он хочет произвести впечатлите на противника. Баторий ответил на это письмо извещением Иоанна о взятии Великих Лук и опровержением известия о победе царских войск в Ливонии[639].
Затем уже в Невель пришло от Иоанна письмо к Баторию, как ответ на посольство Лозовицкого. Царь обосновывал, по обыкновению, свои притязания на Ливонию на наследственном праве, ведущем свое начало от Ярослава, который завоевал ливонскую страну и построил в ней город Юрьев. Однако от некоторых городов в Ливонии он теперь, после взятия Великих Лук, уже отказывался: он уступал Баторию Кокенгаузен, Ашераден, Леневард, Крейцбург, кроме того, Усвят и Озерище, соглашался на то, чтобы оба они, т. е. он, Иоанн, и Баторий, носили титулы ливонских владетелей, но требовал за эти уступки возвращения Великих Лук, Велижа и отступления королевских войск от Невеля[640]. Наконец, Иоанн давал своему посольству полномочие сделать еще большие уступки, если на те, которые он сделал, последует согласие[641].
Предложения Иоанна, конечно, не были приняты, вследствие чего московское посольство, исполняя поручение царя, выразило желание вступить в новые переговоры. Московские послы три раза совещались с сенаторами Батория. Сначала они уступили небольшие замки Биржи (Биржам), Лаудон (Лявдан) и Руин, потом прибавили еще два (Сечвей и Маенгавз) и, наконец, когда, ввиду ничтожности уступок, им заявили, что они могут возвращаться к своему государю, отдали королю Румборк, Каркус[642] и, в конце концов, Трикат.
Больше уступать они не могли, так как они не имели на то полномочий, вследствие чего переговоры были прерваны, однако послам разрешено было, согласно их просьбе, следовать за королем до тех пор, пока они не получат новых инструкций от своего государя. Затягивать переговоры казалось Иоанну выгодным, так как ему тяжело было отказаться от Ливонии и так как он не переставал надеяться на лучший для него оборот дел вследствие задуманной им дипломатической комбинации.
Баторий также умышленно затягивал переговоры из предусмотрительности. На войну нужны были средства, а эти средства давал и размер их определял сейм, так что осуществление в том или ином виде военных планов короля обусловлено было отношением, в какое встанут к этим планам чины государства. Вот почему окончательный ответ московским послам отложен был до нового сейма[643], хотя Баторий мира заключать не хотел и думал о продолжении войны, уже возвращаясь из кампании 1580 года.
По мнению короля, перемирие было выгодно только врагу, ибо давало ему возможность оправиться от поражений и укрепить свои силы настолько, что борьба с ним могла сделаться впоследствии гораздо труднее. На заключение вечного мира также нельзя было соглашаться, пока в неприятельских руках будут оставаться лучшие ливонские гавани, при помощи которых враг может получать из-за границы все, что необходимо для усиления его могущества. Таким образом, остается только вести войну, и Баторий призывал своих подданных к пожертвованиям на ведение ее[644].
Вместе с тем он и сам подумал о приготовлении средств для этой цели. Прибыв из Невеля через Вильну в Гродну[645], он обратился к герцогу прусскому, Георгию-Фридриху, и куфюрстам саксонскому и бранденбургскому с просьбой ссудить ему денег. Кроме того, он окончил переговоры с Ригой об условиях подчинения города его власти. Рига обязалась, между прочим, платить в казну короля две трети пошлин с заморских товаров[646].
Замойский ревностно помогал королю в исполнении его планов. Возвращаясь из Заволочья, канцлер тщательно старался изучить течения рек и направление и состояние дорог, по которым должен был происходить поход будущего года[647].
Еще большие услуги он оказал королю на сейме, который был созван на 22-е января 1581 года в Варшаву[648]. Устами канцлера Баторий выяснил причины, вследствие которых необходимо продолжать войну. Враг соглашается уступить королю только некоторые замки в Ливонии и оставляет за собою важные ливонские гавани, но до этого допустить никоим образом нельзя. Надо врагу нанести такой удар, чтоб у него не только «не выросли снова перья, но и плеч больше не было», надо его отодвинуть подальше от моря, из-за которого он может получать военные снаряды и ремесленников и которое даст ему возможность вступать в различного рода дипломатические комбинации, направленные против Речи Посполитой. Это важное значение борьбы король ставил на вид сейму, чтоб склонить его к одобрению значительных налогов. Он указывал еще и на то обстоятельство, что в будущем году придется совершить более отдаленный поход, что придется идти на 50 миль далее, нежели в нынешнем. Сенат и посольская изба сразу выразили свое согласие на продолжение войны. Некоторая задержка произошла только при разрешении вопроса о размере налогов, необходимых на ведение ее.
Сенат почти единогласно пришел к заключению, что необходимо установить налоги еще на три года в размере, практиковавшемся в течение последних трех лет. Но земские послы, после совещаний, длившихся несколько дней, заявили, что они могут согласиться только на установление обыкновенного годичного налога, так как они связаны своими посольскими инструкциями. Это заявление сильно не понравилось королю и Замойскому.
Последний с негодованием заметил, что послы требуют от короля невозможного. Издержек на первый поход нельзя было покрыть даже двойным налогом, и король не жалел своих собственных средств на покрытие расходов по ведению войны, так что теперь казна его совершенно пуста. Как же быть? Предстоит кампания еще более дорогая. Послы не хотят одобрять необходимых для этого налогов. Что же? Они, очевидно, хотят, чтобы король позволил кожу с себя сдирать. Он бы и это готов был сделать, если бы можно было придумать такую алхимию, которая давала бы возможность из кожи деньги чеканить[649].
В посольской избе произошло раздвоение: большинство послов готово было одобрить двойной налог, и только послы трех воеводств стояли на своем, оправдывая свое поведение полномочиями, которые они получили от сеймиков[650].
Вследствие этого приходилось продолжать совещания с посольской избою. Мнения сенаторов были различны. Одни советовали установить пока обыкновенный годичный налог, другие – в тех воеводствах, послы которых выразили согласие на двойной налог, взимать двойной, а в остальных простой; иные говорили, что необходимо созвать сеймики и на них решить этот вопрос. Славолюбивый король старался подействовать на честолюбие нации. Он с благодарностью принимает и обыкновенный налог, но тогда придется вести позорную войну, войну, которая сведется к разбойническим набегам, к уводу в плен жителей и т. п., но осаждать и брать крепости уже нельзя будет. А между тем он, если бы он только нашел поддержку, подумал бы о покорении не только Московии, но и всего севера[651]. Слова эти подействовали на посольскую избу. Совещания о налоге кончились тем, что послы согласились на двойной размер, сделав только такую незначительную оговорку: если можно будет королю заключить в текущем году мир с врагом, они выражают желание, чтобы на ведение ее пошла только половина суммы, одобренной сеймом, а другая осталась в государственной казне.
Таким образом, чины государства довольно охотно поддержали военные планы Батория[652].
Правда, сейм заявлял королю, что он одобряет двойной налог уже в последний раз, но, очевидно, только с тою целью, чтобы показать королю, как затруднительно в финансовом отношении положение государства, и склонить его к скорейшему окончанию войны[653].
Поддержанный сеймом, Баторий мог с еще большею решительностью настаивать на требованиях, которые он предъявлял врагу. Московские послы прибыли, как нам известно, за королем в Варшаву, где они ждали новых полномочий от своего государя. Иоанн дал эти полномочия, но они были таковы, что мир не мог состояться. Питая надежду на дипломатическое вмешательство императора и папы, с которыми он вел в это время переговоры, московский государь прислал с гонцом Репчуком Климентьевым к королю письмо, в котором он выражал только желание продолжать переговоры, но о новых условиях, на которых он соглашался их вести, в письме ни слова не говорилось[654]. Эти новые условия гонец должен был, вероятно, сообщить, по приказанию царя, непосредственно послам, но он не мог этого сделать, так как его не допускали сообщаться с ними, держа его под бдительною стражею. Гонец прибыл в Варшаву после возвращения к Иоанну посольства, которое ездило от него к императору. Эти переговоры царя с императором казались Баторию весьма подозрительны. До короля доходили слухи, что Иоанн признал над Ливониею сюзеренное верховенство императора и получил за значительную денежную сумму разрешение набирать солдат в Германии. Все это возбуждало подозрительность короля, и он не позволял Иоаннову гонцу сноситься с московским посольством[655].
Однако в самом письме царя заключалось полномочие продолжать переговоры, очевидно, на условиях незначительных уступок в Ливонии. Послы и стали действовать в таком духе. Получив на торжественной аудиенции у короля согласие на возобновление переговоров, они заявили сначала на совещании с сенаторами, которых король назначил для этой цели[656], что желают узнать, на каких условиях король готов заключить мир, но получили уклончивый ответ. Тогда они сказали, что могут с своей стороны представить только те условия, которые они предлагали в Невеле. Вследствие этого возникли долгие и бесплодные прения. Сенаторы напомнили послам, что невельские условия уже весьма решительно были отвергнуты королем. Как же он может принять их теперь, когда он произвел уже значительные издержки на продолжение борьбы, виновником которой является московский государь? Послы стояли на своем; они хотели узнать предварительно, что с своей стороны может и желает предложить король. Ввиду этого виленский каштелян Волович заявил, что уступка всей Ливонии представляет собою необходимое условие, которое легко устранит иные препятствия, мешающие заключению мира. На это послы возразили, что об уступке Ливонии они и подумать не смеют и могут предложить королю еще один только замок Вольмар. Эта уступка показалась сенаторам смешной. Московский государь отнял у Речи Посполитой как бы одним ударом обширные области, а теперь послы его как бы в насмешку уступают по одному замку. Кончилось тем, что король пригрозил посольству отправкой назад, если оно будет дальше поступать подобным образом. Но угроза не произвела желанного впечатления, поэтому переговоры были прерваны и послы отвезены за Вислу, в местечко Брудно, туда, где было их местопребывание[657].
Король прервал переговоры, но приводить свою угрозу в исполнение считал еще пока делом преждевременным, так как он не был уверен, поддержит ли его сейм настолько, что можно будет энергически продолжать войну: вопрос о налогах пока еще только обсуждался, но не был разрешен окончательно.
Вследствие этого посольству дана была особая аудиенция (13-го февраля) и устроено новое совещание об условиях мира, но и оно не привело ни к какому результату. К прежним уступкам послы прибавили еще крепости Режицу, Люцен и Мариенгаузен[658], наконец, согласились отдать королю все те крепости, которыми Иоанн завладел в Ливонии со времени вступления Батория на польский престол, однако под условием возвращения царю тех пунктов, которые Баторий в прошлом году завоевал. Переговоры снова были прерваны, и Баторий мог их уже прервать окончательно, так как он добился от сейма одобрения такого налога, какого он желал. Сначала был отпущен (16-го февраля) московский гонец Репчук Климентьев, через которого Баторий переслал Иоанну письмо с заявлением, что мириться с ним он не может, ибо в Ливонии остаются еще царские люди[659].
Затем последовал отпуск послов. Они просили разрешить им еще раз посовещаться с сенаторами и, получив это разрешение, заявили, что готовы уступить – вопреки своим полномочиям – небольшие замки Салис и Перкель. В заключение они сделали попытку заключить перемирие на полгода на условиях uti possidetis[660]. Но, конечно, эти предложения были отвергнуты. Мало того, при самом отпуске послов Баторий дал им понять, что теперь одна Ливония его не удовлетворит, что придется московскому государю свести с ним еще иные счеты, ибо он считает северскую область, Смоленск, Псков и Великий Новгород своей собственностью[661]. Это заявление не было со стороны Батория простой только дипломатической угрозой, высказанной с той целью, чтобы сделать противника уступчивее; в случае успеха на театре войны оно могло бы обратиться в требование sine qua пои заключения мира[662].
Стены Псковского кремля
Таким образом, продолжение войны было неизбежно. В действительности же военные действия и не прекращались. Еще зимой 1580 года начальник великолуцкого гарнизона Филон Кмита устроил экспедицию под крепость Холм в отместку за нападение, которое произвели холмские казаки на великолуцкую область. С этой целью он выслал отряд в 1000 с лишком человек под начальством Вацлава Жабки. Высланные напали на Холм в самый день Рождества Христова, зажгли город и совершили в нем и в его окрестностях сильное опустошение. Холмский воевода Петр Иванович Барятинский вступил было с командирами экспедиции в переговоры, прося их не совершать опустошений и людей не губить, ибо государь его с их государем хочет мир соблюдать и новое посольство собирается к нему отправить; кроме того, указывал им на то, что царь приказал крепко-накрепко войны с польским королем не начинать, на что получил в ответ список тех казаков, которые произвели вышеуказанное нападение на окрестности Великих Лук[663]. Затем крепость была подожжена и принуждена сдаться вместе со старшим воеводой Петром Ивановичем Барятинским, меньшим воеводой Панаком[664], стрелецким головою Михаилом Зыбиным, сотней детей боярских и 600 стрельцов[665].
В Холме отряд разделился на две части: одна направилась к Новгороду, другая – к Руссе, предаваясь грабежу, захватывая в плен жителей и убивая их в случае сопротивления; первая дошла до города Дубно (в 12-ти милях от Новгорода), вторая приблизилась к Руссе на расстояние в 10 миль.
В это же время Георгий Сибрик, начальник гарнизона, стоявшего в Заволочье, завладел крепостью Воронечем, которая находилась при впадении реки Усовки в реку Великую. Жители Воронеча принесли было уже присягу на подданство Баторию. Тогда один московский отряд решил наказать их за это и вместе с тем не допустить, чтобы враг завладел крепостью. Но Сибрик, предупрежденный об этом из Воронеча, двинулся на Москвитян, разбил их и поставил в Воронече свой гарнизон[666].
В то же самое время войско, расположенное в Ливонии, взяло замок Смильтен и опустошило сильно окрестности Дерпта[667], а венгерский гарнизон Невля произвел набег на соседние московские земли, разграбил их и захватил в плен двух воевод[668].
Несколько позже (в марте 1581 г.) Кмита, побуждаемый успехом нападения на Холм, задумал взять город Руссу, которая славилась своими богатыми соляными зарницами и обширною торговлею.
При нападении на город он не встретил сопротивления со стороны его жителей, так что легко им завладел, пробыл в нем три недели и, разрушив его до основания, возвратился назад с громадной добычей[669].
Экспедиции эти сопровождались таким значительным успехом потому, что жители московских областей, напуганные победами Батория, не только не сопротивлялись нападавшим, но добровольно им подчинялись, а иногда брались даже за оружие против своих собственных соотечественников. Успех этих экспедиций ограничился не одной добычей; они расширили границы Речи Посполитой на несколько десятков миль далее.
Между тем Иоанн не принимал никаких действительных мер для защиты своих владений от врага; он даже вывел войска из пограничных областей, заперся в Александровской слободе и с прежним упрямством продолжал рассчитывать на успех своих обычных дипломатических переговоров, хотя положение государства было весьма печально: государственные чины, созванные им в конце 1580 года с той целью, чтобы решить вопрос, продолжать ли войну, или заключить мир, заявили, что воевать с врагом нет у государства ни сил, ни средств, и просили царя мириться с Баторием[670]. Несмотря на это, Иоанн продолжал придерживаться своей обычной политики проволочек и козней против врага. Он рассчитывал в этом году, как и раньше, на то, что сейм не даст надлежащей поддержки Баторию, а потому король не в состоянии будет вести энергическую борьбу. Царь, кажется, надеялся и на то, что ему удастся сорвать сейм[671]. С этою целью он содержал в Литве агентов, которых выдал королю боярин Давид Бельский, бежавший от царя к Баторию[672].
В переговорах же своих с королем о мире царь придерживался своей прежней тактики. Новое посольство[673], во главе которого стояли дворянин и наместник муромский Евстафий Михайлович Пушкин, дворянин и наместник шацкой Федор Андреевич Писемский и дьяк Иван Андреев, прибыв к Баторию в Вильну (24-го мая), повело переговоры обычным порядком: оно уступило королю сначала города Румборк и Вольмар, потом еще два-три замка и наконец заявило, что царь отдает всю Ливонию, за исключением Нейгаузена (Новгородка), Нейшлоста (Серенска), Неймюлена (Адежа), Ругодева или Нарева и желает, чтобы король возвратил ему назад Великие Луки, Холм, Велиж и Заволочье взамен за Полоцк, Озерище и Усвят[674]. На это Баторий ответил предъявлением следующих условий. Ливония должна быть уступлена вся без всякого исключения со всеми замками и со всей артиллерией, какая только в них находится. Король соглашается возвратить царю Великие Луки, Холм и Заволочье, но Себеж, стоящий на полоцкой земле, должен быть или отдан королю, или разрушен, за что в свою очередь король обязуется сжечь крепость Дриссу, находящуюся напротив Себежа. За военные издержки Иоанн обязан уплатить 400 000 золотых, согласиться не на перемирие, а на вечный мир, и включить в условия мирного договора шведского и датского королей. В заключение Баторий выражал желание иметь свидание с Иоанном в каком-нибудь пограничном пункте, чтобы договориться окончательно об условиях мира[675].
Условия, предлагаемые той и другой стороной, были таковы, что соглашение легко могло бы последовать, если бы только не заключалось в них одно обстоятельство, которое являлось для него главным камнем преткновения: ни Иоанн, ни Баторий не хотели отказаться от владения Нарвой. Король понимал, что она представляла собой пункт, дававший врагу возможность сноситься с Западной Европой, получать оттуда все то, что могло еще более усилить его могущество, пункт, из которого враг без большого труда мог завладеть опять Ливониею. Не считая по этим причинам возможным для себя уступать Нарву, Баторий и решил продолжать борьбу[676].
А Иоанн в это время стал возлагать надежды не только на успешность своих дипломатических комбинаций ввиду того, что папа соглашался быть посредником в распре его с Баторием, но стал надеяться и на более счастливый для него оборот дел на театре войны. Послы и агенты его, находившиеся в Литве, донесли ему из Польши, что король не подготовлен еще к борьбе, что у него собрано еще мало войска, что внимание его могут отвлечь дела в Трансильвании, возникшие вследствие смерти трансильванского воеводы, Баториева брата, и т. п.[677]
Все это так приободрило Иоанна, что он сделал попытку открыть наступательные действия против врага. По его приказанию, отряд войска, достигавший 45 000 человек[678], должен был произвести нападение на оршанскую область и завладеть Оршей[679]. Отряд этот, переправившись через Днепр (25-го июня), сильно опустошил окрестности Дубровна, Орши, Шклова, сжег предместья Могилева и, сделав неудачную попытку поджечь крепость этого города, возвратился назад за Днепр, направляясь к Радомлю и Мстиславлю и производя по пути также опустошения[680]. Другой московский отряд в 2000 человек устроил засаду в лесу поблизости Велижа, чтобы напасть на литовские области, когда Баторий двинется в поход, но был разбит отрядом польских всадников (в 300 человек) под начальством Домбровского, а потому принужден возвратиться назад[681]. Королевские войска, находившиеся в восточных областях государства, отстояли могилевский замок, но по своей малочисленности не были в состоянии остановить движение неприятеля[682]. Оно сильно обеспокоило Батория, так как у него войска не были еще собраны. Сборы на войну, по обыкновению, тянулись весьма медленно[683]. Баторий, прибывший в Вильну[684] для того, чтобы сделать необходимые приготовления, хотел двинуться в поход еще в мае, но должен был отложить выступление до 20-го июня, ибо солдаты собирались весьма неохотно, требуя уплаты выслуженного жалованья[685]. А у короля не было денег; между тем сумма долга одному войску простиралась до 300 000 золотых. Налоги уплачивались в казну, как обыкновенно, очень медленно. Поэтому Баторий принужден был, как и в прежние годы, делать займы. Маркграф анснахский одолжил ему 50 000 золотых и подарил 30 000; бранденбургский курфюрст дал в ссуду тоже 50 000[686].
Баторий преодолел очень скоро все затруднения, мешавшие ему выступить в поход. К концу июня в Вильну собралось к нему значительное число воинов, больше всего Венгров (свыше 10 000 человек). Поляков и Литовцев было еще мало[687], но и они постепенно, хотя и медленно, являлись к королю, когда он уже был в походе.
Из Вильны Баторий выехал, как и предполагал, 20-го июня и прибыл 1-го июля в Дисну[688]. Тут он получил сильно встревожившее его известие о нападении Москвитян на оршанскую область. Медленность, с какой собирались воины, приводила его в сильное негодование. Когда один поручик явился просить уплаты жалованья, король послал спросить его, прибыл ли он со своей ротой. Тот ответил, что он оставил роту на бивуаке. Баторий в гневе разбранил офицера, приказал ему приводить свой отряд поскорее и прибавил: «Таких воинов посылать только на виселицу!» (Certe digni sunt patibulo tales milites»)[689].
Чтоб обезопасить восточные области от новых нападений врага, король выслал тотчас же троцкого каштеляна Христофора Радзивилла и приказал ротмистрам, находившимся в пограничных пунктах, соединиться с ним, вследствие чего составился довольно значительный отряд в 3000 человек[690].
Вместе с тем принимались меры, чтобы ускорить прибытие военных отрядов, и деятельно производились приготовления к дальнейшему походу. 8-го июля отправлены, под прикрытием отряда в 500 человек, по реке Дриссе к Заволочью артиллерия, амуниция и иные военные принадлежности[691]. Но цель кампании хранилась в тайне. Кроме Батория и Замойского, никто в точности не знал, куда поход направится, и только догадывались, что целью его будет Псков[692].
Выслав вперед канцлера, король двинулся из Дисны 15-го июля по направлению к Полоцку. По пути присоединялись к его армии новые войска: маршалы литовский, великий и надворный, представили ему тогда свои отряды, первый 120 гусар, а второй 60 всадников; кроме того, ротмистр Сирией привел отряд пехотинцев в 120 человек[693].
Лишь только Баторий прибыл в Полоцк, явился к нему гонец Христофор Дзержек, которого он отправлял к Иоанну с предложением своих условий в ответ на условия, предлагаемые последним посольством царя. Иоанн прислал Баторию через гонца столь длинное письмо, что король сделал ироническое замечание: вероятно, царь описывает события, начиная с самого Адама. Действительно, письмо было весьма длинно, но – что еще важнее – исполнено всякого рода обвинений и по тону для короля оскорбительно. Царь припоминал события со вступления Батория на престол. Королевские послы, Станислав Крыский с товарищами, действовали во время переговоров своевольно, ибо написали перемирную грамоту такую, какую хотели, и крест на ней целовали. Иоанн отправил после того своих послов в Польшу для скрепления договора. Один из них, Карпов, умер во время пути. Упоминая об этом, царь выражал подозрение, что смерть посла была насильственная[694]. Остальных послов король принял высокомерно: против имени его, Иоанна, не встал и об имени его не спросил; поэтому послы и посольства не правили. Затем Баторий прислал к нему гонца Петра Гарабурду с «бездельною грамотою», чтобы перемирный договор был изменен и таким образом нарушено крестное целованье. «Зовучися господарем христианским, – говорит Иоанн, – не по христианскому обычаю захотел еси делати, поругаючися нашему крестному целованию, что мы к тобе на грамоте крест целовали и через присягу послов своих, которую они учинили за твою душу и через все то, да изнова делати и того нигде не ведется». Нарушение присяги не допускается и в бусурманских государствах; не допускали ничего подобного и предшественники Батория. Иоанн увещевал его через своего гонца Андрея Михалкова не делать этого, увещевал докончить мирный договор. Но Баторий не послушал царя, подвигся на большую еще ярость и, сломав присягу послов своих, выбил царских послов из своей земли, как злодеев, не дав им своих очей видеть. После того вскоре, прислав гонца своего Лопатинского с грамотою, в которой про царствование Иоанна были написаны многие неправые слова, король пришел под Полоцк, отчину Иоанна, с его изменниками Курбским, Тетериным, Заболотским и иными, и взял крепость изменою. Мало того, город Сокол был сожжен новым умышлением, причем над мертвыми произведено было поругание, какое неизвестно и неверным. «Люди твои, – говорит Иоанн, – собацким обычаем делали, выбирая воевод и детей боярских лучших мертвых, да у них брюха взрезывали, да сало и желчь выймали, как бы волховным обычаем. Пишешься и зовешься господарем христианским, а дела при тобе делаются неприличные христианскому обычаю». Последующих послов Иоанна принимал Баторий чрезмерно гордо, с такими укоризнами, каких царю не приходилось слышать ни от турецкого, ни от иных бесерменских государей. Мало того, приказав послам явиться к Великим Лукам, король стал добывать крепость и в то же время требовал, чтобы послы посольство правили. «И тут которому посольству быть! – восклицает Иоанн. – Такая великая неповинная кровь христианская разливается, а послом посольство делати!.. Такой непобожности ни в бесерменских господарствах не слыхано, чтобы рать билася а послы посольствовали… И волочил еси наших послов за собою осень всю, да и зиму всю держал еси их у себя, и отпустили еси их ни с чем, а тым всим нас укоряя и поругаяся нам».
Далее Иоанн смеется над последними условиями, предложенными Баторием, защищая историческими аргументами права свои на Ливонию. Он – государь наследственный, а Баторий пришлец только. И он осмеливается не только отнимать у него наследственные владения, но по бусурманскому, татарскому обычаю требует еще выхода. «А за что нам тобе выход давати, – спрашивает Иоанн. – Нас же ты воевал, да такое плененье учинил, да на нас же правь убыток. Кто тебе заставливал воевать? Мы тобе о том не били челом, чтоб ты пожаловал воевал. Правь собе на том, кто тебе заставливал воевать, а нам тобе не за что платити. Еще пригоже тобе нам тые убытки заплатили, что ты напрасно землю нашу приходя воевал, да и людей всех даром отдать». Ненасытность и гордыня Батория безмерны: он хочет все вдруг поглотить, а хвалится, как Амалик и Сенахирим или при Хозрое воевода Сарвар. По своему обыкновению, Иоанн щеголяет знанием истории и текстов Св. Писания и приводит такие, из которых следует, что царь ждет для Батория гибели, а для себя спасения. «Коли уж так, – делает Иоанн заключение, – что все кровопролитье, а миру нет, то пусть король отпустит назад его послов, а Бог дело их рассудит[695].
Ясно было, что Иоанн мириться не желает; тем не менее переговоры о мире не прекращались. На следующий день после прибытия Держка[696] явился в Полоцк и московский гонец, привезший от московских бояр письмо к литовским сенаторам[697], в котором бояре обвиняли Батория в нарушении присяги, сваливали вину за кровопролитье на короля и просили сенаторов посодействовать установлению мира.
Король, несмотря на оскорбления, которые нанес ему Иоанн своим письмом, допустил московских послов к совещанию с особою комиссиею из сенаторов об условиях мирного договора, хотя исход совещания легко можно было предвидеть, и поэтому оно совершенно было излишне. Действительно, от прежних своих предложений посольство отказалось. Оно уступало Баторию только те пункты, которые он завоевал, четыре замка в Ливонии и города в Курляндии, т. е. то, что Иоанном не было завоевано[698]. Понятно, переговоры были прерваны, но не совсем.
На следующий день (19-го июля) был у послов папский нунций Антоний Поссевин, которого они приняли с большими почестями: они вышли ему навстречу из своего шатра на далекое расстояние и при всяком упоминании имени папы привставали со своих мест. Однако все убеждения Поссевина заключить мир не увенчались успехом[699]. Послы стояли на своем, не отступая ни на иоту от своих последних предложений. Когда Поссевин, возвратившись к королю, доложил ему о результате своего собеседования с послами, им снова была дана аудиенция Баторием, но уже прощальная. От имени короля виленский воевода объявил им следующее. Хотя король, принимая во внимание пренебрежение к своей особе от их князя, который присылает столь изменчивые предложения, чтобы протянуть только время, имел бы основание искать возмездия на их особах, ибо они по своим поступкам не послы, а шпионы, однако, будучи христианским государем, делать этого не желает; он предпочитает по отношению к ним милосердие жестокости. В Вильне они уступили уже было всю Ливонию; спор ограничивался только несколькими ничтожными городишками, из-за которых они посылали гонца к своему государю, подавая надежду, что и эти города будут их государем уступлены.
А в это время их государь послал своих людей опустошать королевские области, в которых они немало вреда произвели и немало людей невинных умертвили, чего король московским людям не делал; тех, которых он брал, он не убивал, а принимал на свою службу, если они того хотели; тех же, которые не желали, он без всякой обиды отпускал в свою землю. Хотя те, которые вторгнулись, не много нарадовались, так как получали достойное возмездие, лишь только встречались с королевскими людьми, но пусть и это будет им на радость. Король, взяв себе на помощь справедливого и всемогущего Бога, постарается возмездие получить не на их ничтожных особах и убогих людях, но на ком-то побольше. Дело идет уже не об одной ливонской земле, но о всех владениях их князя. Теперь пусть они бьют челом королю и идут себе свободно в свою землю.
Ударивши челом, послы отошли, не сказав ни слова[700]. При иных условиях Баторий поступил бы с послами, после оскорбительного письма, которое он получил от Иоанна, иначе: он отправил бы их назад, не допуская более к совещаниям о мире. Но в ту минуту ему пришлось считаться с разного рода обстоятельствами. В распрю его с царем вмешался папа, прислал к нему посредника, и он, как добрый католик, не мог оставить без всякого внимания того, чего желал от него глава католической церкви. Во-вторых, среди ближайших людей, окружавших его, замечалось колебание по вопросу о войне. Были такие, которые высказывались за необходимость заключать мир на тех условиях, которые в последний раз предлагал Иоанн. Если идти в пределы московского государства, – говорили они, – придется там зимовать, но для царя – это дело пустое, а у Речи Посполитой нет денег. Как же быть при таком положении с солдатами?[701] Наконец, самым важным обстоятельством для Батория представлялось то, что армия не была еще готова к бою. Но опыт предшествующих лет показал королю, что сборы на войну совершаются медленно, и поэтому он нарочно затягивал переговоры до тех пор, пока вся армия не соберется. А за оскорбления, нанесенные ему Иоанном в письме, он ответил тоже письменными оскорблениями. По поручению Батория, ответ Иоанну составил Замойский.
По оскорбительности выражений ответ этот оставил далеко за собою письмо Иоанна. Король припоминал, подобно царю, ход событий со вступления своего на престол, опровергал те обвинения, которые царь возводил на него, и, в свою очередь, обвинял его в клятвопреступлении, ненасытности и высокомерии, прибавляя к этому еще сильные выражения об разврате и жестокости царя. Иоанну достаются такие прозвания, как «ядовитый клеветник чужой совести и плохой страж своей собственной», «палач людей, а не государь» «Каин», «Фараон», «Фаларис», «Ирод» «Нерон»; жизнь его, обычаи и дела называются гнусными и языческими; приводятся такие изречения, как метать бисер перед свиньями и т. п.[702]
В заключение, издеваясь над трусливостью Иоанна, Баторий вызывал его на поединок. «Возьми оружие, – говорит король, – сядь на коня, сойдись со мною в избранный, урочный час, покажи, каков ты муж и насколько ты доверяешь правоте своей; рассудим наш спор мечом, чтобы меньше кровь христианская проливалась».
Мало того, вместе с письмом Баторий послал Иоанну сочинения, изображавшие московские нравы в непривлекательном виде, и жестокость царя самыми яркими красками[703].
Вместе с тем он спешил доказать правоту своего дела силою оружия. Надежды его на счастливый исход борьбы все более и более оживлялись, так как армия, хотя и медленно, однако увеличивалась. В Полоцке представлялись в прекрасном виде отряды слуцкой княгини, белгородских Татар, Бонера, накельского каштеляна и познанского подкомория.
21-го июля Баторий из Полоцка двинулся в Заволочье скорым маршем, проезжая в день по восьми миль. Ехать пришлось, как и прежде, через обширные леса, но теперь без всяких затруднений, ибо дороги была исправлены, через реки перекинуты мосты, а в болотистых местах устроены гати[704]. Жизнь Батория во время пути отличалась поразительной простотою. Свита его состояла из нескольких лиц, обозного и подскарбия. На ночлег разбивали ему небольшой шатер, в котором не было ни скамьи, ни стола. А когда приходилось подавать королю пищу, устраивались наскоро импровизованные стол и скамейка из кольев, которые вбивались в землю, и досок, которые клались на колья. Ковра не было и в помине. Вместо матраца клали королю на ночь или тогда, когда он хотел отдохнуть, березовые листья и хворост[705]. Так он доехал до Заволочья, беспокоясь только о том, что солдаты слишком медленно собираются. Особенное нерадение выказывали в этом отношении Литовцы, полагаясь на то, что путь им недалек, или отговариваясь тем, что не было денег на снаряжение[706]. Но 28-го июля жмудский староста Ян Кишка представил королю отряд в 300 всадников, хорошо одетых и вооруженных.
Бойница в стене Псковского кремля
В Заволочье Баторий устроил военный совет, чтобы определить окончательно цель похода. Предстояло, собственно, решить только альтернативу, направляться ли к Новгороду или к Пскову. Завладеть тем или другим пунктом значило принудить врага к принятию условий мира таких, какие именно были желательны для Батория. Идти к Новгороду было невыгодно или даже опасно по следующим соображениям. Путь к нему лежал дальше, чем к Пскову, а потому с большим войском и тяжелою артиллериею достичь его было гораздо труднее, и, во-вторых, отступление от него, в случае неудачной осады, весьма опасно, ибо в тылу армии не было поблизости ни одной крепости[707].
Итак, решено было идти к Пскову. Невдалеке от него, на расстоянии не больше 16 миль (non amplius miliaribus sedecim), находилась крепость Воронеч, принадлежавшая уже Баторию; поэтому сообщение с Псковом было гораздо легче, так как к тому же поблизости находились удобные пути. Со взятием Пскова отрезывался врагу доступ к большей части Ливонии, и, кроме того, можно было внушить ему сильный страх и причинить большой вред, потому что город славился своим богатством и многолюдством[708]. Если бы осада Пскова затянулась, решено было зимовать, а продовольствие добывать набегами на неприятельские области[709]. Поднят был также вопрос о крепостях, лежавших поблизости к Пскову, из которых самыми важными являлись Себеж, Опочка и Остров.
Первая отделена была от пути, по которому должен был совершаться поход, обширными, непроходимыми лесами, вследствие чего опасность с этой стороны представлялась ничтожною, и, напротив того, труд, который пришлось бы потратить на взятие этой крепости, громадным, поэтому решено было не трогать ее. Такое же решение принято было и относительно Опочкипо следующим причинам: во-первых, ее было легко обойти; во-вторых, представлялись немалые затруднения для перевозки артиллерии по реке Великой вследствие ее мелководия в тех местах, и, наконец, являлась возможность наблюдать за Опочкою из крепостей Заволочья и Воронеча[710]. Наблюдение это сделалось особенно легким, когда Русские покинули замок Красногородок, взяв из него с собою артиллерию, и сожгли замок Келию. Первый тотчас заняли Баториевы казаки и укрепили его[711].
Таким образом, оставался один только Остров, которым необходимо было завладеть для собственной безопасности. Исполнение этого предприятия было поручено, как мы узнаем ниже, Замойскому.
В Заволочье Баторий оставался до 3-го августа. Здесь представился ему отряд литовских Татар в 600 человек под начальством Гарабурды. Сюда же приезжал к нему из Витебска от троцкого каштеляна ротмистр Зебржидовский с известием о том, что московский отряд, совершивший нападение на оршанскую область, уже возвратился в Дорогобуж и что на восточной границе спокойно. Вследствие этого троцкий каштелян просил короля позволить ему соединиться с главной армией. Просьба эта не понравилась королю, так как с уходом отряда, которым командовал Радзивилл, восточная граница лишалась защиты. Однако, по ходатайству литовских сенаторов, которые получили от каштеляна письма по этому делу, желание его было удовлетворено. Король приказал Радзивиллу взять с собой отряды Филона Кмиты и Гарабурды, вторгнуться в московские области по направлению к Дорогобужу, а оттуда на Белую и Торопец двинуться к Холму и остановиться здесь, чтобы охранять отряды фуражиров от неприятеля, когда главная армия станет под Псковом[712].
Прибыв из Заволочья в Воронечь, Баторий издал правила о военной дисциплине, которые были затем прочтены всем ротмистрам. Обсудив, с королевского разрешения, этот военный устав, они одобрили его, за исключением только статьи, запрещавшей воинам уезжать из лагеря домой по своей собственной надобности. Ротмистры обещали остаться и на зиму в неприятельской земле, если будет надо, но просили отменить указанную статью. Кроме того, они выразили желание узнать наконец, кто будет великим гетманом, и в заключение просили еще раз, чтобы им уплачивалось следуемое жалованье. На это от короля они получили такой ответ: король соглашается удовлетворить их первую просьбу; что касается назначения гетмана, то по этому делу он предварительно посоветуется с сенаторами, а что касается уплаты жалования, он приложит все старания, чтобы оно исправно выдавалось воинам[713].
После этого Баторий призвал к себе Замойского и предложил ему должность великого гетмана коронного. Замойский начал было отказываться от такого высокого сана, ссылаясь на важность обязанностей, соединенных с этою должностью, и на свою неподготовленность к исполнению ее и просил, чтобы король передал ее кому-нибудь другому. Но Баторий не хотел и слушать об отказе. Тогда Замойский принял ее, говоря, что он должен повиноваться Богу и королю, к чему он бы ни был призван, к славе или к новым опасностям[714].
На следующий день (11-го августа) произошло объявление Замойского великим гетманом коронным. Король сообщил свое желание сенаторам; те одобрили его. Тогда надворный маршал Андрей Зборовский объявил об этом всем ротмистрам. Замойский произнес благодарственную речь, в которой опять указал на тяжесть возложенных на него обязанностей. «Я скорее готов был бы идти на штурм, – сказал он, – чем исполнять подобную должность»[715]. Назначение это вызвало некоторое недоумение, ибо маршал не упомянул, провозглашая Замойского гетманом, о том, на какой срок он назначается, – временно, на предстоящую только кампанию, или пожизненно. Но все догадывались, что это назначение – пожизненно. Выбор короля оказался, как увидим, весьма удачным, и все это понимали. В первый уже день своего гетманства Замойский в обращении своем к ротмистрам заметил, что он будет поддерживать неукоснительно строгую дисциплину в армии, хотя бы это подчас и для него самого было весьма больно[716].
Вслед за тем Баторий произвел смотр собравшимся войскам. Новый гетман сам устанавливал полки и роты, объезжая их в одеянии со знаками достоинства канцлера и гетмана: в красной шляпе, украшенной пером, с печатью на шее и со знаменем на копье. Войско оказалось довольно многочисленным, хорошо было вооружено и, несмотря на утомительный поход, имело бодрый вид[717]. Особенно выдавался своим блестящим видом отряд Замойского, солдаты которого носили в этом году уже не траурные, как прежде, а голубые одежды[718]. Литовцы привели с собой, как и прежде, тоже прекрасные отряды[719].
В тот же день, после смотра, армия выступила в поход двумя колоннами. Справа двинулись Литовцы, к отряду которых король присоединил еще свою гвардию под командой Нищицкого. Разделение на две колонны произведено было вследствие того, что пришло известие, будто отряд Татар в 7000 человек находится в стороне от того тракта, по которому двигалась Баториева армия. Литовцы должны были прогнать этого неприятеля. Известие оказалось верным. Но Татары, узнав, что против них выступило многочисленное войско, отступили к Пскову.
Авангардом главного корпуса, состоявшим из четырех рот конницы и двух рот пехоты, командовал радомский каштелян Станислав Тарновский. Ему приказано было идти под Остров и попытаться завладеть этой крепостью. За Тарновским следовал брацлавский воевода Збаражский со своим отрядом и частью Венгров. Он имел поручение опередить Тарковского, идти под Псков и, соединившись здесь с Литовцами, не пропускать подкреплений в город[720].
Спустя два дня (15-го августа) выступил в поход Замойский; за ним на следующий день двинулся король, за которым в арьергарде следовал Фаренсбах со своими Немцами.
Армия от Воронеча шла по стране населенной, изобиловавшей съестными припасами, так что лишений не приходилось испытывать. Но крестьяне с приближением врага убегали из своих деревень; оставались только весьма немногие.
По пути Баториевой армии лежала, как нам известно, крепость Остров. Она находилась на острове, образовавшемся вследствие разветвления реки Великой, построена была из камня, имела толстые стены, на которых по углам возвышались четыре башни, и на вид казалась неприступной[721]. Когда жители Острова узнали, что враг уже близок, они сожгли, по обыкновению, город, при чем погибли две церкви и три мельницы, и сами ушли в крепость, где был еще весьма красивый храм[722].
Под крепостью стоял уже четыре дня радомский каштелян, но попытки взять ее, как это ему было поручено, пока не сделал. Со своим полком он занял псковскую дорогу, а Уровецкий, командир двух пешних рот, входивших в состав его отряда, переправился через реку Великую и подвел шанцы ближе к крепостным стенам.
17-го августа прибыл к Острову Замойский, осмотрел, не сходя с лошади, крепость и, выбрав место для лагеря, вернулся назад к королю. Так как на вид замок казался неприступным, то осмотреть его пожелал сам Баторий, приехав с этою целью к Острову вместе с Замойским еще вечером в тот же день, долго осматривал крепость и только поздно ночью возвратился назад в свой лагерь[723].
На следующий день Замойский двинулся к Острову, а Баторий остался на месте. Явившись к крепости, гетман послал гарнизону грозную грамоту с требованием сдачи. Осажденные ответили на это требование мужественным отказом. «Почему вы себе не построили своих собственных замков? – кричали они. – Зачем приходите занимать наши? Но тут вам не Заволочье и не Невель»[724].
Затем они стали стрелять по неприятельским шанцам и отряду Замойского, старавшемуся занять позицию как можно ближе к замку. Во время этой перестрелки отряд Уровецкого потерял сорок человек убитыми. Расположившись лагерем, Поляки и Венгры в ночь с 18-го на 13-е августа устроили шанцы, поставили орудия и рано утром, на рассвете, стали обстреливать крепость[725]. Венгры действовали против восточного угла крепости, Поляки – против западного. В течение двух дней тем и другим удалось сделать пролом в обстреливаемых ими башнях, так что можно было идти на приступ, и Венгры готовы были броситься уже в крепость, но от нападения удержал их Замойский: он предвидел, что осажденные сдадутся без приступа, а потому желал сберечь силы своей армии[726].
Расчеты Замойского оправдались. Осажденные понадеялись сначала на свои каменные стены; они знали, что Баторию удавалось до сих пор зажигать только деревянные замки, но полагали, что в каменных они безопасны. Однако надежды их оказались тщетными: в стенах сделаны были проломы. Это привело осажденных в такое уныние, что они сдались на милость победителя (вечером 21-го августа). Им позволено было уйти из крепости со всем своим имуществом. Те, которые пожелают отправиться к своему государю, получили обещание свободного пропуска под прикрытием военных отрядов на протяжении нескольких миль; тем, которые останутся в своих деревнях, обещано королевское покровительство. В крепости оказалось 100 человек боярских детей, 200 стрельцов, жителей вообще 1500 человек, 5 пушек, много гаковниц и рушниц, а пороху столько, что победители возвратили себе с излишком тот, который они издержали при обстреливании крепости. Так как наступила уже ночь, то победители оцепили крепость стражей, чтобы никто оттуда не ушел[727].
На следующий день Русским приказано было уходить из крепости. Когда они оттуда вышли, солдаты бросились на них и ограбили до последней сорочки, так что на несчастных побежденных жалко было смотреть[728].
В Острове Баторий оставил венгерский гарнизон, что вызвало неудовольствие среди Поляков, ибо они приписывали себе главную заслугу при взятии крепости, а потому считали отдачу ее Венграм несправедливым поступком со стороны короля. По этому поводу накельский каштелян стал угрожать даже, что поднимет об этом вопрос на сеймиках[729].
После взятия Острова Баториева армия двинулась в тот же день дальше к Пскову; ей пришлось идти теперь по стране бедной, покрытой кустарниками и весьма мало населенной.
Между тем авангард армии, которым командовал брацлавский воевода[730], стоял уже под городом Псковом; он прибыл сюда 20-го августа[731]. Переправившись через реку Череху, Венгры, входившие в состав авангарда, разделились на три отряда. Один из них отправился прямо ко Пскову, а два остальных скрылись в засаде. Первый отряд, встретившись с неприятельским объездом, стал отступать. Тогда объезд пустился преследовать его, но осторожно, ибо боялся засады. Опасения его оказались основательны. Он наткнулся на одну из засад, устроенных врагами. Однако Псковитяне не испугались ее, так как они увидели, что численностью превосходят врага. Вследствие этого они стали преследовать его с еще большим рвением, но встретились со второй засадой, которая остановила преследующих и заставила обратиться в бегство под защиту крепостных стен[732].
Во время этого боя захвачены были в плен два сына боярских[733]. Их отправили к королю. Подвергнутые допросу, они дали такие показания относительно состояния Пскова. В крепости находится 2500 стрельцов, 1000 всадников, 500 донских казаков и гарнизоном командуют Шуйские, дядя с племянником[734].
24-го августа прибыли под Псков передовые отряды главного корпуса Баториевой армии и начали уже разбивать палатки на берегах реки Черехи, как прискакал к Замойскому радомский каштелян Станислав Тарновский и заявил, что брацлавский воевода находится в опасности, ибо Псковитяне сделали вылазку из города и теснят воеводу. Збарайский просит прислать ему подкрепления. Замойский, слушавший в это время обедню, бросился из походной часовни искать коня, но не мог его долго найти, потому что свита его не была еще на своей позиции. Он послал за ротами, которые были еще в пути, и приказал как можно скорее идти на помощь воеводе. Воины бросились переправляться через реку Череху, при чем утомили сильно лошадей, и понапрасну. Оказалось, что Збаражский пустился на хитрость, чтоб выманить псковский гарнизон из-за стен города и нанести ему чувствительный удар. С этой целью он спрятал часть своего отряда в кустарниках, находившихся на некотором (3 версты) расстоянии от города, а с другой частью направился на крепость. Когда отсюда бросились на него Татары, они стали отступать к кустарникам. Нападавшим грозила большая опасность из устроенной воеводой засады. Но Венгры не выдержали: они кинулись преждевременно на Татар. С крепостных стен открыли пальбу по неприятелю. Татары отступили под защиту выстрелов с крепостных стен, и стратегема воеводы потерпела неудачу. Поляки сильно роптали за нее на Венгров[735].
25-го августа Замойский переправился со своим отрядом на другой берег Черехи. Переправу пришлось совершить вброд, так как мостов не было и Псковитяне могли причинить немалый вред врагу при этой переправе; однако благоприятными для себя обстоятельствами они не воспользовались и позволили неприятельскому войску совершить спокойно переправу.
Осада Пскова войсками Стефана Батория в 1581–1582 гг. Художник Б. А. Чориков
После этого Замойский посвятил весь день на осмотр города, причем он подъезжал к нему весьма близко, не обращая внимания на опасность, которая ему угрожала от неприятельских выстрелов: в него несколько раз стреляли из пушек. Мало того, неприятель мог захватить его даже в плен. Когда польский гетман подъехал к городским воротам, против него выслали из города отряд всадников. Твердость спасла Замойского: он остался на своем месте. Видя это, Псковитяне заподозрили, не кроется ли тут какая-нибудь засада, остановились в недоумении, а между тем на выручку польского гетмана поспешили его солдаты и враги принуждены были удалиться в крепость[736].
На следующий день после Замойского переправился через Череху и Баторий, приказав предварительно отыскать получше броды и установив особенных надзирателей за тем, чтобы переправа совершилась в надлежащем порядке. С той стороны Черехи остался только Фаренсбах со своим немецким отрядом. Баторий задумал было расположиться лагерем над речкой Нековкой, так как местность, находившаяся здесь, ему понравилась; он послал уже туда один полк. Но из города началась такая пальба, что от намерения устроить в этом месте лагерь пришлось отказаться.
Замойский и в этот день производил тщательный осмотр окрестностей Пскова, чтобы выбрать подходящие места для лагеря и укреплений[737].
Город Псков делился рекою Великой, текущей с юга на север, и Псковой, впадающей здесь в р. Великую в направлении.
Повесть преславна сказаема о пришествии Пресвятыя Владычицы и т. д., Псков, 1878, стр. 324 относит осмотр города к 26-му августа и рассказ об осмотре ведет иначе: вследствие пальбы из крепости враги не были в состоянии осмотреть укрепления, объезжая их полями, а потому Баторий велел своим воинам ехать лесом. Но выстрелы Псковитян и сюда долетали и многие враги были убиты. Так как осмотр укреплений нельзя было производить из лесу, то надо признать, что автор Повести по крайней мере перепутал рассказываемые факты, если не выдумал их. с востока на запад, на три части: Завеличье, находившееся на левом, западном берегу р. Великой, Запсковье, лежавшее на правом, северном берегу Псковы, и собственно город, расположенный между р. Великою и Псковом. Завеличье представляло собою самое древнее, вероятно, поселение; оно никогда не было обнесено крепостными стенами[738]. Они шли только вокруг Запсковья и собственно города; кроме того, внутри последнего были также стены, которыми он делился на четыре части: детинец, Домантову крепость, средний и окольный город. Укрепления Пскова возникали в следующем порядки. Прежде всего был построен детинец при самом впадении р. Псковы в Великую; он имел вид треугольника. Затем были проведены вдоль этих рек стены, которые князь Довмонт соединил в 1266 г. поперечной каменной стеной. Так образовалось к югу от детинца особое укрепление, называвшееся Домантовой крепостью. Затем, когда население возросло, к югу от этой крепости были сооружены снова вдоль р. Великой и Псковы две стены, которые посадник Борис соединил в 1309 г. между собою новой поперечной стеной из камня. Таким образом возник город, который стал называться потом средним. К нему примкнул наконец окольный город[739]. В XVI в. городские стены были уже все каменные и представляли собою весьма внушительные сооружения, толщиной в две или 2/2 и высотою в три сажени. Кроме того, на них высились еще высокие (до 10 сажен) и толстые (12 саж., в диаметре) круглые башни, число которых простиралось до 37. Для нашего рассказа особенно интересны две из них, Покровская и Свинусская, находившаяся на наружной стене окольного города, первая у самой р. Великой, вторая на некотором расстоянии от первой к востоку. Башни состояли из нескольких (5,6) ярусов и были покрыты деревянными крышами, которые были также и над амбразурами в стенах. Наружная стена вокруг всего города простиралась в длину на 911/2 верст[740].
Численность гарнизона в крепости достигала 50 000 человек пехоты и 7000 конницы[741]. Сверх того, на помощь городу легко могли явиться войска из В. Новгорода, Ржева и других городов, ибо армия Иоанна была весьма многочисленна: она достигала 300 000 человек[742]. К этому надо прибавить еще и то обстоятельство, что Псков был снабжен в изобилии порохом, снарядами и продовольствием для войска[743].
Между тем вся армия Батория доходила только до 30 000 человек, следовательно, была по численности меньше псковского гарнизона. Поэтому о взятии Пскова штурмом нечего было и думать, тем более что пришлось бы брать четыре стены одну за другой, а то и более, так как после разрушения одной осажденные могли построить за ней другую[744]. Ввиду этого оставался один исход – приступить к осаде крепости. Но ведение осады представляло тоже весьма значительные затруднения. Чтобы успешно осаждать город, надо было иметь гораздо больше пехоты[745] и гораздо больше пороха. Баторий приготовил недостаточные запасы его, как это выяснилось из хода осады Пскова[746]. Вследствие этого осада должна была затянуться на долгое время; можно было предвидеть, что придется стоять под крепостью и зимою, отчего ведение кампании становилось еще затруднительнее. Солдаты служили, собственно, даром, только в надежде на получение жалованья, что, конечно, не могло располагать их к усердному исполнению обязанностей, и они легко могли разойтись по домам[747]. Положение было до такой степени затруднительно, что Баторий подумывал об изменении плана кампании, именно о походе под Новгород, но опасение встретить под этим городом новые затруднения удержало короля под Псковом[748].
Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием. Художник К. П. Брюллов
Баторий намеревался сначала расположить лагерь на реке Псковке. С этой целью он отправил уже туда часть своего обоза и полк гнезненского каштеляна, но пальба, открытая неприятелем, принудила оставить пока это намерение[749], а затем Баторий и совсем от него отказался. Слишком открытая местность, не дававшая возможности ни устраивать засады, ни придвинуть лагерь близко к крепости, и опасение, что неприятель может легко окружить со всех сторон отряды солдат, производящие осадные работы, побудили короля принять такое решение, хотя Замойский и указывал на выгодные стороны позиции с этой стороны города. Канцлер думал, что здесь можно будет поставить эскадроны всадников в извилинах реки Псковки, что, растянув как можно шире лагерь, весьма легко будет отрезать осажденным доставку подкреплений и подвоз провианта и что тут хорошо устраивать траншеи и подкопы, ибо почва отличается рыхлостью, между тем как с других сторон города она камениста[750]. Но Баторий был иного мнения. Местность к востоку от города, за речкой Промежицей, в расстоянии четырех верст от стен Пскова, показалась ему позицией гораздо более удобной для лагеря. Это место, у монастыря Св. Пантелеймона, и теперь называется «Становищем»[751].
Пока король и гетман осматривали окрестности, войско оставалось за рекой Черехой. 27-го августа прибыли новые отряды солдат: герцог Курляндский прислал 150 всадников, Фаренсбах привел 1600 пехотинцев и 150 всадников. Король послал в город письмо с увещанием сдаться добровольно. Осажденные приняли письмо и заявили, что дадут ответ через пять дней. Это заявление осаждающие сочли за хорошее предзнаменование, но ошиблись, в чем они убедились уже на следующий день. Когда (28-го августа) Венгры отправились на указанное королем место, из крепости сделано было на них нападение. Тогда бросились на нападающих рейтары, находившиеся под командою Собоцкого, несколько человек убили и ранили, и четырех стрельцов поймали в плен. Последние при допросе сказали, что Шуйские постановили защищаться до последней крайности и что в городе всего вдоволь[752].
В этот день армия Баториева расположилась лагерем. Сначала прошли все роты и эскадроны Литовцев и стали на правом фланге, за ними Поляки заняли середину и окружили свой лагерь тремя рядами телег, наконец Венгры расположились на левом крыле, у самой реки Великой. Фаренсбах прикрывал дефилирующие войска со стороны крепости, и затем расположился между Литовцами и Поляками[753].
Псковитяне не сделали днем ни одного выстрела во врагов, но зато ночью произвели ожесточенную стрельбу по неприятельскому стану, однако причинили ему ничтожный вред: убиты были один Немец из Фаренсбахова отряда и королевский возница.
Днем 29-го августа между осажденными и осаждающими произошли небольшие стычки. Некоторые воины из Баториевой армии, чтобы выказать свою удаль, подступали слишком близко к крепости и подвергали себя таким образом немалой опасности; и действительно, одни из них поплатились жизнью, а другие захвачены были в плен неприятелем. Псковитяне стреляли из своих пушек громадными ядрами, иногда весом более 50-ти фунтов. Это обстоятельство возбуждало в короле сильную тревогу, ибо у него являлось опасение за то, что обыкновенные осадные прикрытия, устраиваемые для защиты от неприятельских выстрелов, не устоят против ударов подобных ядер.
Замойский считал вышеназванные стычки бесполезной тратой сил, а потому запретил производить их. Вступать в подобного рода сражения с врагом, говорил он, это все равно, что желать опрокинуть стену копьем или пробить ее головою; лезть на неприятельскую пулю не доказывает отнюдь мужества. Кто хочет сослужить службу Речи Посполитой и королю, пусть подождет штурма и внесет свое имя в список тех, которые будут в нем участвовать. Не следует также посылать под крепостные стены фуражиров; за продовольствием будут отправляться в окрестности города некоторые роты по очереди. Все должны подчиняться военному уставу, который напечатан для всеобщего сведения, а офицеры обязаны смотреть за тем, чтобы солдаты в точности установленные правила исполняли. Заместителем своим Замойский назначил брацлавского воеводу, потому что он сам не мог поспевать всюду, где присутствие начальника было необходимо. Кроме того, чтобы разрешать споры, которые могут возникать между воинами, в особенности между представителями различных национальностей, канцлер учредил особые суды для каждой народности с правом апелляции к гетманам и к королю[754].
После этого Замойский приказал свозить хворост и плести корзины, чем армия занята была в течение трех дней. Потом, в ночь с 1-го на 2-ое сентября солдаты начали проводить траншеи: Венгерцы вдоль реки Великой против Покровской башни, Поляки поблизости от них против Свинусской[755]. Они успели в одну ночь приблизиться к самым стенам крепости, причем работу свою производили так тихо и осторожно, что враги заметили происходящее только в полночь. Тогда они открыли учащенную стрельбу, которую не прекращали до самого утра; утром же они попытались сделать вылазку, но неудачно. Потери осаждающих при этой перестрелке оказались ничтожны: четыре убитых и несколько раненых[756].
Работа над устройством траншей продолжалась четыре дня (2, 3, 4, 5 сентября)[757], причем пришлось употребить на это немало труда, так как почва в некоторых местах была камениста[758]. Солдаты работали с замечательным усердием, преодолевая все затруднения и не смущаясь опасностью, угрожавшею им со стороны неприятеля, который, желая уничтожить возводимые укрепления, то производил выстрелы из орудий ядрами весом подчас в 70 фунтов, то скатывал громадные камни, то бросал раскаленные ядра в неприятельские траншеи. При этом Псковитяне, осыпая по обыкновению врагов бранью, говорили: «Где тут вам победить нас! Вы увидите, что мы вас зароем в тех ямах, которые вы под нами копаете, как собак».
От неприятельских выстрелов солдаты, устраивавшие траншеи, прикрывались турами. Видя, что выстрелы со стен и башен мало причиняют вреда осаждающим, Псковитяне сделали отверстия в стенах, поставили здесь пушки и отсюда стали производить стрельбу, но она и теперь была безуспешна: ядра или не долетали до укреплений, или перелетали через неприятельские траншеи. Больше всего страдали Баториевы солдаты от раскаленных ядер, бросаемых из крепости, однако своих осадных работ не прекращали. Работали только Венгерцы и Поляки, а Немцы уклонялись от работ, заявляя, что они возьмутся за них, когда им будет уплачено жалованье. Уклонение это и отказ вызывались нуждою, которая доходила у Немцев до того, что они не стыдились даже побираться; от голодания стала развиваться среди них большая смертность.
Замойский проявлял во время осадных работ свою обычную энергию, распорядительность и неустрашимость, что должно было, конечно, подбодрить солдат[759].
Так проведено было пять траншей вдоль и семь – поперек, причем траншеи были так соединены, что солдаты легко могли сообщаться между собой и подавать друг другу помощь[760]. В ночь с 5-го на 6-ое сентября осаждающие начали ставить в траншеях орудия, а 7-го открыли по городу пальбу[761]. Польские и венгерские батареи имели по 8 пушек, но стрельба производилась только с трех батарей, одной польской и двух венгерских; кроме того, Венгры стреляли с батареи, устроенной за рекою Великою. Поляки, под командой Уровецкого, направляли выстрелы в стену возле Свинусской башни, Венгры, под командой Борнемиссы и Иствана, возле Покровской[762]. Канонада велась непрерывно и ожесточенно, стены лопались и рассыпались, и от сыпавшегося щебня дым стоял столбом. Осажденные стреляли тоже энергично, но были принуждены удалить орудия с тех башен, которые обстреливались осаждающими.
Венгры сделали брешь в стене раньше Поляков, ибо последние должны были потратить больше времени на проведение траншей вследствие того, что пришлось устраивать их на гораздо большем расстоянии, защищать фланги от неприятельских выстрелов и производить канонаду в крепость с той целью, чтобы согнать с многочисленных башен их защитников. Венгры готовы были тотчас же броситься на приступ в сделанный ими пролом, а Баторий готов был дать на это свое согласие. Но Замойский был того мнения, что гораздо безопаснее будет подождать до тех пор, пока Поляки сделают со своих батарей тоже пролом в стене и что пока это не воспоследует, надо разузнать, расширив выстрелами еще более сделанную брешь, удобно ли через нее войти в город. Мнение канцлера было принято, хотя некоторым отсрочка штурма казалось вредной ввиду того, что недостаточный запас пороха скоро мог совсем выйти[763]. Так Поляки сделали тоже пролом в стене. Между тем Венгры все рвались на приступ. Чтоб подействовать на короля, привели к нему какого-то гайдука[764], который заявил, что ему удалось подкрасться к бреши, сделанной Венграми, что он осмотрел ее со всех сторон и думает, что взобраться в нее по грудам мусора, навалившегося у нее вследствие выстрелов, будет весьма легко. Замойский, Фаренсбах и Вейер не особенно верили словам гайдука и советовали королю послать сперва к проломам для осмотра несколько десятков надежных солдат, а потом уже решать вопрос, идти ли на приступ или нет. Король последовал этому совету.
Псково-Покровская икона Божией Матери. В память о чудесном заступлении Богородицы за Псков во время осады его войсками Батория в августе 1581 г.
Когда в лагере стало известно, что готовится приступ, тотчас же явились охотники, усердие которых королю весьма понравилось. Они одевали на латы белые сорочки, вывешивали перед своими палатками знамена, чтобы дать знать о себе другим и таким образом привлечь побольше участников. Каждый из них в белой сорочке, с обнаженным мечом ходил к своим товарищам, прощался с ними и писал завещание. Так осаждающие готовились к приступу[765].
А осажденные в это время усердно молились и делали приготовления к отражению неприятельского нападения. Духовенство, находившееся в городе, обнесло вокруг стен чудотворную икону Успения Богородицы, осенило крестом и окропило святой водой те места в стенах, где сделаны были проломы[766]. Воеводы же у деревянной стены, устроенной внутри каменной, поставили орудия и расположили стрельцов против самых проломов. У Свинусских ворот энергично распоряжались князья Андрей Иванович Хворостинин и Иван Петрович Шуйский; они созвали военный совет, на котором порешили биться с врагами до последней возможности[767].
Между тем Замойский составил следующий план нападения. Он разделил войско, которое должно было принять участие в штурме, на три отряда: разведочный, собственно штурмовой и резервный. Одна часть разведочного отряда (20 человек Поляков) получила приказание разузнать, как можно пройти в город, а другая часть (50 Немцев) – подкрасться к самому пролому, осмотреть его и, если возможно через него взобраться в город, подать криком сигнал, чтобы по этому сигналу штурмовые колонны могли начать приступ. Эти последние расставлены были в определенных местах и определенном порядке: впереди всех Пенионжек и Оржеховский со своими копейщиками, за ними Уровецкий с пищальниками, далее Станислав Стадницкий с эскадроном всадников, Выбрановский и Сирней со своими ротами и отдельно от них Юрий Мнишек с конницей. Солдаты, находившиеся в резерве, должны были оставаться у батарей и ожидать здесь распоряжений гетмана.
Около полудня в лагере Батория раздался барабанный бой. По этому сигналу вся кавалерия выехала из лагеря и окружила город, а штурмовые колонны заняли свои позиции. Король остановился над рекой Великою, у венгерских траншей, в довольно безопасном месте. Вскоре после того произведен был залп из орудий и ружей, чтобы согнать со стен стрельцов. Поляки разведочного отряда отправились исполнять данное им поручение, возвратились назад и донесли, что хотя город окружен рвом, но пройти в город можно, так как через ров перекинут мост[768].
Узнав это, Венгры не выдержали. Они бросились сразу на приступ, за ними Немцы, а за последними Поляки. У рва, где солдаты столпились, произошло замешательство, вследствие чего многим показалось, что брешь слишком мала и что через нее войти в город невозможно. Несмотря на это, Венгры первые заняли ту башню, которую они обстреливали, и вывесили на ней четыре знамени[769]. Вслед затем Поляки, во главе с Пенионжком и Стадницким, ворвались во вторую брешь и захватили Свинусскую башню. Этот быстрый натиск навел сначала на Псковитян страх и они пустились было бежать от врагов, но вскоре опомнились, возвратились назад и принялись отражать неприятельское нападение, возбужденные на этот подвиг угрозами и слезными просьбами своего вождя Ивана Шуйского и видом мощей, икон и хоругвей, которые вынес им навстречу игумен Тихон, совершивший богослужение в соборной церкви Св. Троицы[770].
Тогда на осаждающих посыпался град пуль, камней и поленьев. Те из нападающих, которые взобрались на башни, увидели перед собой множество врагов и поняли, что завладеть городом нет никакой возможности. Они очутились в критическом положении. Псковитяне начали стрелять с других башен в Свинусскую и сбили с нее крышу, но без всякого вреда для Поляков, которые возле нее находились, а затем стали подкладывать порох под обе башни и зажгли их, чтобы окончательно погубить врагов[771]. Под Свинусской башней пламя сильно разгоралось, и Поляки должны были отступить[772], Венгры же продержались до самого вечера. Потери нападающих были значительны: одних Поляков было убито по крайней мере 500 человек, кроме того, пало много Немцев и Венгров, и очень многие получили раны от каменьев, кольев и топоров[773].
«Из описания штурма видно, что он был делом случая и не мог никоим образом увенчаться успехом, ибо хотя новый ров и новая стена и составляли преграды, которых нельзя было преодолеть, однако, надо было приготовиться, чтобы завладеть ими, надо было заготовить фашины и лестницы и выдать соответственные распоряжения, а все это не было сделано»[774]. Можно предполагать, что Баторий решился сделать этот рискованный шаг только вследствие того, что положение его армии было затруднительно, так как она не была снабжена достаточным количеством пороха, и потому не мог рассчитывать на скорое взятие города[775].
Потери осажденных были еще более: 863 убитых и 1626 раненых[776]. Псковитяне легко могли бы укрываться от неприятельских выстрелов за валом, вследствие чего потери были бы меньше. Поэтому можно думать, что увлекаемые пылом сражения и радостью вследствие победы над врагом, они бросались в бой слишком опрометчиво, а потому и жертв принесли больше, чем следовало[777].
Неудача штурма[778] привела осаждающих в уныние, которое еще более усилилось оттого, что после штурма почувствовался сильный недостаток пороха, вследствие чего пришлось прекратить обстреливание города[779]. На следующий день созван был военный совет для того, чтобы обсудить дальнейший план действий. Замойский предложил Баторию несколько десятков центнеров пороху и 300 пуль; кроме того, решено послать за порохом в Ригу и к герцогу Курляндскому[780]. Неудача 8-го сентября убедила и Венгров, что взять Псков приступом нет никакой возможности, а потому постановлено было принудить город к сдаче осадою, т. е. придерживаться того плана, который намечался уже в самом начале кампании и который несомненно имелся в виду самим Баторием. Замойский разделял взгляды короля. Кроме того, он советовал отпустить домой волонтеров, ибо они не могут, по его мнению, выносить продолжительной службы и все равно уедут из армии, когда начнут испытывать лишения, происходящие от продолжительной осады и суровой зимы; между тем с отпуском их уменьшится численность армии, вследствие чего ее легче будет продовольствовать. Однако Баторий с этим мнением Замойского не был согласен: он опасался, что уменьшение армии усилит надежду осажденных на освобождение и сделает врага менее сговорчивым относительно условий мира, вследствие чего он не захочет уступить всей Ливонии[781]. Предположения Батория оказывались справедливыми. Псковитяне сильно обрадовались тому, что успели отразить приступ. На следующий день после него они повесили на городской стене пленного Венгерца и так кричали по адресу осаждающих: «А, что? Видите, как висит ваш Венгерец? Так и всех вас повесим». Грозили далее, что повесят самого короля, приговаривая: «что это за король у вас? не имеет ни зелья, ни денег; приходите только к нам, у нас и зелья и денег и всего много». И как бы в доказательство этого, они производили днем и ночью стрельбу в неприятельский лагерь, не нанося ему особенного вреда, ибо портили только осадные корзины.
Удачное отражение штурма придало новую бодрость осажденным. Они начали деятельно работать над укреплением своего города. Так, против проломов в городской стене поставлена была новая деревянная стена с многими башнями, проведены новые рвы и в них поставлен дубовый острог, заготовлены материалы для ограждения неприятельских приступов, между прочим, сеянная известь, чтобы засыпать глаза врагам[782]. Сделана была также попытка увеличить число защитников города принятием тех подкреплений, которые были высланы из Москвы. Но об этом узнали осаждающие.
Когда Замойский получил известие (15-го сентября)[783], что с другой стороны города движутся на судах по реке Великой московские отряды с намерением проникнуть в Псков, гетман поставил там стражу, лично осмотрев местность. Несмотря на это, два московских судна проскользнули в город. Тогда Замойский, по приказанию короля, поставил у берегов реки две барки и поместил в одной из них отряд немецких пехотинцев в 100 человек, а в другой в 60[784]; кроме того, на берегу расположен был караул из польских солдат, а река заграждена бревнами и цепями[785].
В ночь с 16-го на 17-е сентября московский отряд пытался на 17 судах пробраться в город, но наткнулся на заграждение в реке и был разбит стражею. Многие Москвитяне успели высадиться на противоположном берегу реки, но были встречены здесь венгерским караульным отрядом, который обратил их в бегство и стал преследовать. В погоню за бежавшими посланы были и польские всадники. В этой схватке некоторые из побежденных были убиты, другие утонули; 150 человек боярского рода попали в плен, в том числе и один воевода, другой погиб в сражении[786]; захвачены были и все суда, за исключением одного, которому удалось ускользнуть из неприятельских рук.
На следующий день король с Замойским осмотрел местность, где произошла схватка, и приказал устроить новое заграждение на реке. Оно было необходимо ввиду того, что на островах Псковского озера укрывалось несколько тысяч Москвитян, которые могли доставлять продовольствие осажденным[787].
После штурма в лагере Батория наступило время затишья: крепости нельзя было обстреливать за недостатком пороха[788]. Осаждающие занялись устройством подкопов в трех местах, производя два подкопа без особенных предосторожностей от врага, чтобы отвлечь его внимание от третьего подкопа, о существовании которого и в Баториевом лагере немногие знали. Узнав от перебежчика из неприятельской армии[789], где устраиваются первые два подкопа[790], Псковитяне повели им навстречу свои собственные, ниже неприятельских, и взорвали последние на воздух[791]. Но и работа в тайном подкопе потерпела полную неудачу, ибо рабочие наткнулись на скалу, которую невозможно было пробить, так что дальнейшее ведение подкопа пришлось прекратить[792].
Осаждающие должны были ограничиться одною простою осадою, стеречь, чтобы не проходили подкрепления в город, и отражать вылазки из него. Так как можно было предвидеть, что осада будет тянуться долго, король и именитейшие люди построили себе дома для защиты от холода[793]. Положение Баториевой армии становилось затруднительно: прошел какой-нибудь месяц от начала осады, а королевские войска начали уже испытывать недостаток в сене, овсе, вообще в продовольствии, так что приходилось за всем этим посылать далеко, на расстояние десяти миль от лагеря[794]. Солдаты начинали поговаривать, что они служить будут только до срока, обозначенного уговором. Вина за неудачи сваливалась на Замойского; строгость его вызывала неудовольствие и ненависть. Говорили, что он не умеет командовать. «Надо было довольствоваться одним пером, – заявляли недовольные, – а гетманское достоинство оставить в покое».
А тут к довершению беды Замойский как раз заболел в это время, не выходил почти совсем из шатра в продолжение двух недель, вследствие чего не мог отдавать никаких распоряжений[795]. Дисциплина в войске начала ослабевать: ротмистры позволяли себе устраивать собрания, на которых поговаривали, что следует мимо гетмана обращаться прямо к самому королю. Выздоровевший гетман вовремя положил конец этому нарушению воинской дисциплины[796].
Осажденные не воспользовались затруднительным положением врага, чтобы нанести ему чувствительный удар. Они действовали нерешительно, боязливо, ограничиваясь стрельбою по неприятельскому лагерю или непродолжительными вылазками, которые особенного вреда осаждающим не причиняли[797], между тем как можно было поставить врага в весьма тяжелое положение, сделав нападение с двух сторон, из города и с островов Псковского озера, где находились целые деревни[798].
В это время Иоанн послал Пскову новое подкрепление под предводительством Никиты Хвостова, с приказанием проникнуть в город во что бы то ни стало. Отряд, состоявший из 700 стрельцов, направлялся из Новгорода[799].
Осаждающие узнали об этом заблаговременно из писем Хвостова, перехваченных при пересылке во Псков[800]. Тогда Замойский поставил с той стороны города, откуда мог явиться Хвостов, сильную стражу из литовских волонтеров, которые сами изъявили желание занять здесь сторожевые посты[801]. Московский воевода намеревался проникнуть в Псков со стороны озера Пельба. Поэтому он некоторое время держался на одном из островов, находившихся на этом озере, затем двинулся на лодках вперед и 2-го октября высадил свое войско на берег. Литовская стража заметила эту высадку и стала бдительно следить за врагом. Заметив это, Хвостов поспешил укрыться в соседний лес, чем обманул до некоторой степени врагов. Бдительность их ослабела, вследствие чего передовой московский отряд, числом до 100 человек, под начальством Даниила Исленьева[802], мог пробраться в суровую темную ночь в город. Между тем сам Хвостов сильно отстал от своего авангарда, потому что, как человек тучный, мог подвигаться пешком слишком медленно. Выйдя на рассвете из леса, он спрятался в траву, чтоб враги не заметили его, и имел намерение при наступлении ночи проникнуть во Псков. Но вечером 3-го октября он был захвачен в плен отрядом волынского воеводы Андрея Вишневецкого. Тогда московские стрельцы разбежались и спаслись от врагов, но 15 человек попали в плен[803].
Такую же попытку проникнуть в город со стороны озера сделал ночью 6-го октября и московский воевода Федор Мясоедов. Когда воины его, высадившись на берег, начали было уже подкрадываться к городским стенам, раздался сигнальный звук трубы на одном из караульных постов, литовская стража вместе с польскою, находившеюся под начальством Белявского, бросилась на Москвитян, многих убила и 150 человек взяла в плен; остальные, человек около 500, вместе с Мясоедовым спаслись бегством[804].
Между тем положение осаждающей армии становилось все хуже и хуже. Весь сентябрь стояла прекрасная погода, но с 1-го октября начались морозы, от которых сильно страдали солдаты, не имевшие теплой одежды. Не хватало также и дров, из-за которых между солдатами происходили иногда положительные драки. Мало того, в лагере стали происходить грабежи и воровство; особенно бесчинствовали Венгерцы[805]. Дисциплина в войске могла исчезнуть окончательно. Надо было положить конец этому злу. С этою целью Замойский призвал к себе ротмистров (9-го октября) и указал им на ряд нарушений воинской дисциплины. Офицеры устраивают сходки без его ведома и выражают неудовольствие на его власть, заявляя, что они со своими жалобами будут обращаться прямо к королю. Но он гетман, а потому он должен обо всем знать, все обсудить и доложить об этом, если сочтет нужным, королю. Пусть каждый заявит о своих нуждах сейчас или на следующий день, а он выслушает их и удовлетворит, если это возможно.
Ротмистры просили отложить рассмотрение их жалоб до следующего дня. Они жаловались на то, что у солдат нет тулупов и сапог, вследствие чего солдаты коченеют от холода и не в состоянии владеть оружием. Лошади изнурены от голода; кроме того, хватают их на фуражировках Москвитяне, крадут Венгерцы и Литовцы. Старые солдаты домогались исполнения королем обещания относительно раздачи им открывшихся вакансий на различные должности в награду за шестилетнюю службу. Жалобщики указывали еще и на то, что караулы содержатся беспорядочно, что не бывает их в некоторых местах по 4–5 дней[806].
Замойский дал обещание некоторые жалобы офицеров удовлетворить, о других же жалобах сделать доклад королю. «Прежде всего необходима нам, – сказал гетман в заключение, – стойкость при добывании этого города». Король не желает доводить воинов до безысходного положения; чего нельзя будет сделать, он оставит, ибо понимает, что желать потерять войско и голодом уморить может только глупец. Когда необходимо будет, король не преминет обратиться за советом не только к сенаторам, но и к офицерам, чтобы решить вопрос, как вести дело дальше. Теперь он того мнения, что к армии надо присоединить войско троцкого каштеляна, который пододвигается уже к Порхову; он-то и поможет исполнять караульную службу. Что касается уплаты жалованья, Замойский обещал доложить об этом королю и помочь в этом деле каждому. «Двери моей квартиры, – окончил свою речь гетман, – всегда для каждого открыты, хотя бы он и ночью ко мне постучался». Слова Замойского подействовали на офицеров: они приободрились и выразили готовность дать свой совет относительно того, как дальше вести осаду[807].
Тогда Баторий устроил несколько совещаний с сенаторами и с ротмистрами, но из этих совещаний ничего не выходило. Мнения высказывались самые разнообразные. Одни советовали сделать новый пролом в стене и попробовать счастья при помощи нового штурма. Другие вооружались против этого мнения, на том основании, что неудача повлечет за собою еще большие потери и покроет армию позором. Иные, особенно Литовцы, настаивали на том, что необходимо отступить, ибо солдаты не перенесут морозов и недостатка в продовольствии[808].
Положение Баториевой армии осталось тяжелым и после того, как привезли порох из Риги, ибо количество его было незначительно, так что энергические действия против осажденной крепости были невозможны. А войско, между тем страдавшее от холодов и недостатка продовольствия, уменьшалось вследствие смертности, усилившейся в его рядах[809].
Положение чуть-чуть улучшилось, когда прибыл из своей экспедиции под Псков Христофор Радзивилл.
Баторий послал троцкого каштеляна еще в начале (10-го) июля из Дисны к Днепру для отражения неприятеля, опустошавшего могилевскую и шкловскую области[810]. Но Москвитяне ушли вскоре в свои пределы, и Радзивиллу нечего было делать в тех местах. Тогда он стал просить короля, чтоб тот ему разрешил преследовать отступающих врагов[811]. Баторию не хотелось оставлять приднепровскую границу беззащитною, а потому он весьма неохотно согласился удовлетворить просьбу Радзивилла[812]. По инструкции, данной королем, последний должен был идти к Дорогобужу, отсюда повернуть к крепости Белой, остановиться на некоторое время между нею и Торопцом, затем засесть у Холма до тех пор, пока главная армия не подступит к Пскову, и, таким образом, развлекать силы врага[813].
Радзивилл выступил в поход из Витебска 5-го августа[814] по направлению к Дорогобужу, но, узнав по пути, что окрестности Великих Лук, Усвята и Велижа опустошаются московскими войсками, повернул к Велижу. Поход был весьма затруднителен: приходилось прокладывать дорогу через леса по весьма топким местам, так что лошади не раз проваливались в трясины и с трудом из них выбирались[815]. Навстречу Радзивиллу выступил из Великих Лук Филон Кмита с 2000 всадников[816] и 600 татар, бывших под начальством Гарабурды[817]. Оба вождя встретились у Покровского монастыря, на берегах реки Немези, в расстоянии 10 верст от Торопца[818].
Тут литовские фуражиры захватили в плен двух московских разведчиков, которые сообщили литовским военачальникам, что в трех милях от них находятся русские войска. Тогда Радзивилл выслал против врагов отряд в 700 легко вооруженных всадников, под начальством Богдана Огинского[819].
Авангард этого отряда встретил на своем пути четыре караульных поста Москвитян; с трех постов он весьма легко согнал неприятелей, но на четвертом принужден был выдержать небольшое сражение; московские караульные отряды бежали к своему войску, которое дало такой сильный отпор нападавшим врагам, что они были бы разбиты наголову, если бы на помощь не явился начальник одного польского эскадрона Спытка Иордана. Русские не выдержали нового натиска и обратились в бегство, а враги их преследовали. Во время этого сражения пало 100 Москвитян[820].
От пленников Радзивилл и Кмита узнали, что значительные вооруженные силы неприятелей собраны под Ржевом[821]. Тогда литовские предводители решили повернуть к этому городу, чтоб попытать здесь военного счастья. Они разделили свой семитысячный отряд на три части: на левом фланге шли пешие казаки, на правом литовские Татары под начальством Гарабурды, а середину занимали Радзивилл и Кмита с литовскими и польскими ротами. Чтобы облегчить движение экспедиции, взяты были только небольшие орудия, а телеги оставлены. Экспедиция двигалась с остановками: один день она шла вперед, а другой отдыхала, причем казаки и Татары беспощадно опустошали окрестный места[822]. Так экспедиция подошла близко ко Ржеву[823], нигде не встречая сопротивления и тревожимая только незначительными засадными отрядами врага. Затем Радзивилл повернул в сторону, на Зубцовский ям, высылая вперед отряды, которые пододвигались к московскому войску у Ржева на расстоянии двух миль. Остановившись под Зубцовом, у Волги, в расстоянии пяти миль от неприятельского войска, литовский предводитель стал поджидать врагов, но они не являлись[824].
Стефан Баторий под Псковом. Художник Я. Матейко
Тогда он отправил татарский отряд, под начальством Алимбека, за Волгу, по направлению к Старице, где в то время находился сам Иоанн. Татары произвели страшное опустошение огнем и мечом в окрестностях Старицы, и притом пододвигались к городу так близко, что царь видел своими собственными глазами из окон дворца зарево пожаров от пылавших вокруг селений[825]. Нападение это сильно напугало Иоанна: он услал ночью из Старицы свою жену и сыновей и хотел сам бежать[826]. Войско, находившееся при нем, было весьма незначительно: он отправил 3000 человек на помощь Ржеву[827], не предполагая очевидно, чтобы враги осмелились напасть на самую Старицу, вследствие чего у него осталось только 700 человек[828]. С такими силами начинать борьбу с врагом было трудно. Иоанн выслал предварительно разведчиков, чтобы узнать, как велики силы неприятеля. Разведчики узнали, что враг держится настороже и расположился в укрепленном месте; во время рекогносцировки они захватили несколько Татар и неприятельских фуражиров[829]. Сведения, доставленные Иоанну разведчиками, были таковы, что он не решился отражать нападения врагов, так как он был напуган к тому же бегством своего постельника Даниила Мурзы, который мог сообщить врагам сведения о затруднительном положении царя. Но Мурза представил силы Иоанна в таком виде[830] Радзивиллу, что последний, боясь превосходства этих сил, отвергнул дерзкий план, составленный Филоном Кмитою.
Последний предлагал воспользоваться замешательством царя, напасть на него и захватить его в плен[831]. Но Радзивилл не последовал совету Кмиты. Он повернул к Холму, как этого требовала инструкция, данная экспедиции Баторием. По пути экспедиция сожгла деревни Оковцы и Селижарово[832], обратила в бегство московский отряд, шедший из Торопца, и разбила наголову другой у какой-то Павловой горы[833]. У истоков Волги и Двины Радзивилл отдыхал несколько дней, чтоб произвести возможно лучше рекогносцировку местности[834]. После этого он отправился к Дубну[835], где нанес поражение торопецким стрельцам. Опустошив окрестности Торопца, он двинулся к Холму, а отсюда по берегу Ловати к Старой Руссе. Под этот город Радзивилл отправил отряд в 400 всадников, которые разбили московское войско (численностью в 1500 человек), находившееся под начальством князя Оболенского, и самого воеводу захватили в плен[836]). Из-под Старой Руссы литовский вождь повернул к Порхову[837] и отсюда прибыл под Псков, где его торжественно встретили Литовцы, с его отцом, виленским воеводой, во главе[838].
Экспедиция Радзивилла была простым набегом, который на ход целой кампании 1581 года оказал ничтожное влияние.
С прибытием троцкого каштеляна положение Баториевой армии улучшилось в том только смысле, что тяжесть сторожевой службы сделалась нисколько легче, ибо повинность эту исполняли теперь и прибывшие воины. Но вообще Баториева армия находилась в пренеприятном положении. Что было делать? По этому поводу происходили частые совещания. Замойский убеждал переждать, выбрать из двух зол меньшее, претерпеть лучше холод и голод, чем отступить с позором. Литовцы настаивали на своем желании возвратиться домой; они назначили даже срок в 18 дней, по истечении которых собирались удалиться из лагеря. По мнению Замойского, подобное решение представлялось безрассудным, ибо оно могло ободрить врага. А между тем есть надежда, что осажденные через месяц, через два начнут страдать от голода; тогда им придется удалить чернь из города, останутся только воины, а их в Пскове немного, и дело осады пойдет легче. Морозов нечего так уж сильно опасаться. Теперь по замерзшим болотам, рекам и озерам фуражиры могут туда отправляться за продовольствием, куда раньше они не были в состоянии достигнуть; поэтому съестные припасы и одежда будут, тем более что король послал в Ригу и Вильну требование к купцам, чтобы они привезли сукно и тулупы.
Баторий говорил в таком же духе. Он засел здесь под Псковом не для того, чтобы погубить свою армию, от сохранения которой зависит его собственная честь и достоинство; уничтожить войско – значит вонзить нож в свое собственное сердце. Необходимо переждать… Стоит занять нам новгородскую дорогу, – говорил король, – и осажденный город очутится в критическом положении, ибо он из Новгорода получает продовольствие и подкрепления. Стоит взять нам Порхов и Печерский монастырь, и войско наше будет иметь всего в изобилии, ибо за Порховом, около Старой Руссы, многолюдные и богатые селения.
Несмотря на эти доводы, Литовцы твердили одно и то же, что они не в состоянии долго оставаться, и прибавляли, что чем дальше, тем положение королевской армии будет хуже, а условия для неприятеля будут становиться лучше, ибо с наступлением зимы он будет получать новые вооруженные силы, которые летом с трудом могли являться. Литовские сенаторы советовали отложить ведение войны на будущее лето, когда лучше всего воевать с Москвитянами. Поляки заявляли, что они готовы оставаться до тех пор, пока только будет существовать возможность. Король просил не определять срока для снятия осады, а устроить новое совещание, когда явится надобность[839]. При помощи убеждения и примера королю и его гетману удавалось поддерживать мужество в войске. Замойский не раз лично бывал у самых траншей, в сфере неприятельского огня, подвергая свою жизнь опасности[840]. Кроме того, Баторий и Замойский прибегнули к одному еще средству, чтобы поддерживать бодрое настроение в армии. Пущен был слух о том, что будет устроен новый приступ, а для большей убедительности стали делать соответственные приготовления. 27-го октября возведена была за рекой Великой на два орудия батарея, с которой начали громить городские стены. Уже на следующий день было сделано отверстие, но слишком узкое; кроме того, оказалось, что у неприятеля за каменной стеной находилась еще деревянная, шириною в сажень, отчего задача устроить пролом делалась еще труднее. Тем не менее Венгры работали над устройством пролома весьма энергично. Осажденные, по обыкновению, доблестно отражали врага, осыпая его пулями, каменьями и обливая кипятком. Превосходство было на стороне осажденных: на один выстрел неприятельский они отвечали десятью. У осаждающих мало было и пороху, и пуль, вследствие чего приходилось стрелять изредка.
8-го ноября удалось венгерскому вождю Борнемиссе разрушить часть стены при помощи залпа из орудий. Венгры бросились в пролом, начали стрелять в неприятелей, многих убили, но этой перестрелкой дело и ограничилось, ибо нападающие встретили перед собою сильные преграды, хотя и взяли частокол и туры. Заметив между турами много мешков с солью, Баториевы солдаты хватали ее и тащили к себе в лагерь, ибо она была редкой приправой для их пищи[841].
На следующий день король приказал объявить армии, что так как добыть крепость трудно, то он решил оставить солдат на зимних квартирах в неприятельской стране. Сам же он поедет в Польшу, чтобы привезти оттуда и денег и подкреплений.
Это объявление вызвало сильное волнение в лагере. Одни обещали остаться, если будут иметь хорошие зимние квартиры; иные заявляли, что должны возвращаться домой, так как лошади пали, прислуга разбежалась и дальнейшее пребывание повлечет за собою для них большие потери. Были и такие, которые кричали, что не двинутся с места, пока им не будет уплачено жалованье. Замойский пригласил к себе почти всех ротмистров на пир, чтобы успокоить как-нибудь волнение, возникшее в армии при известии об отъезде короля. Но и это средство не подействовало сначала. Солдаты оказывали явное неповиновение и пренебрежение своим начальникам. Уплата жалованья прекратила бы волнение, но денег не было. Из Варшавы привезли незначительную сумму в 60 000 злотых, которой едва хватило на жалованье Венграм и Немцам. Позвали ротмистров к королю, который старался убедить их в необходимости зимовать под Псковом. Что денег нет, – говорил он – в этом виноваты сборщики податей, которые нерадиво исполняют свои обязанности. Но лучше претерпеть, нежели подвергнуть себя большой опасности отступлением от Пскова. Псков – ворота в Ливонскую землю, а поэтому, если принудить к сдаче этот город, вся эта земля достанется в наши руки без пролития крови. На зимних квартирах всего будет в изобилии, ибо выбраны они в многолюдных и богатых селениях. Он остался бы при войске, если бы не отзывали его в Польшу весьма важные дела, которые не могут быть решены в его отсутствие. Убеждения Замойского и Батория подействовали на армию. Волнение постепенно улеглось, и армия согласилась зимовать под Псковом. Успокоению волнения содействовало также известие, что скоро начнутся переговоры о мире, следовательно, являлась надежда на скорое окончание военных действий. Войско решило даже ввиду этого остаться на месте, не уходить из лагеря на зимние квартиры[842].
Стены Псково-Печерского монастыря
Таким образом, миновал кризис, который мог бы оказаться гибельным для Батория, если бы армия ушла из-под Пскова, но теперь участь Ливонии была решена: она должна была остаться в руках победоносного короля[843].
Желая облегчить доставку армии продовольствия, Баторий задумал взять Печерский монастырь, являвшийся сильною помехою этому. Монастырь представлял собою значительную крепость, с каменной стеной и башнями. Он находился в 56-ти верстах от Пскова, вблизи тракта, который вел из этого города в Ригу[844].
В монастыре стоял гарнизон из 200 стрельцов: кроме того, было немалое количество простого люда[845]. Монастырь доставлял немало хлопот Баториевой армии. Русские производили из него нападения на королевских фуражиров, отнимали обозы и грабили купцов, везших товары[846].
28-го октября король выслал к монастырю немецких и польских всадников, под начальством Фаренсбаха, на рекогносцировку местности. Если монастырь взять легко, Фаренсбах должен был обратиться к королю за пехотой и артиллерией[847]. Начало этого предприятия было удачно. Фаренсбах разбил под монастырем московских стрельцов, положив на месте до 80 человек и взяв несколько в плен[848]. Король послал ему на помощь немецкую пехоту и три орудия. Началась канонада, от которой часть монастырской стены обрушилась. Осаждающие пошли на приступ, но безуспешно. Осажденные, священники, иноки и простые люди, взяв икону Богородицы, стали у пролома и мужественно отбили нападение[849]. Вместе с другими стал взбираться на стену и племянник Курляндского герцога, Вильгельм Кетлер, лестница обломилась, он упал за монастырскую стену и, таким образом, очутился в плену у неприятеля[850]. Баторий послал Фаренсбаху новое подкрепление, под командою Борнемиссы[851]. Обстреливание монастыря производилось теперь уже из семи пушек, и спустя два дня сделан был новый пролом в стене. Осаждающие бросились снова на приступ, но опять были мужественно отбиты. Очевидно, силы осаждающих были не на столько велики, чтобы они могли сломить доблестное сопротивление осажденных, воодушевляемых к тому же религиозным чувством, верою в чудесное покровительство вышних сил[852].
Герцог Курляндский Вильгельм Кетлер. Портрет конца XVI–XVII вв.
Таким образом, Баторию не удалось сделать свободною доставку армии продовольствия и оно по прежнему доставлялось с большими затруднениями.
Между тем положение войска под Псковом ухудшилось еще более, когда из лагеря уехал король (1-го декабря); вместе с ним и за ним отправились многие отряды, так что численность войска значительно уменьшилась. 4-го декабря произведен был смотр оставшимся военным: в коннице насчитано 7000 человек и она представлялась в довольно хорошем виде; только среди прислуги было много больных. Пехота находилась в гораздо худшем состоянии; к тому же значительная часть ее разбрелась[853].
Опасаясь, чтобы Псковитяне не воспользовались отъездом короля и уменьшением армии и не произвели сильного нападения врасплох на оставшееся войско, Замойский принял необходимые меры предосторожности: он усилил караулы. Но опасение оказалось излишним. Осажденные производили свои обыкновенные вылазки, которые только беспокоили противника, но не могли причинить ему значительного вреда[854]. Надо предположить, что и положение осажденных было весьма незавидное. О состоянии Пскова получались в лагере осаждающих противоречивые известия. То говорилось, что в городе господствует нужда и свирепствует сильная смертность[855], то заявлялось, что город имеет всего в изобилии. Последним известиям осаждающие не верили, думая, что осажденные нарочно распускают такие слухи, чтоб производить смущение в лагере осаждающих[856].
На основании получаемых известий Замойский рассчитал, что Псков вследствие недостатка в продовольствии и в подкреплениях будет в состоянии продержаться едва до мая месяца. Положение армии Замойского было так печально, что гетман думал удалить часть солдат из-под Пскова и содержать их грабежом в окрестных областях. При этом он предполагал, что ему удастся или завладеть Печерским монастырем, городами Порховом и Гдовом, или занять дороги, идущие из последних городов и Пскова к Новгороду. В том и другом случае Псков должен был очутиться в осадном кольце[857]. Но приводить этот план в исполнение Замойскому не пришлось: как ни страдали солдаты от голода и холода, гетману удалось удержать их на месте. Он старался развлекать их различного рода военными предприятиями, которые вместе с тем давали понять и врагу, что рассчитывать на беспечность противника он не может. На дороге, которая вела из Пскова в Печерский монастырь, Русские хватали в плен многих солдат из лагеря Замойского, особенно фуражиров, которые своевольно бродили по окрестностям, приближаясь иногда и к городским стенам. Замойский решил устроить в одном месте вблизи города засаду на врагов, для чего местность, покрытая холмами и прорезанная долинами, оказывалась весьма подходящей. Однажды утром, еще до рассвета, он укрыл в одной долине роту Станислава Жолкевского и 30 своих солдат, а в другой – венгерских всадников. Вместе с тем он приказал проехать мимо города на телеге двум своим служителям, остановиться и сделать вид, будто они поправляют телегу, чтобы этим маневром выманить неприятелей из города. Однако хитрость не удалась, ибо Псковитяне по случаю торжественного праздника св. Николая вылазки в этот день не произвели (6-го декабря). Но на следующий день стратегема гетмана увенчалась успехом. Отряд Псковитян бросился на одного офицера, ехавшего на другой берег реки Великой; тот помчался на коне спасаться от врагов и привел их в засаду. Из нее выскочили Венгры и Поляки и разбили нападавших наголову: 20 человек убили, многих ранили и девять человек взяли в плен[858].
За это поражение кн. Шуйский задумал отомстить врагам таким же способом, т. е. и он постарался завлечь их в засаду. С этой целью он перевел некоторые орудия на противоположную стену города и спустил их низко, затем скрыл в засаде отряд пехотинцев в 1000 человек и многих всадников и стал производить небольшие вылазки, чтобы выманить врагов на бой, увлечь их притворным бегством своих воинов и, таким образом, заманить их в засаду. Две роты солдат Замойского стояли на караульных постах. Узнав о вылазках Псковитян, Замойский поставил на страже еще третью роту и после того, предостерегши солдат о том, что существует засада, ударил на врагов, которые были бы совершенно уничтожены, если бы не находились близко от городской стены, за которой они спаслись, за исключением одного, убитого во время схватки[859].
Такими небольшими стычками ограничивались военные действия под Псковом, а в его окрестностях легкие отряды Замойского производили опустошения и при помощи грабежа доставляли своей армии продовольствие. Узнав по слухам о том, что в Новгороде собираются московские войска, чтобы идти на выручку Пскову, Замойский выслал под Новгород на рекогносцировку нисколько эскадронов под командой Иордана Спытка. Силы в Новгороде оказались незначительны: пять полков, притом весьма плохо вооруженных. Но и эти войска могли бы причинить немало вреда армии Замойского, если бы только действовали смелее. Гетман хотел занять важнейшие дороги в окрестностях Пскова, чтобы прервать сообщение с ним других городов, но не мог этого сделать, так как солдаты плохо слушались его распоряжений и указанных пунктов не занимали, а собирались там, где было больше продовольствия, между прочим, к югу от Старой Руссы[860].
Неудачна была также для Замойского и осада Печерского монастыря. Замойский попытался было склонить монахов и гарнизон путем обещания различных милостей, но безуспешно. Осада монастыря затянулась до конца войны[861].
Но в общем даровитый и энергичный гетман преодолевал самым замечательным образом встречавшиеся затруднения, а росли они с каждым днем все больше и больше. С 20-го декабря начались столь сильные морозы, что караульные падали замертво с лошадей[862]. В лагере стали свирепствовать простудные болезни и смертность усилилась[863]. Для облегчения участи солдат Замойский принял следующие меры: он уменьшил число караульных постов и стал сменять их чаще, четыре раза в сутки, но вместе с тем он усилил надзор за службой караульных отрядов, чтобы от их беспечности, которая могла произойти из желания избегнуть холода, не пострадала безопасность лагеря[864].
Узнав об уменьшении числа и численного состава сторожевых постов, Шуйский задумал произвести нападение на неприятельский лагерь, питая надежду завладеть им. Не располагая достаточным количеством конницы, он приказал Псковитянам, у кого только были лошади, доставить их в его распоряжение, и таким образом составил отряд в несколько сот всадников[865]. Получив от разведчиков известие, что неприятельские караулы на той стороне реки Великой незначительны, он выслал туда 200 всадников с приказанием напасть на сторожевые отряды у Печорской дороги; в то же время часть пехоты была переправлена по льду в ином направлении и должна была ударить на врага с другой стороны. Шуйский рассчитывал, что неприятельские караулы, стоявшие у самого лагеря, бросятся через реку на помощь своим, оставят беззащитным лагерь и тогда можно будет легко завладеть им. Предусмотрительность Замойского не позволила Шуйскому осуществить этот план. Гетман отдал солдатам приказание не вступать в бой с врагом, а отступать перед ним и держаться, насколько это возможно, в лагере. Он надеялся таким образом внушить врагу уверенность, что можно смело производить вылазки и подальше от города. Рассчитывая на удачу своего плана, Шуйский выслал из города пехоту под начальством воевод Михаила Косецкого, Григория Мясоедова и Константина Поливанова, одну часть на венгерские, другую часть на польские укрепления, и расположил конницу в определенных местах для прикрытия пехоты. Сначала произошло так, как думал Шуйский.
Сторожевой отряд, стоявший на берегу реки Великой, бросился, со своим начальником Лаврентием Скарбком, через нее, лишь только заметил, что враги стараются окружить караульный отряд, находившийся на противоположном берегу реки, под командою Оринского (числом в 30 всадников); на помощь этому отряду поспешил также Иван Кретковский с эскадроном Станислава Пржиемского, а затем и другие отряды, соответственно распоряжениям, сделанным заблаговременно Замойским. Последнее обстоятельство испортило совершенно план Шуйского. Скарбок и Кретковский окружили неприятельскую пехоту с тылу, а в это время другие польские и венгерские отряды напали на врага спереди и обратили его в бегство. Убито было во время сражения до 300 человек, много ранено и с лишком 30 взято в плен[866].
Потери Замойского были незначительны: несколько человек убитых и раненых[867].
Зная, что после сражения Псковитяне готовы будут ночью выйти из города, чтобы подобрать и похоронить тела своих убитых, Замойский приказал следить за этим Уровецкому, Пильховскому и Гостынскому[868]. Однако ночь прошла спокойно и только на следующее утро сделана была Псковитянами попытка унести мертвых. Увидев сторожевые эскадроны Мартина Леснёвольского, Псковитяне поспешно возвратились назад в крепость. Затем они обратились к Замойскому с просьбой разрешить им совершить погребение убитых, на что тот согласился[869]. По этому поводу между противниками начались переговоры. На место свидания с посланными от Пскова явились из польского лагеря Станислав Жолкевский, Телятовский (или Телятецкий) и Мельхиор Завиша.
Псковитяне вздумали было воспользоваться этим моментом, чтоб умертвить представителей Замойского. С этой целью произведен был в них залп из пищалей и орудий, но пуля попала только в Завишу, однако не ранила его.
Посланные Поляки ускакали, конечно, назад в свой лагерь и таким образом коварство Псковитян постигла неудача[870]. Однако это вероломство раздражало сильно противника[871]. За коварство Поляки решили отплатить коварством. Один офицер артиллерист, Иван Остромецкий, предложил Замойскому послать в Псков в виде подарка Шуйскому своего рода адскую машину[872]. Остромецкий заявлял, что при помощи этой машины можно будет жестоко отомстить врагам за их вероломство. Замойский отдал предложение Остромецкого на обсуждение ротмистров, которые убеждали гетмана не препятствовать Остромецкому приводить его замысел в исполнение. Удачное осуществление замысла уменьшит число перебежчиков в неприятельский лагерь и отобьет у врагов охоту к новым козням, что особенно будет полезно в нынешних весьма затруднительных обстоятельствах. На войне позволительны всякие способы борьбы с врагом, тем более что враг нарушает сам данное слово. Замойский отпустил Остромецкого, не выражая ясно своего мнения, не запрещая и не разрешая ему осуществлять свой замысел[873].
Тогда Остромецкий сблизился с одним московским пленником, уверив его в том, что он некто Иоанн Миллер[874], находившийся когда-то на службе вместе с Фаренсбахом у московского государя. Он помнит хорошо милости к себе последнего и хочет теперь опять перейти к нему на службу, совершив дело, которое освободит Псков от осады. Для этого необходимо отнести этот ящик Шуйскому и открыть его в присутствии: князя. Пленник поверил словам Остромецкого и исполнил все так, как последний ему приказал. Ящик был вскрыт псковскими военачальниками, причем, конечно, произошел взрыв, от которого погибло несколько человек.
Распространился слух, что убит и Шуйский, но на следующий день в лагере Замойского появилось письмо князя, обвинявшее гетмана в том, что он желал предательски умертвить его. Замойский вызвал за это Шуйского на поединок, назначив место для него между своим лагерем и крепостью, и приказал в виду города пронести на копье свою гетманскую шапку с перьями. Увидев ее с башни у реки Великой, Псковитяне быстро скрылись в городе[875].
Так продержался Замойский до окончания войны шесть ужасных недель: от сильных морозов, недостатка в одежде и продовольствия развились в лагере болезни, от которых чуть ли не большая часть армии страдала[876], а польский гетман все сидел под Псковом… Если доблестная защита кн. Шуйским и его воинами Пскова умерила требовательность Батория и ускорила заключение мира, то с другой стороны столь же удивительная стойкость польского гетмана и его войска способствовала тому, что главная цель войны была достигнута Баторием: Ливония отнята у Иоанна.
VII. Запольский ям
Переговоры в Запольском яме велись при посредничестве Рима, вследствие чего борьба из-за Ливонии в царствование Стефана Батория приобрела еще более важное историческое значение: она сделалась одним из весьма интересных эпизодов в истории стремлений папства к господству над миром. Желая играть, подобно средневековым папам, роль руководителей христианства, папы XVI века пытались устроить обширный крестовый поход против Турок, чтоб изгнать их из Европы и таким образом доставить кресту торжество над полумесяцем. К антитурецкой лиге Рим надеялся привлечь также и московских государей, причем он старался вместе с тем склонить их к унии с католической церковью. Григорий XIII, занимавший папский престол в рассматриваемую нами эпоху, продолжал политику своих предшественников. Уже в 1576 году папа вступил в сношения с московским посольством, отправленным к императору Максимилиану II, и намеревался выслать в Москву для осуществления вышеозначенной цели миссию, но папские намерения вследствие сопротивления императора потерпели неудачу[877]. Однако они сделались, таким образом, известны московскому государю[878]. Тогда у Иоанна возникла надежда на то, что посредничество папы может прекратить тяжелую для московского государства войну со Стефаном Баторием.
Положение Иоанна в 1580 году было весьма затруднительно. Польский король занимал все больше и больше московских земель, Шведы стали снова утверждаться в Эстонии, Дания готова была присоединиться к врагам московского государя, в казанской и астраханской областях могло вспыхнуть всякую минуту восстание[879]. При таких обстоятельствах Иоанну пришла мысль обратиться за помощью против Речи Посполитой к императору и папе; царь предлагал им союз против Турок под тем условием, что они постараются склонить к миру польского короля и убедить его в необходимости борьбы общими силами с бусурманами, непримиримыми врагами христианства[880].
В конце 1580 года отправлен был с этой целью в Прагу (где жил император Рудольф II) и Рим гонец Леонтий Истома Шевригин. Миссия его увенчалась успехом только у папы. Хотя Иоанн в письме к папе ни словом не затрагивал вопроса о церковной унии, однако Григорий XIII счел прибытие московского гонца в Рим за обстоятельство весьма подходящее для того, чтобы поднять именно этот вопрос, питая, очевидно, надежду на возможность осуществления унии, и решил выслать с этой целью в Москву особенного уполномоченного[881]. Выбор папы пал на иезуита Антония Поссевина, оказавшего уже католической церкви некоторые услуги в Швеции, куда он ездил с той целью, чтобы возвратить короля и целую страну на лоно католицизма[882]. Такая же задача была дана и теперь Поссевину. В секретной инструкции, которую он получил, чисто политические вопросы поставлены были на втором плане. Правда, ему поручалось склонять Стефана Батория к миру, так как от прекращения войны между христианскими государями зависел успех образования лиги против Турок, но вместе с тем предполагалось, что война может окончиться еще до прибытия Поссевина на место назначения, а потому как главная цель миссии указывалось заключение церковной унии. Поссевин должен был убедить Иоанна Грозного в истинности учения католической церкви и в неизбежности религиозного объединения всех народов на земле под главенством папы[883].
Папский уполномоченный выехал из Рима вместе с московским гонцом, но затем они расстались. Шевригин направился в Москву через Любек, желая таким образом избежать переезда через области Речи Посполитой, где его, по случаю войны, могли легко задержать, Поссевин же поехал в Польшу, чтобы исполнить поручения, данные ему папой к Стефану Баторию[884].
Польский король с неудовольствием следил за переговорами Иоанна с папой, так как он полагал, что царь желает восстановить против него главу католической церкви, чтоб повредить интересам государства, которым он управлял[885]. Эта подозрительность короля ставила римскую курию в затруднительное положение. Баторий легко мог отвергнуть ее посредничество, и тогда, конечно, все замыслы Рима обратились бы в ничто. Ввиду этого приходилось вести переговоры с королем о пропуске Поссевина в Москву через польские земли. Рим начал двойную дипломатическую игру. Царю папа обещал склонять Батория к миру[886], а короля поощрял к дальнейшим военным действиям и завоеваниям[887]. Игра увенчалась успехом: Баторий согласился пропустить Поссевина через свое государство, хотя вскоре затем раскаялся в том, что дал на это свое согласие, полагая, что в миссии Поссевина кроется против него злой замысел его врагов[888].
Вследствие этого положение папского легата в Польше становилось весьма затруднительным, но иезуиту удалось легко успокоить подозрительность Батория, горячо преданного интересам католической церкви; мало того, увлечь короля изображением той роли, которую суждено ему сыграть в мировой истории. Завоевав Ливонию, Баторий утвердит в ней католичество, а заключив мир с Иоанном, он совершит еще более великое дело, ибо подготовит почву для сближения восточной церкви с западной и таким образом будет содействовать торжеству католической церкви на земле. Баторию выпадает роль Карла Великого. Когда начнутся переговоры о мире, папа будет сочувствовать, конечно, католическому королю Польши более, чем иноверному государю, пользующемуся к тому же весьма дурной славой во всей Европе; если Баторий примет при этом посредничество папы и будет обращать внимание на его указания, он тем самым увеличит обаяние апостольского престола[889].
Поссевин прибыл к Баторию в то время, когда у него находилось московское посольство, с Пушкиным и Писемским во главе. Нам известен уже ход переговоров этого посольства с королем: Иоанн, уступавший сначала Речи Посполитой всю Ливонию, за исключением четырех пунктов, отказался потом от этого условия. Мы знаем также, что в переговорах принимал участие и папский легат, но безуспешно[890]. Переговоры были прерваны, война возобновилась и Баторий отправился осаждать Псков.
Между тем Поссевин поехал в Старицу, где тогда пребывал Иоанн. Результат переговоров папского посла с царем был только тот, что царь с радостью принял предложение последнего быть посредником между ним и Баторием[891]. Тогда Поссевин уехал под Псков в лагерь короля, куда он прибыл 5-го октября, приветствуемый с величайшей радостью армией осаждающих, которая вследствие затруднительного положения жаждала мира[892].
Легат вступил тотчас же в тайные собеседования с Баторием и его alter ego Замойским. Положение дел было таково, что оба руководителя Речи Посполитой понимали необходимость заключения мира в возможно скорейшем времени. Однако Баторий продолжал настаивать на своем обычном требовании уступки всей Ливонии, но соглашался уже отправить для ведения переговоров о мире и своих послов, если Иоанн пришлет своих. Поссевин постарался убедить царя в необходимости принять эти условия, изображая положение его весьма мрачными красками.
Царю приходится воевать с двумя врагами, польским и шведским королем. Шведы взяли Нарву, Иван-Город, Вейссенштейн (Белый Камень, Labidem Albam) и другие крепости; мало того, они вторгнутся во внутренние области московского государства, если Иоанн не поспешит заключить мир с Баторием. Псков находится в величайшей опасности. Подкрепления, которые посылаются городу, не достигают своего назначения. Между тем псковские воины умирают в большом количестве и от королевского оружия, и от болезней, и от душевного удручения. А тут король Стефан не только решил зимовать под Псковом, но собирается предпринимать летом будущего года поход во внутренние области Иоаннова царства. Рассчитывать на неудачный исход осады Пскова нечего, ибо вскоре будет привезено, по приказанию короля, большое количество пороху и много ядер из города Риги. Уступить Ливонию необходимо, и эта уступка не будет особенно тяжела для царя, так как при содействии папы можно будет выговорить у Батория свободный пропуск купцов из других христианских государств через Польшу и Ливонию[893], чего царь так энергично добивался.
Замок Германа в Нарве с башней Длинный Герман и крепость Иван-город
Письмо это произвело впечатление на Иоанна. Хотя известиям, которые сообщал Поссевин о силах Батория, царь и не верил особенно, продолжая еще питать надежду на то, что польский король будет принужден отступить от Пскова[894], тем не менее он понял, что рассчитывать на более удачный оборот дел нечего и что надо спешить мириться поскорее с одним противником, польским королем, чтобы затем расправиться с другим врагом, Швецией. Немедленно по получении вышеуказанного письма Иоанн «с царевичем князем Иваном и с бояры приговорил, смотря по нынешнему времени, что литовский король со многими землями и своейской король стоят с одного, с литовским бы королем помиритися на том: ливонские бы городы, которые за государем, королю поступитися, а Луки Великие, и Невль, и Заволочье, и Холм, и псковские пригороды, что король поимал, тех бы король поступился государю, и послов бы своих на съезд с литовскими послы государю послати, и папин бы посол Антоней тутож, на съезде был, а помиряся б с литовским с Стефаном королем стати на свейского и свейского бы не замиривати»[895].
Таким образом, Иоанн соглашался начинать переговоры о мире, назначал место, куда должны съехаться послы с той и другой стороны, Запольский Ям, но требовал, чтобы Баторий отступил со своей армией от Пскова: в этом требовании сказывалась, как мы знаем уже, и затаенная надежда царя на то, что возможно еще улучшение положения, и желание скрасить несколько для своего горделивого сознания печальную действительность[896].
Спешно было вследствие плохого состояния армии мириться и Баторию. Не дождавшись возвращения первого своего посланца Андрея Полонского, Поссевин, с согласия короля, отправил к царю с письмом второго, убеждая Иоанна опять в том, что возможно скорое заключение мира является для него неизбежной необходимостью[897]. Но новые убеждения были излишни: Иоанн уже после получения первого письма спешил выразить свою готовность мириться[898].
Несмотря на горячее желание мира с той и другой стороны, переговоры начались только в половине декабря. Проволочка эта объясняется условиями тогдашних способов сообщения: пересылки между Псковом и Москвой потребовали значительного времени[899]. Наконец послы Батория и Иоанна съехались в указанное место, Запольский Ям, небольшую деревню между Заволочьем и Порховом. Выбор этого пункта сделан был Иоанном и обусловлен требованием Батория: король соглашался отправить своих послов только под тем условием, если переговоры будут происходить недалеко от Пскова и вблизи границы его государства[900].
Во главе московского посольства стояли наместник кашинский князь Дмитрий Петрович Елецкий, наместник козельский Роман Васильевич Олферьев, дьяк Никита Басенок Верещагин[901] и подьячий Захарий Связев. Они получили наказ, педантически определявший, по московскому обыкновению, их образ действий и предвидевший, а вместе с тем и предрешавший ничтожнейшие недоразумения, какие могли возникнуть при переговорах. Однако полномочия послов были весьма обширны, и Иоанн обнаруживал большую уступчивость. На мало или несущественные обстоятельства послы не должны были обращать внимания. Хотя бы оказалось, что свита Баториева посольства превышает численностью московскую, что Баториевы послы избрали другой пункт вблизи от Пскова для съезда, а не Ям Запольский, что Антоний Поссевин, посредник между королем и царем, не желает или не может присутствовать, Иоанн наказывал своим послам все-таки вести переговоры дальше. Уступчивость Иоанна доходила даже до того, что он соглашался не писать себя в перемирной грамоте царем, если того будет требовать король, прибавляя, впрочем, следующие знаменательные слова: «которого из вечного государя как его не напиши, а ево Государя во всех землях ведают, како и он Государь». Иоанн не хотел только давать в своей перемирной грамоте Баторию титула «Ливонского» (Лифлянского), в чем сказалась затаенная мысль царя о том, что он продолжает лелеять надежду на завоевание Ливонии, когда обстоятельства будут для него благоприятнее. Иоанн соглашался уступить своему противнику эту страну даже на основании условий так называемого вечного мира, но называл эту уступку «конечной неволей» и приказывал послам испробовать все средства, чтобы отстоять хотя бы пядь земли в этой столь дорогой для него области.
Он не терял надежды приобрести гавани на берегу Балтийского моря в войне со Швецией, а поэтому запрещал своим послам включать шведского короля в мирный договор с Баторием[902].
Представителями польского короля были: брацлавский воевода князь Николай Збаражский, литовский маршал надворный Альберт Радзивилл и королевский секретарь Михаил Гарабурда. Им даны были ограниченные полномочия: в тех случаях, которые не были определены инструкцией, они должны были за указаниями обращаться к Замойскому, которому король поручил общее руководительство переговорами. В Баториевом лагере боролись два течения: Литовцы, как мы знаем, готовы были оставить осаду Пскова; они желали заключить поскорее мир и потому склонны были делать значительные уступки врагу. Напротив того, Замойский настаивал на том, что необходимо продолжать осаду, чтобы принудить врага к миру на условиях, какие будут ему предложены. Баторий разделял мнение своего канцлера; вот почему он и предоставил ему власть руководить переговорами, сообщив ему свои воззрения на условия мира, т. е. сделав указания на то, что можно и чего нельзя уступить врагу[903].
Антоний Поссевин, представитель римской курии, являлся посредником беспристрастным[904], ибо не был заинтересован в том, что составляло предмет спора между Москвою и Речью Посполитой, непосредственно так, как были заинтересованы Иоанновы и Баториевы послы. Он думал, конечно, более всего о поддержке интересов, которые он представлял, т. е. старался осуществить те цели, которые преследовала римская курия. Для него важнее всего было заключение мира, а на каких условиях он состоится, это имело для него значение постольку, поскольку ускоряло примирение враждующих сторон. Он сочувствовал сильно Баторию, как католическому королю, притом такому, на которого Рим смотрел как на лучшего поборника своих задач и стремлений, но с другой стороны, папский легат хотел угодить и православному царю, ибо он питал надежду на то, что ему удастся обратить его на путь истинной католической виры, а тогда сильно подвинется вперед дело торжества ее на земле. Роль Поссевина, уже как посредника, была затруднительна: он легко мог навлечь на себя недовольство одной из сторон, когда отстаивал интересы другой стороны, хотя бы эти интересы, по его мнению, и были вполне законны.
Преследование же целей посторонних, чуждых предмету спора, делало роль папского посла еще затруднительнее, ибо лишало его характера, какой должен быть присущ настоящему посреднику, думающему только о примирении интересов враждующих сторон и относящемуся к этим интересам совершенно объективно. Поссевин не удовлетворял ни ту, ни другую сторону. Желая поскорее достичь своей цели, он советовал Полякам прекратить осаду Пскова, толкуя им, что, затягивая ее, они раздражат сильно Иоанна, вследствие чего примирение будет еще труднее, и возбудил в них совершенно основательное подозрение, что он интересуется более обращением царя в католичество, чем их делом[905]. Тактика, которой иезуит придерживался, подозрительность эту все более и более усиливала.
Перед Поляками он хвалил Иоанна, заявляя, что в нем нет совсем той жестокости, о которой толкуют люди, и удивлялся тому порядку, который господствует у него в войске, ставя таким образом в упрек Баториевым воинам неурядицы, происходившие в их лагере[906]. Баторию он указывал на его неудачи, убеждая его покориться воле Господней и поспешить заключить почетный мир, пока это еще возможно[907]. В письмах к Иоанну папский легат рисовал положение царя самыми мрачными красками. На театре войны храмы разрушены или обращены в конюшни, святые образа преданы пламени или поруганию; всюду валяются человеческие трупы, господствует грабеж и насилие; опустошенные поля заглохли и покрываются уже лесом[908]. Вместе с тем он вопреки истине изображал силы Батория в превосходном состоянии, стараясь таким образом запугать Иоанна. Царь едва ли верил иезуиту, потому что от своих гонцов он получал об этих силах совершенно иные известия[909].
Подобного рода тактика лишила Поссевина совершенно доверия с той и другой стороны. Поляки подозревали, что австрийский двор прислал его к Баторию с целью выведать положение дел в Речи Посполитой и причинить вред ее интересам. Замойский прямо возненавидел легата, называя его человеком превратнейшим в мире и давая ему иные нелестные эпитеты[910].
Не верили Поссевину и Русские. Послы Иоанна обвиняли его в пристрастии. «А стоит, государь, Антоней, – так писали они царю, – с королевы стороны, говорит с литовскими послы на съезды в одни речи»[911].
Все это сообщило роли Поссевина особенный характер. Он явился не третейским судьею, на решение которого отдают предмет спора и приговору которого охотно подчиняются, а лишь примирителем тех столкновений, которые возникали в течение переговоров.
Последние открылись 13-го декабря, но Поссевин встретился с московскими послами раньше и начал сейчас же говорить с ними об условиях мира.
Заявление Поссевина о том, что Баторий требует всей Ливонии, вызвало со стороны послов замечание о чрезмерности этих требований. Они утверждали, что Ливония с сотворения мира принадлежала московским государям и что уступка всей страны невозможна. Баторий должен удовольствоваться только частью ее, ибо ему не добиться того, чего он требует. В Пскове запасов на пятнадцать лет, и ему не взять этой крепости. Войско у короля наемное, служит из-за денег, а казна его истощается. Пусть поэтому берет то, что ему предлагалось, потому что потом может не получить и той доли Ливонии, которая ему теперь уступается. Поссевин старался разубедить Русских в том, что их утверждения основательны, но безуспешно. Вследствие этого у него зародилось сомнение относительно возможности примирения сторон, если Баторий будет настаивать на уступке всей Ливонии. Так как король заявлял, что это – условие, которое поставил ему сейм, давая ему средства на ведение войны, то Поссевин попробовал предложить Баторию отдать этот вопрос на разрешение сейма[912]. Это предложение возмутило Замойского: ему показалось, что Поссевин собирается отстаивать интересы московского царя, лишь бы только склонить его к унии с католической церковью. «Хотят укротить волка, а стригут между тем овцу», – заметил по этому поводу польский канцлер. Он увещевал своих послов не отступать ни на йоту от данной им инструкции и требовать безусловно всей Ливонии. Иоанн, по его мнению, принужден будет уступить се, потому что находится в критическом положении: Шведы взяли уже Нарву, добывают Вейсенштейн, теснят осадой Пернов, Псков при малейшей выдержке со стороны Поляков и Литовцев скоро перейдет в их руки. Вследствие всего этого теперь самый удобный момент добиваться приобретения того, из-за чего была начата война[913].
В таком настроении приступали враждующие стороны к переговорам о мире: та и другая сторона рассчитывала на стесненные обстоятельства противоположной и надеялась при помощи их добиться своего. Исход, следовательно, переговоров зависел от выдержки противников, от того, кто кого в этом отношения пересилит. Поэтому можно было предвидеть, что переговоры будут тянуться долго. Действительно, все так и случилось.
Местность, куда съехались послы для совещаний, была до такой степени опустошена огнем и мечом, что нельзя было найти даже кола, чтобы привязать лошадей[914].
Послы собирались на заседания в жалкой хижине самого примитивного устройства: дым из печи выходил через двери и окна, и сажа падала на платье находившихся в ней. Съестных припасов негде было достать и приходилось довольствоваться теми, которые были привезены. Московские послы запаслись всем в изобилии, но посольство Батория страдало от недостатка в пище. К тому же Русские и поселились не в Яме Запольском, а поудобнее, вблизи его, в Киверовой Горе.
Столкновение между сторонами произошло уже на первом заседании по поводу посольских полномочий. Московские послы имели обыкновенную верительную грамоту, свидетельствовавшую только о том, что они посланы на съезд для заключения мира и что имеют право говорить и вершить дела от имени царя[915].
Эта неопределенность полномочий вызвала опасение у Баториевых послов, что они будут вести переговоры бесцельно: когда дело дойдет до решительного момента, московские послы сошлются на недостаточность своих полномочий, обратятся за новой инструкцией к своему государю, тот поставит новые условия, вследствие чего придется прекратить переговоры; одним словом, произойдет то, что случилось при переговорах в Вильне[916].
Вследствие этого Баториевы послы, сославшись на свою верительную грамоту, дававшую им определенные и решительные полномочия[917], потребовали, чтобы и московские послы представили им подобную же грамоту. Полагая, что они скрывают ее, Поссевин припомнил им содержание письма, в котором Иоанн объявлял ему, что отправляет послов с совершенными полномочиями. Но князь Елецкий с товарищами утверждал, что они подобной грамоты не имеют, и представили такую, какую издревле московские государи давали обыкновенно своим послам. Спор обострился еще вследствие протеста московских послов против присутствия в заседании Христофора Варшевицкого, которого королевская грамота не называла в числе послов[918]. Так прошел в прениях целый день. Баториевы послы прервали заседание и уехали к себе домой, заявив, что более не хотят приезжать на заседания, ибо совещания будут лишены твердого основания[919]. Это была, конечно, только угроза. На следующий день они снова явились. Спор был улажен следующим образом. Каждый из московских послов под присягой заявил Поссевину, что такие верительные грамоты вроде той, какую они теперь имеют, всегда выдавались и выдаются московскими государями.
Тогда совещания возобновились после обычного в таких случаях протеста со стороны Баториевых послов против нарушения порядка, установленного при переговорах; кроме того, не было обмена и верительных грамот, и московские послы допустили tacito consensu присутствие в заседаниях Варшевицкого.
Поссевин предоставил право первого голоса Баториевым послам, как представителям стороны победившей, предлагая им представить условия, на которых они могут заключать мир. Тогда князь Збаражский заявил, что уступка всей Ливонии sine qua non ведения даже переговоров, что в противоположном случае они, королевские послы, отказываются от дальнейших совещаний. Русские, конечно, горячо против этого требования протестовали. Следуя инструкции, данной царем, они остановились на первой ступени уступок противнику: к уступке той части Ливонии, о которой Иоанн сообщил Баторию через Поссевина, когда папский легат был в Старице, они прибавили теперь только один город – Говью[920]. По этому поводу произошли сильные прения. Та и другая сторона понимала, что противник имеет полномочие сделать большие уступки, и старалась выведать, в чем они именно состоят; Баториевы послы направляли все усилия к тому, чтобы узнать, могут ли Русские, по своей инструкция, уступить всю Ливонию или нет. Чтобы вызвать их на откровенность, они, по совету Поссевина, первые начали делать уступки. Итак, они заявили сначала, что король соглашается вывести свои войска из московских областей, потом стали уменьшать сумму за издержки на ведение войны и, наконец, уступили четыре крепости: Остров, Красногород, Келий и Воронеч[921]. Маневр увенчался до некоторой степени успехом.
Московские послы дали понять, что имеют право сделать еще большие уступки в Ливонии, впрочем, под тем условием, если король согласится возвратить их государю Великие Луки, Неволь, Заволочье, Велиж, Холм и все псковские пригороды. Это заявление вызвало негодование среди Баториевых послов. Они стали говорить, что приехали не торговаться Ливонской землею, а заключить в три дня договор, и грозили опять отъездом[922], но опять уехали только к себе домой, обещав Поссевину прибыть на следующий день.
Между тем Поссевин остался один с московскими послами и старался выведать окончательные условия, на которых Иоанн может согласиться заключить мир. Совещание было весьма продолжительно.
Русские являлись к легату и на следующий день утром и наконец после долгих колебаний признались, что их государь в крайнем случае готов уступить и Ливонию, если только ему будут возвращены Великие Луки и другие крепости, взятые Баторием в прошлом году. Признавшись в этом, они тотчас же спохватились и, сожалея очевидно об этом, стали просить Поссевина повести переговоры так, чтобы за их государем осталось несколько (4, 6) крепостей в Ливонии для оправдания титула Ливонского владетеля; они утверждали, что только при этих условиях мир может состояться.
Чтобы довести поскорее дело до конца, Поссевин начал хлопотать об уступке Иоанну хотя бы только незначительной доли Ливонии. Так как Баториевы послы, согласно своей инструкции, уступки этой сделать не могли, папский посол обратился за согласием по этому пункту к Замойскому[923].
В то время как Поссевин ждал ответа от польского канцлера, совещания между Баториевыми и московскими послами шли своим чередом. При этом возник сильный спор по поводу Швеции. Уже во втором заседании Баториевы послы предъявили требование, чтобы в мирный договор был включен также шведский король. Между последним и польским королем существовали тогда, вследствие успехов шведского оружия в Ливонии, весьма натянутые отношения[924], но Баторий, по совету Поссевина, стал выдавать себя за союзника шведского короля, чтобы казаться в глазах московского царя еще более опасным противником. Кроме того, Баторий интересовался примирением Швеции с Москвой еще и потому, что желал хоть на короткое время задержать успешные действия Шведов в Ливонии[925]. У Поссевина был другой расчет: он полагал, что московский государь выберет его посредником при ведении переговоров о мире со Швецией; он, Поссевин, устроит этот новый мир, вследствие чего авторитет Рима еще более усилится[926]. Однако в своем расчете папский легат ошибся. Иоанн не желал вовсе мириться с шведским королем: напротив того, он собирался вести с ним особенно энергично войну, помирившись с Баторием. Поэтому царь и запретил строго своим послам, как об этом мы говорили выше, включать в условия мирного договора Швецию. Послы поступили согласно своей инструкции. Они решительно отвергнули это требование Баториевых послов, приводя совершенно основательные тому доказательства: они посланы договариваться о мире с польским королем, а если шведскому королю желательно мириться с их государем, то он должен послать к нему своих послов[927].
Баториевы послы умышленно раздували вопрос о Швеции, чтобы затянуть переговоры и выиграть таким образом во времени, которое нужно было им для сношений с Замойским. К последнему они должны были обращаться в тех случаях, когда полномочия их, определенные инструкцией, оказывались недостаточными[928].
После устранения вопроса о Швеции оставалось теперь самое трудное дело – решить вопрос о Ливонии.
Мы говорили выше, что Поссевин хлопотал перед Замойским об уступке хотя бы и незначительной части ее Иоанну, выражая свое мнение об этой уступке весьма осторожно, так как он знал, что Баторий и Замойский вооружались против этой уступки самым решительным образом[929]. Между тем, сверх ожидания, оказалось, что канцлер готов пойти на эту уступку. Он был напуган успехами Шведов в войне с Москвой: они захватили города, которые Речь Посполитая считала своими.
Вследствие этого ему показалось необходимостью поскорее заключить мир с московским государством, чтобы затем лучше можно было готовиться к войне со Швецией и, с оружием в руках, отстаивать против нее свои ливонские владения.
Напуган был польский гетман и известиями о том, что в Новгороде собираются московские войска с намерением идти на помощь Пскову[930].
Все эти обстоятельства побудили Замойского отправить в Запольский ям своего родственника Жолкевского с предложением уступки Иоанну ливонских крепостей: Нейшлосса, Серенска, Лаиса и Нейгауза (Новгородка Ливонского), если за Речью Посполитой останутся Великие Луки, Заволочье, Невель, Себеж и Велиж и если мир будет тотчас же заключен самими московскими послами, т. е. если они не будут обращаться по этому поводу за инструкцией к своему государю[931].
Это предложение сильно смутило Поссевина, тем более что он одновременно получил от Замойского письмо, в котором канцлер требовал безусловно уступки всей Ливонии[932]. Жолкевский сделал свои сообщения Поссевину устно, вследствие чего у последнего явилось опасение, что Замойский легко может от своих слов отказаться. Во-вторых, Поссевину было известно, что уступки в Ливонии могут быть сделаны только с согласия сейма. Поэтому-то он и предлагал отложить решение этого дела до тех пор, пока не соберется сейм, на который московский государь пришлет своих послов, ибо папский дипломат надеялся, что ему удастся склонить Иоанна к этому во время вторичного посещения московского царя. Действовать же так, как предлагал Замойский, через Жолкевского, показалось дипломату-иезуиту и легкомысленно, и опасно. Канцлер рассчитывал на свое влияние на сейм: он надеялся на то, что ему удастся склонить сейм к принятию тех уступок, которые были сделаны в Ливонии. Но Поссевин опасался, что они будут отвергнуты сеймом. В таком случае он, посредник, навлечет на себя гнев московского царя, уронит авторитет папы, скомпрометирует весь свой орден и повредит тому делу, разрешение которого составляло главную цель его помыслов и деятельности, помешает распространению католичества в московском государстве[933].
Станислав Жолкевский. Гравюра XVI в.
Подозрительная осторожность иезуита оказалась вполне уместной и целесообразной. Послы Батория высказались решительно против предложения Замойского, ибо инструкция, которую они получили от короля, запрещала им делать какие бы то ни было уступки в Ливонии; кроме того, они были того мнения, что подобного рода уступчивость может усилить требовательность противника и вести переговоры будет еще труднее[934]. Наконец, и сам Замойский вскоре оставил это предложение, заявляя в свое оправдание, что он согласился на ничтожные уступки в Ливонии, чтобы сделать удовольствие Поссевину, но заранее предвидел, что такого рода условия будут отвергнуты[935]. Несмотря на это, предложение канцлера обсуждалось на съезде и вызвало сильные прения. Выслав Жолкевского в Запольский ям, Замойский тотчас же спохватился, что поступил неосмотрительно: устные заявления посланного могли повлечь за собой недоразумения. Чтобы устранить их, гетман выслал немедленно свои предложения на бумаге[936].
При обсуждении предложения об уступках в Ливонии московские послы заметили, что Серенск находится в руках Шведов, и поэтому стали домогаться, чтобы им была уступлена Керсисть (Киремпе)[937]. Не получив на это, конечно, согласия, они заявили, что удовольствуются одним Новгородком Ливонским взамен за Велиж, если, понятно, другие крепости, которых они требуют, будут также возвращены их государю[938].
Но вопрос об уступках в Ливонии пришлось оставить, так как Замойский от первого своего предложения отказывался и присылал новые условия: за всю Ливонию он согласился сначала возвратить Иоанну только Великие Луки, потом прибавил еще Невель и Заволочье, но в том и другом случае поставил условием передачу Баторию крепости Себежа или ее разрушение[939]. Московские послы требовали возвращения, кроме указанных крепостей, еще и Велижа и соглашались сжечь Себеж, если будет сожжена королем Дрисса[940]. Эти условия они упорно отстаивали. Поссевин старался склонить их к уступке Велижа, говоря, что если они боятся за эту уступку гнева своего царя, он готов отдать за них свою голову. Но они заявили, что если бы каждый из них имел десять голов, царь приказал бы снять все эти головы за такое попустительство[941].
Как видим, прения между послами сосредоточивались почти исключительно на вопросе о возвращении Иоанну крепостей, которые Баторий взял у царя в 1580 году; что касается Полоцка, то о нем и речи не было: Иоанн отдавал его Баторию tacito consensu. Во время прений каждая сторона отстаивала свои требования упорно. Раздражение между послами все более и более усиливалось. Русские жаловались на свое положение, говоря, что с ними обращаются, как с пленными, отнимают у них вещи, хватают их людей: мало того, пытают и даже убивают. Гонец, везший от царя письма к ним и к Поссевину, был отведен в польский лагерь, где его товарищей убили, а проводника подвергли пытке, прикладывая к его бокам зажженные факелы[942]. Баториевым послам надоедали продолжительные прения, которые казались им иногда совершенно бесполезными, и они грозили не раз уехать со съезда. Радзивилл собирался уже в путь и остался только по просьбе Замойского[943].
Споры о территориальных уступках были сведены наконец к вопросу о Велиже и Себеже. Замойский предоставил разрешить этот вопрос Литовцам, так как уступка крепости Велижа задевала литовские интересы, давая понять, что лучше ее уступить, чем вести дальше войну[944]. Однако Литовцы отдать эту крепость Иоанну не пожелали. Тогда спор достиг кульминационной точки. Баториевы послы заявили, что оставаться долее не могут, ибо переговоры затянулись слишком долго. По вине Поссевина, подававшего надежду на то, что мир скоро состоится, королевское войско было задержано под Псковом в течение двух месяцев. Теперь их отзывают назад в лагерь. Не их вина, что мирный договор не может быть заключен, и засвидетельствует это перед Речью Посполитой на будущем сейме папский посол, которого они об этом настоятельно просят. Сказав это, они распрощались с московскими послами. Казалось, произойдет разрыв, что сильно взволновало Русских. Они приходили два раза ночью на совещание к Поссевину и умоляли его со слезами посоветовать им, как им быть с Велижем, повторяя, что уступка его будет стоит им жизни. Велиж лежал на верховьях Западной Двины, и владение им открывало доступ в долину этой реки, доступ к Полоцку. Вот почему Иоанн так горячо желал сохранить эту крепость в своих руках. Поссевин обещал московским послам разрешить этот спор таким образом: он добьется от Баторисвых послов согласия на то, чтобы эта крепость была разрушена.
Тогда переговоры возобновились и ведены были опять с прежним жаром и упорством с той и другой стороны. Баториевы послы потребовали для себя Себежа, но Москвитяне сильно против этого возражали; они заявили, что уступят целиком Велиж королю, если их государю будет возвращен Себеж[945]. Так это дело было наконец и улажено[946].
Но спор из-за территориальных владений не кончился этим; напротив того, он еще раз сильно разгорелся. Баториевы послы предъявили требование, чтобы уступлены были их королю те ливонские замки, которые в войне с Русскими заняли Шведы. На это со стороны московских послов последовал ответ, что у них нет наказа даже говорить об этом, а и подавно они не имеют права принимать по этому поводу какое-нибудь решение[947]. При этом они приводили совершенно основа тельный мотив, что их государь не может уступать того, чем он не владеет[948].
Сопротивление Русских по этому пункту сильно раздражало Замойского. Он стал подозревать существование тут интриги Поссевина. Канцлеру казалось, что папский посол собирается при помощи упомянутых замков помирить Швецию с Москвой во вред Речи Посполитой[949]. Поэтому он увещевал своих послов энергически отстаивать это требование. Однако они не могли последовать совету своего руководителя. Спор затягивался слишком долго, а между тем он не представлял существенной важности, ибо касался призрачного права на владение тем, что находилось в руках третьего претендента, каким являлась в данном случае Швеция. Приходилось поступить так, как указывала послам инструкция самого Батория, т. е. опротестовать только притязания московского государя на владение этими замками[950], на что согласился и Замойский[951]. Теперь надобно было определить границу владений той и другой стороны, что представлялось делом нелегким, ибо не было с точностью известно, какие замки в Ливонии находятся еще в руках Русских и какие захватили уже Шведы. Замойский и Баториевы послы старались решить вопрос о разграничении самым определенным образом. Они опасались, чтобы Русские не утаили какого-нибудь замка под тем благовидным предлогом, что они полагали, будто этот замок взят уже Шведами[952]. Кроме того, опасение Замойского и Баториевых послов возбуждал также еще и будущий сейм, перед которым они должны будут дать отчет в своих действиях. Война решена была сеймом только потому, что он желал отнять у московского государства Ливонию, и животрепещущий вопрос о Ливонии мог вызвать поэтому целую бурю на сейме[953]. Вследствие всего этого прения о демаркационной линии отняли у договаривающихся сторон немало времени, а самое дело потребовало немало труда, пока найдено было наконец соглашение[954].
Московские послы представили список ливонских городов и замков, уступаемых Речи Посполитой, и эти города и замки, каждый в отдельности, были внесены в договорные грамоты. Что же касается крепостей, занятых Шведами, решено было в договор их не включать, как того требовали московские послы, но вместе с тем принять от Баториевых послов заявление, что Речь Посполитая не отказывается от владения ими и что спор из-за них с московским государством не повлечет за собою нарушения заключаемого договора[955].
Так, наконец (только 6-го января), после долгих споров разрешен был вопрос о территориальных уступках. Оставалось еще определить, в каком виде и каким образом отдавать уступаемые города и крепости, что вызвало также немало пререканий. Завоевав какую-нибудь крепость в Ливонии, Иоанн приказывал строить здесь церковь. Кроме того, некоторым церквам царь пожаловал значительный поземельные угодья[956].
Таким образом, в Ливонии было немало православных святынь, и судьба их сильно интересовала московских послов. Опасаясь, чтобы с переходом страны во власть католиков православные святыни не подверглись какому-нибудь поруганию, они стали домогаться отдачи им всех священных предметов и свободного пропуска из Ливонии в пределы московского государства для всех православных священнослужителей. Некоторые из Баториевых послов возражали против этого. Но Поссевин, желавший, по выражению католического историка, очистить поскорее страну от схизмы[957], убедил своих единоверцев в том, что требования Русских основательны[958].
Что касается крепостной артиллерии и вообще имущества, находившегося в крепостях, то постановлено было, чтобы каждая сторона отдавала другой все это в таком количестве и виде, в каком оно досталось победителю при взятии какого-нибудь замка[959]. При этом очищение каждой крепости должно было быть произведено в течение недели на подводах, даваемых противной стороной[960], и на очистку всех крепостей положено восемь недель[961].
Размен пленных вызвал также много разговоров. Победители взяли большое количество врагов в плен; напротив того, у Русских было пленников немного. Исполняя инструкцию Замойского, Баториевы послы потребовали уступки крепостей Себежа и Опочки за освобождение Москвитян, находившихся в плену[962], но встретили сильное сопротивление со стороны послов Иоанна, которые против этого приводили тот аргумент, что торговать кровью христианской не следует. Решение этого спорного пункта отложено было до ратификации мирного договора, так как Поссевин отказался от посредничества по этому делу, боясь навлечь на себя нарекания, если какая-нибудь сторона удержит у себя пленных, которых она обязалась отпустить[963].
Оставалось еще устранить различного рода препятствия уже чисто формального характера, но и тут пришлось потратить немало труда и времени. На совещании у Поссевина ночью на новый 1582 год московские послы заявили, что их государь носит титулы царя казанского и астраханского и эти титулы должны быть даны ему в документе мирного трактата, потому что они для него имеют гораздо большее значение, нежели все крепости, которые он уступит Баторию. Папский легат возражал против этого; он стал развивать перед Русскими известную средневековую теорию об императорской власти. Существует только один христианский император, власть которого подтверждается главой католической церкви – папой. Когда византийские императоры стали от нее отделяться, тогда папы перенесли титул императора на государей Запада. Папа может дать этот титул и московскому государю, но для этого необходимо вступить с ним в переговоры. Москвитяне понимают неправильно значение титула «царь»: это не цезарь, а титул, заимствованный от Татар. Московские послы привели в опровержение этих взглядов исторические доводы, страдавшие сильным анахронизмом. Они заявили, что римские императоры Аркадий и Гонорий прислали из Рима императорскую корону русскому князю Владимиру, а папа подтвердил это пожалование через какого-то епископа Киприана. Замечание Поссевина, что Аркадий и Гонорий жили лет на 600 раньше Владимира, нисколько не смутило послов Иоанна: они ответили, что то были другие императоры Аркадий и Гонорий, которые жили одновременно с князем Владимиром[964]. Поссевин потратил понапрасну много красноречия, чтобы разубедить московских книжников в правильности их убеждений: они остались при своем. Кроме того, они добивались, повинуясь приказаниям своего государя, еще и других титулов для него, а именно титулов «смоленского и ливонского»[965].
И потому, когда дело дошло до чтения перемирных грамот, они заявили сильный протест против того, что в королевской записи их царю не были даны требуемые титулы. По их словам, король Сигизмунд Август признавал за их государем титул царя: он даже присылал особенное посольство, чтобы поздравить Иоанна со взятием Казанского царства[966]. Секретарь Баториева посольства, Гарабурда, знаток дипломатических сношений Речи Посполитой с Москвой, доказывал противное: он утверждал, что московского государя называли только великим князем постоянно и при Сигизмунде Августе, и при Генрихе, и при Стефане Батории[967]. Баториевы послы, следуя инструкции своего короля, заявили, что готовы дать Иоанну титул царя, но только в том случае, если он отдаст их королю Смоленск, Великие Луки, Опочку и Себеж. Однако Русские и слушать об этом не хотели[968]. Они особенно энергично отстаивали титул своего государя «царь Казанский и царь Астраханский», угрожая своим противникам прекращением переговоров, если не будет разрешено послать за грамотами, доказывающими правдивость их слов относительно того, что Сигизмунд-Август давал Иоанну титулы царя Казанского и царя Астраханского. Баториевы послы не были одинакового мнения по этому вопросу. Радзивилл, считая спор этот пустым, полагал, что московским послам можно дать по этому пункту удовлетворение, лишь бы не доводить дела до разрыва и сохранить существенное – Ливонию, но товарищи его не соглашались с ним, так что пришлось обратиться за инструкциею к Замойскому, чтоб разрешить этот спор[969]. Притязания эти Иоанна показались польскому канцлеру пустым тщеславием, и он согласился дать требуемые титулы московскому государю, однако полагал вместе с тем, что необходимо опротестовать сделанную уступку[970].
Бюст Стефана Батория в Венгрии
Но совет Замойского оказался излишним, так как спор окончился раньше, чем пришло письмо канцлера в Запольский ям. Московские послы, помня наказ своего государя, отказались от своих требований[971], и в королевской договорной грамоте Иоанн был назван по-прежнему только великим князем[972].
Вслед за устранением этого формального препятствия представилось новое, которое немало горечи причинило соперничествующим сторонам и особенно папскому легату. Оказывалось, что к титулам был чувствителен не только московский царь, но и раб рабов Божиих, как называл себя папа. Представитель его на Запольском съезде, Поссевин, желал играть главную роль, роль устроителя мира между Москвой и Речью Посполитой, роль вершителя судеб народов и государств. Договорные грамоты должны были засвидетельствовать это перед всем миром и потомством и гласить в течение веков о силе и величии главы католической церкви и его уполномоченного. Баториевы послы, как католики[973], готовы были удовлетворить это совершенно законное желание Поссевина и хотели написать в перемирной грамоте, что договор был заключен в присутствии папского посла[974]. Но московские послы, ссылаясь на то, что в наказе у них нет об этом ни слова, отказались принять формулу, предложенную послами Батория. Хотя Иоанн и прибегнул к посредничеству папы, однако он желал, очевидно, избегать всего, что могло бы свидетельствовать о подчинении его авторитету главы католичества. Царь не оказывал почестей, какие приличествовали папе, – с католической, конечно, точки зрения, как наместнику Христову на земле. По выражению Поссевина, Иоанн писал «папу, что просто папа», величал его представителя не послом, а только посланником[975]. Московские послы действовали, понятно, согласно предписаниям своего государя и поведение их до такой степени стало раздражать Поссевина, что он явно начал склоняться на сторону Батория, забывая о беспристрастии, обязательном для посредника[976]. Спор окончился согласно желанию Поссевина: в акте перемирного договора посредничество папского посла было отмечено, следовательно, условия мира было освящены авторитетом римского первосвященника[977].
Могло казаться теперь, что всякие препирательства уже более невозможны. Случилось, однако, иначе. Московские послы прилагали все свои усилия к тому, чтобы сохранить за своим государем хотя бы только призрачные, формальные права на Ливонию. Они изъявили сначала желание вписать в текст договора выражение о том, что Иоанн уступает Баторию вместе с другими ливонскими замками Ригу и Курляндию, т. е. такие владения, которые никогда Иоанну не принадлежали. Это заявление вызвало целую бурю негодования. Баториевы послы удалились с совещания, говоря, по своему обыкновенно, что они уже более не приедут. Поссевин же потерял окончательно терпение и в раздражении на московских послов дошел до поступков, не приличествовавших его сану. Крича, что они явились не посольствовать, а воровать, он вырвал из рук одного из послов, Олферьева, черновик договорной записи, швырнул ее за двери, схватил самого посла за воротник шубы и пуговицы оборвал.
«Подите вон из избы, – кричал он, – мне с вами уже не о чем больше говорить». «И мы, холопи твои, – пишут послы Иоанну, – Антонью говорили: и то ты, Антоней, чинишь не гораздо, государево великое дело мечешь, а нас бесчестишь, а нам за государево дело как не стоять? Да говоря, государь, мы пошли от него из избы и пришли мы, холопи твои, к себе в избу, и тотчас пришел к нам литвин ротмистров Миколаев человек Жебридовского и говорить нам: велите деи своим людям накладываться, а утре вам ехати к собе и приставы деи утро к вам будут»[978]. Ввиду этого, памятуя царский наказ, послы подчинились тому, что они считали «конечной неволею», и отступились от своего требования, однако не совсем, как мы сейчас увидим.
Они попытались еще раз при помощи новой уловки отстоять формальную сторону притязаний своего царя на Ливонию. Переговоры близились уже к концу. Согласие, казалось, устанавливается между сторонами по всем пунктам. Срок перемирия был определен в десять лет, начиная с Крещения Христова 1582 года. Решено было, что Баторий первый отправит к Иоанну своих послов для ратификации договора (на Троицын день), а потом Иоанн своих (на Успеньев день). Оставалось написать договорные грамоты, что также было сделано. Назначен уже был день для присяги, которою обе стороны должны были скрепить условия, на каких они договорились между собою. Баториевы послы радовались, что приходит конец их трудам, и радовались тем более, что Замойский, их руководитель, торопил их кончать поскорее дело, указывая на невыносимое положение армии под Псковом и на новую опасность, которая, как казалось ему, приближается к Речи Посполитой. В лагерь польского гетмана явился с письмом к королю Баторию шведский посол, Итальянец Лаврентий Каньоло, и стал просить о свободном пропуске к Поссевину, но получил отказ. Замойскому почуялись в этом козни Швеции против его государства: он стал опасаться, чтобы шведский король не начал переговоров с московским царем во вред интересам Речи Посполитой[979].
И вот как раз в тот момент, когда Поссевин и Баториевы послы были вполне уверены в том, что уже все недоразумения устранены и что остается только скрепить договор присягой, Русские предъявили следующее требование: в перемирной грамоте должно быть написано, что Иоанн уступает Баторию свою вотчину Ливонию. Этим выражением московские послы надеялись спасти права Иоанна на владение Ливонией. Произошел сильный спор, продолжавшийся два дня. Збаражский и Гарабурда не знали, что им делать, и поэтому обратились за инструкцией к Замойскому[980]. Усмотрев в этом пустое препирательство из-за слов, канцлер соглашался удовлетворить требование московских послов, лишь бы только мир поскорее был заключен, ибо всякая проволочка может быть опасна для Речи Посполитой[981]. Инструкция канцлера оказалась уже ненужной: спор окончился раньше, чем пришло его письмо, и окончился, благодаря содействию Поссевина, в пользу Баториевых послов.
Наконец 15-го января, после неимоверных усилий, употребленных той и другой стороной с целью отстоять даже формальные права своих государств, состоялся обычный обмен договорных грамот и принесена была присяга, при чем Русские исполнили строго церемониал, установленный для этого Иоанном: они целовали крест, который дал им, согласно приказанию царя, новгородский владыка. Баториевы послы принесли присягу по католическому обряду, причем к ним присоединился и Гарабурда, хотя он был православный, что доставило немалое удовольствие Поссевину, возымевшему надежду на то, что Гарабурда перейдет на лоно католической церкви[982].
Известие о заключении мира произвело сильную радость в лагере Замойского под Псковом и среди жителей Пскова. Баториевы воины со слезами на глазах благодарили Бога за то, что они освободились наконец от холода, голода и болезней, лишений и страданий, которые довели их до ужасного состояния[983]. Псковитяне, исстрадавшиеся от долговременной осады, особенно сильно обрадовались известию о мире. Когда в Псков явился (18-го января) с этой вестью от московских послов гонец Александр Васильевич Хрущев, жители бросились целовать ноги вестника, называя его архангелом мира. Вражда к неприятелям была забыта. Псковитяне со своих городских стен радостно приветствовали всадников Замойского, ездивших вокруг крепости, и называли их своими братьями. Знатнейшие псковские граждане явились к Замойскому, чтоб выразить гетману свою радость и благодарность по случаю заключения мира[984]. Баторий и Замойский, главные виновники и вожди войны, довольны были исходом ее, потому что цель, ради которой она предпринималась, была достигнута, довольны были и потому, что их противники в Польше, вооружавшиеся против дальнейшего ведения войны[985], должны были замолкнуть ввиду блестящего успеха, увенчавшего военные планы короля и его канцлера[986]. Рад был миру и Иоанн, ибо ему удалось отстоять те условия, какие он «по конечной неволе» готов был принять[987]. Рады были и Иоанновы послы, ибо исполнили в точности данный им наказ и таким образом избежали царского гнева. Наконец чувство удовлетворения испытывал также и посреднику, папский посол, Поссевин: и ему удалось, как, по крайней мере ему самому казалось, осуществить ту цель, которую он себе наметил. Враждующие стороны подчинились авторитету главы католической церкви, о чем свидетельствовали договорные грамоты, следовательно, достигнут важный успех в деле торжества католической веры на земле, деле, служить которому был призван Поссевин вместе со своим орденом.
Таким образом, перемирие состоялось. Теперь оставалось исполнять или исполнить его условия. По договору Баториева армия должна была немедленно удалиться из-под Пскова. Но условие это не было исполнено Замойским. Он опасался, чтобы Русские умышленно не затягивали сдачи ливонских замков, к чему представлялся весьма удобный предлог. Польско-литовские власти не были в состоянии дать для этого Русским достаточное количество подвод, как это полагалось по уговору. Видя, что Замойский не собирается уходить от Пскова, московские послы выразили свое неудовольствие перед Поссевином, а затем через князя Збаражского прислали Замойскому письмо, в котором потребовали, чтобы он ушел от города. Сами же Псковитяне прислали сказать гетману, что если он не удалится в течение двух дней[988], то они будут считать мирный договор уничтоженным. На это Замойский с улыбкой ответил, что следует избегать разлития крови – и только. А затем на следующий день он потребовал от Псковитян, чтобы они дали ему посланца для пересылки письма Поссевину. Тогда Псковитяне отказались от своего ультиматума, так как у них зародилось подозрение, что Замойский намеревается писать Поссевину, будто они отказались исполнять условия мира. Теперь они просили Замойского только о том, чтобы он удалился в тот день, который он сам назначил. Гетман ответил, что он удалится, но все-таки останется у границ Ливонии до тех пор, пока ливонские замки не будут сданы Русскими[989].
Между тем Поляки передали Русским крепость Остров, что случилось вопреки намерению Замойского[990]; однако он передачу одобрил, так как надеялся, что она рассеет подозрение Русских относительно их противников: Русские тоже опасались, чтобы в передаче крепостей, возвращаемых по договору, не произошла слишком большая проволочка. Замойский думал, что убедившись на примере Острова в противном, они скорее очистят Ливонию. Вместе с тем, чтобы не давать больше повода к нареканиям на то, что он нарушает мирный договор, гетман поспешил исполнить свое обещание относительно удаления из-под Пскова. 6-го февраля он снял лагерь и удалился от города, причем постарался блеснуть перед своими бывшими врагами прекрасным видом своего войска и сумел их действительно привести в изумление[991]. Это было сделано, конечно, не без умысла. Замойский хотел дать понять Псковитянам, что сила его войска еще весьма значительна и что при таком условии нарушать мир для них опасно.
Польский гетман двинулся к Новгородку Ливонскому. Московский воевода не хотел сдавать крепости военному отряду, который был выслан Замойским вперед под начальством Уровецкого. Тогда Замойский сам с небольшой свитой явился в город и потребовал от воеводы, чтобы крепость была немедленно передана. Но последний стал отнекиваться, говоря, что у него нет подвод в достаточном количестве. Тогда Замойский дал ему лошадей, которые везли артиллерию, и воевода принужден был удалиться из города[992].
Из Новгородка Замойский направился небольшими переходами к Дерпту, куда он между тем отправил комиссаром Розена принимать от Русских город. Но Розен ничего не мог сделать, так как не хватило подвод[993]. Проволочки в эвакуации Ливонии вызывали в Замойском сильную досаду. Виноваты были в этом, по его мнению, послы, заключавшие с царем Иоанном перемирие: они дали обещание отвести войско от Пскова, прежде чем будут сданы ливонские замки, не назначили определенного срока для эвакуации Ливонии и приняли обязательство доставить Русским подводы. От всего этого и происходят проволочки. Тратя попусту время на споры о титулах и обращаясь за указаниями, как решить их, к нему, Замойскому, послы в то же время самовольно решили дело большой важности. Он не знал, что ему делать: если он останется в Ливонии с войском, чтоб понуждать Русских к скорейшей передаче замков, страна от постоя солдат еще больше пострадает; если он уведет войско, Русские будут иметь возможность затягивать очистку страны. Главная беда заключалась в недостатке подвод, и Замойский просил короля, чтобы он позаботился поскорее их доставить и сам делал распоряжения об их доставке[994].
Так как воеводы Дерпта не хотели передавать крепости Розену, то польский гетман отправил к нему на помощь князя Збаражского с отрядом в несколько сот солдат, а затем и сам прибыл в окрестности города[995].
На требование Замойского очистить немедленно город уполномоченный Иоанна Головни ответил, что для этого не приготовлено еще достаточно лошадей и повозок, и просил об отсрочке в три дня. Тогда Замойский снабдил русских воевод подводами, и Дерпт был передан ему 24-го февраля. Русские оставили город с большим сожалением, так как с ним были связаны для них весьма дорогие воспоминания: женщины, по словам историка[996], сбегаясь на могилы мужей и детей, отцов и родственников, испускали страшные рыдания, покидая родное пепелище[997].
Постепенно Поляки заняли все города и замки Ливонии, причем они должны были прибегать к разного рода хитростям, чтобы удалить поскорее Русских, и затем уже они сами передали Русским крепости, какие полагались по договору[998].
Ратификация условий перемирия произошла в том же 1582 году. Сначала (в июне) явились в Москву послы от Батория и Иоанн скрепил клятвою заключенное перемирие, обязавшись при этом не воевать в Эстонии и в продолжение десяти лет[999], а потом (в октябре) прибыли в Варшаву московские послы и взяли также с короля торжественное обязательство исполнять условия договора[1000].
Так окончилась война, составляющая весьма важный фазис в политической эволюции Восточной Европы. Рост московского государства в направлении к Западу был на некоторое время приостановлен. Силы Москвы войной и правлением Иоанна были надломлены, ее социально-политическая организация расшатана. Напротив того, Речь Посполитая, благодаря талантам Батория и Замойского, усилила свое могущество настолько, что честолюбивый король ее начал строить грандиозные планы, направленные к покорению московского государства[1001]. Казалось, политическое и культурное господство в Восточной Европе будет принадлежать Польше и дальнейшее развитие восточно-европейских народов будет совершаться под ее руководством. В этом-то и заключается всемирно-историческое значение ливонской войны, историю которой мы рассмотрели в своем исследовании.
Приложения
I.
Копия письма Иоанна к польским вельможам.
(Из Несвижского архива князей Радзивиллов, Teka I, 62а. Пропущены царские титулы и имена польских сенаторов.)
<…> присылали есте к нам посполито вы Рада Коруны Польское гоньца Андрея Тарановского, а Великого Княжства Литовского, Панове Рада, гоньца Федора Зенькова Воропая с грамотою, а в грамоте своей к нам писали есте, что по вольности служб ваших на (?) великим Государем в хрестианстве (?), што перво сего Рада Великого Княжества Литовского через урядника присяглого до рады писара Великого Княжства Литовского пана Михаила Гарабурду прислали к нам о кривдах земян земли Лифлянтское повету Трейданьского от наших воинских людей с попаления сел и в забранию немало маетностей обиды великие сталися и о том всказание наше Великого Государя, которое наши лист до Вас Рад Польских и Литовских учинити рачили через посланьца вашего Федора Воропая, ознаймуючи вам волю и склоняючи умысл ку доброму и успокоению в хрестианстве. Ино пан Гарабурда, едучи от нас в дорозе в хоробу великую впал и для тое своее хоробы не только иж сам до вас приехати, але и того всказания словного, которое от нас через него до вас было всказано водле потребы выписали не мог и лист наш, писанный до вас, принес, в котором мы на тое послание ваше казали до Вас Рад Великого Княжества Литовского отписали, ознаймуючи, што сталося в земли Лифлянтской в стороне государств корунных, о том ведома у нас нет, обещавши укривжоных шкод обыск росказати учинити, а покой пограничным (?) во всех государствах корунных в Польще и у Великом Княжстве Литовском и в земли Лифлянтской заковали до врочного дня и свята святого Петра и Павла и далей после року, покамест через послы доброе дело станется. Ино непослания послов до сего часу первой сего листом вашим к нам причина есть, же се то стало затым, што вы зъехатися не могли на одно местце для казни Божее от поветрия морового на многих местцах в корунных государствах и у Великом Княжстве Литовском и вы же в тых часех но Велицедни свята недавно минулого зъехавшисе посполу Рады и вен станы Польские и Литовские под Варшаву, а вычитавши листы наши, с похвалою ликуете за то, иже мы раним таковые дела на добро и пожитек хрестианству перед собе брати и чим бы доброе дело статися могло, для чего вы посылаете посланьцов своих Андрея Тарановского да Федора Зенькова Воропая, упевняючи паньства вашего и покой перемирьем утвержоный. Писали есте до всих воевод, старост и державец украинных так с Польски яко и с Великого Княжства Литовского и с земли Лифлянтское, абы моцне и непорушение покой закован и держан по перемирных листех не токмо до врочного дня, але поколе послы на обе стороны сходят. Якож и то нам Великим Государем ку ведомости даете, иж з воли и презрения Божьего обрали и меновали есте государем на тые Великие Государства Андриха Андыкгавеньское, Борбоньское и Алжернерское з роду Великих и з давных Государей Француского Королевства и ото печалованием вашим усиловати почете и жебы з нами Великим Государем ку покою и доброму пожитью хрестианскому склонны были и послове великие до нас до Великого Государа с зуполною моцью на постановение доброго дела и успокоение в хрестианстве отправите, которые послы у нас будут надалей ку свиту Светого Мартина римского свята. А иже час перемирия близко выходит и нам бы лист опасный на послы государа вашего великие Польские и Литовские через тых посланьцов ваших к вам послати, за которым бы им и после часу перемирного вольно и безпечно до нас прийти и опять назад до паньств корунных со всими людьми и маетностями своими добровольно отойти могли. А нам бы великим Государем тых посланьцов ваших ласкове принявши до вас без мешкания розказати отправили. А в инших во всяких речах ширшое мовение от Государа Вашого через послов великих нам ознаймено будет. И мы тые речи ваши выслухали и вразумели гораздо. Ино преж сего брат наш блаженное памяти Жикгимонт Август король присылал до нас посланника своего до рады присяглого писара своего державцу свислоцкого пана Михаила Гарабурду, просечи у нас миру и доброе земолвы и мы к нему выслали дворянина своего ближнее думы Григорья Лукияновича Скуратова да дьяков Андрея и Василия Щелкановых, и на том договорили, што было нам брату своему поступитися Полоцка и полоцких пригородков и курские земли за Двиною, а брату было нашому нам поступитися нашое отчизны Лифлянтское земли по реку Двину и было нам обема с братом своим одностайне против бесурман за хрестианство за один и на том есьмо пожаловавши с великою своею ласкою Михаила Гарабурду к брату своему Жикгимонту-Августу королю отпустили. А приказали есьмо к брату своему с Михайлом о послех, штоб брат каин послов к нам не посылал без обсылки, што многие дела наши нас зашли. И как наши дела поминовалися и мы послали к брату своему гонца своего Ивана Бибикова и брат наш не ведаю каким обычаем гоньца нашего задержал с три месяцы, к нам не отпустил и прислал его к нам к билину (?) дню а с ним отписал коротко, што к нам брат нас присылает своих послов месяца октебра 1 дня с Покрова светов Богородицы, а про то дело о чем Михаила Гарабурду к нам присылал как бы на сторону откладывая у волокиту. А послов своих на дальше роки откладывая у волокиту (?), а как гонец наш Иван Бибиков к нам приехал и нам тот час в борзе учинилосе уведоми, што Божья воля стала ся, брата нашого Жикгимонта-Августа короля в животе не стало и после того в сентебри месяцы прислали к нам Рады коруны Польское и Великого Княжества Литовского ты, Францышок Красиньский бискуп краковский, подканцлеры коруны Польское, Валериан бискуп виленский, Миколай Юрьевич Радзивил воевода виленьский, канцлер Великого Княжества Литовского, староста лидский и мозырьский, державца борисовский, Стефан Андреевич Збаражский воевода троцкий, Остафей Богданович Волович кашталян троцкий, подканцлерый Великого Княжества Литовского, староста берестейский и кобринский, Ян Еронимович Ходкевич староста жомойстский, маршалок земский Великого Княжества Литовского, староста ковенский, державца плотельский и тельшовский, Федора Зенькова Воропая с грамотою, а в грамоте своей к нам писали, извещаючи о Государи своем о преставлении и жалуючи о том, а нас яко Государя хрестианского просечи на то, штоб мы на кровь хрестианскую не стояли, ани прагнули и по всем бы пограничным местом росказати велели до перемирного року светого Петра и Павла войны невсчинати и задоров никаких чинити не велели, а на ваши бы послы дати свою опасную грамоту в доброй змове. И мы как ест господари хрестианские жалуючи о хрестианстве и не радуючисе о незгодах хрестианских, о брата своего смерти поскорбили, занеже тем проставлением брата нашего многие дела к добру хрестианскому порушилися и для покою хрестианского склонность и прихильность учинили есьмо хрестианству, опустивши свою Государскую честь и прибыток в такую вашу незгоду для хрестианского обычая не склонилисе есьмо мечем и воинским обычаем на вашу землю и вашего гоньца Федора Зенькова Воропая приняли есьмо, как приймают от брати своее гоньцов и, выслухавши милостиво, к паном Радом отпустили есьмо и на послы свою опасную грамоту послали есьмо и чаяли есьмо от панов Рад Коруны Польское и от Великого Княжства Литовского наскоро послов. Ино к нам во всю зиму послы не бывали, а преже того послали есьмо к брату своему гоньца своего Василия Васильевича сына Малыгина, штоб доброе дело ранее деялосе, а тые вжо нам вести носилися, што брата нашого не стало и мы для покою хрестианского наказ Василью дали и велели есьмо своему гоньцу и к паном Радом ити и грамоту свою к ним особную послали и опасную грамоту к ним послали своим гоньцом. И паны Рады Великого Княжества Литовского о том ничего не сделали, а после того многие паны и писари Великого Княжства Литовского писали к нам многие грамоты баламутные, а просечи того, штобы мы отпустили сына своего царевича Федора на государство, а иные просили рати с сыном нашим, а собе от того просили упоминков, соболей и лисиц, чого ни в которых государствах не ведется, што государю ехати без договору и мы как есть Государи хрестианские на тую баламутню ни на что не смотрели есьмо, а искали и хотели всего лутчого к прибытку всего хрестианства. И после того прислали к нам Великого Княжства Литовского Валериан бискуп виленский, Миколай Пац бискуп киевский, Миколай Юрьевич Радзивил, княже на Дубинках и Виржах, воевода виленский, канцлер Вел. Княж. Лит., староста лидский и мозырский, державца борысовский, Шчефан (siс) Андреевич Збаражский воевода троцкий, Остафей Волович пан троцкий, подканцлеры В-го Княжства Литовского, староста берестейски и кобрыньский, Ян Еронимович Ходкевича кграбя на Шклове и на Мыши, староста жомойтский, маршалок земский В-го Кн. Лит., староста ковеньский, деряжвца плотельский и тельшовский, Станислав Миколаевич Пац воевода витебский, державца суражский, Юрий Василевич Тишкевич логойский воевода берестейский, державца волковыский, Миколай Янович Тальвойш кашталян земли Жомойское, Юрий Миколаевич Зенович державца лепельский, Григорей Волович, кашталян новгородски, староста слонимский, Павел Пац кашталян витебский, Миколай Нарушевич подскарби земский В. Кн. Лит., державца марковский, ушпольский, пенянский и мядельский, Миколай Крыштоф Радзевил княже на Олыце и Несвижу, маршалок дворный Великого Кн. Лит., Ян Станиславович Кишка крачни В. Кн. Лит. и иные Панове Рада писаря до рады присяглого Михаила Гарабурду, просечи нас на государство, штоб мы волю свою и хотение изъявили, как нам быти на Коруне Польской и на Великом Княжстве Литовском. Ино мы как ест Государи Хрестианские всю свою волю и хотение изъявили и приказали з Михаилом Гарабурдою о всем переговоря сами из своих Царских уст как своими прирожоными людьми, как нам быти на Коруне Польской и на Великом Княжстве Литовском Государем и ваших прав и поведеней ничим ненарушили. А послом было быти у нас на тройцын день и мы конечно на Петрова заговейна (?). И ныне вы прислали к нам коруны Польское и Великого Княжства Литовского Панове Рада гоньцов своих Андрея Тарановского да Федора Зенькова с грамотою и што в грамоте своей к нам писали есте и мы тому вельми удивляемся, што какое дело великое вы панове Рада чеснейши и старши опустивши, а о малых и пограничных делех почали писати, што в Трейданьском городку нашое отчины Лифлянтское земли вашим людом от наших людей обиды учинилиси, также и припоминаючи, што с Михаилом Гарабурдою о том всказано, а то было можно и пограничным державцом расправили, мы тогдыж писали о том бояром и воеводом и всим пограничным державцом, а велели во всих пограничных местех зыскиваючи в обидных делех оправы чинити. И также и потому удивляемся, просивши нас на государство, да так скоро с нами и необослався, што обираете собе государа на государство. Объявляете нам, што есте обрали собе на государство князя Андрыха Андыкгавеньского, Борбоньского и Альвенерского в роду великих и з давных государей французского королевства и опасное есте грамоты на государа своего послов просили и покамест король Ендрих, пришед на ваше государство, с нами не обошлется и нам на королевы послы безыменно, не обослався с вашим Государем, опасное грамоты давати не пригоже. А гоньца есьмо вашого Андрея Тарановского велели роспросити околничему своему и наместнику Мелшгородскому (sic) Василию Ивановичу Умного (siс) Колычову да ближнее думы дворянину своему князю Борису Давыдовичу Тулукову стародубскому, наместнику старорускому, да дьяком своим Андрею да Василию Щелкановым, которым обычаем так учинилося, што присылали к нам и просили нас на государство, а вы ныне прислали с тым, што есте обрали собе на государство князя Ендрыха. И гонец ваш Андрей Тарановский околичному (sic) нашому Василию Ивановичу Умного (sic) Колычову с товарищи объявил, што у вас обычай ведется, как нестанет которого Господара, ино носылают в то государство из многих государств послов и гоньцов о государстве, а у нас потому же вы чаели послов или гоньцов. А хотели есте нашого государства, а ждали недель с шесть, ино потому продлилося, што во всих государствах ведется, в котором государстве государство обновится и с того государства посылают по всим государствами. А се и потому не послали есьмо посла или посланника, што коруны Польское ты Францышок Красиньский бискуп краковский, а из Великого Княжства Литовского панове Рада Николай Пац бискуп киевский, Миколай Юрьевич Радзивил княже на Дубинках и Биржах, воевода виленьский, канцлер В-го К. Лит. старосталидский, мозырский. державца борисовский, Щефан (sic) Андреевич Збаражский воевода троцкий, Остафей Волович пан троцкий, подканцлеры В-го К-а Лит. староста берестейский и кобринский, Ян Еронимович Ходкевича кграбя на Шклове и на Мыши староста жомойтский, маршалок земский В. Кн. Лит., староста ковеньский, державца плотельский и тельшовский, присылали к нам гоньца своего Федора Воропая и на послы свою опасную грамоту с Федором Воропаем послали есьмо, да и потому, што Михаил Гарабурда к нам приезжал о том же деле и мы чаяли потому ужо большое дело свершится и вы бы о том нас для того неподивили, што от нас послов не было к вам за тыми причинами, што чаяли вжо делу совершения, а такое волокиты не чаяли есьмо. Да тот же гонец Андрей сказывал, што у вас улажено до светого Мартина Королевичу Андрыху быти у вас, а только к тому сроку он не поспеет, ино вам искати иного тосудара собе, а без государа вам быти нельзя долгое время. И вы бы похотели нашого государства, а мы как ест государи хрестианские того хотим, штоб ку збавлению и высвобожению от бессурмен всего хрестианства к покою и к прибытку и посылаем к вам ближнего своего дворянина и наместника Иванегородского Михаила Васильевича Колычева да дьяка Петра Ерша Михайлова, а с ними накажем вам росказати, на чом Михайло Гарабурда к нам приезжал и што мы с Михайлом приказали, как нам быти на Коруне Польской и на Великом Княжстве Литовском, што наша воля. А ныне посылаем к вам гоньца своего вскоре после ваших гоньцов и свою опасную грамоту на ваши послы Коруны Польское и Великого Княжства Литовского послали есьмо. А как будет у вас наш гонец и выбы на наши посланники с нашим гоньцом прислали свою опасную грамоту одностайне Коруны Польское и Великого Княжства Литовского, штобы нашим посланником приехати и отъехали добровольне без всякого задержания со всими их маетностями, а будет у вас и ваш бы Государ тогды наших посланников потомуж отпустити велеть не задержал. А мы ныне для покою хрестианского уложили держати перемирие от успеньева дня пречистое Богородицы п. в., а до тых мест и за срок, покамест послы и посланники межи нас доброе дело постановят, и по всем граничным местом бояром, воеводам и головам заказали есьмо войною входили не велели, и зацепок и задоров чинити не велели до того сроку и за срок, покамест межи нами послы и посланники сходят и межи нас ссылки будут и доброе дело постановят на покой всего хрестианства и выб потомуж заказали и закрепили по всим пограничным местом до того сроку и за срок задоров и зацепок чинити не велели, до коих мест доброе дело постановят. А будет и король у вас будет и королю с нами обослатися, а войны и рати не обослався межи себе нам до того сроку и за срок не вчинати и задоров не чинити на обе стороне, а своего гоньца к вам посылаем вборзе и опасную свою грамоту на ваши послы с ним посылаем и вы бы съехався посполито Панове Рада Коруны Польское и Великого Княжства Литовского к нам нашого гоньца не задериваючи отпустили и к нам о всем отписали, а на наши посланники с нашим гоньцом лист опасный прислали на скоро, штоб нашим посланником приехати и отъехати добровольно, штоб в том мешкания не было, а наши посланники ждут опасное грамоты с нашим гоньцом в Полоцку. А вашого есьмо гоньца Андрея Тарановского с сею своею грамотою к вам воскоре не задерживаючи отпустили – Писан Государства нашого отчины Великого Новагорода лета от создания миру 7,081. Июля 15 дня Индикта 1. Государства нашого 39, а Царств наших Российского 26, Казанского 21, Астраханского 18.
Копия письма Иоанна к литовским вельможам
Начало такое же, как и в первом письме, а потому пропущено. (Из Несвижского архива князей Радзивиллов. Teka I, 62Ь.)
<…> и мы тое грамоты выслухавши, подивилисе есьмо таковому неуставичному делу, што вы ианове честейшие и старшие так учинили, приведши к таковому великому делу совершенно и выведавши у нас всякое таемное дело наше. А мы по вере вашое присылки по хрестианскому обычаю без всякого лукавства, што есте все большие люди, старшие присылали ближнее думы до рады присяглого писара Михаила Гарабурды и мы потому с ним и говорили милосно, без лукавства по своему хрестианскому обычаю, как с своим с верным прирожоным и волю свою и хотение объявили, как нам быти на государстве на коруне Польской и на Великом Княжстве Литовском, и выведавши нашу тайную мысль, наши дела тайные нашим недружьем во всю землю извещаете, а хрестианского дела и покою хрестианскому не делаете И мы тому удивляемся, которым обычаем королевича французского полюбили собе на государства мимо нашего государства, как бы на розлитие крови всего хрестианства, занеже французский по турсково солтана присылце будет, с ним во дружье и в послушание к французскому будучи у вас на государстве по турсково солтана велению быти с нами и с цесарем в недружье и то всему Хрестианству будет по многому кровопролитие и вы-б, Панове, попаметовавши на свое хрестианство и наводцы на зло хрестианское не были и того доброго дела, што к покою и к пожитку всего Хрестианства, не опустили и о то постаралисе, штобы тое доброе дело к покою и пожитку всего Хрестианства свершилося. А как у вас нашому государству быти и мы тому подлинно письмо дали Михаилу Гарабурде и што будет вам в том письме супротивно, ино на то послы да розговорят. А мы ныне на то на все шлем к вам, к обема Радам коруны Польское и Великого Княжства Литовского посланников своих ближнего своего дворянина Михаила Васильевича Колычева, наместника Ивангородского, да дьяка Петра Ерша Михайлова о том, о всем вам изъявити и вы бы, Панове, сослався с паны Радами короны Польское прислали к нам на посланники наши опасную грамоту приехати нашим посланником и отъехали к паном Радам короны Польское и Великого Княжства Литовского добровольно со всими их маетностями без всякого задержания, добровольне. А што есте писали к нам о перемирном часе, о границах и мы как есть государи хрестианские для покою хрестианского уложили есьмо перемирие держати от успеньева дня пречистое Богородицы на год лета 7,081 от (sic) успениева дня пречистое Богородицы на год лета 7,082, а за тот срок, покаместо межи нас послы доброе дело постановят и по всем пограничным местом бояром, воеводам и головам и заказали есьмо войною за рубеж по всим пограничным местом не ходили, задору и зацепок не чинити, а выб потомуж пограничным местом велели заказами и закрепили, штоб обид и задоров по всем пограничным местом чинити не велъли до того сроку и за срок, покаместо межи нас послы доброе дело постановят. А што есьте писали к нам опасное грамоты на послы великие и мы посылаем к вам гоньца своего Семейку Григорьева, сына Бутикова и с ним к вам грамоту опасную на великие послы коруны Польское и Великого Княжства Литовского послали и вы-б съехався, где пригожо, короны Польское и Великого Княжства Литовского панове Рада ранее, штоб тому доброму делу волокиты не было и гоньца нашого Семейку Бутикова к нам отпустили незадержав. И на наши посланники посполиты панов Рад коруны Польское и Великого Княжства Литовского свою опасную грамоту с нашим гоньцом Семейкою к нам прислали, а вашего есьмо гоньца Федора Зенькова отпустили к вам не задержав без всякого задержания и грамоту свою с ним послали. Писан государства нашего отчины Великого Новагорода лета от создания миру 7,081 (1573) июля 15. Индикта 1. Государства нашого 39, а Царств наших Российского 26, Казанского 21, Астраханского 18.
II.
В Книге польских посольств (№ 2, стр. 300–304, московский арх. мин. иностр. дел) так описывается пребывание Воропая в Москве.
Лета 7080 г. приезжал к царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русин короны польское и великого княжества Литовского от панове рады от Франциска Красинского, бискупа краковского, да от Велирцыиана, бискупа виленского, да от воеводы виленского от Николая Юриевича Радивила, от Стефана Збаражского, воеводы троцского, от Остафея Волока каштеляна троцкого, от Яна Еронимова старосты жомойтского, гонец Федор Венков с грамотами. А Государь в те поры был в столице, а в грамотах паны рады писали о том, што Государь их Жигимонта короля не стало и Государь бы на незгоду их не стоял и ко всем бы панствам и землям государя их держал мир по своей перемирной грамоте а войны не подносил и рати не всчинал и в землю в ифлянскую вступатися и воевать не велел до перемирного сроку и лист свой опасный на большие послы их до них через посланца их послати рачил и до коих мест послы будут и до тех бы мест с обе стороны мир и покой держати. А правил гонец от панов рад Государю челобитье, да привез к Онтонию митрополиту, да ко князю Юрию Такмакову грамоту, а писали Юрия боярином и наместником и воеводою московским и Государь царь и великий князь литовского гонца отпустил, а послал с ним к панам радам грамоту. А в грамоте писано, што Государь о смерти Жигимонта короля велие жалоствует, да о том, што бесерманская рука высится а хрестианская рука ущипок примает а государи крестиянские изводятся и оскудевают, а бесерманские государи размножаются; а государь жалеючи незгоды хрестиянские и видечи их склонност для покою христианского хочет додержати мирное постановенье по перемирным грамотам до тех мест, как послы их у Государя будут и договор учинят и наместникам и воеводам по городам заказать велел, штоб ни в чем не задирали и ратей и войны не вчинили и городов и земель не заседали и новых городов не ставили и о всем бы были покойно по перемирным грамотам, доколе послы их у государя будут; а ониб потомуж во всех городех воеводам и наместником и державцом и справцом заказали. А што писали к лифляндской земли, штоб в нее не вступатися и воевати не велети и о том прежде того присылал к Государю Государь их Жигимонт король Михаила Галабурда (sic!), просячи о Государеве отчине, о полоцкие и о всем повете полоцком, а Государю поступаючи лифлянские земли и Государь на том велел приговорить, што тому делу так меж Государей их быть; а ныне и с ними по тому же хочет и потому не возможно статися, што Государь своей отчины Лифлянской земли не очищати; а ведь многие городы лифлянские за свейскими и от свейского без престани многие грубости Государю и того Государю терпеть не возможно, а литовские ведь люди там живут. Притом же и ониб паны рады похотели покою крестьянству таким невеликим делом Государя потешили на приговор Государя своего утвердили как прежде того Государь их тое государство вотчины хотел Государю поступитеся, а лифлянскую землю покою крестьянского и избавы от бесерман не нарушивал и послов бы своих прислал не мешкаючи да и опасную грамоту на послы их Государь с гонцом их послал а титло в обиих грамотах писано по прежнему с полоцким и смоленским и лифлянским; да прибавлено в титле перед прежним самодержавец. А после того был посланник на государеве дворе у бояр у князя Ивана Федоровича у Мстиславского, да у Михаила у Яковлевича Морозова, да у Никиты Романовича Юрьева и бояре посланнику говорили, што митрополит Антоней правит на Москве свой святительской престол, а князь Юрей в отъезде а пишут князя Юрия паны рады боярином и наместником и воеводою московским не гораздо и князь Юрий у Государя не боярин и не наместник воевода. Да послали к панам радам грамоту о том же, што и в государеве грамоте писано, да приказали с ним к панам радам поклон. А был гонец у государя трижды, а на приезде ел у Государя, а стол был у Государя в столовой избе, а сидел гонец на окольничем месте, а подача ему была после больших дворян. А после стола ездил его подчинять на подворье с меды Михайло Темирев; а стола дождался гонец на приезжем дворе; а являл посланника дьяк Василий Щелкалов, а дары являл печатник Роман Ольферьев, а приезжая гонец к Государю ссадился в городовых воротех, а наперед себе Государь велел распрашивать его дьяку Василию Щелкалову, для чего гонец ездил и от кого, а после того как гонец был у Государя расспрашивал его о королеве смерти и о всяких дел Малюта Скуратов, дьяки Василий Щелкалов, Афанасий Демьянов, а пристав у него был в дороге и на Москве Михайло Темирев.
А как Государь посланника отпустил и посланник бил челом, штоб ему позволил послать наперед человека и Государь его пожаловал человека велел отпустити и корм дати. А людей было с посланником сорок человек да шестьдесят лошадей.
Примечания
1
Перемирные грамоты Иоанна и Сигизмунда-Августа от 1570 г. у кн. М. Щербатова (Ист. Рос., т. V, ч. IV, № 16, стр. 92—123), в Книге посольской метрики Великого княжества Литовского, ч. I, №№ 191 и 192 и в Сборн. Имп. Рус. Ист. Общ., т. LXXI, стр. 724–734.
(обратно)2
Г. В. Форстен. Балтийский вопрос, т. I, 532–540.
(обратно)3
Akta podkanclerskie Pranciszka Krasinskiego. Bibljoteka Ordynacji Krasinskich Rok 1870, № CXXIX.
(обратно)4
Bibl. Ord. Eras. Rok. 1871, стр. 60.
(обратно)5
Г. В. Форстен. Акты и письма к истории Балтийского вопроса в XVI и XVI ст. (Записки Историко-филологического факультета С.-Петербурского университета, т. XXI, стр. 128, № 54).
(обратно)6
Bibl. Jrd Kras. Rok. 1870, стр. 167, 201, № CLVIII.
(обратно)7
Об этих происшествиях мы почерпаем сведения из двух источников: литовского и московского. Подробности, сообщаемые тем и другим, согласуются между собою, расходясь только в том, что литовский источник умалчивает об оскорблениях, которым подвергались Москвитяне, а московский представляет обиды, который наносились посольству, как наказание царя за дерзкое поведение послов. См. Despekty i obelzywosci, ktore siy dzialy nam poslom I. K. Moscl etc. (A. Przezdziecki, Jagiellonki polskie V. 116–172 по-польски и по-латыни у Aug. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum illustrantia II. 752–737) и Сборн. Рус. Имп. Общ. LXXI. 713–715, 723.
(обратно)8
L. Gornicld, Dzieje w Koronie polskej (Dziela wszystkie Warszawa 1886. t. III. 236).
(обратно)9
Приключение с литовским писарем Иоанн приказал послам, которых он отправил в Польшу для ратификации перемирного договора, так объяснить: «…и Ондрей учал соболи на землю метати и в те поры прилучился царского величества приказный человек Булат Дмитреевич Арцыбушев и он с Андрея снял юпу для соболей, чтобы соболем в грязи убытка не было и хватил невежливо и за то царское величество на Булата словесную опалу великую наложил» (Сборн. Рус Имп. Общ. LXXI. 786). Аббат Цир, состоявши при дворе Сигизмунда-Августа посланником, со слов одного из литовских послов изображает в письме к императору Максимилиану II сцену еще более сильную. Послы являются во дворец. Разгневанный царь, окруженный опричниками, начинает грозно кричать на послов. Опричники готовы броситься на них, чтоб их перебить. Жизнь послов находится в опасности. Тогда перед разгневанным Иоанном бросается на землю митрополит (Кирилл) и молит даровать жизнь послам. Царь смягчился, и послы были спасены.
(обратно)10
Despekty i obelzywosci etc., op. cit. V. 171. Факт ограбления Армян и Греков подтверждается самим Иоанном: «…и мы о тех о всех статьях справливались с казначеи и с дьяки царского величества и они нам сказывали, что те кони и товары иманы в цене царского величества у арменьи и у греков и в прежних обычаях того не было, чтоб с литовскими послы арменья и греки приходили» (Сборн. Рус. Имп. Общ. LXXI. 757–758).
(обратно)11
См. Alexandri Giuignini Veronensis Omnium Regionum Moscoviae Descriptio (A. Starczewski, Historiae ruthenicae scriptores exteri I. 41–43). Этот писатель изображает ужасные сцены. По его счету, было перебито до 160 человек; некоторых царь собственноручно умерщвлял. Мы знаем, что сочинение Гваньини считается памфлетом, но такой общий приговор, по нашему мнению, не может мешать нам пользоваться – с должной, конечно, осторожностью – этим сочинением, как историческим источником: ведь и памфлетист может сообщить много верного, чтобы придать своему памфлету характер правдивости. К сожалению, критического разбора сочинения Гваньини мы не нашли. Чиполля (Carlo Cipolla, Un Italiano nella Polonia e nella Svezia tra il XVI e il XVII secolo в Miscellanea di storia italiana t. XXVI p. 585) принимает сообщения Гваньини о жестокостях Иоанна на веру. Но известие об избиении литовских и польских пленных подтверждается автором рассказа «Despekty и obelzywosci» (1. с. V. 171–172). О пребывании польско-литовского посольства в Москве мы имеем еще сообщение флорентинского купца Тедальди, проживавшего в московском государстве долгое время (см. Purling, Un nonce du pape en Moscovie. Paris 1884, p. 173–174). По его словам, Иоанн не обращался так дурно с послами, как об этом ходили слухи: послы сами своими насмешками над Москвитянами и своим поведением раздражали Иоанна; особенно сильно рассердил его еретический проповедник (Рокита), которого они привезли с собой. В рассказе Тедальди замечается желание представить Иоанна лучше, чем он был на самом деле: Пирлинг (Papes et tsars, p. 208) называет Тедальди апологетом царя. Что оскорбления посольства были сильны, доказывает тот факт, что Стефан Баторий припоминал впоследствии Иоанну эти оскорбления, считал их оскорблениями самого короля и приводил их как один из поводов, вследствие которых он объявляетет царю войну, см. Acta Stephani Regis (Acta historica res gestas Poloniae illustrantia t. XI № CXIV, стр. 167).
(обратно)12
Сообщение аббата Цира (Вен. госуд. арх.) императору Максимилиану (письмо от 28 августа 1570 г.).
(обратно)13
Сообщение Цира 28. XL 1570 (Вен. Госуд. Арх.). Из Москвы возвратился Шлихтинг, бывший в плену семь лет; он рассказывает ужасы о жестокостях царя и подтверждает сообщения послов. Ita ardent vindictae cupiditate Poloni, quod omnibus rationibus bellum serenissimo regi contra exhaustum fame, peste, externis et domesticis caedibus barbarum persua dere satagunt…
(обратно)14
Н. Н. Бантыш-Каменский. Переписка между Россией и Польшей по 1700 год. Чтения в Общ. Ист. и Древн. Рос, 1860. IV (книга четвертая), стр. 135–136.
(обратно)15
См. Instrukcja sejmu Warszawskiego 1571 г. Bibl. Ord. Kras. Rok 1871 № CCCXC, стр. 452 и Тургенев, I. № СЫХ.
(обратно)16
Ратификация происходила 8-го мая 1571 г. (см. Н. Н. Бантыш-Каменский. Op. cit., стр. 135).
(обратно)17
А. Малиновский. Исторические доказательства о давнем желании польского народа присоединиться к России. Общ. Ист. и Древн. Рос. Москва, 1833. VI, стр. 12.
(обратно)18
В искренность посольского заявления нельзя верить уже хотя бы потому, что послы были враждебно настроены к Иоанну за те обиды, которым они подвергались в Москве. Кроме того, неискренность этого заявления явствует из самих слов послов. После заявления о том, что польско-литовский сенат склоняется к Иоанну и его потомству следуют слова: «и ты б, великий государю, опатрил по тому письму нашему, что есмя дали список рубежом полоцкому повету и иншим замком рубежа, велел своим бояром по тому перемирное постановение делати». Что Иоанн понял уловку послов, показывают его слова: «…А коли уж вам хотение к прихильности и вам пригоже нас не раздражати, а делати так, на чем есмя велел…» (см. Сборн. Имп. Рус. Ист. Общ., т. LXXI, стр. 677).
(обратно)19
Соловьев. История России (изд. 1894), кн. II. 204.
(обратно)20
А. Малиновский. Стр. 14–15, Соловьев. II. 204, Сборн. Ими. Рус. Ист. Общ., т. LXXI, стр. 803.
(обратно)21
Аббат Цир (Веп. Госуд. Арх.) сообщает императору Максимилиану, что московское посольство имеет весьма важные полномочия.
(обратно)22
Н. Н. Бантыш-Каменский, 1, стр. 137.
(обратно)23
Письмо литовских сенаторов к польским от 14-го сентября 1572 года: московский гонец прибыл с письмами к королю; невозможно допустить, чтобы великий князь не знал о смерти короля; поэтому тут кроется что-то недоброе; пусть паны коронные сообщат поскорее свое мнение; когда гонец приблизится к Вильне, он будет задержан на время перед городом (собрание документов, относящихся к безкоролевью 1572–1574 гг. в львовской библиотеке гр. Баворовских, лист 227).
(обратно)24
Ход дипломатических сношений Речи Посполитой с Иоанном представляется в исторических сочинениях неопределенно или даже сбивчиво, что объясняется отсутствием даты в документе, дающем нам отчет о посольстве Воропая (Тургенев, I. 229–232). Карамзин (IX. 215–219, изд. 1852) относит, по-видимому, аудиенцию этого гонца у Иоанна к сентябрю 1572 г., ибо, передав слова царя Воропаю, продолжает рассказ следующим образом: «За сим Иоанн, в глубокую осень, выехал из Москвы, с обоими сыновьями, чтобы устроить войско в Новегороде и сдержать данное королю шведскому слово», т. е. начать с ним войну, а из примечания 412 явствует, что царь выехал из Москвы 21-го сентября. Соловьев, кн. II (изд. 1894 г.) столбец 239, замечает, что «от приезда Воропая до приезда нового посла литовского, Гарабурды, прошло месяцев шесть», т. е. относит аудиенцию Воропая тоже к сентябрю, так как Гарабурду царь принимал в конце февраля 1573 года. Трачевский (Польское безкоролевье, Москва, 1869, стр. 252) выражается слишком туманно: «В начале 1573 года Иоаан Грозный получил разом несколько грамот из Польши и Литвы. Около того времени, когда он выслушал просьбу Литовцев, привезенную его собственным гонцом, в Москву прибыл Федор Зенкович Воропай». Московский гонец был в Литве в конце сентября, Иоанн уехал из Москвы 21-го сентября в Новгород и был там еще в начале 1573 года, поэтому изложение Трачевского надо признать сбивчивым. Между тем сам Иоанн указывает на сентябрь, как на время, когда он принимал Воропая (см. прибавление I). Трачевский (1. с. 252) считает инициаторами посольства Воропая панов, присутствовавших на кнышинском съезде, но это неверно. Постановления кнышинские подписали одни лица (см. Bibl. Ordyn. Kras. Rok 1871. 426–427), Иоанн же в своем письме (см. то же прибавление) называет других лиц, как тех, которые прислали к нему Воропая.
(обратно)25
См. прибавление II.
(обратно)26
Утверждаем это вопреки Соловьеву, op. oit. II кн., столб. 204.
(обратно)27
Тургенев, I. 230.
(обратно)28
См. Трачевский, op. cit. Примечания, стр. 101.
(обратно)29
Венецианский посол Липпомапо выражается о событиях безкоролевья после бегства Генриха таким образом: «говорят, что народ литовский и русский хотел бы видеть его (т. е. Иоанна) польским королем и что он имеет не менее многочисленную партию, как и всякий другой претендент на корону, особенно между крестьянами, но они мало ему помогут, ибо к избирателям не принадлежат», см. Relacje jiuncjuszow apostolskich i imiych osob w Polsce. Berlin – Poznan, t. I, 280.
(обратно)30
См. письмо папского нунция Коммендоне от 12-го сентября 1572. года. Тургенев I, 224. № CLX.
(обратно)31
См. «Грамоту московского царя Иоанна Васильевича литовским радным панам в ответ на предложение и литовско-польского престола сыну его, царевичу Феодору» в «Акты, относящиеся к истории Западной России» III, 161, № 55. Матвеев был отправлен после Воропая, что явствует из след. слов грамоты: «что есте присылали до нас гонца своего Стефана Матвеева с грамотою и в той грамоте своей к нам писали есте: ведомо уже нашей милости есть, что великого государя Жигимонта Августа, короля и великого князя, брата нашего, а вашего государя, в животе не стало…» Можно предположить, что вопрос об избрании Феодора обсуждался на сеймике в Рудниках и что Матвеев был послан к царю с этого именно сеймика. В грамоте говорится дальше так: «а вы, рада, и також княжата и панята и все рыцерство…»
(обратно)32
W. S. hr. de Broel-Plaier. Zbior pamietnikow de dziejow polskich Warszawa, 1838, II, 20. Грамота, данная Гарабурде, имеет такую пометку: pisan w Rudnikach roku Bozego 1572, miesieca oktobra 27 dnia. He ошибка ли это? Сеймик в Рудниках происходил в конце сентября, и едва ли он затянулся на целый месяц. Грамота, которую Гарабурда должен был представить царю, носит дату 27-го сентября (об ней ниже). Дата эта, кажется, вернее. Трудно предположить, чтобы литовские паны вторично собирались в Рудники в октябре. Гарабурда предстателял отчет о своем первом посольстве к Иоанну на рудницком сеймике в конце сентября (Тургенев, I, 226») и тогда же он получил, вероятнее всего, новые полномочия посольские к Иоанну.
(обратно)33
Акты, относящиеся к истории Зап. Рос, III, 162, № 56.
(обратно)34
См. Relacja poselstwa Michała Haraburdy (К. Sienkiewicz, Skarbiec historji polskiej, II, 63–77): Roku 1572 Grudnia 29 dnia będąc mnie Michaiłu Haraburdzie posłanemu и рук. Ими. Пуб. библ. лат. F IV 33.
(обратно)35
См. также Тургенев, I, 237–242, № CLXX.
(обратно)36
См. письмо Ходкевича от 9-го января 1573 г. к польским сенаторам в рук. Лат. F. IV. 33 и К. Sienkiewicz, op. cit. II. 271–273. Письмо это переведено на немецкий язык и помещено в Mittheilnngen aus dem Gebiete der Geschichte Liv, Est und Kurlands. Riga, 1847. IV.
(обратно)37
Hejdensztejn, Dzieje Polski. I. 26; Тургенев, I. № CLXV и CLXVIII.
(обратно)38
Таковы доносы князя слуцкого Юрия Олельковича и минского каштеля на Ивана Глебовича. Heidmsztejn, I. 46. Plater, Zbior pamietnikow III. 21 и Chr. Varsevicii Rerum polonicarum libri III. (Krzysztofa Warsze wickiego niewydane pisma zebral i wydat T. Wierzbotvski, Warszawa, 1883, стр. 26–27).
(обратно)39
Конвокационный сейм назначен был на 6-е января 1573 года. Гейденштейн ошибочно указывает в одном месте (I. 35) 6-е февраля, как начало сейма, но в другом месте (I. 42) он сам исправляет эту ошибку. День открытия конвокационного сейма определяется лат. рук. F. IV. 33 в Публ. Библиот. и словами грамоты, посланной литовским вельможам со съезда в Мсцибове (К. Senkieivicz, op. cit. II. 48–49).
(обратно)40
Orzelski, I. 102, рук. Лат. FIV, 36, pag. 80 в Публ. Библ.
(обратно)41
Оржельский называет его только Федором, но фамилию его мы узнаём из письма Иоанна.
(обратно)42
Это мнение Иоанна, сообщаемое Тарановским, подтверждает сам Иоанн в своем письме.
(обратно)43
Рассказ самого Тарановского (см. прибавление III) о посольстве совпадает с рассказом Оржельского (I, 154–156).
(обратно)44
Тургенев, I, 247, № CLXXIII.
(обратно)45
Письмо Тарановского и Оржельский (I, 156).
(обратно)46
См. письмо Иоанна к польским сенаторам; почти то же говорит и Оржельский, 1, 178–179.
(обратно)47
Письмо к литовским вельможам.
(обратно)48
Соловьев, II, 259. Акты, относящиеся к ист. Зап. Рос. т. III, 164–165, № 58 и письмо Тарановского (прибавл. III).
(обратно)49
См. летопись Рюссова в Сборнике материалов и статей по ист. Прибалтийского края. Рига. 1880, III, 219–221 и Соловьев, II, 259.
(обратно)50
Тургенев, I, 249–250. №№ CLXXV и CLXXVI. Настоящие имена послов узнаём мы из письма Иоанна (см. прибавление I): это были ближний дворянин и наместник ивангородский Михаил Васильевич Колычев и дьяк Петр Ерше Михайлов. У Тургенева имена эти переданы в искаженной форме.
(обратно)51
Оршанский староста Филон Кмита так выражался о посольстве Тарановского: «пан Тарановский не Литвы, але только своее одной жаловал шкуры, да на святого Михаила оного тирана за короля взяти обещал» (Акты Зап. Рос. III, стр. 179).
(обратно)52
Акты Зап. Рос, т. III, стр. 165.
(обратно)53
См. донесения Филона Кмиты. Акты Зап. Рос, III, 166–179.
(обратно)54
По словам Кмиты, гонец должен был прибыть к границам Речи Посполитой 9-го июня, см. Акты Зап. Рос, III, стр. 170.
(обратно)55
Тургенев, I, № CLXXVII и CLXXVIII. Данные, имеющиеся в источниках, не дают нам возможности понять причины, вследствие которых Иоанн отозвал послов, отправленных в Литву еще до приезда Генриха и почему они были заменены гонцом. Эти послы, возвращаясь из Литвы, находились в Смоленске еще в мае, см. Акты Зап. Рос, III, 170. Оржельский свидетельствует (I, 281), что на коронационном сейме был уполномоченный от Иоанна и что он остался недоволен тем ответом, который получил на свое посольство. Что это за уполномоченный, трудно сказать.
(обратно)56
Федор Елизарьев был в Орше 20-го июня, см. Акты Зап. Рос. III, стр. 173.
(обратно)57
Завадзский и Протасович были в Орше от 28-го до 31-го июля ib. III, стр. 173. Иоанн принимал их в Старице в половине августа ib. III, стр. 176.
(обратно)58
Перемирие было заключено от дня Успения Богородицы 1574 г. до Успеньева дня 1576 г. см. Тургенев, I, № CLXXVII и CLXXVII.
(обратно)59
Посол прибыл в Варшаву 7-го сентября: см. Ф. Вержбовский, Викентий Лаурео и его неизданные донесения кардиналу Комскому. Варшава, 1887, стр. 87–88. О таком заявлении посла говорят Оржельский (II, 40) и Лаурео (стр. 91). См. также W. Zakrzewski, Ро ucieczce Henryka. Krakow. 1878; стр. 227–228.
(обратно)60
Акты Зап. Рос., III, стр. 177.
(обратно)61
Они находились в конце сентября в Дорогобуже, ib. стр. 177.
(обратно)62
W. Zakrzewski, op. cit., стр. 227–228.
(обратно)63
Orzelski, II, 112–113.
(обратно)64
Orzelski, II, 115–117. Ф. Вержбовский, Викентий Лаурео, стр. 245, 251. Ф. Уманец (Русско-литовская партия в Польше 1574–1576, Журн. Мин. Нар. Просв. 1875, декабрь, стр. 264) считает письмо апокрифическим. «Очевидно, что это письмо было или написано в Стенжице от имени Граевского, т. е. было подложно, или было написано самим Граевским и заключало в себе заведомую ложь. При всей непоследовательности Ивана Грозного, он не мог настолько увлечься польской короной, чтобы присоединить к ней свое родовое московское государство на тех же условиях, на каких Ягелло присоединял некогда Литву. Невероятно также, чтобы при переговорах о польской короне он согласился обойти дипломатический этикет, т. е. избрать в посредники случайно заехавшего в Москву польского шляхтича. Вся фабула письма Граевского придумана, по всей вероятности, только для того, чтобы заинтересовать сейм его особой и вызвать ходатайство об его освобождении». То, что говорит историк, было бы, пожалуй, и основательно, если бы он не забыл объяснить нам, за что Литовцы посадили Граевского в заключение и что это было за подозрительное в глазах Ходкевича письмо, которое Граевский привез из Москвы, за которое он именно и угодил в тюрьму и которого Ходкевич не показал шляхте (Orzelski, II, 150).
(обратно)65
Orzelski, II, 45.
(обратно)66
Orzelski, II,112.
(обратно)67
Ф. Вержбовский, Викентий Лаурео, стр. 202. Аудиенция происходила 23-го мая.
(обратно)68
W. Zakrzewski, Ро ucieczce Henryka, стр. 134; Т. Wierzbowski, Jakob Uclianski, 556.
(обратно)69
Orzelski, II, 113.
(обратно)70
Щербатов, V, ч. 2-я, стр. 364; Соловьев, II кн., ст. 247.
(обратно)71
Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, изд. при упр. Вил. учебн. окр., т. IV, № 14.
(обратно)72
Orzelski, II, 79.
(обратно)73
Вержбовский, Вик. Лаурео, стр. 238, № 65.
(обратно)74
Акты Зап. Рос. III, стр. 182–184, № 60. Пометка документа датой 1574 г. неверна, так как Елчанинов уехал из пределов Речи Посполитой в самом конце мая или в июне 1575 года. Эти посольские речи московского государя передавал панам Речи Посполитой посланник Лука Захарьевич Новосильцов, а он уехал из Москвы в августе 1575 г. (см. Бантыш-Каменский, op. cit., стр. 145).
(обратно)75
В верительной грамоте, данной гонцу Бастанову, Иоанн так выражается: Nos quidern et nuntios ас internuntios ad vos mittimus, sed vos, Domini Consiliarii, internuntios et nuntios nostros ad vos non recipitis (Тургенев, I, стр. 269), а в письме к Ходкевичу от 21-го августа 1575 года так говорит:…а что еси говорил гонцу нашему Федору Елчанинову хотя нашим послом и посланником и без опасные грамоты ехати в государство в великое княжество Литовское – ино им дорога чиста и тому статись невозможно, что нашим послом и посланником без опасные грамоты к вам идти, потому во всех государствах повеления, что послы и посланники из государства в государства ходят по опасным грамотам, а без опасные грамоты над послы и посланники что ся сделает, того чем встречати… (Археограф, сборн. докум., относящихся к ист. Северо-Зап. Руси, IV, № 14). То же самое почти царь приказывал сказать и Новосильцову (Акты Зап. Рос. III, № 60).
(обратно)76
Щербатов, op. cit. т. V, часть 2-я, стр. 365; Тургенев, I, стр. 268, № CLXXXIII. Верительная грамота Бастанова носит дату 12-го июля 1575 года.
(обратно)77
Об этом очень часто говорит папский нунций Лаурео, см., напр. Вержбовский, В. Лаурео, стр. 245.
(обратно)78
Ib., стр. 257.
(обратно)79
Ib., стр. 250–251.
(обратно)80
Orzelski, II, 211.
(обратно)81
Вержбовский, В. Лаурео, стр. 285; Hejdonsztejn, I, 188 (польский перевод).
(обратно)82
Orzelski, II, 212.
(обратно)83
Щербатов. Оp. cit, т. V, ч. 2-я, стр. 365; Тургенев, I, 268, № CLXXXIII, Orzelski, II, 212; Вержбовский, В. Лаурео, 285.
(обратно)84
Вержбовский, Лаурео, стр. 285.
(обратно)85
Orzdski, III, 112.
(обратно)86
Ib., III, 128.
(обратно)87
T. Wierzbowski, Jakób Uchański, стр. 579, 584.
(обратно)88
Ф. Вержбовский, Викентий Лаурео, 378, 390 и др.
(обратно)89
Соловьев, II, стр. 251.
(обратно)90
См. посольство Кобенцеля и Принца (Памятники дипломатичеоких сношений древней России с державами иностранными, т. I, 481–567).
(обратно)91
См. об этом вопросе также Al. Kraushar, Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki, Warszawa-Kraków, 1882, II, 123–124.
(обратно)92
Acta historica res gestas Poloniae illusirantia, t. XI (Acta Stephani regis 1576–1582), стр. 3, № III.
(обратно)93
О. Вержбовский, Викентий Лаурео, стр. 374 – и того же автора Отношения России и Польши в 1574–1578 годах по донесениям папского нунция В. Лаурео (Журн. Мин. Нар. Проев., август, 1882, стр. 224).
(обратно)94
Ф. Вержбовский, Отношения России и Польши, 1. с, стр. 225.
(обратно)95
Al. Kraushar, op. cit., стр. 124.
(обратно)96
См. грамоту Иоанна к польским вельможам в январе 1576 г. (Щербатов, op. cit., т. V, ч. 4-я, стр. 160–163, № 25 и Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, I, 574–578).
(обратно)97
Щербатов, op. cit, т. V, ч. 4-я, стр. 163–169, № 25, и Памятники дипломат, снош., I, 578–584.
(обратно)98
Соловьев, II, 255.
(обратно)99
Ф. Уманец, Русско-литовская партия в Польше (Журн. Мин. Нар. Просв., декабрь, 1875, стр. 269).
(обратно)100
Ф. Вержбовский, В. Лаурео, стр. 332.
(обратно)101
Orzelski, t. III, стр. 195.
(обратно)102
A. Pawinski, Źródła dziejowe, t. VIII. (Skarbowość w Polsce i dzieje jej za Stefana Batorego), стр. 314–315.
(обратно)103
W. Zakrzewski, Stefan Batory. Przegląd historji jego panowania. Kraków, 1887, стр. 22–23.
(обратно)104
Reinholdi Heidensteini, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII. 1672, стр. 92.
(обратно)105
Письма Батория к Замойскому из Трансильвании войдут в собрание, которое готовит к печати Краковская Академия Наук.
(обратно)106
Heidensteini op. cit. 99.
(обратно)107
Orzelski, т. III, стр. 246.
(обратно)108
Т. Wierzbowski, Jakób Uchański, Warszawa, 1895, стр. 596–597 и Викентий Лаурео, стр. 421.
(обратно)109
3-го июня 1576 г., см. Źródła dziejowe, т. IV, стр. 19–22.
(обратно)110
Źródła dziejowe, III, статья А. Павинского «Stefan Batory pod Gdańskiem», стр. I–LXXII.
(обратно)111
Акты Зап. Рос, т. III, 191, № 67.
(обратно)112
Книга посольская Метрики Великого Княжества Литовского, Москва, 1843, т. II, №№ 1, 2, 3 и Acta Stephani regis, №№ XXVII, XXVIII и XXIX.
(обратно)113
Метр. Лит., П, № 6.
(обратно)114
Метр. Лит., П, №№ 9 и 10.
(обратно)115
Acta Stephani regis, стр. 163 («mowiae о nas uszczypliwie»).
(обратно)116
Вержбовский, В. Лаурео, 462.
(обратно)117
Acta Stephani regis, 38, № XXVI.
(обратно)118
В Тыкоцин Баторий выехал 10-го июля, см. Acta Sfephani regis, № XXVI, стр. 41, и Вержбовский, В. Лаурео, стр. 457.
(обратно)119
Źródła dziejowe, t. VIII, (A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego), стр. 325–326.
(обратно)120
Совет был созван в Кнышине на 23-е июля. Acta Stephani regis, № XXVI, стр. 41.
(обратно)121
Acta Stephani regis, стр. 50, № XXXIII.
(обратно)122
Ib., стр. 53, № XXXV.
(обратно)123
Сейм был созван на 4-е октября, но совещания начались только 19-го октября, ибо король прибыл две недели спустя после назначенная срока, см. Źródła dziejowe, VIII, 319.
(обратно)124
A. Pawinski, Skarbowość w Polsce (Źródła dziejowe, VIII, 320–324).
(обратно)125
Один из послов, Оржельский, автор замечательной истории польских безкоролевьев (1572–1576), прямо заявил в своей речи, что разделение посполитого рушенья повлечет за собой «celerum interitum» (очевидно, шляхты) и покажет путь в будущем «ad servitutem» (см. Bezkrólewia ksiąg ośmioro, tom wstępny, str. 33).
(обратно)126
Acta Stephani regis, 62, № XLII.
(обратно)127
Немало мутили на сейме и враги Батория, вооружая против него шляхту; они начали сноситься даже с императором и подумывать о низложении Батория, см. Hegdensztejn, I, 262, 264.
(обратно)128
Acta Stephani regis, № XLII, стр. 64.
(обратно)129
О немедленном снаряжении посольства король пишет уже 3-го января 1577 года, см. Acta Stephani regis, стр. 64, № XLIII.
(обратно)130
Акты Зап. Рос, III, стр. 206, № 78.
(обратно)131
Acta Stephani regis, стр. 79, № LIII.
(обратно)132
A. Pawinski, Skarbowość w Polsce za Stefana Batorego, стр. 328.
(обратно)133
Acta Stephani regis, стр. 67–72, № XLVI.
(обратно)134
А. Pawińslki, Skarbowość… стр. 330–332; Acta Stephani regis, стр. 81, № LXI.
(обратно)135
Hejdensztejn, Dzieje Polski, I, 266.
(обратно)136
Акты Зап. Рос, III, 209–211, № 82. Сеймики в Польше окончились уже в мае (Acta Stephani regis, 81, № LVI); литовский же сеймик происходил в июле.
(обратно)137
Acta Stephani regis, 82, № LXIII.
(обратно)138
Ливонский поход царя Иоанна Васильевича Грозного в 1577 и 1578 годах (Военный Журнал, издаваемый Военно-Учебным Комитетом, 1852 год, № 1, стр., 131: «7085 году, февраля в 10-й день, Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Руси, приговорил с сыном своим, с Царевичем Иваном Ивановичем, и со всеми бояры, прося у Бога милости, идти очищать свою отчину Вифлянскую землю, а с ними быти Великому Князю Семиону Бекбулатовичу Тверскому, иным боярам и воеводам, по росписи».
(обратно)139
Соловьев, История России изд. 1894, книг. II, стр. 206; Karl Heinrich von-Busse, Herzog Magnus, König von Livland, Leipzig, 1871, S. 55, 76; Th. Schiemann, Charakterköpfe und Sittenbilder aus der baltischen Geschichte des XVI Jahrhunderts, Mitau, 1877, S. 88; G. Rathlef, Der Fall Wendens (Baltische Monatsschrift, Bd. XXXV, S. 393), Г.В. Форстен, Балтийский вопрос, I.
(обратно)140
Busse, 56–79.
(обратно)141
См. выше.
(обратно)142
Busse, 91.
(обратно)143
Orzelski, II, 166.
(обратно)144
Busse, 95 и см. выше.
(обратно)145
Busse, 95–96.
(обратно)146
Акты Зап. Рос., III. 182, № 60. Дата документа 1574 год неверна, ибо Лука Новосильцев отправлен был из Москвы в конце августа 1575 г. (см. Бантыш-Каменский, ор. cit, стр. 145: Щербатов, т. V, ч. 2, стр. 367).
(обратно)147
Busse, 100.
(обратно)148
См. письмо Батория (3 II, 1577) к Ходкевичу в прложении № IV.
(обратно)149
Так надо понимать запрещение его вооружаться кому бы то ни было (см. Апологию. 1. с. 429), ибо в противном случае оно теряет всякий смысл.
(обратно)150
Apologia, 1. с. 430, примеч. 41.
(обратно)151
Акты Зап. Рос, III, 202, № 76.
(обратно)152
Акты Зап. Рос, III, 209–211, № 82.
(обратно)153
Zrodia dziejowe, IV, 172, № CIV. Castellani ultradunenses ducatus Livoniae ad Regiam Majestatem de patria a lioste defendenda из Веидена, 26, V, 1577.
(обратно)154
Regia Majestas Livoniae auxilium contra hostem, se allaturum promittit из-под Данцига, 14, VI, 1577. Zrodia dziejowe, IV, 199, № CXXIV.
(обратно)155
Акты Зап. Рос., III, № 82.
(обратно)156
Busse, 104–105. Осада Ревеля продолжалась от 23-го января до 13-го марта.
(обратно)157
Но не в начале 1577 года, как представляет дело Буссе, 106–107.
(обратно)158
Письмо к Ходкевичу.
(обратно)159
Busse, 106–107.
(обратно)160
Письмо к Ходкевичу.
(обратно)161
Rathleff, 1. с, 395–396.
(обратно)162
Летопись Ниенштедта в Сборн. материал. и статей по истории Приб. Края, т. IV, стр. 49.
(обратно)163
Иоанн прибыл в Новгород 1-го мая и отправился в Псков 13-го июля, оставив в Новгороде своего сына Феодора с боярами Борисом и Дмитрием Феодоровичами Годуновыми. С царем было 16 505 человек, да при артиллерии 12 430. См. Ливонский поход 1. с. № 1, стр. 101 и 103.
(обратно)164
Ливонский поход 1. с. № 3, стр. 113–114 и 119. По Griindtliclier und warhaftiger Bericlit was sicli nebenst dem Muschkowitersclien Ueberzugk Anno 1577 in Lieflandt tzugetragen» (Mittheil. aus dem Gebiete der Gescli. Liv, Est und Kurlandt, II, 455) отряд Трубецкого достигал 10 000 человек – цифра, очевидно, преувеличенная. У Карамзина, IX, 255, примечание 460, приведена цифра в 5287 человек. С князем Трубецким царь отправил к князю Александру Полубенскому, коменданту крепости Вольмара, грамоту. В этой грамоте Иоанн обосновывал свои права на владение Ливонией, опираясь на родословную государей, начиная с Адама. Император Август был, по словам Иоанна, братом Пруса, который, отправившись в страну, получившую от его имени свое название, основал здесь города: Гданск, Хойницу, Торунь, Мальбор (Мариенбург). От Пруса происходил Рюрик, у которого был потомок князь Мстислав Святославович, получивший при крещении имя Юрия. Этот последний (?) покорил Ливонию и основал здесь замок Юрьев, который называется теперь Дерптом. Он, Иоанн, преемник по прямой линии от Мстислава Святославовича, а потому и законный, наследственный владетель Ливонии. Царь увещевал князя Полубенского выехать из Вольмара и отдать ему Ливонию без сопротивления. См. Литов. Метр., II, № 16.
(обратно)165
Об этих опустошениях говорит Баторий в письме к Иоанну от 30-го июля, см. Метр. Литов., II, № 15; то же самое и в Grundtl. Bericht 1. с. II, 455.
(обратно)166
Grundtl. Bericht, 1. с. II, 455.
(обратно)167
Во Влехе было «людей всякого человека 25 человек, да в городе-ж тутошних людей жильцов 20 человек». А по взятии укрепления оказалось: «на городе 2 пищали полуторных в стенах на колесех, 2 пищали невеликих грановитых, 3 пищали скорострельных со вкладинами, 1 попорчена, да 9 ядер свинчатых; да на городе-ж, на деревянной стене, пищаль невелика полковая грановитая на колесех». Ib., № 4, стр. 142 и 143. Грамота царя о сдаче Влеха у Щербатова, Ист. Рос, т. V, ч. 4, стр. 169–170, № 26.
(обратно)168
Ливонский поход, 1. с. № IV, стр. 137.
(обратно)169
Ib., № IV, стр. 138.
(обратно)170
Ib. № IV, стр. 147. По Grundl. Bericht 1. с. II, 455. Люцин взят 26-го июля, по Erberml. und Klegl. Zeit. (Beitrage zur Kunde Ehst, Lsimd Kurlands, II, 33) 6-го августа.
(обратно)171
Ib., № V, стр. 99. Ввиду этого неверно утверждение немецких историков, что немецкие воины с женами и детьми были временно отведены, как пленные, в Псков, a литовско-польские гарнизоны отпускаемы на волю в знак того, что царь ведет войну только с Ливонией, но с Поляками соблюдает мир, см., напр., G. Bathleff, Der Pall «Wenden’s, 1. с, стр. 399.
(обратно)172
Ib., № V, стр. 102. По Gründl. Bericht (1. с. II, 455) Режица взята 30-го июля, по Elrberml. Zeitung (I. с. II, 133), 8-го августа. Утверждение последнего источника, что Иоанн начальников в Люцине и Режице взял в плен, «und sie neben aller ritterscliaft und untersassen mit weib nnd verfuret und sie alle geplündert», должно быть признано неверным ввиду ясного свидетельства «Ливонского похода».
(обратно)173
См. письмо Ходкевича к Баторию в приложении № XI. В «Ливонском походе» начальник гарнизона назван Станиславом Денипским, что, конечно, неверно.
(обратно)174
О сдаче Динабурга ib., № V, стр. 103–108. Артиллерия, оставленная Иоанном в крепости, состояла из 7 пищалей медных, 3 пищалей скорострельных железных да 104 пищалей затинных, да зелья в 18 бочках 50 пуд, да полбочки ямчюги, да ко всем пищалям 1000 ядер, 50 прутов свинцу, да в прибавку оставлено 2 пищали полуторных.
(обратно)175
Ib., № V, стр. 109–110. В Крейцбурге оставлено 80 человек гарнизона.
(обратно)176
Ib., № V, стр. 112.
(обратно)177
Ib., № V, стр. 121.
(обратно)178
По Wahrh. erberml. Zeitimg 1. с II, 134. Тот же летучий листок напечатан также в соч. Г. В. Форстена, Балтийский вопрос, I, стр. 668, прим. 1. По Grimdtl. Bericht i Zeitung, взятие Зессвегена последовало 21-го августа.
(обратно)179
4 пищали медных, да 30 пищалей затинных, да пушку железную верховую, да тюфяк, да на город часы боевые.
(обратно)180
2 пищали сороковые на колесех меденых, да пищаль медная, да 2 тюфяка железных, да пищаль железная, да 2 пищали железных городовые тюфяки полуторы пяти, да 77 пищалей затинных.
(обратно)181
Об этом Розрядная книга так выражается: а наряду в городе и в остроге тутошнего 11 пищалей скорострельных, да 13 пищалей затинных, да тюфяк, да зелья в палатке в трех бочках пудов с 5, до 400 ядер железных и свинцовых, да к затинным пищалям 100 ядер. Да в Борзун-же оставлено наряду, что взят в Канцле мызе: 5 пищалей затинных гладких, 5 скорострельных со вкладни, да 5 самопалов свитских, да 4 пищали с змейками, да 2 пары самопалов малых, да 3 лукошки зелья, да пол 200 ядер свинцовых, да в прибавку оставлено зелья… пуд.
(обратно)182
Grundtl. Bericht, 1. с, 453 и 456. Гейдешнтейн (Записки о Московской войне, стр. 3, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Angusti libri XII, 1672, pag. 117) не знает приведенного нами Магнусова воззвания и объясняет возмущение слухом, который распространил царь о том, что если Ливонцы подчинятся принцу, то он передаст последнему для управления Ливонию.
(обратно)183
Буссе (стр. 111), оправдывает поступок Магнуса тем, что гонец, отправленный последним к Иоанну с уведомлением о предложении жителей Кокенгаузена, слишком замешкался в дороге, между тем обстоятельства были таковы, что требовали поспешного образа действий. Со стороны войск Речи Посполитой опасность Кокенгаузену не угрожала, след., поспешность Магнуса объясняется только желанием предупредить занятие города московскими войсками.
(обратно)184
Ливонский поход, 1. с, № V, стр. 127–128.
(обратно)185
Ливонский поход, 1. с, № V, 95–96.
(обратно)186
Ливонский поход, 1. с, № VI, стр. 84 и след. Описывая взятие Кокенгаузена, Ратлеф говорит, между прочим (1. cit., стр. 404), что Поляки были отпущены на волю, но заимствует этот факт неизвестно из какого источника. Мы знаем, что Поляков и Литовцев в городе не было, ибо с приближеиием к нему московских войск литовско-польский гарнизон покинул его, см. Grundtl. Bericht, II, 458.
(обратно)187
8 пищалей и больших и средних меденых по 4 гривенка ядро, да 2 пищали скорострельных, да 5 тюфяков, да 57 пищалей затинных долгих, да 12 пищалей затинных коротких, да 12 рушниц, да в прибавку оставлено 5 пищалей полуторных, да из Керепети велено перевезть пищаль гладкую, зелья 500 пуд.
(обратно)188
Wahrhaf. erbermliche Zeitung, 1. с, II, 134. То же самое сообщает и Гейденштейн (3–4): по его словам, женщины были отданы на поругание Татарам.
(обратно)189
Ливонский поход, 1. с, 1853 г., № V, стр. 104.
(обратно)190
См. письмо кн. Полубенского из Вольмара, от 8-го августа в Acta Stephani regis, 88, № LXI. Письмо князя с его собственноручной подписью находится в рукописи библиотеки главного штаба (80—1–8).
(обратно)191
Ливонский поход, 1. е., № V, стр. 105–107.
(обратно)192
Буссе (Mittheil, aus dem Geb. der Gesch. Liv, Ehst und Kurlands, II, 419), а за ним Ратлеф (1. с, 405) утверждают, что Полубенский намеревался перейти на сторону Иоанна и желал передать ему Вольмар и другие крепости (последнее утворждает только Ратлеф). Это утверждение историки обосновывают на весьма подозрительном свидетельстве Апологии, которая старается обелить в глазах Стефана Батория Ливонцев, представляя их подданными, вполне преданными королю; если ливонские крепости так скоро сдавались Иоанну, то в этом виноваты нерадивые польско-литовские начальники, из которых Полубенский готов был даже изменить королю. Между тем поведение Полубенского (см. ниже, стр. 61), его письмо к государственным чинам Литвы, на которое мы выше ссылались, свидетельствуют о полной преданности его Речи Посполитой. Если он дал знать Иоанну о сношениях Магнуса с польско-литовским правительством, то сделал это, очевидно, с той целью, чтоб погубить Магнуса, который хотел в одно и то же время служить двум враждовавшим между собой сюзеренам и при нападении Иоанна на Ливонию явно действовал во вред интересам Речи Посполитой. Идем дальше. Ратлеф (1. с, 406) утверждает, что при занятии Вольмара отрядом Магнуса Полубенский был взят обывателями города и Магнусовыми солдатами в плен и отведен к Магнусу в Венден, откуда Иоанн вытребовал пленника к себе. Это утверждение противоречит показанию самого Полубенского, который в письме к начальникам крепости Трикатена говорит, что он «добыт на Володимерце», притом «взят моцью» (Ливонский поход, 1. с, № VI, стр. 91–92).
(обратно)193
Ратлеф (op. cit., 404) говорит, что здесь, как и в Ашерадене, произведена была ужасная резня: «die Leichen blieben auf einem Haufen liegen, den Hunden und Pögeln zum Prasse». Мы не знаем, из какого источника историк заимствовал эти подробности. В Эрле оставлено было 100 человек и наряду 3 пушки медные, 20 пищалей затинных, 30 гривенок зелья, да еще 30 пуд зелья. Ливонский поход, 1. с.; 1853, № V, 104.
(обратно)194
Ливонский поход, 1853, № V, 109–110. В Вольмаре оставлено 545 человек, 12 пушек, 81 пищаль затинная, 10 скорострельных, 26 бочек зелья, да прибавлено еще 300 пуд зелья.
(обратно)195
Ib., № VI, стр. 85–86. В Леневарде оставлены 202 человека, 2 пушки, 2 пищали меденые, да затинных 12.
(обратно)196
Эту подробность сообщает Гейденштейн, 4.
(обратно)197
Подробное описание осады Вендена, основанное на критическом исследовании источников, дает Ратлеф (op. cit., 407–416). Взрыв крепости – несомненно геройский подвиг. Поэтому нельзя согласиться с мнением проф. Форстена, утверждающего, что «осажденными, представлявшими из себя пеструю смесь наемников, Немцев и иностранцев, католиков и протестантов, руководило не высокое, благородное мужество, а страх и отчаяние» (Балтийский вопрос, I, 672). Решимость умереть единит людей всякого звания, происхождения и исповедания и возбуждает героизм в самых трусливых натурах. Это во-первых. Во-вторых, трудно решить, какие чувства волнуют отдельных лиц в случаях подобного массового самоубийства и трудно определить, какое из чувств становится руководящим.
(обратно)198
Здесь оставлен гарнизон в 422 человека под начальством воевод: кн. Григория Ивановича Долгорукого, кн. Даниила Борисовича Приимкова-Ростовского, Ивана Ивановича Клешнина и кн. Григория Михайловича Елецкого; кроме того, пушка дробовая, 8 пищалей девятипядных, 4 полуторных, 2 семипядных, 2 скорострельных, 77 затинных, 400 ядер и 305 пудов зелья, Ливонский поход, l. с., VI, стр. 89–90.
(обратно)199
В таком смысле писал, по желанию Иоанна, начальникам крепости кн. Полубенский, ib., VI, стр. 91–92.
(обратно)200
10-го сентября. Здесь оставлено 118 человек, 5 пищалей волконетов медяных, пушечка полковая, 2 пищали скорострельных, 50 затинных и 41/2 бочки зелья.
(обратно)201
8-го сентября. Царь оставил здесь 320 человек гарнизона, 6 пищалей медных, 6 железных, 4 скорострельных, 88 затинных, 595 ядер и 200 пудов пороха, см. Ливонский поход, l. c., № VI, стр. 94–96.
(обратно)202
Grundtl, Bericht, l. c., 455–456.
(обратно)203
Ib., II, 458.
(обратно)204
Об этом говорит сам Стефан Баторий в письме к Иоанну Грозному, ссылаясь на показания пленных Московитян и Татар, см. Метр. Лист., II, № 15, стр. 26. Ввиду этого утверждение немецких историков, принимающих на веру заявление Grundtl. Bericht, l. c., II, 458 о том, что Радзивилл оставил Ливонию без боя (см. Busse, op. cit., 124–125, Rathlef, op. cit., 397–398), следует признать неверным.
(обратно)205
Об этом Николай Радзивилл пишет Ходкевичу.
(обратно)206
Grundtl. Berieht, 1. е., II, 458–459.
(обратно)207
Busse, op. cit., 120.
(обратно)208
Acta Stephani regis, стр. 86–87, № LIX, стр. 91–93, № LXIII.
(обратно)209
Акты Зап. Рос., т. III, стр. 195, № 69. Документ помечен неверно 1576 годом. Содержание документа свидетельствует о том, что речь идет о событиях 1577 года: король говорит о вторжении Иоанна в Ливонию.
(обратно)210
Acta Stephani regis, стр. 94, № LXV.
(обратно)211
Ib., стр. 96, № LXVI.
(обратно)212
См. письмо Иоанна к Ходкевичу от 12-го сентября 1577 г. из Вольмара – М. Graboivski, A. Przezäzieckii Ä. Malinoivski, Źródła do dziejów polskich, Wilno, 1843, I, 57–59. Письмо это перепечатано русскими буквами в Дополн. к Актам истор., относ. к ист. Зап. Рос., т. I, стр. 178, № 123.
(обратно)213
Письмо Иоанна к Баторию из Вольмара от 12-го сентября 1577 года в Метр. Лит., II, № 16.
(обратно)214
Бантыш-Каменский, op. cit., 152.
(обратно)215
См. письмо к Ходкевичу от 10-го сентября 1577 г. ё.
(обратно)216
Zrodla. clziejowe, IV, 221, Л CXXXIX.
(обратно)217
Бантыш-Каменский, 1. с., 152–153.
(обратно)218
Метр. Лит., II, 25, № 15.
(обратно)219
10-го января, см. Бантыш-Каменский, 1. с., 154.
(обратно)220
По словам Гейденштейна (русский перевод, 15–16; латинский текст, изд. 1672, стр. 121), царь приказал доставлять послам «самыя простыя и отвратительныя кушанья, а покупать провизию в Москве и не в обычае, да и не было возможности, если бы они того захотели». Замечание историка о том, что послы не имели возможности приобретать себе провизию, непонятно.
(обратно)221
Acta Stephani regis, стр. 164.
(обратно)222
Соловьев, кн. II, стр. 265.
(обратно)223
Метр. Лит., II, № 12.
(обратно)224
Acta Stephani regis, стр 101, № LXXIII.
(обратно)225
Метр. Лит., II, № 17, стр. 32.
(обратно)226
Метр. Лит., II, № 18, и Соловьев, кн. II, 266. Перемирные грамоты помещены также в соч. Щербатова, т. V, часть IV, № 28.
(обратно)227
Известие Гейденштейна 16 (лат. текст, 125) подтверждается словами Батория, см. Acta Stepliani regis, стр. 164.
(обратно)228
A. Pawinski, Skarbowosc za Batorego, стр. 336.
(обратно)229
О. Balzer, Geneza trybunalu koronnego, стр. 308–309.
(обратно)230
Гейденштейн, стр. 11, (лат. текст, изд. 1672 г., стр. 119).
(обратно)231
Вержбовский, Викентий Лаурео, стр. 694.
(обратно)232
Гейденштейн, стр. 11, лат. текст, 119, и Ф. Вержбовский, Викентий Лаурео, стр. 666.
(обратно)233
Гейденштейн, ib., стр. 11.
(обратно)234
A. Pawinski, Skarbowość za Stefana Batorego, стр. 337.
(обратно)235
Ф. Вержбовский, В. Лаурео, стр. 685.
(обратно)236
Acta Stephani regis, стр. 100, № LXXII и стр. 104, № LXXV; Вержбовский, В. Лаурео, стр. 677.
(обратно)237
Вержбовский, В. Лаурео, стр 683.
(обратно)238
J. Janicki, Akta historyczne do panowania Stefana Batorego króla polskiego, od 3-go marca 1578 do 18-go kwietnia 1579 r. (Bibljoteka Ordynacji Krasińskich, t. V i VI), стр. 20–24, № 18.
(обратно)239
Гейденштейн, стр. 31, и Acta Stephani regis, стр. 100 № LXXII.
(обратно)240
Краковский сеймик был созван в Прошовицы на 16-ое апреля, a сандомирский в Опатове – на то же число, см. Instrukcja panów posłów z sejmiku Proszowskiego (Bibl. Ord. Krasiń., t. V, IV, стр. 46–50, № 34) i Zlecenie posłom z województwa Sędomirskiego (ib., стр. 50–51, № 35); см. также A. Pawiński, Skarbowośc i t. d., стр. 337–338.
(обратно)241
Вержбовский, В. Лаурео, № 191, стр. 699.
(обратно)242
См. Respons J. Kr. Mości etc. J. Janicki, op. cit., стр. 51, № 36. Сеймик был созван на 22-ое мая, см. ib., № 37, стр. 53.
(обратно)243
См. Instrukcia na sejmik Korczyński etc. J. Janicki, op. cit., стр. 56, № 38.
(обратно)244
Вержбовский, В. Лаурео, стр. 702.
(обратно)245
Acta Stephani regis, стр. 108, № LXXVIII.
(обратно)246
J. Janicki, op. cit., 93, № 51.
(обратно)247
Ib., 98, № 55. Гейденштейн (стр. 31) говорит, что компромисс последовал, когда король сбавил акциз с пива до 1/24 дохода в имениях шляхты и до 1/18 в королевских и церковных.
(обратно)248
Janicki, op. cit., 96, № 52 и Acta Stephani regis, 121, № LXXXVII.
(обратно)249
Ib., №№ 29, 42, 70.
(обратно)250
A. Pgwuiski, Skarbowość etc., стр. 341.
(обратно)251
Договор состоялся 5-го ноября 1577 года, см. Aug. Sokołowski, О tureckiej polityce Stefana Batorego (Ateneum, 1886, T, 518); Вержбовский. Викентий Лаурео, 621; Źródła dziejowe, IV, 233, № CXLVIII и 234, № CXLIX.
(обратно)252
Źrółda dziejowe, IV, 138, № LXXX. Документ без даты, но содержание его и нахождение среди документов 1577 года доказывают, что его следует относить к нападению, произведенному Татарами в этом году.
(обратно)253
Źródła dziejowe, IV, 229–231, №№ CXLV, С XL VI.
(обратно)254
Вержбовский, В. Лаурео, 649, № 179.
(обратно)255
Ib., 652. Гейденштейн (стр. 9) говорит, что Подкову к королю отослал Николай Сенявский. В Acta Stephani regis, стр. 108 (в примеч. к № LXXVII) Подкове дается, неизвестно почему, имя Павел.
(обратно)256
Вержбовский, В. Лаурео, 662.
(обратно)257
Вержбовский, В. Лаурео, 685–686 и Гейденштейн, стр. 32.
(обратно)258
Janicki, op. cit., 34, № 26.
(обратно)259
Acta Stephani regis, 107, № LXXVII.
(обратно)260
Aug. Sokołowski, O tureckiej polityce Stefana Batorego Ateneum, 1886, I, 521.
(обратно)261
Janicki, op. cit., №№ 23, 24, 25.
(обратно)262
Вержбовский, В. Лаурео, 711; Aug. Sokołowski, 1. с, I, 522; Гейденштейн, 32.
(обратно)263
Acta Stephani regis, 123, № XC; Гейденштейн, стр. 32.
(обратно)264
Acta Stephani regis, № XC, стр. 124.
(обратно)265
Acta Stephani regis, стр. 129, № XCII.
(обратно)266
Ibid., стр. 140, № XCIX.
(обратно)267
Ib., 112, № LXXIX.
(обратно)268
Ib., 144, № CI.
(обратно)269
Метр. Лит., II, № 19 – «поки послы ваши великие у нас будут и от нас к вам звернутся».
(обратно)270
Acta Stephani regis, № LXXIII, стр. 102.
(обратно)271
Посольство выехало из Москвы 16-го мая, см. Бантыш-Каменский, 1, стр. 155.
(обратно)272
Acta Stephani regis, 107, № LXXYII.
(обратно)273
Ib., стр. 121, № LXXXVII.
(обратно)274
Ib., № LXXXIX, стр. 123.
(обратно)275
Ib., стр. 130, № XCIII.
(обратно)276
Глава посольства Карпов умер на пути в Краков, см. Acta Stephani regis, стр. 136, и Гейденштейн, 33, прим. 1.
(обратно)277
Тургенев, Historica Russiae monimenta, t. I, стр. 275, № CLXXXVIII, Гейденштейн, op. cit., стр. 33, Метр. Лит., И, № 22; Соловьев, ор. cit; стр. 267.
(обратно)278
Акты относящееся к истории Западной России, т. I, стр. 239, № 107.
(обратно)279
Бантыш-Каменский, 1. с., стр. 155 и Acta Stephani regis, 164.
(обратно)280
К. Górski, Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z Wielkiem Księstwem Moskiewskiem za Batorego. Bibl. Warsz., 1892, II, стр. 98–99.
(обратно)281
Janicki, op. cit., 336, № 160, (Postanowienie z Niżowcy); Acta Steph., стр. 144, № CI. Мнение, распространенное среди русских историков (см., напр., Эварницкий, История Запорожских казаков II. 61) о том, будто Баторий дал всем украинским казакам особенную организацию, решительно опровергается польскими исследователями, см. Al. Jabłonowski, Ukraina, (Polska, XVI w. Źródła dziejowe, t. XXII), стр. 425.
(обратно)282
A. Pawiński, Skarbowość, etc, стр. 341.
(обратно)283
K. Górski, op. cit., стр. 96.
(обратно)284
A. Pawiński, op. cit., стр. 341.
(обратно)285
Гейденштейн, op. cit., стр. 37.
(обратно)286
Ibid., стр. 38.
(обратно)287
Гейденштейн мотивирует назначение главой Мелецкого, как знающего и храброго полководца, но см. Ф. Вержбовский, В. Лаурео, стр. 606.
(обратно)288
Тургенев, op. cit., I, 276, № CLXXXIX.
(обратно)289
Король выехал из Гродны 25-го февраля (Римские портфели в библ. Краков. Акад. Наук, 9, CIV, донесение Калигари от 9-го марта) и прибыл в Вильну 2-го марта, см. Тургенев, I, 277, № СХС.
(обратно)290
Acta Stephani regis, 155, № СХ.
(обратно)291
К. Górski, 1. с, II, 100.
(обратно)292
Гейденштейн, 39.
(обратно)293
Гейденштейн, 7. О взятии Динабурга посредством такой хитрости говорит и Ниенштедт, но называет неправильно предводителя отряда, взявшего крепость, ротмистром Иоанном Плате, см. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, IV, 48.
Стрыйковский, (Kronika polska, litewska etc., Warszawa, 1846, II, 427), сообщает, что Динабург был отнять доблестным казаком Забою (Dinenbork z kozakiem dzielnym Zabą odiskali); тут, вероятпо, опечатка и надо читать Савою.
(обратно)294
Гейденштейн (7) ставит взятие Вендена в заслугу только Дембинскому, немецкие летописцы – только Гансу Бюрингу. Согласно Геннингу (Sciptores rerum Livonicarum, II, 273), взяты были при этом в плен наместник (Stadthalter zu Plesskow), князь Даниил и Иван Квашнин (Juan Quasin) – известие, которое подтверждается письмом Батория к Яну Ходкевичу (прилож. № XVIII). Рассказ Рюссова (Script, rerum Livon., II, 132 и Сборн. матер. и статей по ист. Прибалт. края, III, 293–294), изобилующий подробностями, отмечает факт, указанный и Гейденштейном, именно тот, что ворота отворили Латыши. «Немцам не трудно было отворить городские ворота, говорит Рюссов, так как им помог один слесарь, родом из Леттов, оставшийся у Русских». У Гейденштейна фигурирует Латыш-плотник, который делает восковой оттиск городских ключей, приготовляет по нему другие ключи и передает их Дембинскому. У Лавр. Миллера (Записки о временах Стефана Батория, Сборн. матер, по ист. Прибалт. края, IV, 129), приписывающего взятие Вендена тоже Гансу Бюрингу, этой подробности нет. Христиан Штрапфер, секретарь герцога Магнуса, в письме к Баторию говорит, что Иоанн Бюринг «collectis undique Germanis, Polonis atque rusticis admotiscalis», взял Венден, см. Janicki, op. cit., стр. 304.
(обратно)295
Henning, 1. с, II, 273; Рюссов, 1. с, III, 294; Г. В. Форстен, Балтийский вопрос, I, 672–673.
(обратно)296
Карамзин, IX, примеч. 507. По рассказу Геннинга (1., с., II, 273) и Рюссова (Сборн. мат. Приб. кр., III, 295), гарнизон, за недостатком съестных припасов, принужден был есть лошадей. По Рюссову, крепость была выручена Бюрингом, по Гейденштейну (17) – Домбинским, по Геннингу – Александром Ходкевичем. Гейденштейн говорит, что Александр Ходкевич, гродненский староста, племянник администратора Ливонии, только преследовал отступавших уже воевод, но не мог их настигнуть.
(обратно)297
См. письмо Христиана Штрапфера, Магнусова секретаря, от 4-го января 1578 года – Janicki, op. cit., 302, № 140.
(обратно)298
Ib., №№ 141, 146, 157.
(обратно)299
Ib., стр. 355, № 173; Гейденштейн, 18–19; Busse, op. cit., 129–130. Договор об этом состоялся в конце 1578 г., а не в начале, как утверждает проф. Г. В. Форстен (Балтийский вопрос I, 673) ибо письмо Радзивилла, советующее Баторию принять Магнуса под покровительство, помечено 2-м ноября.
(обратно)300
Г. В. Форстен, op. cit., I, 673.
(обратно)301
С 15-го по 20-ое октября, см. Акты Зап. Рос, III, 237, № 105.
(обратно)302
Moscouische Niderlag vnd Belegenmg der Statt Wenden, 1579, gedruckt zu Nürnberg durch Leonhard Haussier в Чтениях Общества Ист. и древностей, 1847, № 3 и Карамзин, IX, примеч. 509. У Гейденштейна (35) нет этой важной подробности.
(обратно)303
Рюссов, 1. с, III, 300–302.
(обратно)304
По Геннингу, 1. с, II, 274, Стрыйковскому, II, 427 и по Moscouische Niderlag. (1. с, 1847, № 3) Русских было 20 000, по Рюссову (1. с, III, 300–302) – 18 000; у Гейденштейна цифра не указана. Численность польско-литовского и шведского отрядов сообщает Рюссов (1. с, III, 300–301): в первом было 2000 человек, а во втором 3 эскадрона всадников и 3 роты пехотинцев; в депеше нунция Калигари от 6-го, XI, 1578, (Краков, римские портфели, 8, CII, стр. 59) – 8000.
(обратно)305
По словам Гейденштейна, Татары первые пустились бежать.
(обратно)306
Карамзин, IX (изд. 1852), 286–287 и примеч. 509. В «Вестовой отписке Андрея Сапеги» (Акты Зап. Рос, III, 237, № 105) он не назван по имени, говорится только, что «гетман преднейший войска московского утекл». В Moscouische Niderlag (1. с., 1847, № 3) воеводе дается странное имя Хокца (Choktza genannt). Гейденштейн (36) неправильно говорит, что Петр Хворостинин бежал. «Вестовая отписка» Андрея Сапеги приводит его в списке пленных, тоже и в Moscouische Niderlag.
(обратно)307
Списки убитых воевод в «Вестовой отписке» Андрея Сапеги и в «Moscouische Niderlag» почти одинаковы. В последнем источнике Никифор Чепчуков называется Никифором Зеперуковым и, кроме того, упоминается в числе убитых какой-то князь Иван Облоцкий, наместник Обдорский, повешенный врагами. Число убитых солдат простиралось, по Moscouische Niderlag и по Рюссову, 1. с, III, 302, до 6000 человек; у Соловьева, II, столб. 263—6.022. Гейденштейн (87) выражается неопределенно: «много неприятелей было убито». Историк сообщает нам факт доблестной смерти русских пушкарей, которые, не желая пережить позора плена и сдачи орудий, повесились на них.
(обратно)308
По «Вестовой отписке» – 20 пушек с мождчерами, по Стрыйковскому, II, 427, – более 20 орудий, по Moscouische Niderlag – 24, по Рюссову – 14 орудий большого калибра, 6 мортир и несколько полевых орудий, по Гейденштейну (36, лат. текст, 126) – около 30 орудий.
(обратно)309
Списки плененных воевод в «Вестовой отписке» и Moscouische Niderlag не совсем одинаковы, но число воевод одинаково. Список убитых и плененных в Розр. кн. (Карамзин, IX, примеч. 509) не полон.
(обратно)310
По Рюссову (1. с, III, 302), погибло Поляков и Шведов менее 100 человек. У Гейденштейна – неопределенное выражеиие: «с нашей стороны был незначительный урон». Битва происходила 21-го октября, см. «Вестовую отписку» Андрея Сапеги. Неверно указана дата 21-го сентября в Moscouische Niderlag. Гейденштейн говорит неопределенно: «в то время, как король находился в Кракове, получено было нами известие о победе при Вендене». Баторий прибыл в Краков из Львова в половине октября, см. Acta Stephani regis, 147, № CIV. Г. В. Форстен, op. cit., I, 673–674, сообщает из флорентинского архива известие, что московское войско, численностью в 22 000 человек с 20 орудиями, было разбито осенью 1578 года Поляками и Шведами около местечка Kisson. Очевидно, речь здесь идет о битве при Вендене или Кеси – 21-го октября 1578 г.
(обратно)311
Карамзин, изд. 1852 г., IX и Соловьев, кн. II, ст. 267.
(обратно)312
Бантыш-Каменский, 1. с., 156.
(обратно)313
Op. cit., II ст. 267.
(обратно)314
La detta contribuzione se concessa con condizione che il Re faccia la guerra e vi vada in persona… Вержбовский, В. Лаурео, 666, № 183.
(обратно)315
Тургенев, I, 283, № CXCV и Карамзин, IX, 293 (изд. 1852 г.). Эти данные не позволяют нам сомневаться, как это делает Соловьев, кн. II, 270, в громадности вооруженных сил, приготовленных Иоанном.
(обратно)316
Г. В. Форстен, Балтийский вопрос, I, 705.
(обратно)317
О том, что Баторий готовится в поход на Полоцк, уведомил Иоанна гонец Андрей Тимофеев в конце июня 1579 г., см. Бантыш-Каменский, 1. с., 156–157; Тургенев, 283, № CXCV. Ввиду этого нельзя согласиться с мнением Соловьева (op. cit., II, 269–271) о том, что Иоанн не знал, откуда ждать ему нападения, и что Баторий застиг его врасплох.
(обратно)318
По словам Гильдебранда (К. Hildebrand, Sveriges ställning till Antonio Possevinos frodsmedling moll an Polen och Ryssland 1581–1582. стр. 8, в Historiska Studier, Pestskrift tillägnad С. G. Malmström den 2 november 1897), настоящий союз между Швецией и Польшей в царствование Стефана Батория никогда не был заключен, но обе стороны сближались между собой.
(обратно)319
Эти цифры сообщает папский нунций Калигари (Тургенев, I, 283, № GXCV). В одном современном летучем листке (Pollnischo Zeitung. Summarische und wahrhaffte Beschreibung von jüngster bekriegung und eroberung etlicher fürnemer Stadt und Vestungen etc. Nürenberg) приведен состав армии Батория и численность ее показана в 136 500 чел. По поводу цифр, приведенных листком, В.Г. Васильевский сделал такое замечание: «серьезнее и важнее список военных сил, собранных королем против московского тирана, о количестве которых нет других сведений» (Журн. Мин. Нар. Просв., 1889, январь, 136–137). Но говорить о малейшей даже серьезности этого списка нельзя. Достаточно для этого указать на число низовских казаков – 15 000: нам документально известно, что запорожцы обязались доставить королю отряд только в 600 человек, см. Acta Steph., 144, № CI.
(обратно)320
Тургенев, I, 281 № СХСИ; Henning, 1. с, II, 275; Гейденштейн, 39. У Гейденштейна крепость называется Киромпеш.
(обратно)321
Грамота Батория, объявляющая войну Иоанну, интересна как изложение хода дипломатических переговоров между обоими противниками, Acta Stephani regis, 162–163, № СXIV; Щербатов, т. V, ч. IV, стр. 190–199; Метр. Лит., II, 42, № 22. О посольстве Лопацинского Одерборн (Vitae Joannis Basilidis libri tres, Ad. Starezewsлi, Historiae ruthenicae scriptores exteri, II, 239–240) приводит следующий фантастический рассказ. Лопацинский прибывает (на самом же деле он был задержан на пути в Дорогобуже) в Москву, где тогда находился Иоанн (царь был в Новгороде). Спустя несколько дней царь послал сказать польскому гонцу, чтобы он не являлся в царский дворец с обнаженным мечом, если он дорожит своей безопасностью или даже своей жизнью. На это Лопацинский ответил, что великий князь может лишить его имущества и жизни, как этого, без сомнения, и ожидать следует, но он не отступит от поручений, данных ему королем, ни на волос. Гонца ведут в сенат (т. е. боярскую думу), где он гордо заявляет, что прислан ко всей Московии объявить войну. Гонца повезли в царский дворец в колеснице, запряженной четверкою лошадей; впереди шел слуга, неся обнаженный меч, который ярко сверкал от солнечных лучей. Посмотреть на королевского гонца сбежалось так много Москвитян, что от давки, происшедшей у ворот дворца, погибло около ста человек. Аудиенция у царя так описана. Basilides palatium, in quo legatum expectabat, tapetibus et peristromatis instraverat multisque odoramentis illud referserat. Se ipsum vero vestibus auro fulgentibus et gemmis clarissimis ornatum cultumque in Lopatinsci conspectum dedit eumque contra naturam suam humaniter excipere visus est. Is vicissim Basilidem more sarmatico salutavit et idem reliqui Poloni fecerunt. Literas deinde regis bullis aureis consignatas ensemque falcatum futnrae ultionis indiccm Basilidi porrexit. Hunc ille crudeli vultu iracunde aspiciens in admirationem magnum venit, quod hostis in peregrina regione tanta audacia tantum principem verbis asperioribus compellare ausns est. Взяв королевское письмо, царь приказал держать гонца под стражей, но с подобающими почестями. Затем он созывает магнатов, чтоб сообщить им о начале войны, собирает войска и произносит к солдатам речь eosque variis exhortationibus ad pristinam virtntem et odium Sarmatarum incitat. Таков риторический и фантастический рассказ Одерборна.
(обратно)322
Гейденштейн, стр. 42–45, весьма подробно разсказывает о мнениях, высказанных на совете в Свири. В эдикте короля о молебствиях по случаю взятия Полоцка отмечено только в сокращенной форме королевское мнение. Этот эдикт (Edictum regium de supplicationibus ob rem bene adversus Moschum gestam an 1579, 30 Augusti) помещен в базельском сборнике Пистория (I. Pistorii, Polonicae historiae Corpus, III, 114–117), во франкфуртском Вехеля (Rerum polonicarum tomi tres, I, 214) и в издании Relacje nunciuszów apostolskich i innych osób o Polsce, Berlin – Poznan, 1864, I, 317–320.
(обратно)323
Карамзин, IX, 297 и прим. 522: «они-ж (воеводы) Курляндскую землю пусту учинили»; Гейденштейн, 48.
(обратно)324
Stryjkowski, II, 428.
(обратно)325
К. Górski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, II, 101.
(обратно)326
Это описание заимствовано из письма итальянца Мартинелло, находившегося при войске, см. римские портфели в Крак. Акад. Наук, 26, D I, 101–103.
(обратно)327
Гейденштейн, 46.
(обратно)328
См. письмо того же Мартинелло.
(обратно)329
Хронология этих событий неясна у Гейденштейна, 52–53; он рассказывает сначала о взятии Красного, а потом Ситна. Козьян был выстроен после взятия Полоцка в 1563 г., на реке Оболи насупротив литовского замка Уды, Красное при озере Островите и Ситно при истоках реки Полоты на великолуцкой дороге. См. Коркунов, Карта военных действий между Русскими и Поляками в 1579 году и тогдашние планы города Полоцка и окрестных крепостей, Журн. Мин. Нар. Просв., 1837, VIII, 235–249. Замойский в письме к нунцию Калигари говорит, что Козьян захвачен был внезапным нападением и дотла сожжен, а по взятии Красного попал в плен московский воевода со всем почти своим гарнизоном, см. Aug. Theiner, Annales ecclesiastici III, 70.
(обратно)330
Acta Stephani regis, 98, № LXIX. Это назначение сильно раздражило Яна Ходасевича, который надеялся получить эту должность за управление Ливонией, см. Вержбицкий, В. Лаурео, стр. 702.
(обратно)331
Edictura regium de supplicationibus ob captam Polociam (Relacje nuucjuszów, I, 318).
(обратно)332
Acta Stephani regis, 171, № CXVI.
(обратно)333
Гейденштейн, 53.
(обратно)334
Edictum de sxipplicat. – Relacie nuncj., I, 318.
(обратно)335
Edictum de snpplicationibus, ib., I, 318, Гейдепштейн, 19. Даниил Герман, данцигский ратман, автор Стефанеиды, ездивший к Баторию в лагерь под Полоцк, сообщает следующие подробности: «Туда, т. е. к Полоцку из Вильны, ведет ужасная дорога, хуже которой не может быть во всем мире. Кажется, главной причиной является то, что с тех пор, как Московит взял Полоцк. т. е. от 1563 г., этот тракт был совсем закрыт, всякие сообщения отрезаны, а Московит на 20 миль в ширину и в длину, с этой стороны Двины, обратил страну в пустыню (lautter Wildniss lassen word en), страну, в которой были прежде города, рынки, деревни и возделанные поля. Поэтому всякий, отправлявшийся из Вильны в эту сторону, должен запастись хорошенько провизией на несколько дней. Ясно можно видеть, как Венгры и иные солдаты, которые шли впереди, должны были искать новых дорог и делать в лесах просеки, чтобы можно было перевезти артиллерию. Беспрестанная непогода, продолжавшаяся несколько месяцев, немало вреда причинила этой экспедиции», см. Aug. Mosbach, op. cit., стр. 161.
(обратно)336
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, II, 102. Уже в лагерь под Полоцком прибыло несколько отрядов добровольцев; среди них особенно выделялся отряд князя Острожского и отряд немецкой пехоты, присланный бранденбургским маркграфом.
(обратно)337
Stryjkowski, II, 429; К. Gorski. I. с, 1892, II, 106. По выражению разрядных книг, «в Полоцке воеводы худы, а людей мало» – Карамзин, IX, 296–297 и примеч. 520, Щербатов, т. V, ч. III, стр. 19. Воеводы названы худыми несправедливо: мы увидим, что они будут доблестно защищаться; названы так потому, что не сумели отстоять крепости.
(обратно)338
Топография Полоцка у Гейденштейна (стр. 54) представляется не совсем ясно. Он описывает положение крепости так: «с севера течет река Полота, у подошвы Стрелецкой крепости, немного уклоняясь от прямого течения к востоку, она, затем, снова отклоняется к северу и, обогнув подошву холма, на котором расположен Верхний замок, отделяемый ею от города, немного ниже того места направляется к югу и соединяется с рекою Двиною». На плане Пахоловецкого (Витебская Старина) течение Полоты изображено не совсем точно. Гурский исправил его согласно топографической карте России (см. op. cit., стр. 105).
(обратно)339
Относительно этого факта в источниках существует некоторое противоречие. В «Эдикте о молебствиях» король говорит след.: «на другой день город, укрепленный сильно рвами, валом, башнями и весьма толстыми стенами и защищаемый также гарнизоном, мы подожгли и в несколько часов весь уничтожили, главным образом, потому, что он являлся преградою для ближайшего доступа к крепости (Postridie civilatem поп mediocriter fossis et aggere et propugnaculis et parietibus densissimis, turn quoqne praesidio firmam, ea maxime de causa, quod illo loco nos a propinquiore ad arcem accessu proliiberet, incendimus ac totam paucis horis delevimus. Relacje nuncjuszow, I, 318). Гейденштейн говорит, что, когда Бекеш начал громить городские стены из орудий, тогда Москвитяне, «отчаявшись в возможности защищать город, согласно с общим наказом, какой получают от царя все, на кого возлагается защита городов, взяли с собою все вещи, зажгли город и удалились в Верхний замок» (58). Нам думается, что это противоречие можно примирить так, как это мы сделали в тексте.
(обратно)340
Górski, op. cit., 107.
(обратно)341
A. Mosbach, op. cit., 162.
(обратно)342
«Эдикт о молебствиях» в Relacje nuncjuszów, I, 319.
(обратно)343
Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, III, 310.
(обратно)344
Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joach. Bielskiego syna jego wydana. W Krakowie, 1597, стр. 761–765.
(обратно)345
Письмо Даниила Германна, Äug. Mosbach, Wiadomości do dziejów polskich, стр. 162.
(обратно)346
Danielis Hermanni Borussi Stephaneis Moschovitica sive de occasione, causis, initiis et progressions belli a Serenissimo potentissimoque Polonorum Regno, Magno Duce Lithuamae etc. Stephano primo contra Joannem Basilium Magnum Moschorum Ducem gesti etc. libri duo priores. Bxcusae Gedani a Jacobo Rhodo 1582. Изложено содержание этой поэмы у В.Г. Васильевского, Польская и немецкая печать о войне Батория с Иоанном IV. Журн. Мин. Нар. Просв., 1889, февраль, стр. 350–369. Гейденштейн (70) сообщает след.: «посадив их (Немцев) с ногами в котлы и подложивши в огонь, они варили их живыми в кипящей воде; в то же время, связав им руки за спиной веревкой, пропущенной по локтям, они самым гнусным образом изрезали у них животы и все тело частыми продольными ранами, так что это имело вид продольного панцыря».
(обратно)347
Гейденштейн, 61.
(обратно)348
«Эдикт о молебствиях», Relacje nuncjuszów, I, 319.
(обратно)349
Bielski, 763 и I). Hermann. Stephaneis: Primus at in reliquis qui primam lampadem ad aram Intulit, ille sibi nomenque decusque paravit, etc.
(обратно)350
Acta Stephani regis, № CXVII.
(обратно)351
Relacje nuncjuszow, I, 319.
(обратно)352
Acta Stephani regis, № CXVIII.
(обратно)353
Карамзин (изд. 1852), IX, 300, присоединяет к ним и воеводу Петра Волынского, основываясь на словах летописца графа Толстого (см. прим. 526): «а сдал Полоцк Петр Волынский со стрельцами». Польские источники не упоминают этого имени; Стрыйковский (II стр. 429) причисляет даже Волынского к тем, которые не хотели добровольно сдаваться.
(обратно)354
Гейденштейн, op. cit., 69.
(обратно)355
J. Bielski, op. cit., 765.
(обратно)356
Гейденштейн, 70.
(обратно)357
Гейденштейн, 71 и J. Bielski, 765.
(обратно)358
J. Bielski, 765.
(обратно)359
Гейденштейн, 71.
(обратно)360
Гваньини и Бельский.
(обратно)361
Сообщение Д. Германна в Aug. Mosbach, op. cit., стр. 162.
(обратно)362
Король в «Эдикте о молебствиях» говорит так: nostri cum ingressi esscnt passim magnum cadaverum insepultorum numerum rcpererunt, tum tormcntorum ac pulveris tormontai’ii globorumque tantam vim dcprehenderimt, quanta in arcc aliqua christiani orbis his rebus instrnctissima posset reperiri. – Relacje nuncjuszów, I, 320.
(обратно)363
Сообщение Д. Германна (Aug. Mosbach, op. cit., 162), которому, как очевидцу, следует больше верить, чем Гейденштейну (стр. 71), говорящему, что «по взятии города Москвитяне увезли с собой в Москву все сокровища, оставив немного пожертвований». Если он прибавляет, что надежды солдат на добычу совсем не были удовлетворены, то эта неудовлетворенность происходила от озлобления, вызванного тем, что король разрешил Русским вынести с собой те вещи, которые они будут в состоянии взять. Сообщение Германна подтверждается словами нунция Калигари. Ввиду этого нельзя согласиться с мнением Соловьева (op. cit., 11, столб. 272), который, следуя Гейденштейну, утверждает, что «добыча, найденная в Полоцке, обманула надежды осаждающих; самую драгоценную часть ее составляла библиотека…» и т. д.
(обратно)364
Соловьев (op. cit., II, столб. 272) говорит, что все это погибло. Но так ли это?
(обратно)365
Так надо понимать осторожные выражения Гейденштейна (72).
(обратно)366
Stryjkowali, II, 429.
(обратно)367
Гейденштейн, (стр. 62) и Rerum post captain Polociam contra Mosenm gestarum narratio (Relacje nuncjuszow, I, 324). В.Г. Васильевский вполне правильно замечает, что последнее повествование, имеющее официальный характер, очень отчетливо излагает ход военных действий после взятия Полоцка (Журн. Мин. Нар. Просв., 1889, январь, 137, № 6).
(обратно)368
Гейденштейн (73) говорит об этом так: между тем в это время Мартин Курц с отрядом казаков предложил свои услуги виленскому воеводе; его-то и послали против Туровли, присоединив к нему Константина Лукомского, начальника в Уле. Стрыйковский (II, 430) называет Лукомского князем.
(обратно)369
Стрыйковский (II, 430) говорит, что крепость сожгли «наши», «gdy kniaź Łukomski kazał z więtszych dział pod dobrą myśl strzelać».
(обратно)370
По словам Д. Германна, немецкий отряд, находившейся под начальством Христофора Розражевского, состоял из 3000 человек, см. Aug. Mosbach, op. cit., 162.
(обратно)371
Такое расстояние указано в Rerum post captam Polociam narratio (Relacie nuncjuszów, I, 324) и у Стрыйковского. II, 429. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, opisana przez M. Balińskiego i Tym. Lipińskiego, IV, 493, определяет расстояние в 30 верст.
(обратно)372
См. статью Коркунова в Журн. Мин. Нар. Просв., 1837.
(обратно)373
По словам Д. Германна (Aug. Mosbach, op. cit., 162).
(обратно)374
Гейденштейн, 62; Narratio (Relacje nuncjuszów, I, 325), перечисляет имена воевод: Феодор Васильевич Шереметев, Борис Васильевич Шеин, Андрей Палецкий, Михаил Юрьевич Лыков (Michael Georgii filius Lycus) и Василий Кривоборский (Basilius Crivoborsius). По Щербатову (т. V, часть 3-я, стр. 33), обычным гарнизоном командовал воевода Иван Кокошкин.
(обратно)375
Об этом отряде Narratio сообщает какое-то странное сведение: Accesserat hue etiam Georgius Bullahacus cum duobus millibus sclope tarioium; partim Dunonsium, partim Voliensium, qui ad Dimae et Yolbiae fontuim paludes ob perpetuus cum Tartaris dimicationes, caeteris belli usu ac jaculandi poritia facilo praestant. Почему же эти стрельцы, находясь у истоков Волги и Двины, должны были сражаться постоянно с Татарами?
(обратно)376
Гейденштейн (63) упоминает только об экспедиции Хр. Радзивилла, a Narratio (325) и о набеге Волыминского.
(обратно)377
Гейденштейн (63) и Narratio, 325.
(обратно)378
Случилось это, по словам королевского универсала, 11-го сентября (turn ad undecimam hujus mensis diem); см. Epistola qua Regni Ordines ad comitia convocantur в Relacje nuncjuszow, I, 321; см. также Тургенева, I, № CXCIX. Показание Карамзина (изд. 1852, т. IX, 301) относительно того, что Литовцы осадили Сокол 19-го сентября, а 25-го зажгли башни (то же говорит и Соловьев, II кн., столб. 272), должно быть признано неправильным.
(обратно)379
В описании Гейденштейна, 78, этот момент не обозначен, но вообще рассказ его, за исключением нескольких мелких подробностей, согласуется с Narratio; Стрыйковский, II, 430, говорит, что когда огонь разгорелся, Москвитяне, усумпившись в возможности защищать замок, бросились на бой через ворота со стороны Ниссы (przez brame od Nissy).
(обратно)380
Воеводу Шереметева, бежавшего с частью конницы по дороге к Пскову, захватил в плен, по словам Гейденштейна, Иван Збаражский.
(обратно)381
Narratio (Relacje nuncjuszów, I, 328); см. также письмо из Полоцка от 14-го сентября у Тургенева, I, № CXGIX. Если иметь в виду эти сообщения, тогда придется показание Д. Германна о численности московского гарнизона (5000 чел.) в Соколе признать неточным; он должен был быть гораздо многочисленнее. Калигари говорит, что «было убито 5000 русских (римские портфели, 9, CIV, стр. 295).
(обратно)382
Генденштейн, 78.
(обратно)383
Гейденштейн, 79.
(обратно)384
Описание взятия Сокола у Стрыйковского, не отличающееся большими подробностями, сходно с Narratio; Бельский и Гваньини следуют Гейденштейну, а Одерборн (Starczewski, Scriptores liistoriae ruthenica exteri, II, 243) заимствовал дословно рассказ об этом сражении из Narratio.
(обратно)385
Царь посылал грамоты об этом 6-го и 17-го сентября.
(обратно)386
Narratio (Relacje nuncjuszów, I, 328–329) и Гейденштейн, 81–82. По словам Стрыйковского, из Суши вышло 6000 человек, a победители взяли 21 больших орудий, 136 гаковниц, 123 длинных ручниц, 100 бочек пороха весом в 400 центнер, 4822 больших железных пуль и множество провианта (II, 430–431 и Сапунов, Витебская Старина, IV, 197).
(обратно)387
О Филоне Кмите, см. статью М. Малиновского «Wiadomość о Filonie Kmicie Czarnobylskim» (Źiódła do dziejów polskich wydawane przez M. Malinowskiego i AL Przeździeckiego, Wilno, 1844, t. II, 306–343).
(обратно)388
Stryjkowski, II, 431.
(обратно)389
Narratio, I, 329 и Гейденштейн, 82–83.
(обратно)390
Acta Stephani regis, № CXXI, К Górski, 1. е., II, 112.
(обратно)391
См. донесение Калигари у Тургенева, I, 285, № CXCVII.
(обратно)392
Epistoła qua regni ordines ad comitia convocantur (Relacje nuncjuszów, I, 321), Narratio (ib., I, 329–330).
(обратно)393
С отъездом Батория из Полоцка военные действия не вполне прекратились. 13-го декабря 1579 года полоцкий воевода Дорогостайский сжег замок Нищерду, причем погибло с лишком 2000 Москвитян, мужественно защищавших крепость, и попало в плен около 1000 (в том числе 4 воеводы); см. Stryjkowski, (II, 431). Гейденштейн (96) не сообщает этих подробностей; он говорит, что полоцкие казаки овладели Нищердою при помощи крестьянина Коссонского, который указал им, когда удобнее всего сделать нападение на крепость, причем занять ее оказалось легко, так как окопы не были еще окончены. Тот же Коссонский хотел передать, по словам Гейденштейна (97), баториевым войскам и Заволочье. Но замысел изменника был открыт, и Коссонский, вместе с двумя своими сыновьями, был посажен на кол. Неудачна была также попытка баториевых казаков захватить неожиданным нападением крепость Усвят.
(обратно)394
Narratio (1. с, I, 329) и показание Д. Германна (Aug. Mosbach, op. cit., 163).
(обратно)395
Книга посольские метрики Вел. Кн. Лит., ч. II, № 24. Гейденштейн сообщает содержание этой грамоты, пропуская требование – отпустить без проволочки Лопатинского и Проселка, и говорит, что она была отправлена к царю из Дисны (стр. 80).
(обратно)396
Гейденштейн, 81.
(обратно)397
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, II, 108.
(обратно)398
Г. В. Форстен, Балтийский вопрос, I, 674.
(обратно)399
См. письмо папского нунция Калигари к кардиналу Конскому у Тургенева, I, № СХСVII.
(обратно)400
Кн. II, столб. 269.
(обратно)401
Тургенев, I, № СХСV.
(обратно)402
Бантыш-Каменский. Переписка между Россией и Польшей (Чтения Общ. Ист. и Древ. Рос, 1860, кн. IV, стр. 156–157).
(обратно)403
Эти бояре с такими титулами названы в примеч.1 к стр. 99 русского перевода Гейденштейна, без указания источника, откуда известие заимствовано. Narratio (Relacje nuncjuszow, I, 330) и Бантыш-Каменский (Чтения в Общ. Ист. и Древн. Рос, 1860, кн. IV, стр. 157–158) приводят имена кн. Ивана Федоровича Мстиславского и Никиты Романова. Гейденштейн (99) называет князей Ивана Федоровича Новгородского и Никиту Юрьевича Мстиславскаго и Романова Захарьина. Стрыйковский (II, 431) называет князя Ивана Мстиславского и Никиту Романовича Захарьина.
(обратно)404
Он назван Василием и в Narratio, и у Гейденштейна.
(обратно)405
Так передают содержание грамоты Naratio (1. с, I, 330), Гейденштейн (99—100), Бантыш-Каменский (1. с, 158) и Карамзин (изд. 1852, IX, 305). Помета грамоты 28 сентября взята нами из Narratio и у Стрыйковского (1. с, II, 431).
(обратно)406
Бантыш-Каменский, I. с, 158.
(обратно)407
Гейденштейн (99) и Бантыш-Каменский (1. с, 158).
(обратно)408
Этот список в Литовской метрике, II, 27.
(обратно)409
Бантыш-Каменский, 1. е., 158.
(обратно)410
Гейденштейн (99) смешал ее с грамотой, которую привез Леонтий Стремоухов.
(обратно)411
Метр. Лит., II, № 25.
(обратно)412
Книга посольская метрики В. Кн. Лит., ч. II, № 26.
(обратно)413
К. Górsla, op. cii, Bibl. Warsz., 1892, II, 114.
(обратно)414
Cm. Epistoła qua Regni Ordines ad comitia convocantur в Relacje nuncjuszów, I, 320–324.
(обратно)415
Ib., I, 323.
(обратно)416
Cm. Witanie króla Stefana z wojny Potockiej przez Jana Januszewskiego в Acta Stephani regis, № СХХІІ.
(обратно)417
См., напр., I. Kochanowski, De expugnatione Polottei, Varsaviae, 1580.
(обратно)418
Гейденштейн, 91.
(обратно)419
Гейденштейн, 85–87. Об интригах Зборовских против короля говорит нунций Калигари еще в 1579 году (рим. портф., 9 CIV, стр. 291).
(обратно)420
Герцог принес королю ленную присягу в Дисне, см. Гейденштейн, 47.
(обратно)421
Гейденштейн (87–91) приводит речь Замойского целиком и преувеличивает ее значение: он сам замечает, что шляхта на своих многолюдных сеймиках склонялась в пользу войны, следовательно, представители ее, послы, явились уже на сейм с полномочиями дать свое согласие на дальнейшее ведение войны и разрешить королю взимать для этой цели налоги. Влияние речи Замойского на сейм отмечено и Стрыйковским, II, 431.
(обратно)422
См. Literae universales de quarta pro hac una vice tantum imperata propter belli necessitatem от 12-го января 1580, с варшавского сейма в Źródła dziejowe, t. XI, № LIV, стр. 112. To же сообщает и Гейденштейн (94), говоря, что старосты сами предложили обложить себя подобным образом, но Павинский (Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego. Źródła dziejowe, t. VIII, 344) основательно сомневается в том, что это было предложение добровольное.
(обратно)423
A. Pawiński, Skarbowość etc., 195.
(обратно)424
Он был отправлен 26-го октября, почему можно заключить, что литовские вельможи принимали его уже в ноябре.
(обратно)425
Этот ответ составлен нами на основании Гейденштейна (101) и Бантыш-Каменского (1. с. 159).
(обратно)426
Бантыш-Каменский, l. cit., 159.
(обратно)427
Метр. Лит., II. № 28.
(обратно)428
В Москве не знали, что Ходкевича не было уже в живых; он умер 4-го августа 1579 года.
(обратно)429
Метр. Лит., II, № 29.
(обратно)430
Грамоты, данные к Баторию через Благово, помещены в Книге Пос. Метр. Лит., II, № 31 и 32, Acta Stephani regis, № СХХIII и СХХIV, и у Тургенева, I, № СХСІ, по существу одинаковые, но отличающиеся в выражениях, причем у Тургенева редакция их весьма небрежна. В Acta Stephani начало грамоты – «милосердия ради милости Бога нашего, в них же посети нас восток свыше» и. т. д. до «мы великий Господарь» – отсутствует.
(обратно)431
Бантыш-Каменский, 1. cit., стр. 159.
(обратно)432
Кн. посольская Лит. Метр., II, № 34. О Шубине-Грязнове Гейденштейн ни словом не упоминает.
(обратно)433
Бантыш-Каменский, l. c., стр. 160.
(обратно)434
Король выехал в Гродну 18-го февраля; см. письмо Калигари от того же числа в римских портфелях, 10CV (библ. Крак. Акад. Наук).
(обратно)435
Грамота от 16-го марта 1580 года помещена в Метр. Лит., II, № 33, и по-польски в Acta Stephani, № СХХV, ср. Бантыш-Каменский, 1. с., 160.
(обратно)436
Книга пос. Метр. Лит., II, № 36.
(обратно)437
Бантыш-Каменский, 1. с., 161.
(обратно)438
Ответ из Вильны от 8-го мая в Кн. пос. Метр. Лит., II, № 35.
(обратно)439
Это требование сообщает Гейденштейн, но и Иоанн, посылая, по возвращении Нащокина в Москву, гонца Шишмарева, так пишет к Баторию: «и ты бы Стефан Король наших послов дождався, у тебе принял их у Вильни по прежнему обычаю, не ходя в поход ратью к нашим украйнам, занже нашим послом в походе, в рати мимо Виленское место мимо прежний обычай на посольстве у тебе быти не пригожо» (Кн. пос. Метр. Лит., II, № 43, стр. 73). Прием Нащокина состоялся 14-го июня (ib., № 43, стр. 72). См. также сообщение нунция Калигари от 26-го июня у Тургенева, I, № CCI, стр. 290, о двойной аудиенции, данной московскому гонцу, и о заявлении, что царь готов прислать послов.
(обратно)440
В первом письме, посланном через Нащокина к Иоанну, Баторий так выражается: «А про то и теперь и тое писанье твое на доброе пожитье христианству межи нами не вводится, кдыж непотребныя дела ку продолжению часу вкладаючи прекладает». (Кн. пос. Метр. Лит., II., № 40, стр. 69). То же сообщает и Гейденштейн (102).
(обратно)441
См. донесение Калигари (Римские портфели, 10СV, стр. 223).
(обратно)442
См. ответ Батория от 13-го июня в Кн. пос. Метр. Лит., II, № 40, и в Acta Stephani regis (по-польски), № СХХVII.
(обратно)443
См. второе письмо, посланное через Нащокина к Иоанну от 14-го июня в Метр. Лит., II, № 41. О пятинедельном сроке говорит и Калигари (Тургенев, I, № 201, стр. 290). Гейденштейн не определяет точно срока и сообщает несколько иное содержание королевского ответа; если царь желает отправить послов, то он охотно даст им возможность высказать то, что желают, и милостиво их выслушает. Что же касается требования, чтобы он ожидал послов царя в известном месте, то это требование не имеет примера ни у одного из прочих христианских государей; они посылают послов, когда нужно, во всякое место; везде одинаково право послов и не ограничивается известным местом; послам его можно придти всюду, где только он ни будет, и даже в самом лагере, во время самого разгара сражения, послы могут вести с ним переговоры, если это окажется очень нужным (102–103). В королевском письме нет ни слова о требовании царя, чтобы король принимал его послов в определенном месте, в Вильне.
(обратно)444
Лит. Метр., II, № 42.
(обратно)445
Калигари пишет: fra cinque settimane il Rè farà la massa del suo esercito e venendo ambasciatori gli udirà armato in campo, nè per tutto cio ci rimetterà un pelo della sua diligenza e provvisioni militari. Тургенев, I, стр. 290.
(обратно)446
Гейденштейн (103–105) говорит только об одном преступлении Осцика – о намерении убить короля. По словам Стрыйковского (II, 432), Нащокин вел тайные переговоры в Вильне с Осциком, «kujаc. zdrade przewrotna przeciw Wielkiemu Ksiestwu Litewskiemu i zdrowiu Krolewskiemu», за что Осцик и понес заслуженное наказание 18-го июня, в субботу. Современная брошюра, написанная стихами и напечатанная в 1580 г., говорит, что Осцик намеревался отдать Литву во владение Москве. Отрывки из этой брошюры переиздал Краусгар в Roczn. Tow. Przyj. Nauk Pozn., t. ХVIII, str. 389–395. По изображению Реннера (Johann Renners. Livlandische Historien, herausgegeben von Rich. Hausmann und Konst. Hohlbaum, Gottingen, 1876), заговор составило несколько королевских воевод (?), чтоб передаться на сторону Иоанна, когда Баторий двинется в поход, за что они были обезглавлены в Вильне 18-го июня (стр. 380).
(обратно)447
См. Окружную королевскую грамоту из Гродны от 16-го марта в Актах Зап. Рос, III, № 119. И.И. Лаппо в своем сочинении «Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория» (I, стр. 179) о составе этого съезда выражается неточно. По его словам, «вернувшись из Варшавы с сейма в Литву, в столечное место литовское – Вильну, король вызвал к себе панов рад и рыцерство княжества, всех кто только мог прибыть к королю»; между тем в королевской грамоте говорится след.: «…сложили есмо и сим листком нашим складаем зъезд их милости паном радом, врядникам земским и всим тым, которых с поветов с посродку себе оберете…», и далее; «и вы бы о том ведали, и зъехавшися на час певный, у во второк по Велице-дни, то есть того ж месяца априля 5 дня, на местцо к соймику в повете вашем звыклое и о справах вам в сем листе нашом вышей поданых межи собою намовившися, две альбо три особы, альбо похочете ли и больше, с посродку себе братью вашу, людей добрых, расторопных и бачных, на тот зъезд у Вильну, на день 17 месяца априля зложоный прислали…» Таких листов было выслано во все поветы 22.
(обратно)448
См. Acta Stephani regis, № СХХХIV, стр. 343, И.И. Лаппо (op. cit стр. 178–180) приводит документ из Коронной метрики целиком.
(обратно)449
Гейденштейн, 97.
(обратно)450
Ib., стр. 98. Почему так произошло, историк не объясняет. В этих выражениях нельзя не усмотреть пристрастия панегириста к своему герою. Воззвания короля, совершавшего победоносный поход в предшествовавшем году, не особенно сильно действовали, а воззвание Замойского, военные таланты которого не были пока еще известны, возымело свое действие.
(обратно)451
См. Literae universales de accelerando delectu peditum in bonis regabbus, из Варшавы, от 16-го февраля 1580 г., в Zrodla dziejowe, т. XI., № LXXIX, стр. 134–136. Сообщение Гейденштейна (99) об этом не совсем точно. Он говорит: «и вот теперь решено было обратиться к такому способу набора», между тем как из королевского универсала явствует, что король обращался к нему уже и раньше: «tak jakosmy juz przed tym czyniаc dosyc konstytucyi na sejmie warszawskim w r. MDLXXVIII uchwalonej, poslalismy byli…»
(обратно)452
Собственно 1446, см. К. Gorski, Druga wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskiem (Bibl. Warsz., 1892, IV, стр. 16).
(обратно)453
Подробности этого дела в статье К. Гурского (К. Gorski, 1. с. 2).
(обратно)454
Приговор собора помещен у Щербатова, т. V, ч. IV, 200–206, № 2; Карамзин (изд. 1852), IX, 306–307.
(обратно)455
Карамзин, IX, стр. 307–308 и примеч. 538.
(обратно)456
Оршанский староста Филон Кмита доносил королю о военных сборах Иоанна письмом от 27-го июля 1580 г. след.: «великий князь Московский войска свои вже собранные мает; которых, поведают, почот барзо великий только дей мотлох; и тот люд, который меле в Можайску собраный, вже з места рушил и розсказал им до Вязмы, до Дорогобужа, до Торопца и до Старицы лягнуть и где бы взяли ведомость о войсках в. к. м., повелел им на полки приходить и тревоги чинить». Акты Зап. Рос, III, № 122, стр. 259.
(обратно)457
Такой маршрут обозначен у Стрыйковского (II, 432).
(обратно)458
Гейденштейн, (105). Соликовский (Krotki pamiеtnik rzeczy polskich, 56) говорит, что Григорий XIII прислал королю шапку и меч, которые Павел Уханский вручил ему торжественно в виленском кафедральном соборе в присутствии папского нунция Андрея Калигари; то же и Стрыйковский, II, 432.
(обратно)459
Гейденштейн (99 и 106). Гиулан, автор сочинения Commentarius rerum a Stephano rege Poloniae in secunda expeditione adversus M. Moscorum ducem gestorum anno 1580 (Relacje nuncjuszow apost. I, 331) и участник второго похода Батория, говорит неверно, что военный совет происходил в Витебске. У нас есть свидетельство офицера, бывшего в Щудуте и, может быть, принимавшего участие в самом совете, – свидетельство Луки Дзялыньского о том, что совет происходил в Щудуте (Acta Stephani regis, 276); но сам король отмечает Чашники, как место совета, см. Ioan. Pistorii Polonicae Historiae Corpus. III. 126–128.
(обратно)460
Гулиан (1. с., I, 331) и Одерборн (1. с., II, 246) отмечают только мнения, по которым желательны были походы к Смоленску и Пскову.
(обратно)461
Гейденштейн (106).
(обратно)462
Это соображение отмечено у Гиулана (1. с., I, 331).
(обратно)463
Гиулан и Гейденштейн.
(обратно)464
См. отчет Луки Дзялыньского в Acta Steph. reg., 277.
(обратно)465
Гиулан, 1. с., I, 331.
(обратно)466
Выражение Гейденштейна.
(обратно)467
Гиулан, 1. с., I, 332; Одерборн, 1. с., II, 246.
(обратно)468
Гейденштейн, 107.
(обратно)469
Это сообщение Луки Дзялыньского (Acta Stephani regis, стр. 277), одного из участников похода, к тому же бывшего, может быть, на самом совете в Щудуте, подтверждается известием, которое сохранил Одерборн, о том, что Шереметев не особенно сильно противился движению на Великие Луки (Szeremetus illе, quem vi Socolo captum antea memoravimus, huic proposito non magnopere adversabatur 1. с. II. 246).
(обратно)470
См. Метр. Лит., II, № 43, письмо Иоанна от 2-го июля. Содержание грамоты, данной Шишмареву, сообщает вкратце и Гейденштейн, но фамилии гонца не называет и не совсем точно обозначает сроки прибытия московских послов (5-е и 16-е августа).
(обратно)471
Гонец спешил явиться к этому сроку. Поспешность его была так велика, по словам Гейденштейна, что он представился королю, вопреки московским обычаям, не в торжественном платье, какое приличествовало послу, а в обыкновенном.
(обратно)472
См. письмо Батория от 22-го июля в Метр. Лит., II, № 44. Содержание Баториева ответа передано у Гейденштейна хотя и кратко, но точно (стр. 110).
(обратно)473
См. письмо Иоанна от 19-го июля в Метр. Лит., № 45.
(обратно)474
Кн. Пос. Метр. Лит., 11, № 47, стр. 78.
(обратно)475
Это сообщает только Гейденштейн 111.
(обратно)476
Гейденштейн, стр. 108. Стрыйковский утверждает, что смотр производился в Лукомле, местечке в четырех милях от Чашников (II, 432, и Сапунов, IV, 197); Одерборн тоже (1. с., II, 246).
(обратно)477
Это решение состоялось, вероятнее всего, в Лукомле. Гейденштейн говорит, что, к отряду Замойского, которого король посылал под Велиж, присоединился Георгий Фаренсбах со своими немецкими солдатами. Стрыйковский же (II, 432) сообщает, что последним король произвел смотр в Лукомле, а Одерборн (1. с., II, 246) говорит, что сюда именно прибыли к Баториевой армии Фаренсбах и Христофор Розражевский.
(обратно)478
Отчет Луки Дзялыньского, 1. с., 277.
(обратно)479
Гейденштейн, 112.
(обратно)480
Гейденштейн, 108–109.
(обратно)481
По Гиулану (1. с., I, 331) и Brevis Narratio – 25-гo (VI Cal. Augustas Vitepscum pervenit), по Реннеру (381) – 28-го, по Стрыйковскому II, 482 – 29-го июля.
(обратно)482
Стрыйковский, II, 432; Гейденштейн, 115. Как велика была армия литовская, не знаем. Стрыйковский (II, 433) насчитывает в ней 12 700 человек, Реннер (383) – 15 000. Неизвестно нам и число добровольцев. Стрыйковский называет отряды их значительными, Гейденштейн (115) говорит, что литовские войска, как получавшие жалованье, так и добровольческие, представились королю в таком количестве и вооружении, что никто не мог догадаться о потерях их в прошлом году. Король в привилегии, данной Литовцам по их желанно с той целью, чтобы их добровольная военная служба не была обращена в повинность, хвалит чрезмерное усердие Литвы к родине и Речи Посполитой, но о размерах отрядов добровольцев говорит неопределенно: Литовцы «с так великим почтом людей ставилися при нас Господарю в войску и с такою повольностью, хутью и жичливостью, иж теж во всем годными были найдены от нас, чого одно есмо по них потребовали и што циому Рыцерству наложило, то все хутливе, мужие оказывали». Королевская привилегия допускает странную неточность, объяснимую разве только тем, что она составлялась в канцелярии литовской, которая из чувства национального антагонизма позволила себе сделать подобного рода ложное заявление. Литовцы, – говорится в привилегии, – обязаны исполнять подобно всем подданным короля повинности только «порядком на сойме уфаленым, так яко и обыватели коронные прикладалися: которому податку и они досыть учинивши, надто еще только на самое жадание нашое, с так великим почтом…» Из этих слов можно было бы вывести заключение, что Польша не выставляла отрядов добровольцев на войну. Однако мы по документам знаем, что Замойский содержал многих солдат на свой счет; мы знаем из сочинения Гейденштейна, что в отряде Замойского были знатные люди, которые, конечно, даром служили; а этот отряд достигал 2000 человек. Кроме того, тот же Гейденштейн сообщает нам известие, что в Витебске представлялись королю одновременно с литовскими войсками и польские, пришедшие тогда в первый раз из более отдаленных местностей королевства, которые также были двоякого рода: наемные и охочие. Остановиться на всем этом так долго заставило нас цитированное уже нами сочинение И.И. Лаппо. Автор вполне верит словам привилегии и восторгается самопожертвованием Литовцев. Он говорит: «в то время как корона ограничилась лишь уплатою податка на ведение войны наемным войском, Литва не только внесла его, но добровольно выслала своих обывателей в посполитом рушены “персями” своими защищать отечество» (I, 178). Из наших замечаний оказывается, что следует относиться критически и к официальным документам. Еще два-три замечания. Слова Н.И. Лаппо показывают, что он смешивает «посполитое рушенье» с войском добровольцев. Стефан Баторий никогда не созывал «посполитого рушенья», потому что считал его непригодным для военных целей. В той же привилегии король называет литовское войско «потечным». Он так об этом выражается: «гдыж скоро час воины слушный припал наперед в Свире, потом в Дисне и на иных месцах, с такими почты нам се оказовали, и при нас через увесь час войне належачий были, же за их таковым подпарьтьем, войска досыть великого, потечного, противо тому неприятелеви, беспечно здоровье нашое, вынесцесмо могли». Цитируем привилегию по Acta Stephani regis, N СХХХIV. В Речи Посполитой государственная оборона могла быть двоякого рода: поточная и посполитым рушеньем. Обязанность участвовать в посполитом рушеньи была обязанностью всей шляхты, но не добровольной службой, подобной той, которую исполняли Литовцы в войне Батория с Иоанном Грозным и относительно которой они выражали опасение, чтобы она не обратилась в повинность. Второе, менее существенное замечание: привилегия носит дату 29 апреля 1580 г. (см. И.И. Лаппо, op. cit., стр. 180, прим. 1) ошибочно, так как она, очевидно, выдана после того, как Литовцы «с так великим почтом ставилися при нас господару в войску и с такою повольностью хутью и жичливостью, иж теж во всем годными были найдены от нас». Последние слова указывают на смотр, произведенный литовским войскам, что случилось, как мы знаем, в самом конце июля 1580 года; следовательно, привилегия выдана позже этого момента. Дату 29-го апреля 1580 года могла бы носить только та часть ее, в которой идет речь о походе 1579 года. Мы не можем не признать, ввиду заявлений самого короля, что численность литовских добровольческих отрядов была гораздо значительнее польских, но очевидных фактов оспаривать невозможно: польские добровольцы, в количестве, превышающем 2000 человек, были в армии Батория. Объясняя странную забывчивость привилегии, можно указать еще на след. обстоятельство: литовские отряды добровольцев явились в силу решения литовского съезда, между тем как польские – лишь по инициативе частных лиц.
(обратно)483
29-го июля, согласно Стрыйковскому, II, 432.
(обратно)484
Гейденштейн, 113–114; Gorski, op. с. t, Bibl. Warsz., 1892, IV, 4.
(обратно)485
Гейденштейн, 115–116.
(обратно)486
У Гейденштейна (117) – 20 миль, конечно, римских, так как он на эти мили ведет счет расстояниям.
(обратно)487
К. Górski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 6. Реннер, черпающий свои известия из современной немецкой газеты, передает мельчайшие факты замечательно точно: он говорит, что канцлер стоял 2-го августа в расстоянии 11/2 мили от Велижа (op. cit., 382).
(обратно)488
К. Górski, 1. с., 1892, IV, 6.
(обратно)489
Артикулы были обнародованы 3-го августа в Студяной, см. Acta Stephani regis, стр. 205. Поэтому сообщение Гейденштейна (113) о том, что Замойский издал в Витебске распоряжения, относившиеся к соблюдению военной дисциплины и предосторожностей в походе, и узаконил их письменно, следует признать неточным.
(обратно)490
Так рассказывает Дзялыньский, а Гейденштейн приводит даже фамилию боярина – Кудрявый: ехал он с двумя провожатыми, из которых один был убит казаками, другой успел спастись. Гейденштейн называет и казаков – Никиту и Бирулу, Дзялыньский только одного Никиту. Реннер (383) совершенно точно сообщает, что поймали москвитянина рано утром 3-го августа.
(обратно)491
Гейденштейн не упоминает об этом обстоятельстве.
(обратно)492
Этот факт отмечен и Реннером (383) точно.
(обратно)493
Описание это составлено по дневнику Дзялыньского (Acta Stephani regis, стр. 212–213), см. К. Górski, 1. с. стр. 7. Гейденштейн описал замок неправильно: по его словам, река Двина омывала крепость с юга и востока, а с севера протекал какой-то ручей, впадавший в Двину.
(обратно)494
Гейденштейн (119) помещает Уровецкого за Двиною, что надо признать ошибкой ввиду свидетельства, идущего от участника осады – Дзялыньского. Также ошибочно и Реннер (383) отводит место за Двиной отряду Борнемиссы.
(обратно)495
Дата верно отмечена у Реннера (383).
(обратно)496
Замойский, по словам Реннера, посылал в крепость завихостского Петра Клочевского и перемышльского старосту Фому Дрогоевского; по свидетельству Дзялыньского, эти лица были в замке по истечении двухчасового перемирия.
(обратно)497
Реннер прибавляет: они заявили, что дали своему государю клятву защищаться в течение 15 дней.
(обратно)498
Реннер (384) приводит их имена: Paulm Brzack woiwod, Wassilei Jgenakow oldeste aver de schutten, Mikita Lopuhin, Wung, Talbuhm, Wassilei Jgnatei, Weligaum Uszokow. Они знали, по сообщению Реннера, Иоргена Фаренсбаха и увещевали его отнестись к ним по-дружески: пусть он припомнит, что он служил недавно их государю против Татар.
(обратно)499
По Реннеру, было найдено 27 тонн пороха.
(обратно)500
На эту причину указываешь Гейденштейн (119–120), преувеличивая несколько ее действие на настроение гарнизона.
(обратно)501
Книга Посольская Метр. Лит., II, № 46. То же письмо в польском переводе в Acta Stephani regis, стр. 216. Гейденштейн передает содержание грамоты неточно. Особенно просил московский царь, по словам Гейденштейна, о том, чтобы прежде чем выслушать послов, король отвел свое войско внутрь границ, очевидно, польских, прибавим от себя, но из подлинной грамоты явствует, что царь на этом требовании сильно не настаивал.
(обратно)502
Этот королевский ответ из Суража перед самым выступлением в поход (Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 47, и Acta Steph. regis, стр. 217–219) не отмечен у Гейденштейна.
(обратно)503
Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 4S. Содержание этого письма и день его получения Баторием отмечены у Гейденштейна (121) верно. По дневнику Зборовского (Acta Stephani regis, стр. 190), войско Батория переправилось 11-го августа, так что выражение Гейденштейна «на следующий день» надо понимать как 12-го августа, и Баторий пишет, что письмо было прислано в этот день (Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 49), а поэтому сообщение Зборовского, что письмо от царя получено было 14-го, надо признать неточным.
(обратно)504
См. ответ короля от 12-го августа в Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 49. Гейденштейн этого ответа не отмечает.
(обратно)505
К. Górski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 9.
(обратно)506
См. грамоту Иоанна от 12-го августа в Кн. Hoc. Метр. Лит., II, № 50.
(обратно)507
См. Баториево письмо от 21-го августа, ib., № 51. Ни этого письма, ни предшествовавшей ему грамоты Иоанна нет у Гейденштейна.
(обратно)508
Это известие сообщает Зборовский в своем дневнике со слов черкасского старосты князя Вишневецкого, предпринимавшего поход в глубь московских земель, см. Acta Stephani regis, стр. 194.
(обратно)509
Резанов уехал из Москвы 12-го марта в Пернов, а оттуда на корабле в Данию и через нее отправился в Вену. См. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1851, т. I, стр. 765 и след.
(обратно)510
См. Памятники дипломатических сношений, т. I, стр. 785 и след. Pierling, Papes et Tsars, Paris, 1890, p. 144–149.
(обратно)511
Acta Stephani regis стр. 190. Расположение войск, хотя и не столь подробно, отмечено и у Гейденштейна (122), с тем отличием от дневника Зборовского, что в Гейденштейново описание включен и каменецкий каштелян Николай Сенявский, хотя он прибыл к армии позже; тогда его отряд составил арьергард войска.
(обратно)512
Гейденштейн, 122, и Гиулан (Relacje mmcjuszow apostolskich, I, 333).
(обратно)513
Дневник Зборовского (1. с., стр. 191), Гейденштейн, (122); Гиулан и Brevis Narratio говорят, что Lithuani 18 Calend. Septembri tandem ad arcem Usviatam pervenerunt (1. с., I, 333); Стрыйковский (II, 432) утверждает, что Усвят был взят 6-го августа.
(обратно)514
Гиулан (1. с., I, 333).
(обратно)515
См. дневник Зборовского 1. с., 191–193, Осада и взятие Усвята описаны Гейденштейном (123), в общих чертах, точно. Имя второго воеводы в Acta Stephani regis (193) напечатано неверно; мы исправили его по сочинению Щербатова, V, часть 3-я, стр. 61. Стрелецкий голова называется по фамилии в дневнике «Puczaczny». Гурский (op. cit. Bibl. Warsz., 1892, IV, II) переделал эту фамилию в «Безчастный» (?).
(обратно)516
См. замечание Зборовского по поводу речи Радзивилла (1. с., 193).
(обратно)517
Стрыйковский (II, 433) приводит численный состав отдельных отрядов.
(обратно)518
Дневник Зборовского 1. с., 193. Гейденштейн, (123) говорит вообще о недостатке съестных припасов вследствие того, что местность была безлюдна; Гиулан (1. с., I, 334) замечает, что удручал тогда солдат в течение 4 дней особенно недостаток корма для лошадей (nulla res aeque militem atque inopia pabuli per quatriduum afllixit). Приходилось кормить их корой деревьев и молодыми ветвями. Если попадалось болото, солдаты входили по пояс (pube tonus) в воду и рвали тростник (juncum et scirpum).
(обратно)519
Гейденштейн, 124.
(обратно)520
Так монастырь назван в дневнике Зборовского (1. с., 196). Гиулан говорит о деревне Капуя (sequenti die qui fuit 8 Caleud. Septembris confectis triginta millibns passnum ad pagum Kajniya perventum est, 1. с., I, 334).
(обратно)521
Так называет его Гурский, 1. с. 11; дневник Зборовского отмечает jakiegos Barbi Drinrdzieya, (1. с., 197).
(обратно)522
Гейденштейн (126–127) говорит только об осмотре, произведенном Замойским; Реннер (387) замечает неточно, что был выслан вперед с этой целью Фаренсбах. Известие о том, что король первый осмотрел крепость, подтверждается показаниями Дзялыньского (1. с., 225) и Гиулана, который отмечает только иное расстояние от Великих Лук (одна миля, а не две). Дзялыньский, сообщая численность королевской свиты в 20 человек, делает неверное замечание, что в свиту из крепости не стреляли.
(обратно)523
Эти пункты указывает в своем дневнике Дзялыньский (1. с., 215 и 220), не называя дороги, по которой двигалось войско. Гейденштейн (124) говорит, что это была военная дорога, ведшая от Смоленска к Великим Лукам. Что касается урочищ, отмеченных Дзялыньским, то Доброедово, может быть, современная деревня Доброведово, как догадывается Гурский (1. с., 12).
(обратно)524
Гейденштейн, 124.
(обратно)525
Гейденштейн, 124. О постройке мостов говорит и Дзялыньский (1. с. 220).
(обратно)526
Эта схватка описана подробно Дзялыньским (1. с., 221), о ней упоминает и Гейденштейн (125).
(обратно)527
Об этом повороте влево со смоленской дороги упоминает и Гейденштейн (125).
(обратно)528
У Гейденштейна (125) этот начальник татарского отряда называется Уланецкий; берет его в плен, по словам историка, тоже казак Викентий (Винцентий в переводе). Очевидно, это тот знатный Татарин, которого Замойский послал королю и которого Зборовский (1. с., 196) называет Уланом Износковым, замечая, что он хорошо защищался, а потому и сильно был избит; но эти побои, как явствует из дневника Дзялыньского, были следствием пытки, которой его подвергали в отряде Замойского.
(обратно)529
Очевидно, это тот пункт, который Гейденштейн (125) называет Ораненскими лугами, определяя расстояние от главной армии в полмили (5000 шагов).
(обратно)530
Гейденштейн, 125.
(обратно)531
Сообщение Гейденштейна (126–127) подтверждается Дзялыньским, (1. с. 225).
(обратно)532
У Дзялыньского (1. с., 226) Turopskim gosciucem, у Гейденштейна (127) Замойский доходит до дороги, ведущей к Торопцу, и затем поворачиваешь по направлению к крепости.
(обратно)533
Осмотр замка описан кратко и Гейденштейном (127), причем он сообщает нам и о нападении на Москвитян Фаренсбаха, и случай с Борнемиссой. Зборовский (1. с., 198) относит это последнее происшествие к 28-му августа.
(обратно)534
Подробности расположения войск в дневнике Зборовского и Дзялыньского.
(обратно)535
Мы не знаем в точности, сколько их было. Подробные вычисления у Гурского (1. с., стр. 14–16).
(обратно)536
Соловьев (II, стр. 275), приводит неточную цифру в 50 000 человек.
(обратно)537
Описание это составлено по Гиулану (I. с, I, 335) и по королевскому эдикту (Edictum de supplicationibus a Serenissimo Poloniae Rege Stephano Vuielicoluco ex Moschovia missum. Die 5 Mensis Septembris A, D. 1580, loan. Pistorii Polonicae Historiae Corpus, III, 126–128). У Гейденштейна (126) встречаются неточности. Он говорит, что крепость стояла на небольшом холме, окруженном со всех почти сторон озером. Баторий отмечает «lacuum complexus», a Гиулан выражается так: praeter hunc fluvium fossa et stagnis universa arx cingitur. По словам Гурского (1. с., 17), в настоящее время нет здесь даже и следов озера, почему он предполагает, что озеро, упоминаемое Гейденштейном, представляло собою простой пруд, образовавшийся от дождевой воды. Как бы то ни было, Баторий и Гиулан свидетельствуют, что в XVI в. вблизи Велик Лук были скопления воды в виде озер.
(обратно)538
Реннер (388) утверждает, что в нем было 40 церквей; Одерборн (1. с., II, 246) замечает, что при пожаре города погибло 30 храмов. Зборовский (1. с., 197) говорит, что город был в два раза больше Вильны или даже еще больше. Дату 25-го августа приводят согласно Зборовский (197) и Дзялыньский (225). Гейденштейн (127) говорит неточно, что город был предан пламени за пять дней до прибытия Баториевой армии, потому что король подступил к Великим Лукам 26-го августа. Неточно выражается и Гиулан (1. с., I, 335): quatriduo ante regis adventum.
(обратно)539
Карамзин, IX (изд. 1852), стр. 312.
(обратно)540
Щербатов, V, часть 3-я, стр. 62. Гейденштейн (128) называет Лыкова Theodoras Obalenscius Licovus.
(обратно)541
Щербатов, ib., стр. 69. Гейденштейн (128) называет его Johannes Voejcovus.
(обратно)542
Бантыш-Каменский, op. cit., стр. 164.
(обратно)543
Акты Зап. России, III, № 115, королевская жалованная грамота от 18-го октября 1579 года.
(обратно)544
Соловьев, op. cit., II, стр. 275.
(обратно)545
Гейденштейн, 129.
(обратно)546
Так надо понимать сообщение Гейденштейна, выше нами приведенное. Очевидно, послы делали это для виду, напоказ.
(обратно)547
Иоанн жаловался Баторию на то, что королевские провожатые вели послов слишком медленно, оправдывая таким образом их позднее прибытие в королевский лагерь. См. Метр. Лит., II, № 57.
(обратно)548
Дневник Зборовского l. с, 198.
(обратно)549
Прием послов происходил не 31-го августа, как сообщает Гейденштейн (129), а 29-го, как согласно показывают Зборовский (198), Дзялыньский (228), Реннер (388) и Книга Пос. Метр. Лит., II, № 53.
(обратно)550
Королевские гайдуки, как жаловались потом послы, стреляли из ручниц так, что пыжи падали на них, послов. Теперь трудно решить вопрос, делалось ли это умышленно или произошло случайно, но, может быть, это и была одна из тех неприятностей, дерзостей, которыми встречали, по словам Соловьева (op. cit., II, столб. 275), послов в пределах Речи Посполитой от самой границы.
(обратно)551
Бантыш-Каменский, 1. с., стр. 164 и Соловьев, op. cit., II, ст. 276.
(обратно)552
В верительной грамоте этого титула нет, Метр. Лит., II, № 53.
(обратно)553
Описание приема послов составлено нами со слов очевидцев Зборовского (198–199) и Дзялыньского (228–229). Гейденштейн (129) выражается об этих событиях слишком кратко. Соловьев, op. cit., II, ст. 276, сообщает о приеме послов след. Паны говорили им: «ступайте на подворье!» и виленский воевода заявлял им вслед: «ступайте на подворье! Пришли с бездельем, с бездельем и пойдете!» Подробный рассказ Дзялыньского, присутствовавшего при приеме послов, рассказ, который мы старались точно передать, заставляет нас усомниться в подлинности этих выражений. Прибавим к этому еще одно замечание: в лагере не было посольского подворья, и трудно предположить, чтобы паны метафорически называли таким образом приготовленные для послов шатры. Отсюда такое заключение: если верить рассказу Дзялыньского, тогда вся сцена приема послов не представится нам такою оскорбительною для них, как это изображено у Соловьева.
(обратно)554
Гейденштейн (129–130) называет начальника литовского отряда Дробицким и говорит, что Литовцы напали на московский отряд во время сна. Мы описали эту схватку со слов Дзялыньского (1. с., 228), который сообщает, что Москвитян было 2000, между тем как Зборовский (1. с. 198) говорит об отряде численностью в 300 с лишком человек.
(обратно)555
Дзялыньский (1. с., 229) и Зборовский (1. с., 199). То же самое приблизительно сообщает и Гейденштейн (130), только Карл Истван назван у него Стефаном Карлом.
(обратно)556
Дзялыньский (230) и Зборовский (199). Об этом рассказывает и Гейденштейн (131), выражаясь о победе Русских неопределенно и неточно: одних из них убили, других взяли в плен.
(обратно)557
Зборовский (199) приписывает, инициативу в этом деле королю; Гейденштейн выражается неопределенно (131).
(обратно)558
Гейденштейн рассказывает об этом несколько иначе. По его словам, Замойский условился с некоторыми вельможами, чтобы, в случае отъезда его на другие работы, они попеременно смотрели за окопами; жребий пал тогда на Клочевского; он отправился к шанцам и был убит.
(обратно)559
Реннер (389) определяет поземельное пожалование в 5 гуф (5 hove landes).
(обратно)560
Эти факты сообщает только Гейденштейн (131–132).
(обратно)561
Эти подробности приведены только в поэме Д. Германна (см. В.Г. Василевский, op. cit. Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, февраль стр. 362), а цифра убитых и раненых – в дневнике Дзялыньского (1. с., 231).
(обратно)562
Это требование высказано прямо в речи князя Сицкого (Кн. Пос. Метр. Лит., II, стр. 104); о нем упоминает и король в своем письме к Иоанну (ib. № 54). Зборовский, рассказывая о приеме послов, упустил этот факт из виду, вероятно, по забывчивости: он говорит, что послы сразу стали уступать королю Полоцк (1. с., 200).
(обратно)563
Заявление послов о титуле извлекаем из письма Батория к Иоанну (Метр. Лит., II, № 54), Зборовский об этом обстоятельстве не говорит.
(обратно)564
Мы излагаем ход переговоров по дневнику Зборовского. Гейденштейн (132) выражается обо всем этом слишком кратко.
(обратно)565
Об этом совещании короля с литовскими сенаторами и Замойским говорит один только Гейденштейн (133–134); мы относим совещание к тому моменту, который указан у Зборовского, причем должны заметить, что Зборовский называет неопределенно трех сенаторов, не говоря, были ли это литовские или польские; Гейденштейн же говорит о двух сенаторах.
(обратно)566
Зборовский говорит об Усвяте, Велиже и Озерище, но король в своем письме к Иоанну называет только Усвят и Озерище (Метр. Лит., II, стр. 106).
(обратно)567
Метр. Лит., II, № 54. Гейденштейн (134) говорит, что Баторий назначил срок для ответа, но в королевской грамоте он не обозначен. Дзялыньский (1. с., 231) сообщает, что гонцу наказано было возвращаться на двенадцатый день.
(обратно)568
Гейденштейн, 132 и Д. Германн (1. с., стр. 362).
(обратно)569
Дзялыньский, 1. с., 231 и Зборовский, 1. с., 202.
(обратно)570
Гейденштейн, 135.
(обратно)571
Дзялыньский, 1. с., 232.
(обратно)572
Этот случай с перебежчиком рассказывает только один Гиулан (1. с., I, 337).
(обратно)573
Гиулан, 1. с., I, 337.
(обратно)574
Дневник Зборовского, 1. с.; 202–203.
(обратно)575
Дневник Дзялыньского (1. с., 232–233). Об этом эпизоде упоминает и Гейденштейн (138), но описание осады изложено у него весьма туманно и односторонне: он говорит подробно только о том, что происходило в лагере Замойского.
(обратно)576
О действии ветра говорит один Гиулан (1. с., I, 337); это действие мы относим к полуночи на основании слов Дзялыньского (1. с., 233).
(обратно)577
Гейденштейн (140) неопределенно называет высланное лицо primarius sacerdos; Дзялыньский (234) говорит, что выслано было несколько лиц, но не воевод. Гейденштейн упоминает тоже неопределенно о том, что осажденные предлагали какие-то условия, как будто дела их были еще в хорошем состоянии (tamquam integris rebus, что в переводе не совсем точно передано: как будто дела их имели блестящий вид).
(обратно)578
Дзялыньский, 234.
(обратно)579
Гиулан. Сочинение его, помещенное в Relacje nuncj. (1, 331–338), обрывается как раз на передаче историком выражений солдатского ропота. Поэтому дальше мы будем цитировать Гиуланово сочинение по изданию графа Сабо, представляющему собою фотографический снимок с издания 1580 г. Вот слова Баториевых солдат: Quibus couspectis vociferabantur milites Idcirco dimitti hostes iterum, ut tertio sumptis in regem armis, pluribus commilitonum exitio esse possint Ludibrio a, b hostibus lenitatem et clementiam regis liaberi. Irent igitur quibus tot laboribus atigatis sua vulnera et sociorura interitus acerbi essent hostiumque sanguine peremptorum commilitonum manibus parentarent. См. также изложение Гиуланова сочинения у В.Г. Васильевского (Журн. Мин. Нар. Просв. 1889, январь, стр. 162).
(обратно)580
Описание резни в Великих Луках у Гейденштейна (140) сходно с описанием у Дзялыньского (1. с., 234). Стрыйковский (II, 435) говорит, что жизнь была дарована некоторым старикам, всем детям и женщинам. То же почти утверждает и Гиулан: Sic alius ante alium nullo ducum imperio exaudito per ruinam irrumpunt ac magna facta caedearcem diripiunt; habita tamen in illo impetu militari ratio aetatis et sexus, conservatis enim pueris et foeminis in puberes tantum saevitum est.
(обратно)581
По словам Стрыйковского (II, 435), погибло с лишком 7000 человек. Для определения цифры погибших не мешает привести сообщение Одерборна (I. с, I, 246) о том, что число жителей города вместе с гарнизоном и теми, которые укрылись под защиту крепостных стен, было с лишком 8000 человек.
(обратно)582
Гейдентшейн (141), Одерборн (1. с., II, 246), Германн (В.Г. Васильевский, 1. с., ч. CСLXI, стр. 364); у последнего автора смерть Воейкова описана с поэтическими, вымышленными, конечно, подробностями.
(обратно)583
Одерборн (1. с., II, 246), Гиулан (Cognita hostinra caede rex indoluit). Резню в Великих Луках едва ли можно называть вероломным избиением покорившихся защитников крепости, как это делает проф. Васильевский (1. с., ч. CCLXI, стр. 363), ибо резня эта произошла вопреки всем усилиям короля и его вождей удержать солдат от нее.
(обратно)584
Дзялыньский, 1. с., 235.
(обратно)585
К. Gorski, op. cit., Bibl. warsz. 1892, IV, стр. 19.
(обратно)586
Этот эпизод, свидетельствующий о том, что случаи неповиновения солдат бывали и под строгой командой Замойского, рассказывает только Дзялыньский (1. с., 235–237); Гейденштейн хранит молчание.
(обратно)587
Дзялыньский, 1. с., 237.
(обратно)588
По Brevis Narratio, до 50 человек.
(обратно)589
Эти факты, сообщаемые Дзялыньским (1. с., 238–239), объясняют нам хорошо ход военных действий тотчас после взятия Великих Лук. Изложение Гейденштейна (142) отрывочно и неясно.
(обратно)590
По Brevis Narratio, у Барбелия было 600 польских и венгерских всадников, с которыми он выступил в поход 15-го сентября; по Гиулану – 500 всадников и 100 пехотинцев (sclopetarios equis vehi solitos) Гейденштейн выражается неопределенно: несколько польских и венгерских всадников и пищальников. Brevis Narratio и Гейденштейн молчат о Филипповском, называя начальником отряда только Теория Барбелия (у Одерборна, II, 247 – Georgius Barbus); Гиулан говорит, что Барбелий посылал Гиеронима Филипповского к королю просить о подкреплениях.
(обратно)591
Дзялыньский забыл упомянуть о назначении Збаражского начальником экспедиции, но из дальнейшего рассказа автора дневника явствует, что экспедициею командовал брацлавский воевода. По Гиулану, у Збаражского было 1400 польских и венгерских всадников и 120 венгерских пехотинцев (последним приказано было ехать на конях).
(обратно)592
По Brevis Narratio —18-го сентября.
(обратно)593
К этому отряду присоединился также знаменитый Самуил Зборовский.
(обратно)594
Об экспедиции под Торопец Brevis Narratio рассказывает так ясно и точно, что участие автора этого рассказа в походе едва ли может подлежать сомнению, как это верно замечает В.Г. Васильевский (Журн. Мин. Нар. Просв. 1889. CCLXI. 156).
(обратно)595
Дзялыньский (1. с., 258) о Киралии не упоминает, а называет Собоцкого, начальника аркебузьеров.
(обратно)596
Дзялыньский (258) рассказывает этот эпизод со слов Филипповского иначе: Москвитяне, преследуемые Поляками и Венграми, добежав до моста, подсекли поспешно столбы, на которых он держался, но так, что враг этого не заметил, и сами укрылись за мостом в засаде. Маневр увенчался успехом. Мост рухнул под преследовавшими их врагами, и последние должны были прекратить погоню.
(обратно)597
По словам Дзялыньского, у моста ночевал уже сам Збаражский. Во время схватки в этом месте, по рассказу автора дневника, погибло с той и с другой стороны несколько человек. Brevis Narratio утверждает, что в отряде Киралия было только несколько ранено и несколько лошадей убито.
(обратно)598
Дзялыньский, 1. с., 258.
(обратно)599
Brevis Narratio.
(обратно)600
Дзялыньский, 1. с., 258.
(обратно)601
Гейденштейн, 144.
(обратно)602
По Brevis Narratio – tria milliaria.
(обратно)603
Дзялыньский, 259; по Brevis Narratio, 50 убито, 200 пленено; по Гейденштейну (143–144), пало 500 и взято в плен 200; по Гиулану, 500 убито, 100 пленено.
(обратно)604
Гейденштейн дает Нащокину неверно имя Ивана, но Brevis Narratio – точное имя Григория. Гиулан влагает в уста плененного Нащокина след. слова: aspicite, victores, inquit, ludibria fortunae; cui nuper honoris causa splendide obviam processitis, eundem nunc revinctis post tergum manibus captivum ducitis.
(обратно)605
Дзялыньский, 1. с., 260.
(обратно)606
Гейденштейн, 145.
(обратно)607
Гейденштейн, 145.
(обратно)608
Цифры эти сообщает Гиулан и Brevis Narratio; Гейденштейн выражается неопределенно: «король отправил… Ивана Борнемиссу с венгерскими полками и несколькими более тяжелыми орудиями».
(обратно)609
По известию Гейденштейна, подтверждаемому Дзялыньским (1. с. 262), победители нашли в крепости не более половины бочки пороху.
(обратно)610
Факт грабежа сообщает один только Дзялыньский (262). Осада Невеля описана в Brevis Narratio точнее и определеннее, чем у Гейденштейна (145–146).
(обратно)611
Дзялыньский, 1. с., 263. То же самое сообщает и Гейденштейн (150), с той только разницей, что, согласно автору дневника, он, Дзялыньский, был командиром передового отряда, между тем как, по Гейденштейну, Розражевский Дзялыньскому не подчинялся.
(обратно)612
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz. 1892, IV, 22.
(обратно)613
Гейденштейн, 151.
(обратно)614
Дзялыньский, 264. Гейденштейн (151) утверждает, что Замойский при осмотре крепости заметил остров на юге от нее, куда он на следующий день после осмотра (след. 5-го октября) перевел все войско, так как считал этот остров местом весьма удобным для стоянки, и устроил здесь лагерь, очевидно, общий. Но Дзялыньский ни словом не упоминает об этом и замечает следующее: в этот день гетман приказал строить лагерь, но оказалось, что для него не было места, ибо местность была весьма гористая, так что одним пришлось бы стоять на горах, а другим в долинах, где были страшные болота; увидев все это, гетман изменил свое намерение и разрешил стать каждому там, где он избрал для себя место, однако недалеко друг от друга.
(обратно)615
Гейденштейн, 146.
(обратно)616
Дзялыньский, 265. То же самое почти рассказывает Гейденштейн (152–154), но имеются и некоторые отличия в подробностях: канат, по его словам, не оборвался, а был выпущен пехотинцами, которые тащили плот, потому что они были поражены выстрелами неприятеля; на плоту находились не два, а три человека, они не потопили неприятельскую лодку, а, поймав несколько неприятельских лодок и сбросив врагов с них, спасались на них к своим; плот был унесен на противоположный берег, где его и захватили посланные Замойским всадники, между тем как, по рассказу Дзялыньского, его притащили к берегу подплывшие к нему польские солдаты.
(обратно)617
По свидетельству Гейденштейна (54).
(обратно)618
Гейденштейн, 154, и Дзялыньский, 266.
(обратно)619
Гейденштейн (155) рассказывает этот эпизод несколько иначе. По его словам, Венгры не только перешли через плот, но стали сперва рубить топорами частокол, а потом, сгорая нетерпением поскорее взять крепость, бросились поджигать больверки, не прикрыв себя мешками от неприятельских выстрелов, не приготовив факелов и горючих материалов, так что за последними пришлось посылать за озеро некоего Георгия Суффа. О помощи, посланной Замойским венгерскому отряду, и о происшедшей на плоту свалке Гейденштейн не говорит ни слова.
(обратно)620
Дзялыньский, 266. Согласно Гейденштейну (155), за отступление высказался только один человек.
(обратно)621
По Гейденштейну (156), Фаренсбах первый такое мнение высказал.
(обратно)622
Это тот венгерский предводитель, которому Баторий приказал, по взятии Заволочья, остаться в нем начальником гарнизона, см. Дзялыньский 266 и К. Gorski op. cit., Bibl. Warsz. 1892, IV, 22.
(обратно)623
Содержание этого письма передает Гейденштейн (156).
(обратно)624
Гейденштейн, 157. Гиулан говорит, что вспомогательный отряд, высланный к Заволочью, состоял из 800 пехотинцев, под командой Стефана Кароли. У Гурского (I. с. 23) – 978 Венгров.
(обратно)625
Гейденштейн, 156.
(обратно)626
Гейденштейн (157) говорит только, что Замойский приказал прежний плот увеличить вдвое.
(обратно)627
Дзялыньский, 266–267.
(обратно)628
Гейденштейн, 157.
(обратно)629
Дзялыньский, 267–268.
(обратно)630
Гейденштейн, 158.
(обратно)631
Гейденштейн (159) говорит, что грамота была послана за несколько дней до приступа, – факт, противоречащий показанию Дзялыньского (268). Содержание грамоты у Гейденштейна передано слишком кратко и неточно. См. эту грамоту в Acta Stepahni regis, стр. № СХХХ; она же напечатана была уже в сборнике М. Grabowski, A. PrzeMziecki i Malinowski, Zrodia do dziejow polskich, Wilno, 1843, t. I.
По поводу этой грамоты Гейденштейн делает странное замечание: она была написана от имени короля, так как Замойский не хотел писать от себя, зная, что его собственное имя внушает неприятелю ужас, ибо ему, как главному распорядителю осады, приписывали жестокости, совершенные при взятии Великих Лук. Грамота от имени Замойского произвела бы несомненно такое же самое действие, ибо осажденные понимали ведь отлично, что сулить можно одно от имени кого угодно, а делать совершенно другое. А Замойский стоял ведь под Заволочьем, следовательно, уже своим присутствием он мог возбуждать ужас и доводить осажденных до отчаянного сопротивления.
(обратно)632
Дзялыньский, 270. У Гейденштейна (158–160) момент приступа изображен несколько иначе: по его словам, воины штурмового отряда, находившиеся впереди, уже сошли с плота на берег, когда осажденные стали кричать, что готовы сдаться. Во-вторых, из рассказа историка можно заключить, что свобода была дарована и воеводам. Гейденштейн прибавляет, что Замойский отпустил на свободу и несколько знатных женщин, которые были взяты в плен при завоевании Великих Лук, так как он опасался, что при столь продолжительном походе и при таком множестве солдат они могут подвергнуться грубым оскорблениям; этот поступок вызвал у Москвитян сильное удивление, ибо, по собственному их сознанию, они не освободили бы таких молодых и красивых женщин.
(обратно)633
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz. 1892, IV, 24. См. ниже стр. 199.
(обратно)634
По Brevis Narratio, Кмита выступил в поход, с отрядом в 700 человек, 7-го сентября.
(обратно)635
Таков отчет, который Кмита письменно дал королю, см. Дзялыньский 256–257. Гейденштейн (144) рассказывает об его экспедиции весьма кратко и приводит цифру Москвитян, разбивших Кмиту, в 10 000 человек. Цифра в 25 000 человек, вероятно, преувеличена Кмитой.
(обратно)636
Гейденштейн, 163. Время этого набега можно определить так: согласно Гейденштейну, набег происходил тогда, когда король находился в Гродно, а это было в ноябре, как можно заключить из дневника Дзялыньского, говорящего нам, что он правил посольство перед королем 10-го ноября в Вильне, и из слов Гейденштейна, что король находился здесь недолго и уехал отсюда в Гродну.
(обратно)637
К. Gorski, op. cit, Вibl. Warsz. 1892, IV, 24.
(обратно)638
Дзялыньский 1. с. 245, и Метр. Лит., II, № 55.
(обратно)639
Метр. Лит., II, № 65, 56.
(обратно)640
Метр. Лит., II., № 57 и приложение. Гейденштейн (148–149), передает содержание царского письма довольно точно. Он приводит неверно какого-то князя Святослава Мстиславовича, которого называли до принятия крещения Юргом и от которого Иоанн производил будто бы свои права на Ливонию и – что важнее – историк определяет неточно уступки, делаемые Иоанном Баторию. По словам Гейденштейна, Иоанн писал, что готов разделить с королем право на Ливонию и владеть ею вместе с ним, между тем как на самом деле царь соглашался только на то, чтобы Баторий носил титул князя Ливонского. «А Лифлянтским бы нам обема писатися безъимянно, как нынеча ты пишешься», – вот подлинные выражения Иоаннова письма. Первую ошибку, сделанную Гейденштейном, отметил уже редактор перевода его «Записок» на русский язык.
(обратно)641
Гейденштейн, 149, и Метр. Лит., II, № 59. Лозовицкий и гонец московских послов Никифор Сущов возвратились от Иоанна 16-го октября.
(обратно)642
Метр. Лит., II, № 59. Гейденштейн (149) делает незначительную ошибку: он говорит об уступке послам 6 городов, между тем как на самом деле их было 7 (семь).
(обратно)643
Гейденштейн, 159.
(обратно)644
См. приложение № XX.
(обратно)645
В Вильну король прибыл 3-го ноября. (См. приложение № XX и Brevis Narratio).
(обратно)646
Гейденштейн, 163–164.
(обратно)647
Гейденштейн, 161.
(обратно)648
См. приложение № XX; дневник сейма в Acta Steph. regis, стр. 285 и след.
(обратно)649
Podobno, – сказал Замойский, – аbу skorq siebie lupic dat. Uczyniiby i to, gdyby siçalchimia taka wynalezc mogia, со by z niej pieniаdze kuto» см. Acta Stephani regis, стр. 301.
(обратно)650
Этими воеводствами были, как можно заключить из речи коронного маршала? краковское, сандомирское и люблинское.
(обратно)651
«Deus est mihi testis, – говорил Баторий, – quod si in necessitatibus Rei publicae deesse nollent, non solum de Moschovia, sed de toto septentrione subigendo cogitarem». Слова эти не совсем ясны. Что разумел король под севером, можно только догадываться. Он, вероятно, намекал таким образом на шведские владения в Ливонии, на Эстонию, а может быть, Финляндию и Швецию.
(обратно)652
Об этом ясно свидетельствует дневник сейма 1581 года. Поэтому никоим образом нельзя согласиться с мнением тех историков, каковы Павинский и Гурский, которые, преклоняясь слишком пред гением Батория, осуждают поведение сеймов, осмеливавшихся критиковать деятельность короля и не сразу соглашавшихся удовлетворять его желания. Гурский в своем увлечении подвигами Батория и нерасположении к сеймам доходит до того, что называет польский сейм самым верным союзником врагов Речи Посполитой (Вibl. Warsz. 1892, IV, 26). Такие исследователи забывают, что подобным образом, как польский сейм, действовали и обязаны были действовать все представительные собрания в государстве.
Что касается Гейденштейна (165–166), то ход прений на сейме изложен у него неясно. Он говорит, что государственные чины представляли королю какие-то письменно изложенные пункты, выражая желание, чтобы эти пункты получили силу законов, и именно в том виде, в каком их предлагали, но в чем состояли эти законопроекты, историк не объясняет; дневник же сейма об этом обстоятельстве ни словом не упоминает.
(обратно)653
Слова Пржиемского, маршалка посольской избы. См. дневник сейма в Acta Steph. regis, стр. 355.
(обратно)654
Это письмо Иоанна напечатано в Метр. Лит., II, № 60, у Кояловича, Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию, стр. 179–181, и в Acta Stephani regis, стр. 286–288.
(обратно)655
Тургенев, I, № ССVIII и CCIX.
(обратно)656
В состав совещательной комиссии вошли след. сенаторы: виленский каштелян Евстафий Волович, воеводы серадзский Альбрехт Лаский, ленчицкий Иван Серяковский, подольский Николай Мелецкий, люблинский Иван Терло, белзский Андрей Тенчинский, равский Анзельм Гостомский, коронный маршал Андрей Опалинский и коронный канцлер Ян Замойский.
(обратно)657
Acta Stephani regis, стр. 298–299.
(обратно)658
Acta Stephani regis, 320. У Кояловича, op. cit., стр. 5, напечатано неверно Luke, вместо Lucen. Метр. Лит., II, стр. 126, говорит только об уступке двух замков, Режицы и Люцена, причем наименование первого напечатано неправильно Розытел (очевидно, немецкое Rositten)
(обратно)659
Метр. Лит., II, № 61, и в польском переводе у Кояловича, стр. 183, № 4.
(обратно)660
Рассказ об отпуске послов пропущен в Acta Stephani regis, но имеется у Кояловича, стр. 7.
(обратно)661
Коялович, 187–188, № 5.
(обратно)662
У Гейденштейна (166–167) ход переговоров о мире в Варшаве изложен слишком кратко, однако весьма метко указана сущность уступок, сделанных московскими послами Баторию: уступая ему крепости и города в Ливонии, они сохраняли за своим государем такие важные в военном и торговом отношении пункты, как Фелин, Дерпт, Мариенбург, Пернов и Нарву. Кроме того, историк отмечает след. интересное обстоятельство: он говорит, что при переговорах с московскими послами присутствовало несколько уполномоченных от земских послов для того, чтобы они могли рассказать подробнее своим товарищам об увертках Москвитян.
(обратно)663
См. рассказ об этой экспедиции в письме самого Кмиты к королю (Коялович, op. cit., стр. 181, № 2). Гейденштейн (170) называет начальниками экспедиции Мартина Курца и Гавриила Голубка. Письмо упоминает о Мартине Курце и Голубе; первого, по словам письма, захватили в плен холмские казаки, а второй командовал одной из рот. Таким образом, у Гейденштейна в данном месте небольшая ошибка.
(обратно)664
Он назван Menzik Pankratowicz Panak.
(обратно)665
См. List od panow rotmistrzow i rycerstwa krola IMci, w ziemie; nieprzyjacielskq, poslanego, do pana Philona wojewody smolehskiego Коялович, op. cit., стр. 184, № 3.
(обратно)666
Гейденштейн, 171.
(обратно)667
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz. 1892, IV, 229.
(обратно)668
Тургенев, I, № CCIX.
(обратно)669
Cм. Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Pskow, Krakow, 1894, стр. 1, то же у Кояловича, op. cit., стр. 10–11.
(обратно)670
Коялович, op. cit., стр. 183.
(обратно)671
Об этом говорится в королевской пропозиции сейму: Dimenzy (!?) sekretarz Moskiewskiego powiada, ze kniaz ma nadziejе, ze ten sejm rozerwie… Acta Stephani regis, стр. 290.
(обратно)672
Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Pskow, стр. 2 и Коялович, op. cit., стр. 11–12. По словам нунция Калигари, пребывание в Литве агентов Иоанна выдал Баторию московский беглец Давид Бельский, см. Тургенев, I, 311. Гейденштейн (174) дает Бельскому неправильно имя Богдана. По рассказу Петровского, подвергнутые пытке, Иоанновы агенты сознались, что хотели по отъезде короля на войну сжечь Вильну, а потом посягнуть на жизнь самого Батория.
(обратно)673
Об отправке его Иоанн известил Батория письмом, которое доставил королю в Гродну гонец Григорий Кабардеев (Метр. Лит., II, № 62, и Коялович. op. cit., стр. 200)… На это извещение Баторий ответил требованием, чтобы послы явились к нему в течение шести недель (Коялович, стр. 202, № 15).
(обратно)674
Метр. Лит., II, № 66, стр. 136.
(обратно)675
Коялович, op. cit., стр. 250, № 49, Piotrowski, стр. 2 (Коялович 11), письмо Иоанна к Баторию в Метр. Лит., II, № 68. Гейденштейн (173) рассказывает об этих переговорах несколько иначе: по его словам, московские послы оставляли за своим государем в Ливонии, кроме четырех указанных нами в тексте пунктов, еще Дерпт, и Баторий соглашался возвратить свои завоевания, кроме Велижа, но все это неверно, ибо противоречит первоначальным документам (см. слова самого Иоанна в Метр. Лит., II, стр. 154, и слова Батория, ib., стр. 186). Содержание условий, которые предъявлял Баторий, напечатано у Тургенева, I, № ССV, но с ошибочной датой (1580 год вместо 1581 г.) и с погрешностями в собственных именах.
(обратно)676
См. письмо Батория у Кояловича, стр. 283–284, № 56.
(обратно)677
Гейденштейн, 176. Историк приводит целый рассказ о том, как послы старались подкупить предводителя казаков Винцентия, чтобы он доставил от них царю письмо с известиями о затруднительном положении короля. Винцентий не только не соблазнился предложениями послов, но и донес обо всем властям в Вильне. Следовательно, через Винцентия известия о затруднениях Батория не могли дойти до Иоанна, однако мы можем утверждать, что они дошли другим путем, ибо нам известно, что царь держал в Литве агентов, которые должны были сообщать ему обо всем, что здесь происходило, см. Коялович. стр. 248.
(обратно)678
По одним известиям (см. Коялович, 252, № 51), по другим (Dziennik wyprawy pod Pskow, стр. 17) – до 30 000.
(обратно)679
Тургенев, I, № ССХVIII.
(обратно)680
Коялович, 251–254, №№ 50 и 51. По слухам, которые в преувеличенном виде распространяли Литовцы, Москвитяне сожгли тогда 2000 деревень (Piotroivski 11. 17). Нападение было произведено вопреки перемирию, которое московские послы заключили до 4-го июля (ib., 17). Незнанием этого обстоятельства отговориться в Москве едва ли могли, ибо гонцы, везшие известие об этом условии в Москву, выехали из Вильны 5-го июня (Метр. Лит., II, 139, № 66), царь отпустил польского гонца 29-го июня (этой датой помечено Иоанново письмо, ib., 157, № 68), а нападение началось 25-го июня. Об этом нападении Гейденштейн (178) выражается слишком кратко и неточно: по его словам, несколько королевских эскадронов, после нескольких счастливых стычек, заставили врагов удалиться в их собственные пределы. Московские пленники, взятые под Могилевом, объяснили нарушение перемирия тем, что распространился слух о смерти Батория, см. P. Pierling, Bathory et Possevino. Documents inedits sur Ies rapports du Saint-Siege avec les Slaves. Paris 1887 стр. 105 № XXIX.
(обратно)681
Тургенев, I, № ССХVIII. Пётровский (стр. 18) говорит, что этот отряд хотел завладеть Велижем.
(обратно)682
Коялович, 251, № 50.
(обратно)683
Piotroivski, 14.
(обратно)684
По Одерборну (II, 248) – в конце апреля (3 calend. Маii).
(обратно)685
Piotroivski, 5, Коялович, 246, № 48. С этими показаниями находится в противоречии свидетельство Гейденштейна (172), по словам которого, «общая готовность была столь велика, что многие шли на войну и поспевали к сроку, даже не получив вперед никаких денег на снаряжение».
(обратно)686
Piotroivski, 5.
(обратно)687
Коялович, 223, № 34.
(обратно)688
Piotroivski, стр. 8.
(обратно)689
Коялович, 247.
(обратно)690
Piotrowski, стр. 16 и 17.
(обратно)691
Ib., стр. 15.
(обратно)692
Коялович, стр. 279.
(обратно)693
Piotrowski, 21.
(обратно)694
«И нашого большого посла Михаила Далматовича Карпова не стало, неведомо, какими обычаи».
(обратно)695
Гейденштейн (180–182) передает содержание грамоты довольно точно, но пропускает самые яркие места, особенно оскорбительные для Батория.
(обратно)696
Отчет Дзержка о пребывании в Москве см. P. Pierling, Bathory et Possevino, стр. 107 № XXX.
(обратно)697
Метр. Лит., II, № 72.
(обратно)698
Метр. Лит., II, стр. 176, Piotrowski, стр. 26, и послание Батория к сенаторам из-под Полоцка от 20-го июля (Relacje nuncjuszow apostolskich., I, 339).
(обратно)699
Pierling, Un nonce du pape en Moscovie. Paris 1884 стр. 182–185.
(обратно)700
Piotrowski, 28–30. Несколько иной ответ короля помещен в Метр. Лит., II, 176: тут нет ни слова о посредничестве Поссевина; заключительные слова переданы неясно («а вжо не только о землю Ифлянскую пойде, але все»). Гейденштейн (182–183) сообщает только вкратце сущность ответа, данного королем посольству, но хода переговоров не излагает. Pierling, Un nonce dnupаре en Moscovie стр. 189—190
(обратно)701
Piotrowski, 27.
(обратно)702
Латинский текст у Тургенева, I, CCXXV, a западнорусский, или, скорее, какая-то смесь западнорусских и польских слов в Метр. Лит., И, № 74. Гейденштейн (186–189) передает содержание Баториева письма, но в очень мягкой форме.
(обратно)703
Piotrowski, 44. Это были сочинения Герберштейна, Гваньини и несколько глав из произведения какого то Кранция или Крауция. Я просматривал произведение Альберта Крантца «Vandalia seu de Vandalorum origine etc libri XIV» в издании 1519 и 1575 г., но нашел только несколько строк об опустошении Ливонии Русскими при Иоанне III, их жестокостях и о том, что московскому государю опасно доверять, а потому и не берусь утверждать, как это делает издатель «Дневника похода Стефана Батория под Псков», А. Чучинский (Dziennik wyprawy. etc., стр. 222), что Кранций, упоминаемый Пётровским, есть именно Альберт Крантц. У Кояловича фамилия автора нескольких глав напечатана в форме Craucii. Пирлинг (Papes et tsars 220) говорит о каком-то Краузе (Krause). Историк имеет, вероятно, в виду известного авантюриста Элерта Краузе, который вместе с своим товарищем Таубе написал брошюру о жестокостях Иоанна. Однако предполагать, как это делает А.И. Браудо в своей статье «Послание Таубе и Крузе к герцогу Кетлеру» (Журн. Мин. Нар. Просв. Октябрь 1890, стр. 391), что Иоанну послано было это именно произведение Краузе, трудно, так как Пётровский говорит о нескольких главах, очевидно, большого сочинения.
(обратно)704
Piotrowski, 38.
(обратно)705
Piotrowski, 35.
(обратно)706
lb., 38. Автор дневника относится не особенно доброжелательно к Литовцам, но в данном случае нельзя заподозрить его в том, что из пристрастия он сообщает ложные факты.
(обратно)707
Эти соображения приводит сам Баторий в письмах к Мартину Кромеру и к подканцлеру от 14-го августа (Relacje nuncjuszow apost., I, 340–343, и Тургенев, I, № ССХХVI). То же сообщает и Гейденштейн (183), замечая, что король и немногие с ним готовы были идти к Новгороду, ибо, по слухам, здешнее дворянство волновалось по каким-то причинам против царя. Историк приводит нам и единственное мнение Вейера, указывавшего на необходимость идти к Дерпту, на том основании, что большая часть тамошнего гарнизона выведена для защиты Пскова, вследствие чего крепость легко будет завоевать и, таким образом, открыть себе доступ ко всей остальной Ливонии (184).
(обратно)708
Тургенев, I, № ССХVIII, Relacje nuncjuszow, I, 341, Коялович, стр. 329.
(обратно)709
Piotroivski, стр. 41.
(обратно)710
Соображения относительно Себежа и Опочки сообщает Гейденштейн (184–185).
(обратно)711
Relacje nunc, I, 341 и Гейденштейн, 185.
(обратно)712
Relacje nuncj., I, 341; Piotroivski, 38, 41–42; К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz, 1892, IV, 231. У Гейденштейна (185) нет ни слова о просьбе троцкого каштеляна присоединиться к главной армии; историк отмечает только в неопределенных выражениях приказ, полученный Радзивиллом от короля относительно нападения на неприятельские земли.
(обратно)713
Piotroivski, 45–46.
(обратно)714
Гейденштейн, 189–190.
(обратно)715
Piotroivski, 47; Гейденштейн, 190.
(обратно)716
Piotroivski, 47.
(обратно)717
Piotroivski, 48.
(обратно)718
Гейденштейн, 191. Пётровский об этом ни слова не говорит, но зато он рассказывает нам (28), как Замойский постарался блеснуть своею свитою при приеме московских послов. Слуги были одеты тогда в голубые атласные одежды и свита была столь блестящей, что раздавался шепот: настоящий великий гетман! а Пётровский прибавляет от себя: ожидаем еще большего, когда он (т. е. Замойский) будет показывать своих воинов на смотру.
(обратно)719
Гейденштейн (191) так об этом говорит: Литовцы также нисколько не остались позади против прошлогоднего своего усердия и превосходного снаряжения. По словам же Пётровского (48), отряды литовских панов были не так многочисленны и не имели такого блестящего вида, как прежде. Но показанию этого автора нельзя доверять в данном случае, так как его дневник проникнут чувством известного недоброжелательства по отношению к Литовцам.
(обратно)720
Piotroivski, 48–49; К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 232.
(обратно)721
Piotroivski, 54. Гейденштейн (192) говорит, что крепость имела много башен, а по словам патера Латерны (Тургенев, I; М ССХХVIII), было три каменных башни и две деревянных, только что начатых еще постройкой.
(обратно)722
Тургенев, 1, № ССХХVIII.
(обратно)723
Piotrowski, 54. Гейденштейн (192) сообщает, что король прибыл к Острову через два дня после Замойского, имея, очевидно, в виду прибытие короля с войском, что в действительности так и было см. Piotroivski, 55.
(обратно)724
Тургенев, I, № ССХХИШ. Выражение: non sunt hi Zavoloscenses aut Hervelenses, надо, очевидно, исправить так: non sunt hie Zavoloscenses aut Nevelenses.
(обратно)725
Piotrowski, 55. По словам Гейденштейна (192), окопы были сделаны в два дня и между ними поставлены пушки.
(обратно)726
Гейденштейн, 192–193. Пётровский (56) сообщает только, что сделаны были два отверстия – одно Поляками, другое Венграми. Рассказ Гейденштейна подробнее. Он говорит, что отверстие, сделанное Венграми, было слишком высоко, вследствие чего и вход в крепость представлялся слишком крутым; напротив того, Поляки, у которых артиллерией управлял Вейер, разрушили башню у самого фундамента, для того, чтобы легче было войти в крепость и чтобы не дать возможности неприятелю взорвать башню посредством подкопа на воздух, когда они займут верхнюю часть башни, чтобы выстрелами прогонять неприятеля из внутренней части крепости.
(обратно)727
Piotroivski, 56–57. У Гейденштейна (193) небольшая неточность: он говорит, что сдавшихся стали отводить ночью из лагеря на отдельное место.
(обратно)728
Гейденштейн обходит факт грабежа молчанием и рассказывает о выходе побежденных из крепости весьма странно. Он говорит (193), что когда их стали отводить, то деревенский народ, напуганный воспоминанием о великолуцкой резне, тотчас громким голосом стал добровольно присягать королю. Так как крик этот повторялся несколько раз, то Замойский, полагая, что они подвергаются насилию, побежал туда; они стали говорить ему, что присягнули королю и впредь будут соблюдать ему верность, а подняли такой громкий крик с тою целью, чтобы он был услышан самими Москвитянами. При чтении этого рассказа сама собою напрашивается догадка, что побежденные начали кричать, когда их стали грабить; своим криком они хотели заявить, что обещание, данное им королем, победители нарушили. Замойский, вероятно, старался остановить грабеж, но ничего не мог сделать. Одерборн (II, 248) утверждает неосновательно, что король удержал своих солдат от грабежа, прибавляя риторически, что король заявил будто бы следующее: он ведет войну не с несчастными гражданами, а с царем, с гибелью которого всякая вражда и война могут быть окончены; для него будет не меньшей славой сохранение Московии, чем ее разрушение (nес rainori sibi gloriae fore, si ab se Moscovia servata bit, quam si capta everteretur).
(обратно)729
Фамилию воеводы приводит Гейденштейн, но об отпуске его на волю говорит и Пётровский (57).
(обратно)730
Piotrowski, 57–58.
(обратно)731
Тургенев, I, № ССХХVIII.
(обратно)732
Так рассказывает об этом Гейденштейн (194).
(обратно)733
Piotrowski, 58. У Гейденштейна (194) – три, по словам патера Латерны (Тургенев, I, № ССХХVIII) – четыре.
(обратно)734
Piotrowski, 58. Патер Латерна (Тургенев, I, № ССХХVIII) приводит иную цифру: ex his (т. е. взятых в плен) unus ad regem ductus nunciabat 7000 sagittariorum esse Plescoviae, 2000 ad excursionem paratorum. Гейденштейн (194) о показаниях пленных выражается неопределенно.
(обратно)735
Piotroivski, 59.
(обратно)736
Этот случай рассказывает только Гейденштейн (194).
(обратно)737
Piotroivski, 62.
(обратно)738
И.И. Василев, Археологический указатель города Пскова и его окрестностей (с рисунками и планами), С. Петербург, 1898, стр. 7.
(обратно)739
И.И. Василев, Древние укрепления г. Пскова, 1868, стр. 9.
(обратно)740
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 234. Гейденштейн (198–199), описание псковских укреплений не изобилует теми подробностями, которые приведены нами в тексте, но дает довольно точное изображение их.
(обратно)741
Эти цифры приводит Гейденштейн (200–201), Карамзин, IX, 326 насчитывает только 30 000. Автор «Истории Княжества Псковского» (Спб., 1831, стр. 201) говорит, что в Пскове было сначала только 15 000 воинов, но что потом это число могло возрасти до цифры, отмеченной Гейденштейном, ибо псковские воеводы, узнав о движении Батория на Псков, призвали в город жителей из окрестных волостей.
(обратно)742
Карамзин, IX, примеч. 569.
(обратно)743
Piotrowski, 60.
(обратно)744
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 236. Ввиду точных вычислений Гурского цифра Баториева войска в 100 000 человек, приводимая Повестью (стр. 18) и принимаемая Соловьевым (II столб. 281) за достоверную, должна быть отвергнута.
(обратно)745
Гейденштейн (202) говорит: втрое больше.
(обратно)746
Гейденштейн (202) обвиняет подскарбиев в том, что было заготовлено мало пороха. По словам историка, запас в Сузе сгорел от неосторожного обращения с огнем тех, которые охраняли порох, a взамен его, вследствие предвзятой мысли о мире, подскарбии приготовили недостаточное количество.
(обратно)747
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 237.
(обратно)748
Гейденштейн, 202.
(обратно)749
Piotrowski, 62. Повесть (24) об этом так рассказывает. Король приказал расположить свой лагерь у Николая Чудотворца на Любятове по московской дороге; поставлены были уже многие шатры, когда, по приказанию псковских воевод, открыта была ночью стрельба (днем велено было от нее воздерживаться), так что наутро шатры исчезли и многие знатные паны были убиты.
(обратно)750
Гейденштейн, 203.
(обратно)751
К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 237. История Княж. Псков, стр. 205.
(обратно)752
Piotroivski, op. cit., 64. У Гейденштейна (205) говорится только, что Венгерцы преследовали врага и отбросили его в город.
(обратно)753
Piotroivski, 65 и Гейденштейн, 205.
(обратно)754
Piotrowski, 67–68.
(обратно)755
Дата проведения траншей заимствована нами у Пётровского (70), а расположение их – у Гейденштейна (205). Показание последнего подтверждается Повестью (27).
(обратно)756
Piotroivski, 70–71. Гейденштейн (206) упоминает об одном только убитом – Петре Кенди, который, «прибежав на шум Москвитян, выкликавших ночью по своему обыкновению свои караулы, погиб от выстрела из пушки».
(обратно)757
Piotroivski, 70–71. Повесть (27) говорит, что траншеи были окончены в три дня.
(обратно)758
О трудности осадных работ вследствие того, что почва была камениста, говорит также Гейденштейн (206), но он не сообщает нам при этом никаких подробностей, которые рассказу Пётровского придают такую живость и образность.
(обратно)759
Piotrowski, 70–77.
(обратно)760
Повесть 27; К. Gorski, op. cit., Bibl. Warsz., 1892, IV, 238.
(обратно)761
Повесть о начале и основании Псковского Печерского монастыря (13) верно отмечает начало обстреливания врагами города.
(обратно)762
Piotrowski, 78.
(обратно)763
Так рассказывает Гейденштейн 206–207.
(обратно)764
Гейденштейн (207) называет его венгерским десятником.
(обратно)765
Piotroivski, 79.
(обратно)766
Повесть о начале Печерского монастыря (14) и Повесть о пришествии Пресв. Богородицы (31). Торжественное молебствие совершено было также еще раньше, именно 6-го сентября, см. последнюю Повесть (28).
(обратно)767
Повесть о пришествии Пресв. Богородицы, 31.
(обратно)768
Так рассказывает Гейденштейн (208), а по словам Пётровского (79), приступ начался сейчас же после того, как разведочный отряд отправился исполнять данное ему поручение.
(обратно)769
Piotrowski, 80. Из рассказа Гейденштейна (209–210) следует, что первыми ворвались в город Поляки.
(обратно)770
Гейденштейн, 210; Повесть о пришествии Пресв. Богородицы, 31; История Княж. Псков, 211–214.
(обратно)771
Piotrowski, 80. Гейденштейн (210) говорит, что Москвитяне пытались подложить порох только под башню, занятую Поляками; Повесть о пришествии Богородицы (39) подтверждает рассказ Пётровского.
(обратно)772
Повесть (36) говорит об этом следующее: «Еще к тому Государевы бояре и воеводы повелеша под свиную башню поднести много зелия и повелеша зажещи е. Тогда же высокогорделивые королевские приближенные у короля выпрошались напред во Псков внити и короля срести; и государевых бояр и воевод связанных и привести пред короля. Он же рече: к первой похвале о связанных русских людей бояр и воевод, божиим промыслом первое за псковскую каменную стену свиные башни вкупе смесившеся своими телеси, другую яко под Псковом башню соградима»…
Из этих непонятных выражений Карамзин (IX, 334) вывел заключение, что свинская (т. е. свинусская) башня была взорвана на воздух и… «ров наполнился трупами Немцев, Венгров, Ляхов».
(обратно)773
Гейденштейн (211) выражается очень осторожно: «В этот день погибло из польской знати более 40 человек, у Венгров не меньшее число». Русские источники увеличивают число погибших воинов Батория до 5–7 тысяч человек, см. Историю Княж. Псков., стр. 216.
(обратно)774
Карамзин (IX, 335) говорит об этом так: «Неприятелей легло около пяти тысяч, более восьмидесяти сановников, и в числе их Бекези (т. е. Бекеш), полководец Венгерский, отменно уважаемый, любимый Стефаном, который с досады (не ясно, вследствие ли смерти этого любимца или вообще вследствие неудачи) заключился в шатре и не хотел видеть воевод своих, обещавших ужинать с ним в замке Псковском». Все это говорится на основании слов Повести (41–42). Но этому риторическому произведению можно доверять только с большой осторожностью. Ведь по этой Повести оказывается, что в Баториевом лагере в армии, командуемой Замойским, были паньи, которые оплакивали своих мужей (!!).
(обратно)775
К. Górski, l. с, 240.
(обратно)776
Карамзин, IX, 335.
(обратно)777
К. Górski, 1. с, 240.
(обратно)778
Сам Баторий объяснял неудачу штурма крутым и высоким спуском. Описание приступа, сделанное королем (Тургенев, I. 357, № ССХХХ, Supplementum ad Historica Russiae monumenta 8–9 № VIII, Коялович 345 № 70), заимствовал дословно автор весьма редкой брошюры «De Picscorae obsidione et pacificatlone secuta illiusque condi tiones», хранящейся в Публ. Библ.
(обратно)779
Piotrowski, 83. Карамзин же, основываясь на показании Повести (42), говорит, что король на другой день велел делать подкопы, стрелять день и ночь в крепость, готовиться к новым приступам.
(обратно)780
Гейденштейн (211–212); Пётровский (83) упоминает только Ригу.
(обратно)781
Эти факты сообщает только один Гейденштейн (212–213).
(обратно)782
Повесть, 43; История Княж. Псков. 216–217.
(обратно)783
Piotrowski, 90.
(обратно)784
Piotrowski, 91, Коялович, 352–353.
(обратно)785
Коялович, 353. Гейденштейн рассказывает об этом так. Замойский приказал соединить несколько лодок между собой цепями, пропущенными через крючья, вбитые в лодки, и поставить один ряд лодок у берега реки поближе к городу, другой дальше, выше по течению; после прохода неприятельских судов мимо первого ряда лодки обоих рядов должны были вытянуться поперек реки и таким образом преградить неприятельским судам и отступление, и движение вперед.
(обратно)786
Коялович, 353. Этот источник называет воевод: Якова Безобразова и Ивана Офукомеева (Offucomeiow). Согласно Пётровскому (91), число пленных, 150, по Гейденштейну (214) – 200.
(обратно)787
Piotrowski, 92.
(обратно)788
Карамзин (IX, 335–337) описывает осаду так, как будто бы армия Батория производила беспрестанную канонаду; это неверно.
(обратно)789
Piotrowski, 93.
(обратно)790
Повесть, 46.
(обратно)791
Piotrowski, 96, 98. Разрушены подкопы в ночь с 23-го на 24-е и 26-е сентября.
(обратно)792
Piotrowski, 98. Историю подкопов Гейденштейн (213) рассказывает иначе. По его словам, два подкопа, начатые с польских шанцев, не могли быть доведены до конца, ибо встретили твердую и толстую скалу; третий же подкоп, устроенный Венгерцами, был окончен, но неприятели догадались о существовании его потому, что приступ долго не возобновлялся, повели навстречу ему собственный и при помощи пороха разрушили неприятельский подкоп. Карамзин (IX, 337) повторяет за Повестью (45) известие о девяти подкопах, о которых Псковитяне узнали от пленных врагов. Говоря об этом, автор Повести прибавляет, что «ни один от тех литовских языков не ведают, к коему месту подкопы повели». Сведения, сообщенные Псковитянам пленниками, были, очевидно, выдуманы умышленно или переданы на основании слухов. Гонец Захар Болтин сообщил Иоанну о существовании 6 подкопов, см. Ф.И. Успенский, Переговоры о мире между Москвой и Польшей. Одесса. 1887, стр. 46.
(обратно)793
Piotrowski, 91.
(обратно)794
Ib. 97.
(обратно)795
Piotrowski, 93—107.
(обратно)796
Piotrowski, 114.
(обратно)797
K. Gorski, 1. c, 242.
(обратно)798
Piotrowski, 102–103.
(обратно)799
Іb. 105; у Гейденштейна (215) 7000 человек и Хвостов назван Николаем.
(обратно)800
Piotrowski, 105.
(обратно)801
Гейденштейн, 215.
(обратно)802
Пётровский (106) называет его только Даниилом.
(обратно)803
Рассказ об экспедиции Хвостова составлен нами на основании Гейденштейна (215–216) и Пётровского (105–106 и 108). Гейденштейн говорит, что большая часть воинов Хвостова была взята в плен, вследствие чего можно было бы подумать, что число пленных было весьма значительно, так как историк утверждает, что численность отряда достигала 300 человек (согласно Пётровскому – 500); между тем, по словам очевидца, захвачено было в плен только 15 стрельцов, спрятавшихся в тростниках на берегу озера, см. Piotroivski, 108.
(обратно)804
Piotroivski, 110. Гейденштейн (216) сообщает другие числа, именно 150 убитых и 60 пленных, и решительно утверждает, что остальные Москвитяне, числом около 300, вместе с Мясоедовым проникли в город. Между тем Пётровский говорит, что Мясоедов неизвестно куда делся, и выражает только опасение, чтобы он «как-нибудь не попал в город», что при темноте ночи было вполне возможно, а затем (131) сообщает следующие факты: 16-го октября перехвачены были солдатами Батория письма Псковитян и, между прочим, к Мясоедову с предложением попытаться снова проникнуть в город. Следовательно, сообщение Гейденштейна неверно.
(обратно)805
Piotroivski, 112–113.
(обратно)806
Piotrowski, 114, 116.
(обратно)807
Piotrowski, 118.
(обратно)808
Piotrowski, 134–135.
(обратно)809
Piotrowski, 136.
(обратно)810
Piotroiwski, 16, 17.
(обратно)811
Piotrowski, 38. С такою просьбою приехал от Радзивилла ротмистр Зебржидовский 27-го июля.
(обратно)812
Piotrowski, 41–42.
(обратно)813
Письмо Батория в Relacje nuncjuszów apostolskich 1, 341 и у Кояловича 329, № 59.
(обратно)814
См. Hodoeporicon Illustrissimi Principis ас Domini Domini Cłiristophori Radivilonis conscriptum a Francisco Gradovio. Vilnae 1582 и стихотворение Кохановского «Iezda do Moskwy» (Jana Kochanowskiego Dzieła Wszystkie Warszava t. II, 317). Последнее произведение представляет собой подробный и точный отчет об экспедиции Радзивилла.
(обратно)815
Кохановский (1. с., II, 318) так отмечает маршрут Радзивилла в этом месте: мимо озера Лукое, через которое протекает Двина, и Туросно, на Старину и Дрогачево. В окрестностях озера Радзивилл выжег деревни.
О трудности перехода говорит и Градовский, op. cit.
(обратно)816
Гейденштейн, 219.
(обратно)817
Piotrowski, 42.
(обратно)818
Кохановский и Градовский называют монастырь Покровским. Гейденштейн (219) определяет место встречи так: на расстоянии около 8 миль (римских) за Торопцом, у реки Немези, подле какого-то монастыря. У Кохановского река названа «Mioza».
(обратно)819
Гейденштейн, 219–220.
(обратно)820
Письмо Хр. Радзивилла у Тургенева, I, № CCXXIX. Гейденштейн (220) говорит, что авангард Радзивиллова отряда был завлечен врагами к каким-то мостам, около которых неприятели расположили в засадах пищальников, и потерял несколько своих, но ему на помощь подоспели другие; тогда они, по совету Гавриила Голубка, сошли с коней, оттеснили Москвитян от моста, обратили их в бегство и во время погони взяли в плен несколько человек. Иордан не упомянут историком, и число убитых не приведено. Согласно поэме Градовского, дело было у реки Шеломы 21-го августа, московский воевода Барятинский в сражении погиб, а другой, Ноздреватый, бежал. Кохановский (1. с., 319) насчитывает потери Москвитян в 3000 человек.
(обратно)821
По словам Карамзина, IX, 326, здесь было собрано тысяч пятнадцать.
(обратно)822
Kronika Marcina Bielskiego, изд. К. И. Туровского, 1856, т. III стр. 1492–1493.
(обратно)823
По Гейденштейну (220), на расстояние 30 миль, т. е. 6 миль польских. В поэме Градовского сделано замечание, что окрестности Ржева (Resowia) были подвергнуты опустошению 25-го августа. Согласно Кохановскому (1, с. 319–320), маршрут Радзивилла был такой: р. Узнора, Сорочинское поле, речки старый Туд и Лучесна (впадают в Волгу).
(обратно)824
Гейденштейн, 220 и Тургенев, I, № CCXXIX. Радзивилл шел берегом Лучесны, через Борисов, Урдому (деревня в Ржевском уезде на берегу речки того же названия) к монастырю Пречистой на Волге; солдаты Радзивилла сожгли в это время Ржев. Градовский описывает весьма подробно и яркими притом красками осаду и взятие города Урдомии. Проф. В. Г. Васильевский, рассмотрев отрывок поэмы Градовского, изображающий все это, пришел к тому заключению, что усердный поэт, желая увеличить славу своего патрона Радзивилла, прибегнул, по-видимому, за недостатком действительных фактов к выдумке. (Польская и немецкая печать о войне Батория с Иоанном IV в Журн. Мин. Нар. Просв, февраль 1889 г., стр. 377). С этим мнением нельзя согласиться. Что панегирист преувеличил сильно подвиги своего героя, это совершенно естественно, но он не мог передавать небылиц. Поэма – в этом нельзя сомневаться – была поднесена Радзивиллу и, вероятно, прочтена им; экземпляр поэмы сохраняется до сих пор в Несвижской библиотеке; воспетый герой мог бы принять выдумки в роде патетического рассказа о взятии крепости Урдомии за оскорбление для себя и панегирист не достиг бы своей цели. Что под Урдомой должна была произойти по крайней мере схватка, убеждает нас Кохановский, говорящий, что Радзивилл шел через Урдому и что тогда привели к нему много детей боярских, захваченных в плен при сожжении Ржева, т. е., вернее, во время опустошения окрестностей этого города, ибо город, как известно из письма самого Радзивилла, уцелел, да и трудно было его сжечь, так как в нем находилось многочисленное московское войско.
(обратно)825
Тургенев. I, № ССХХІХ и Гейденттейн, 220. Градовский говорит, что в это время было сожжено Ексово (jexovum), место, знаменитое богатством жителей и хорошей обработкой полей.
(обратно)826
О намерении Иоанна бежать из Старицы говорит Гейденштейн (220) со слов Поссевина, об отправлении жены и сыновей говорит Бельский (op. cit., III, 1494), Градовский и Кохановский (1. с, 321).
(обратно)827
Тургенев, I, № ССХХІХ.
(обратно)828
Гейденштейн (220), со слов Поссевина.
(обратно)829
По Гейденштейну (221), разведчики дошли до Окомечья, места, где, как и в Зубцове, выдавались подорожные. Карамзин (IX, прим. 591) говорит, что Литовцы у Окомечья потерпели неудачу, но в источниках, которыми мы пользовались, нет ни слова об этом, кроме известия, что московские разведчики захватили в плен несколько Татар (вероятно, грабителей) и несколько неприятельских фуражиров.
(обратно)830
Гейденштейн (221) называет Мурзу стольником, Градовский и Кохановский – постельником, Бельский, III, 1493) – stuga pokojowy i lozniczy. В рассказе о том, что сообщил Радзивиллу Мурза, Гейденштейн и Бельский расходятся между собой. Смысл Гейденштейнова сообщения тот, что перебежчик говорил о численном превосходстве Иоаннова войска. Из того, что, по словам Бельского, передал Мурза Радзивиллу, последний должен был заключить, что царь находится в сильном замешательстве.
(обратно)831
Итальянец Симон Дженга (Genga), находившийся под Псковом, так писал об этом к своему другу Велизарию Винта, секретарю великого герцога Тосканского: «Если бы троцкий каштелян был так же смел, как смоленский воевода (такой титул носил, как известно, Филон Кмита), если бы они переправились через реку, внезапно напали на него (т. е. Иоанна) и воспользовались страшным замешательством, в каком он находился, потеряв положительно голову, он попал бы в их руки». См. «Wiadomosc о Filonie Kmicie Czarnobylskim в Zrzodta do dziejow polskich wydawano przez M. Malinowskiego i Al. Przezdzieckiego. Wilno, 1844, t. II, 337. Гейденштейн (221) говорит об этом в неопределенных выражениях: «и вот, когда нашим представлялась возможность совершить достопамятный подвиг, если бы они подошли к Старице, они вернулись назад…»
(обратно)832
По словам Кохановского (1. е., 321), в Оковцах (деревня в 25 верстах от Селижарова) сожжена была церковь Богородицы (Пречистой, Градовский тоже сообщает о сожжении старой Пречистой), в Селижарове предано огню 30 церквей (то же и у Градовского). Селижарово было опустошено 28-го августа, согласно поэме Градовского.
(обратно)833
Кохановский (1. е., 321). По Градовскому, Литовцы были 29-го августа около Торопца, откуда вышел им навстречу неприятельский отряд в 1000 бояр (у Кохановского 300 всадников), из которых 300 были убиты.
(обратно)834
Маршрут Радзивилла был таков; Зукопа, речка, впадающая в озеро Пена (Осташковский уезд, Тверской губ.), деревня Рожнова (там же) и истоки Волги и Двины. Градовский говорит, что Радзивилл достиг 4-го сентября большого озера, где берут свое начало Волга и Двина.
(обратно)835
В Торопецком уезде, на Двине.
В поэме Градовского говорится, что поражение было нанесено 9-го сентября, причем убито 200 стрельцов. Около Дубна, по словам Кохановского и Градовского, находилась церковь, построенная Витовтом у источника, называемого Витовтовым
(обратно)836
Гейденштейн (221–222) рассказывает об этих событиях так. При Опочке был поставлен отряд казаков с той целью, чтобы прервать сношения Новгорода с Псковом. Улучив минуту, когда часть казаков отправилась на грабеж, московские Татары напали на остальных, но были отражены, когда возвратились назад и отправившиеся за добычей. Тогда Москвитяне устроили два караульных поста против Баториевых казаков: при Руссе и при Мичаге. Отряд на первом посту был разбит Радзивиллом, и тогда именно попал в плен князь Оболенский с несколькими боярами. Численность московского войска не показана Гейденштейном.
(обратно)837
Маршрут: село Сотов, Чернышево, Рамишево, Орехово, Уския (то место, которое в поэме Градовского названо Uscica civitas), Дуково, Ильмень, Михайлово, Заклинье, Карашевичи (Karaszewicc), Порхов.
(обратно)838
Кохановский, 1. е., II, 325 и Петровский, op. cit., t. 140. Встреча происходила 22-го октября.
(обратно)839
Piotrowski, 141–148.
(обратно)840
См. напр., Piotrowski, 159.
(обратно)841
Piotrowski, 171.
(обратно)842
Piotrowski, 171–178.
(обратно)843
К. Gorski, op. cit., Вibl. Warsz., 1892, IV, 251.
(обратно)844
К. Gorski, l. е., IV, 251–252. Гейденштейн (230) говорит о 30-ти римских милях, т. е. 6 польских.
(обратно)845
Piotrowski, 166.
(обратно)846
Piotrowski 163, Гейденштейн, 230.
Повесть о начале и основании Псковского Печерского монастыря (2-е изд. Псков., 1849, стр. 19–20) рассказывает, что однажды монастырские люди разбили неприятельский отряд при речке Пачковке, пленили до 300 человек и отняли захваченные врагами два церковных колокола.
(обратно)847
Piotrowski, 163, Гейденштейн, 231.
(обратно)848
Piotrowski, 165; Гейденштейн (231) цифр не приводит.
(обратно)849
Повесть (стр. 21) относит приступ к 5-му ноября. Рассказ Повести ясен и точен.
(обратно)850
Piatrowski, 178, Гейденштейн 231–232, Повесть, 21. Последняя говорит, что Фаренсбах (Кранкен) был ранен из орудия. См. также письмо Поссевина к кардиналу римскому, Supplementum ad Historica liussiae monumenta 54–55, № XX.
(обратно)851
По Гейденштейну (232), немецких солдат, 500 пеших Венгров и несколько больших орудий; по Пётровскому (179), «dzial Wigrow kilkanascie sot».
(обратно)852
Повесть (21–25) приписывает победоносное отражение врага чуду. Если принять во внимание, что осада Пскова шла неудачно главным образом потому, что у Батория не хватало пороха, надо прийти к выводу, что и отряд, осаждавший Печерский монастырь, располагал незначительным количеством его, а потому производить энергическую канонаду не был в состоянии. Второй приступ отбит был 14-го ноября. Рассуждения Гейденштейна (232) о причинах неудачи второго приступа страдают риторичностью и существа дела не объясняют.
(обратно)853
Piotrоwski 194; К. Gorski, 1. с., IV, 253.
(обратно)854
Piotrowski, 193.
(обратно)855
Piotroivski, 197.
(обратно)856
Piotroivski, 190–191, письмо Замойского к королю (Коялович, 402–403). Ввиду этих сообщений нельзя считать истинным сообщение Гейденштейна (235) о том, будто Замойский «точно знал, сколько в городе сил, военных снарядов, хлеба и запасов».
(обратно)857
Гейденштейн, 235–236.
(обратно)858
Описываем эту схватку на основании дневника Петровского (195–196) и писем Замойского к королю (Коялович, op. cit., 377–380. У Гейденштейна (237–238) существуют неточности: Псковитяне производят вылазку, чтобы захватить телеги с добычей, убито 30 человек и взято в плен 12.
(обратно)859
См. письмо Замойского к королю (Коялович, стр. 406). Гейденштейн (238) говорит, что Замойский употребил при этом следующую хитрость: он приказал одному своему всаднику приблизиться к месту, где была устроена Псковитянами засада; тогда последние, думая, что целый отряд врагов попал уже в засаду, выстрелили из своих ружей, но выстрелили в пустое пространство, а затем, не имея больше пороха и пуль, бросились в город, чтобы спастись от вражеского нападения.
(обратно)860
См. отчет самого Иордана о рекогносцировке в письме к Замойскому (Коялович, стр. 472–475). Гейденштейн (241) сообщает, что в окрестностях Пскова самые удобные дороги были заняты отрядами Замойского, но это известие, как мы видим, неверно.
(обратно)861
Повесть о начале и основании стр. 25–30. Грамота Замойского к монахам напечатана также у кн. Щербатова, op. cit., (изд. 1789), т. V, ч. IV, стр. 239–241. Замойский прислал монастырю икону, изображавшую Благовещение, полученную им, по его словам, из Иерусалима.
(обратно)862
Piotroiwski, 264.
(обратно)863
По словам Гейденштейна (242), почти третья часть в лагере страдала от лихорадки, вызываемой ознобами, но умирало от нее немного. Иное говорит Пётровский (208): по его сообщению, большая часть войска вымерла и третья часть лежала больная (это в конце уже кампании, 17-го января).
(обратно)864
Гейденштейн, 244–245.
(обратно)865
По Гейденштейну (246) – 700.
(обратно)866
Заимствуем описание этого дела из письма, написанного Замойским королю в тот же день, когда битва происходила, т. е. 4-го января 1582 г. (Коялович, стр. 512, № 191). Гейденштейн (246–247) описывает битву почти точно так же; он сообщает только несколько иные цифры: Шуйский высылает к реке Великой 200 всадников. Оринский командует отрядом приблизительно в 40 человек, взято в плен 60 Псковитян.
(обратно)867
Замойский и Гейденштейн приводят одни и те же имена убитых: Гродзецкого-Грудзенского, Пёнтковского-Пентковского, Оринского, Кобора; у Гейденштейна указан еще Венгерец Барраб Балог. Об Оринском Замойский замечает, что он едва ли выживет.
(обратно)868
Коялович, 1. с., стр. 514. Гейденштейн отмечает только Уровецкого.
(обратно)869
По словам Гейденштейна (249), Замойский сам предложил им похоронить убитых.
(обратно)870
Рассказываем со слов Замойского (Коялович, 1. с., стр. 516–517) и Пётровского (ib. 689). Таков же почти рассказ и Гейденштейна (248–250), с значительной только дозой фразеологии.
(обратно)871
Exclamarunt deinde isti iuvenes (бывшие на свидании): caveret рег fidus Szuiscius! ejus perfidiam quocunque ulturos – так пишет Пётровский (Коялович, 689).
(обратно)872
Описание прибора у Гейденштейна (250).
(обратно)873
Так говорит Замойский: ita Ostromecium dimisi, ut пес prohiberem, nec nimis etiam mandarem. Гейденштейн (251) говорит, что Замойский позволил отомстить таким образом врагам за их вероломство, что и соответствует действительно существу дела.
(обратно)874
У Гейденштейна – Моллер.
(обратно)875
Рассказываем этот случай на основании письма Замойского к королю от 11-го января 1582 г. (Коялович, op. cit., стр. 576–577). Рассказ Гейденштейна (250–252) согласен с рассказом Замойского; отличие существует след.: по словам Гейденштейна, Шуйский вызвал Замойского на поединок, но когда последний явился на условленное место, не застал Шуйского. См. также письмо Пётровского (Коялович, 690).
(обратно)876
Коялович, 577–578.
(обратно)877
Pierling, Papes et Tsars (1547–1597). Paris 1890, p. 108–122.
(обратно)878
Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, т. X, ст. 7.
(обратно)879
Pierling, La Russie et le Saint-Siege, Paris, 1897, t. II, 2–3; Hildebrand, op. cit., 8–9.
(обратно)880
Цель посольства Шевригина к папе известна Гейденштейну (174): по его словам, «царь обещал свою помощь христианству против Турок, жаловался на обиды, наносимые ему королем, и даже, говорят, тайно просил, чтобы папа склонил его к миру; во всяком случае самими своими жалобами он довольно ясно обнаружил свое желание, чтобы папа взял на себя посредничество».
Ф.И. Успенский (Сношения Рима с Москвой в Журн. Мин. Нар. Просв, август 1885 стр. 291) думает, что на посольство Шевригина в Рим нельзя смотреть, как «на униженное стучанье в дверь римского епископа с просьбой о помощи». Но с этим мнением нельзя согласиться, так как само московское правительство свидетельствует, что оно в Риме обращалось именно за помощью, «по нужде». См. Н. Лихачев, Дело о приезде в Москву Антония Поссевина. Спб., 1903, стр. 10.
(обратно)881
Тургенев, I, № CCLI, стр. 389.
(обратно)882
F. Koneczny, Jan III, Waza i misja Possewina. Krakow, 1901; К. Hildebrand, Iohan III och Europas katolska makter, 287–289.
(обратно)883
См. тайную инструкцию, данную Поссевину, у Тургенева, І, № ССХІІ, 299–305 и в Seb. Ciampi Bibliografia critica. Firenze 1834, I. 241–245.
(обратно)884
Гейденштейн 174; Pierling, La Russie et le Saint-Siègo, II, 45.
(обратно)885
Тургенев, I, 298, № CCX.
(обратно)886
В письме к Иоанну папа выражается очень осторожно о своей готовности быть посредником между царем и королем. (Памятники дипломатических сношений, X, 80–85, Relacje nuncjuszow apostolskich, I, 344–345), но эта осторожность необходима была для того, чтобы не раздражать Поляков, которые допускали переговоры между Москвой и Римом только церковного характера, см. Pierling, op. cit., II, 21.
(обратно)887
Pierling, op. cit., II, 51.
(обратно)888
Pierling, op. cit., II, 53.
(обратно)889
Pierling, op. cit., II, 57–59.
(обратно)890
См. выше стр. 217.
(обратно)891
Pierling, II, 94.
(обратно)892
W. Zakrzewski, Stosunki Stolioy Apostolskiej z Iwanem Groznym, carom i w. ks. moskiewskim. Krakow, 1872, стр. 145; Pierling, op. cit., II, 97.
(обратно)893
См. письмо Поссевина к Иоанну от 9-го октября в Памятники диплом, снош. X, 248–257. У Старчевского, II, 343–345 и в Relacje nuncj. I, 349–353 оно помечено неопределенной датой «ех me use Octobri». См. также Н. Лихачев, op. cit., XXIX, № 38. Гейденштейн (223–224) передает содержание письма неточно.
(обратно)894
Иоанн посылал под Псков разузнавать, стоит ли король под городом и «как стоит и что его промысел», см. Н. Лихачев. ор. cit., XXXVI, № 46, XLVIII, № 57, 58.
(обратно)895
Памятники диплом. снош. X, 257. Бояре принимали Поссевинова посланца Андрея Полонского 21-го октября, а решение заключать мир состоялось 22-го, см. Н. Лихачев, XXXIII.
(обратно)896
Гейденштейн (224) говорит об этих событиях только след.: получив это (т. е. Поссевиново) письмо, московский царь немедленно отпустил гонца вместе со своим курьером и письмом к Поссевину. Историк забыл упомянуть, что было письмо и к королю (Метр. Лит., II, 209, № 70; Коялович, 373, № 86).
(обратно)897
Письмо это от 22-го октября, см. Н. Лихачев, XXXIV.
(обратно)898
Письмо Иоанна, отправленное к Поссевину с гонцом Захарием Болтиным, носит дату 23-го октября, Н. Лихачев, XXXIV.
(обратно)899
Задержка произошла, может быть, и оттого, что Иоанн надеялся некоторое время на отступление Батория от Пскова.
(обратно)900
Письмо Поссевина к Иоанну (Relacje nuncj. apost., I, 352).
(обратно)901
У Гейденштейна (239) неправильно Николай Бассорек (Nicolaus Bassorekus).
(обратно)902
См. О.И. Успенский. Наказ царя Ивана Васильевича Грозного князю Елецкому с товарищами. Одесса, 1885.
(обратно)903
Гейденштейн (233–234, Starczeivski, II, 162) пишет, что король, посоветовавшись наедине с Замойским, предоставил ему заключить мир по своему усмотрению, т. е., очевидно, так, как об этом на совете было положено. Замойский имел своего рода инструкцию от короля, как сам он об этом пишет к королю (cum et clarum man datum de iis Maiestas Vestra mihi crediderit), см. Коялович, op. cit., стр. 445. Пирлинг (II, 127 128) утверждает, что последнее слово при ведении переговоров принадлежало королю и что вследствие этого переговоры затягивались, ибо приходилось сноситься с королем, который находился в это время в Литве. Все это изображение отношений между королевскими послами, Замойским и Баторием – неверно. Замойский извещал только короля о ходе переговоров, но инструкций для себя, и притом неограниченных (des pleins pouvoirs illimites), не домогался, ибо этими неограниченными инструкциями он располагал.
(обратно)904
Вопреки взглядам Карамзина (IX, 347) и Соловьева (II, ст. 286), утверждавших, что Поссевин склонялся на сторону Батория, новейшие исследователи считают папского легата посредником беспристрастным, см. Ф.И. Успенский, сношения Рима с Москвой (Журн. Мин. Нар. Просв. август 1885, стр. 307), Н. Лихачев, op. cit., 39.
(обратно)905
Piotrowski, 138.
(обратно)906
Piotrowtski, 186.
(обратно)907
Рierling, II, 112.
(обратно)908
Relacje nuncj. op. cit., I, 359.
(обратно)909
См. донесение Болтина Ф.И. Успенский, Переговоры 44–47.
(обратно)910
Piotrowski, 198, 201; Pierling, II, 129.
(обратно)911
Ф.И. Успенский, Переговоры о мире, 67.
(обратно)912
Так дело представляет сам Поссевин в письмах своих к Баторию, см. Relacje nuncj apostol., I, 361–363, 365–368. Об этих совещаниях говорят и московские послы в своей отписке к Иоанну (см. Н. Лихачева, op. cit., LXXXIII, № 119), но с содержанием ее я незнаком.
(обратно)913
Коялович, 394. То же самое повторяет и Пётровский в своем дневнике (стр. 201).
(обратно)914
Письмо Поссевина к Баториевым послам, Relacjе nuncj apost. l, 363.
(обратно)915
В латинском переводе грамоты так это место передано: et quaecunque illi incipient de rebus nostris dicere cum tuis legatis in con ventu, eae res nostrae sunt (Starezewski, II, 48, Rel. nuncj., I, 388). To же говорят Баториевы послы (Коялович, 410) и Поссевин (Rel. nuncj., I. 368). Иоанн прислал потом своим послам другую верительную грамоту, дававшую им «полную науку», см. Метр. Лит., II, 212, № 80, Н. Лихачев, op. cit., XCVI, № 136.
(обратно)916
Метр. Лит., II, 214.
(обратно)917
Acta in convontu legatorum Stephani Regis Poloniac et loannis Ba silii, Magni Moscoviae Ducis (Starczewski, II, 48–49).
(обратно)918
Ф.И. Успенский, Переговоры о мире, 52. Варшевицкий назначен был Баторием присутствовать на съезде в качестве уполномоченного по делам Швеции, см. Pierling, II, 113.
(обратно)919
Коялович, 411.
(обратно)920
Starсzewski, II, 50; Ф.И. Успенский, Переговоры о мире 55.
(обратно)921
Коялович, 412; Ф.И. Успенский, 56.
(обратно)922
Ф.И. Успенский, Переговоры, 57.
(обратно)923
Relacje nuncj., I, 370–371.
(обратно)924
P. Pierling (Levpigny), Un arbitrage pontifical au XVI Siеcle entre la Pologne et la Russie 177–178; K. Hildebrand, Antonio Possevinos fi’ods medling mellan Ryssland och Polen, 1. c., 19.
(обратно)925
Гейденштейн (239) отмечает слишком маловажную причину, вследствие которой Баторий желал распространить свой мирный договор с московским царем и на шведского короля: хотя несправодливый захват крепостей (понятно, Шведами) сильно изменил мысли короля, но вследствие просьб королевы Анны, которая из любви к сестре своей, шведской королеве, и вследствие постоянных ее писем, обняв колена короля, умоляла его не заключать мира без Шведов, король обещал ей постараться о том, чтобы был включен и шведский король в мирные переговоры. Баторий предлагал Швеции заключить перемирие с Москвой на один год, см. К. Hildebrand, Antonio Posscеinos fredsmedling, 1. с., 21.
(обратно)926
Pierling, II, 135–136.
(обратно)927
Требование относительно Швеции было отвергнуто не во втором заседании, как это представлено в «Розмовах послов его королевской милости с послами московскими» (Метр. Лит., II, 213, № 81), а в третьем, см. Ф.И. Успенский, переговоры, 58. Сообщение Гейденштейна (239) о том, что переговоры о мире начались с предложения включить шведского короля в договор, неверно: прежде всего поднят был вопрос о Ливонии.
(обратно)928
Коялович, 432.
(обратно)929
Это утверждение мы основываем на выражениях Поссевинова письма к Замойскому. Легат пишет, что посылает ему список ливонских городов, требуемых московскими послами, и затем продолжает весьма знаменательно: ad quae omnia celerrimo ас plenissimo responso opus est, si cito in meliora hiberna exercitum suum cum gloria deduci velit (Relacje nuncj., I, 371).
(обратно)930
Коялович, 423–425.
(обратно)931
В «Conditiae pierwsze poslane przez pana Zotkiewskiege» (Коялович, 428), Нейшлос (Kovocastrum) не назвал, но о нем говорит Замойский в письме к Жолкевскому (Коялович, 425). Гейденштейн не упоминает Лаиса, Себежа и Велижа.
(обратно)932
Это письмо носит дату 13-го декабря, а письмо, врученное Поссевину Жолкевским, – 17-го декабря. Одновременное получение обоих писем произошло, очевидно, вследствие простой случайности, но это обстоятельство могло внушить дипломату-иезуиту мысль, что кроется тут какой-нибудь злой умысел.
(обратно)933
Starezewski, II, 52–54. Ср. Purling, II, 137.
(обратно)934
Коялович, 429.
(обратно)935
Коялович, 439.
(обратно)936
Посланцем был Петровский, брат автора известного нам дневника. (Piotrowski, 203).
(обратно)937
Starczewski, И, 55.
(обратно)938
Starczewski, II, 56.
(обратно)939
Коялович, 428; Starczewski, II, 55–56.
(обратно)940
Коялович, 452 (письмо Поссевина к Замойскому от 24-го декабря).
(обратно)941
Starczewski, 56.
(обратно)942
Starczewski, II, 54. Очевидно, речь здесь идет об Иоанновом гонце Юрии Пузикове. Ехал он по пути к Порхову и повстречался с отрядом солдат Замойского, под предводительством ротмистра Гродзецкого. Поведение гонца, заявившего, что едет к папскому послу, и едущего не той дорогой, какой следовало ехать, показалось польскому ротмистру подозрительным, тем более что один из слуг Пузикова убежал в лес. Тогда Гродзецкий арестовал московского гонца и отвез его к Замойскому. Последний приказал подвергнуть Пузикова допросу и затем отправить его в Запольский ям. С московским гонцом было 11 человек; четверо из них убежало, поэтому возможно, что остальные были убиты при нападении солдат Гродзецкого на свиту московского гонца. См. Piotroivski 199–200, Коялович, 392–394, Н. Лихачев, op. cit., ХСII – ХСIII, №№ 130, 131.
(обратно)943
Коялович, 434, 442.
(обратно)944
Коялович, 439.
(обратно)945
Slarczewski. II, 56–58.
(обратно)946
Рассказ Гейденштейна о совещаниях послов слишком краток и поверхностен. Характер переговоров не обозначен и важнейшие перипетии не отмечены. Жаркий спор о Велиже и Себеже историк обходит совершенно молчанием. По его словам (253), Москвитяне под конец, уступая остальные города и почти все крепости, сильно спорили из-за Дерпта и ливонского Новгородка, потому что, как говорили они, в провинции этой была введена их вера, в ней поставлен ими епископ, и она посвящена была Печерской Божией Матери. Дерпт был действительно предметом спора, но не такого сильного, как об этом говорит Гейденштейн. Но московские послы, отстаивая Новгородок ливонский и Дерпт, приводили в самом деле те мотивы, которые отмечает историк, см. Коялович 466.
(обратно)947
Коялович 481, № 169.
(обратно)948
Коялович, 504.
(обратно)949
Коялович, 470, № 163, 485.
(обратно)950
Коялович, 495.
(обратно)951
Коялович, 499, № 181.
(обратно)952
Опасение это оказалось основательным: московские послы утаили два замка, говоря, что ими владеют уже Шведы, Коялович 547, № 206.
(обратно)953
Коялович, 506–509.
(обратно)954
Гейденштейн (254) отмечает спор из-за крепостей, занятых Шведами, но не сообщает нам, каков был его исход.
(обратно)955
Коялович 547 № 206, см. Protestatio regiorum legatorum а Antonio Possevino admissa (Satrсzewski, II, 96); в Метр. Лит., II, 242 № 84 она носит неверное название (Protestatio Antonii Possevini) и имеет неверную дату 14-го января вместо 15-го.
(обратно)956
Напр., Печерский монастырь получил почти всю волость, тянувшую к Ливонскому Новгородку, см. Коялович, 471.
(обратно)957
Pierling, II, 148.
(обратно)958
Starczewski, II, 60.
(обратно)959
Коялович, 548. Исключены отсюда Великие Луки и Холм, так как артиллерия была уничтожена в этих крепостях, по заявлению Баториевых послов, пожаром.
(обратно)960
Коялович, 549–550. У Поссевина 8 дней, Starczeivski, II, 62.
(обратно)961
Starczewski, II, 62.
(обратно)962
Такова была инструкция, которую дал своим послам Замойский (Коялович, 486). Гейденштейн (254) говорит, что послы короля требовали за пленных Заволочье, Невель и в крайнем случае Себеж.
(обратно)963
Starczewski, II, 62.
(обратно)964
Starczewski, II, 59. Очевидно, московские книжники смешали Аркадия и Гонория с императорами Василием II и Константином VIII, а подтверждение папою императорского титула, присланного Владимиру, прямо выдумали.
(обратно)965
Ф.И. Успенский. Переговоры о мире, 64.
(обратно)966
Ф.И. Успенский. Переговоры о мире, 66.
(обратно)967
Письмо Баториевых послов к Замойскому, (Коялович, 554). По словам Поссевина (Starczeivski, II, 63), показание которого принимает Пирлинг (II, 144), Гарабурда показывал даже прежние грамоты в доказательство правдивости своих слов (Michael antem Haraburda antiquas ас signis mimitas foederum litteras ostendit, in quibus nihil eorum nominum erat adscriptum). Но сам Гарабурда говорит только след.: «послы московские пущалися на мене, Гарабурду, поведаючи, иж я сведом, же господара их царом писывано; я пе но однократ поведил, иж от короля его милости Жикгимонта Августа, и от короля Гендрыка и от теперешнего пана нашого короля его милости князя великого царом никгди не писовывалом» (Метр. Лит., II, 228). Слова Гарабурды подтверждаются письмами Баториевых послов (Коялович, 554, 556–557).
(обратно)968
Коялович, 555.
(обратно)969
Коялович, 556–557.
(обратно)970
Ib. 559.
(обратно)971
Ф.И. Успенский, Переговоры о мире 68.
(обратно)972
Поссевин (Slarczewski, II, 63, sessio XVII) приписывает себе заслугу в деле улажения этого спора, между тем как, по словам князя Збаражского, более всего над этим потрудился Гарабурда (Коялович, 662).
(обратно)973
За исключением православного Гарабурды, но и он, как мы узнаем, скрепит мирный договор присягой по католическому обряду.
(обратно)974
Пирлинг (II, 145), следуя рассказу самого Поссевина (Starczewski, II, 64), изображает роль его в этом вопросе неверно. По словам историка, спор затеян был Баториевыми послами, а Поссевин явился лишь скромным примирителем. В действительности же более всего шумел и раздражался папский легат, так что князь Збаражский мог сделать далее замечание по этому поводу, что Бог обратил его (т. е. Поссевина) против Москвитян (Коялович, 563).
(обратно)975
Ф.И. Успенский. Переговоры о мире, 67–71.
(обратно)976
Об этом свидетельствуют и московские послы (Ф.И. Успенский, Переговоры о мире, 67) и один из Баториевых послов, князь Збаражский (Коялович, 563), Замойский по этому случаю пишет след.: jam mnimal, ze po skonczeniu przymierza mieli Moskwa uwierzyc w Possowina i obraz jego postawic podle Mikuly albo Preczysty w Pieczarach, a ono i w przymiernym liscie pisac go nie chca; lepsza stara przyjazn, jako zywo pewniejsza (Коялович, 565).
(обратно)977
Спор о включении имени Поссевина в акт перемирного договора был поднят в заседании 9-го января, как упоминает об этом кн. Збаражский в письме к Замойскому от того же числа (Коялович, 563). Между тем Поссевин говорит, что спорили об этом на сессиях 10 и 11 января (Starczewski, II, 64). Во всех изданиях Поссевинова дневника переговоров (начиная с изд. 1586 г.), за исключением одного, ход совещаний 9-го января излагается одинаково. Но в этом одном издании (Supplementum ad Historica Russiae monumenta, С.-Петербург, 1848, стр. 97–98) имеются существенные отличия. Согласно этому изданию, в заседании 9-го января Баториевы послы потребовали, чтобы мирный договор был подписан Поссевином, чему Русские воспротивились. Поссевин сам не пожелал дать своей подписи, чтобы не навлечь на себя и – что еще важнее, на самого папу, которого он был представителем – неудовольствия императора и других государей, которые предъявляли притязания на Ливонию. Это рассуждение Поссевина кажется странным: он не желал своей подписью скомпрометировать, по выражению историка (Pierling, La Russie et le SaintSiege, II, 148), права третьих лиц на Ливонию и, однако, настоял на том, чтобы имя его было включено в договор, что, конечно, являлось выражением санкции, даваемой Римом правам Батория на Ливонию и, следовательно, компрометировало права третьих лиц на нее. Отметим кстати, что текст, напечатанный в Supplementum, таков же, как и в дерптской рукописи, см. Livoniae Commentarius Gregorio XIII Р.М. ав Antonio Possevino, S. J., scriptus Rigae, 1852 p. XI.
(обратно)978
Ф.И. Успенский, Переговоры о мире, 73. Пирлинг (II, 146) сомневается в правдивости этой сцепы. По словам историка, в интересах послов было представить себя жертвами необходимости, чтобы избежать гнева грозного царя. Возможно, прибавляет историк, что Поссевин считал необходимым прибегнуть к решительному действию, симулировать гнев и таким образом сломить сопротивление. Но замечания эти, по нашему мнению, неосновательны. Припомним жалобу московских послов на дурное с ними обращение, и мы поверим рассказу их об этой сцене. Далее, Поссевин не прикидывался разгневанным, как хочет Пирлинг, а действительно сильно сердился на Москвитян, как свидетельствует об этом кн. Збаражский (Otoz sie jnz tarn gniewa na nich barzo, Коялович, 563 или стр. 568: Possowina tez – praesente nie chcq pisac, о co sie Possowin gniewa na nich).
(обратно)979
Коялович, 569 № 221, 582 № 228. Гейденштейн (257) говорит о посольстве Каньоли, но причины, вследствие которых Замойский отказал ему в свободном пропуске к Поссевину, обходит молчанием.
(обратно)980
Коялович, 583 № 229.
(обратно)981
Коялович, 684 № 230.
(обратно)982
Ф.И. Успенский, Наказ царя Ив. В. Грозного кн. Елецкому 17 и письмо Поссевина к Баторию, Starczewski, II, 77.
(обратно)983
Письмо Поссевина к Замойскому от 21-го января у Кояловича (619) содержит выражение «cum lacrimis» (речь идет о благодарственном молебствии в лагере Замойского), в других изданиях этого выражения нет (см. Starczewski, II, 77, Relacje mmcj. apost., I, 437).
(обратно)984
Письма Замойского к Баторию и плоцкому епископу, Коялович, 613, 617. То же рассказывает и Гейденштейн (257–258), забывая только отметить фамилию московского гонца, явившегося во Псков.
(обратно)985
Коялович, 609–611.
(обратно)986
Коялович, 615.
(обратно)987
Мир состоялся на условиях, указанных в списке с договорной записи, данном кн. Елецкому с товарищами на образец, см. Ф.И. Успенский, Переговоры о мире 1–6.
(обратно)988
У Гейденштейна (260) – три дня, в письме Замойского к королю (Коялович 694) – два.
(обратно)989
Письмо Замойского к Баторию (Коялович, 694). Сообщение Гейденштейна (260) об этих фактах неточно. По словам историка, на требование Псковитян удалиться в трехдневный срок Замойский ответил, что, по его мнению, они говорят, по заключении мира, не то, что думают, так как он знает, что мир им не неприятен и конечно приятнее им, чем тому классу людей, который живет жалованьем; он уведет войско, когда это будет удобно (Starczeivski, II, 171). Это место передано в русском переводе (260) ошибочно.
(обратно)990
Гейденштейн (260) говорит, что сам Замойский приказал передать Русским Остров с той целью, чтобы узнать их намерения и вместе с тем выказать им свое доверие. Сообщение это находится в противоречии со словами самого Замойского (Коялович, 694).
(обратно)991
Piotroivski, 209; Гейденштейн, 261.
(обратно)992
Piotrowski, 210; Коялович, 700.
Гейденштейн (262) говорит, что Замойский проник в Новгород Ливонский при помощи хитрости. Он приблизился к крепости с отрядом человек в 60; привратник спросил, кто идет; ему ответили: сотник; тогда он впустил отряд в город. Явившийся сюда воевода Петр Волынский, узнав брацлавского воеводу, с которым он познакомился, присутствуя при переговорах в Запольском яме, стал упрекать коменданта крепости в оплошности, в том, что он вместо сотника впустил воеводу, причем Волынский и не подозревал, что в городе находится уже сам Замойский. Узнав об этом от брацлавского воеводы, он пришел в сильное смущение и на требование Замойского сдать крепость стал отговариваться недостатком подвод. Из этого длинного рассказа Гейденштейна нельзя понять, зачем Замойский прибегал к подобной хитрости. Ведь одно появление армии гетмана под городом подействовало бы несомненно внушительно на воеводу крепости, и в уловках не было надобности. Если дело происходило так, как рассказывает Гейденштейн, то надо предположить, что желание явиться в город невзначай было простым капризом со стороны Замойского.
(обратно)993
Piotrowski, 210.
(обратно)994
Коялович, 709–710.
(обратно)995
Piotroivski, 210.
(обратно)996
Гейденштейн, 264.
(обратно)997
По словам очевидца (Piotroivski, 210–211), господство Иоанна тяжело отозвалось на благосостоянии цветущего перед тем Дерпта: взяв город, Иоанн приказал разрушить гробницы дерптских католических епископов; многие каменные дома лежали в развалинах; одна из католических церквей обращена была в амбар для овса. По рассказу Гейденштейна (265), Русские, уходя из города, пытались поджечь его, но неудачно, ибо огонь был потушен вовремя солдатами Замойского. Историк рассказывает также и о попытке взорвать на воздух при помощи пороховых мин замок, в котором Замойский остановился: это было сделано, очевидно, в отмщение за адскую машину, посланную князю Шуйскому.
(обратно)998
Гейденштейн, 266.
(обратно)999
Соловьев, II, 288.
(обратно)1000
Метр. Лит., II, 263 № 98. Дело происходило на сейме; принесение королем присяги на исполнение договора описано Гейденштейном (303).
(обратно)1001
W. Zakrzewski, Stefan Batory Krakow, 1887, 119 и след.; Pierling, II, 249 и след.
(обратно)


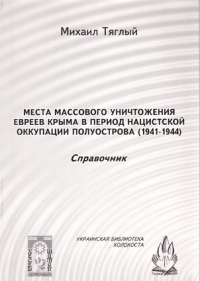



Комментарии к книге «Ливонский поход Ивана Грозного», Витольд Владиславович Новодворский
Всего 0 комментариев