Сергей Викторович Алексеев Владимир Святой. Создатель русской цивилизации
© Алексеев С.В., 2006
© ООО «Издательский дом «Вече», 2006
Предисловие
Как во стольном городе во Киеве у ласкового князя у Владимира начиналось пированье, почестный пир, да про всех князей, про всех бояр, про всех сильных могучих богатырей…Так веками помнил киевского князя Владимира Святославича русский народ. Помнил «ласкового», помнил «Красное Солнышко», воспевая щедрость пиров и блеск богатырского двора. Не прошло и шести столетий после его правления, как громкое отчество князя заместилось в народной памяти иным, вероятно, более говорящим, – «Всеславич».
Превыше же всех прославила Владимира на земле Русская церковь, добавив своею властью, но не своею, надо думать, волею, к имени крестителя Руси не прозвище, но нечто большее – Святой. Крещение Руси – поворотный акт во всей ее истории, с чем согласны и недоброжелатели. И имя Владимира по справедливости оказалось навечно связано с этим величайшим событием.
Значение совершенного Владимиром для Руси трудно переоценить. Даже человек, чуждый христианства, не может не видеть – изменилось многое в самых основах общественного бытия. Распространяется письменность, и появляются первые книги. Рождается древнерусское зодчество, и возводятся первые монументальные соборы. Вырастают и твердо стоят первые города – не просто торговые поселки и дружинные базы, а подлинные города, крупные, населенные посадским людом.
Можно восторгаться непритязательной красой языческих капищ под открытым небом, простыми и прямыми нравами разбросанных по лесам и полям древнеславянских «градов и весей». Можно отрицать положительные стороны восприятия кириллической грамотности и включения Руси в семью народов христианской культуры (не следует, разве что, подменять подлинную историю подлогами и вымыслами в угоду своим теориям). Так или иначе, богов каждый выбирает себе сам. Но несомненно одно. При Владимире уходит родоплеменная старина, которая, как ни суди, но для многих – «варварство». Рождается – цивилизация. Дальше – кому что нравится.
Было и еще одно. Именно при Владимире из конгломерата десятков племен, разбросанных по просторам Восточной Европы и скрепленных военной силой киевских князей, выстраивается целостное, управляемое одной династией и сознающее себя единым целым государство. Пока только выстраивается – не Владимиром строиться начато и не им закончено. Завершит работу уже Ярослав Владимирович Мудрый, создатель первых сводов писаного, единого для всей страны права. Но княжение Владимира – чрезвычайно важный этап в создании того, что современная наука называет Киевской Русью, единого государственного прошлого русских, украинцев и белорусов. Каждый из этих трех народов обязан ему, каждый хранит память о нем не только в ученых трудах, но в самом народном предании. Это – наше общее.
Владимир был не одинок в свою эпоху. Рядом с ним – другие монументальные фигуры, в истории соседних стран. Мешко в Польше, Иштван в Венгрии, Харальд в Дании, Олав в Норвегии. На исходе Х века от Рождества Христова христианство властно и победительно шагнуло на Восток и Север Европы. И в каждом государстве находился правитель, отдававшийся новой вере всей душою и вверявший ей души своих подданных. Менявший строй жизни, творивший из племенного королевства государство цивилизованное. Но у Владимира было и отличие. Те, к западу от русских границ, при всем величии своих подвигов, предпочли присоединиться к могучему целому. Польша и Дания, Венгрия и Норвегия друг за другом входят в пространство латинской культуры Средневекового Запада, обретая веру из Рима. Владимир принял ее из Константинополя – и даровал своему народу право внимать слову Божьему на родном, славянском языке. На Руси, единоверной, но независимой от греческой Византии, и цивилизация рождается – своя, русская.
Перечень государственных побед Владимира долог. Но не только государство, сам человек в такие века стоит на рубеже эпох. Сам Владимир, родившийся на временном изломе, одной ногой стоял в старом – не до конца, так первое время. Главной победой его явилась победа над собой, над прошлым в себе. Победа эта едва ли теряет в наш, столь непохожий (может быть) век, актуальность для христианина, ежедневно борющегося с грехом. Только ли для христианина?..
Да, путь Владимира был неровен. Кому-то сам этот факт покажется странным. И в советские, и в нынешние годы находилось немало охотников (надо полагать, людей безгрешных и совершенных во всех отношениях) позлорадствовать по этому поводу. Удивительно ли, что это порождает подчас ответную, не более справедливую реакцию у тех, кому Владимир дорог именно как Владимир Святой? Возникает желание отрицать, замолчать. Но подвижники русского православия, составлявшие первые жизнеописания Владимира, не отрицали и не замалчивали. Они показали князя таким, каким он был. Для них – победа над собой имела ценность. Те, кому такая победа кажется оскорбительной для святости, святости не понимают.
История, разумеется, пишется по источникам. Мы покажем Владимира таким, каким он в них предстает. Источников же у нас не так много. Об эпохе Владимира известно больше, чем о нем самом. И степень достоверности имеющегося очень различна.
Источники
От времен Владимира Святославича не сохранилось подлинных документов, за исключением княжеских имен на первых монетах и нескольких отрывочных надписей, мало что говорящих нам о событиях тех лет. Впрочем, недавнее обнаружение при археологических раскопках в Новгороде фрагмента Псалтыри на вощеных дощечках, относящейся еще к началу XI века (древнейшая на сегодняшний день русская «книга»!) указывает на то, что при Владимире могли уже существовать и более пространные литературные тексты. В качестве древнейшего памятника древнерусской литературы обычно вспоминают «Речь философа» – краткое изложение основ христианской веры и священной истории, адресованное будто бы именно Владимиру. Одна редакция «Речи» вошла в большинство русских летописей, другая, обрывающаяся в начале, сохранилась в единственном небольшом летописце XV столетия. Вполне возможно, что «Речь» действительно была написана для обучения князя христианству каким-нибудь южнославянским или даже уже русским книжником.
Что касается так называемого Церковного Устава князя Владимира, который мог бы быть древнейшим памятником русского писаного права, то это – по утвердившемуся в науке мнению – документ не подлинный. Его написали, впрочем, не думая о «подделке» в нашем понимании. В Церкви бытовало устойчивое предание о привилегиях, дарованных некогда святым князем, и кто-то вознамерился воссоздать перечень этих привилегий. Получилось довольно убедительно, и Устав вошел во многие сводки церковного законодательства. Однако – повторим – к эпохе Владимира он (по крайней мере большинство его редакций) имеет малое отношение.
Сомнительно и единственное относимое иногда к эпохе Владимира богословское сочинение – «Послание митрополита Леона об опресноках». Принадлежность его митрополиту по имени Леон особых сомнений не вызывает, но современником Владимира признают этого иерарха немногие специалисты. Тем не менее для отнесения этого труда к временам Владимира оснований больше. В любом случае, написан он греком и на греческом языке. Даже славянский перевод его отсутствует.
Всего поколение спустя случившееся на памяти стариков крещение Руси описал митрополит Киевский Иларион, первый русский на митрополичьем престоле и первый древнерусский писатель. Однако его «Слово о законе и благодати» с «похвалой кагану нашему Владимиру» – не исторический труд. Иларион описывал хорошо известные события, не видя нужды вдаваться в подробности. Жаль для нас – поскольку его сведения, пусть риторически украшенные, практически свободны и от легендарных наслоений, и от разного рода временных искажений.
Русское летописание началось спустя десятилетия после кончины Владимира. Однако уже в первой половине XI века, при Ярославе Владимировиче Мудром, существовал в записанном виде свод сказаний о первых князьях-христианах – Ольге и Владимире. Из этого свода, перерабатывая его в соответствии со своими знаниями и представлениями, черпали сведения позднейшие летописцы. Основной объем доставшейся нам информации о Владимире содержался уже в Начальной летописи 70-х – 80-х годов XI века. Авторы и редакторы знаменитой «Повести временных лет» в начале XII века дополнили его лишь немногими сохранившимися в народе или при дворе преданиями. Начальная летопись дошла до нас в составе Новгородской первой летописи младшего извода, а Повесть временных лет – как начальная часть Ипатьевской, Радзивиловской и Лаврентьевской летописей.
Из того же свода преданий, а также из устных рассказов современников черпал и Иаков Мних, живший в XI веке автор первого жизнеописания Владимира – «Памяти и похвалы». Сведения этого агиографа для нас особенно ценны. Над Иаковом еще не довлел летописный текст. Он пользовался теми сказаниями, которые легли в основу летописей, непосредственно. Именно Иаков сообщает, к примеру, точную дату вокняжения Владимира в Киеве, восходящую к современным ему записям киевских христиан. Его же сообщения о крещении Руси гораздо лучше согласуются с Иларионом и с иностранными свидетельствами, чем общеизвестная летописная легенда – историчная во многом, но не во всем. Иакову иногда приписывают и древнейшее краткое житие – однако оно скорее создано на основе «Повести временных лет» и церковных преданий уже в XII веке.
Естественно, что сообщают о Владимире и его времени жития других первых русских святых – княгини Ольги, сыновей Владимира князей-мучеников Бориса и Глеба, погибших в языческую пору его правления варягов-христиан Феодора и Иоанна. Новые, в том числе пространные жития Владимира были созданы в XIII веке, когда наконец завершился долгий спор о причислении крестителя Руси к лику святых. Эти жития сообщают немало любопытных и ценных деталей – верное доказательство того, что устная память о князе еще не исчезла в среде духовенства и в знатных родах Руси.
Доказывают это и летописи начала XIII века, создававшиеся на северо-востоке Руси, во Владимиро-Суздальском княжестве – Радзивиловская и Летописец Переславля Суздальского, которым следует летописный свод начала XIV века, сохраненный Лаврентьевской летописью. Радзивиловская и Лаврентьевская летописи включают целиком текст «Повести временных лет» в редакции игумена Сильвестра, созданной в 1116 году. Но и в них, и в Переславльском летописце также имеется ряд рассказов и деталей, отсутствующих в более ранних памятниках. Более того, такие детали встречаются еще и в сочинениях XV века, созданных уже после разорительного монгольского нашествия и после создания Московского государства. Впрочем, это предания уже не боярские, придворные, а скорее чисто церковные.
В XVI же веке на страницы летописей решительно, хоть на первый взгляд и отрывочно, вступают простонародные предания и былины. Здесь для историка много ценного материала по вопросу о том, каким помнили Владимира в народной толще. Но материала по эпохе самого князя гораздо меньше. Народный эпос свободно смещает временные пласты, создавая вневременной, фантастический мир древних героев. Так, «храбр» начала XIII столетия Александр Попович оказывается современником и сподвижником святого князя, а богатыри Владимира сражаются не только против печенегов, но и против пришедших к границам Руси спустя целый век половцев. К тому же поздние летописцы, склонные уже к более свободному литературному творчеству, не менее вольно заполняют пробелы в источниках собственными домыслами. Так что работа с ними – труд кропотливый и не допускающий скоропалительных суждений.
О том, какие ловушки для историка и тем более для непрофессионального читателя скрывает позднее летописание, свидетельствует история так называемой Иоакимовской летописи. Это сочинение (на самом деле не летопись, а сказание о ранней истории Руси и ее обращении в христианство) сохранилось только в окончательной редакции «Истории Российской» В.Н. Татищева, виднейшего русского историка XVIII века. Кое-кто и сейчас допускает, что Иоакимовская летопись – подлинные записки Иоакима, первого епископа Новгородского и современника князя Владимира. Однако автор с первых строк отнюдь не выдает себя за Иоакима, а лишь ссылается на него как на осведомленный источник. Среди специалистов-историков особых разногласий нет – «летопись» по языку и содержанию является памятником второй половины XVII или даже первой половины XVIII века. Ее составитель использовал как русские, так и печатные польские и немецкие источники того времени. Причем среди русских источников за записи Иоакима «летописец» принял нечто намного более позднее. Достаточно сказать, что крещение Руси связывается нашим Псевдо-Иоакимом с именем болгарского царя Симеона, каковой почил за полвека до этого события.
Историки много спорят об источниках и степени достоверности Иоакимовской летописи. Спорят и о творческом вкладе самого В.Н. Татищева. Вклад этот несомненен – текст летописи в черновой и беловой рукописях Татищева не совпадает. Под пером историка появились новые, более «литературные» обороты и целые фразы. Однако в советские годы господствовало признание Иоакимовской – единственного источника, нарисовавшего картину крещения Новгорода «огнем и мечом». При этом не обращалось много внимания на показания самого Татищева о происхождении «летописи».
После написания первоначального текста первого тома «Истории» Татищев пришел к выводу, что Несторова летопись «полной и ясной древней истории» обеспечить не может, и стал искать дополнительные источники. Среди тех, к кому он обратился за помощью, был его свойственник, архимандрит Мельхиседек Борщов. Через некоторое время Борщов прислал Татищеву письмо, в котором поведал о «монахе Вениамине, которой о собрании русской истории трудится, по многим монастырям и домам ездя». Тот «немало книг русских и польских собрал» и, неохотно сдавшись на уговоры Борщова, подарил ему один текст. Это и был утерянный ныне оригинал Иоакимовской «летописи». История, рассказанная Борщовым, не вызывала бы сомнений, но сам Татищев выдает подлинного автора с головой. «Вениамин монах, – замечает историк в примечании к письму Борщова, – токмо для закрытия вымышлен».
Иными словами, единственным поставщиком «летописи» и ее очевидным автором являлся сам Борщов. Татищев отнесся к полученному сочинению соответственно. Он почти совсем не прибегал к нему в новой редакции тома и только привел текст почти целиком в источниковом обзоре. При этом Татищев отметил, что составлена «летопись» с использованием поздних польских хроник. Таким образом, прав был первый критик Псевдо-Иоакима, знаменитый русский историк начала XIX века Н.М. Карамзин – сам Татищев «не мыслил обманывать». Иоакимовская, к созданию которой он невольно побудил Борщова, была для него ценна лишь как способ изложения своих «догадок». На время – пока, в чем был уверен Татищев, не отыщется «полнейшая история». Другое дело, что и в XVIII, и в ХХ веке нашлось немало охотников обмануться.
Возможно, впрочем, что при создании своей «летописи» Борщов использовал, в том числе, и не дошедшие до нас источники, среди них и довольно древние (скажем, новгородские сказания XIII–XV вв.). Однако разбираться в этом – труд длительный и кропотливый. Далее мы попытаемся рассмотреть, есть ли в уникальных свидетельствах Иоакимовской (особенно в рассказе о крещении Новгорода) хоть какое-то историческое зерно. Сейчас отметим одно – даже источники ее не могут восходить к Х веку. Это не записки современника, а поздний памятник, почти мистификация. И хороший пример того, с какой осторожностью следует относиться к историческим сочинениям позднейших эпох, особенно тогда, когда их подлинные источники мы установить не в силах. Потому и говорилось об этом столь подробно.
О Владимире немало повествуется в иностранных хрониках. Прежде всего, это хроники немецкие. Две великие европейские державы того времени, Священная Римская империя и Русь, находились в тесных дипломатических связях. В Германии внимательно следили за происходящим на востоке Европы. Западная церковь отправляла туда своих миссионеров – другое дело, что они не слишком преуспели. Основной массой свидетельств современников о Владимире мы обязаны именно немецким хронистам и церковным писателям. Западная и Восточная церкви в ту пору еще не порвали друг с другом, и свидетельства «западных» о Руси и ее крестителе подчас весьма доброжелательны.
Любопытные, хотя сильно искаженные свидетельства о Владимире сохранились у историков мусульманского мира. Они, помимо прочего, однозначно подтверждают достоверность русского летописного рассказа о выборе вер – правда, вопреки ясной исторической истине и всем другим источникам, решают исход этого выбора в пользу ислама. Зато труды арабских хронистов-христиан не только излагают события верно, но и существенно дополняют скупые замечания византийских писателей и легендарное повествование русской летописи.
Парадоксально, но факт – среди византийских источников о Руси Владимира повествуют очень и очень немногие. Вскользь упоминаются лишь отдельные факты русско-византийских отношений. И это во времена крещения Руси, как будто важнейшего для этих отношений события! Сам Владимир упоминается только четырежды в двух византийских хрониках XI–XII веков. Причем в половине случаев лишь при описании событий после своей смерти, в связи с деяниями наследников. Уже в позднее Средневековье, в канун османского завоевания Византии, какой-то греческий писатель на основе русских летописей и житий составил сказание о крещении Руси. Там Владимир, разумеется, фигурировал. Но ценность этого обильного на ошибки и путаницу памятника как самостоятельного источника стремится к нулю. Похоже, что, дав Руси христианство, Византия сама не оценила значимости этого события. О том, почему так произошло, еще пойдет речь. Здесь же хотелось бы отметить, что важность византийских свидетельств, пусть отрывочных, все равно очень велика. Как бы то ни было, они опираются на прочную базу записанных показаний современников, способны поправить ошибки и заполнить пробелы русских летописей.
Наконец, в нашем распоряжении есть скандинавские саги. Материал благодатный в том смысле, что позволяет увидеть события так, как видели их сами люди Средневековья. Во всех деталях, в живых красках и речах. Однако записывались саги, даже самые древние, спустя века после кончины Владимира. Уже то, что его имя и вообще сведения о родословии русских князей сохранились в сагах, указывает на их общую достоверность. Но о поздней записи саг, о веках устного предания за любым саговым текстом следует помнить всегда, когда мы читаем их живописные свидетельства. В целом же саги и другие скандинавские памятники – источник по истории Руси ценнейший. Связи между соседями через Балтику были весьма тесны, и влияние Руси на норманнов было не меньшим, а то и большим, чем воздействие самих северных мореходов на Русь. Имя же Владимира оказалось в исторической памяти скандинавов неразрывно связано с его современником, крестителем Норвегии Олавом I. Разные версии «Саги об Олаве Трюггвасоне» и есть основной скандинавский источник о временах русского князя.
При таком состоянии источников неудивительно, что изложение эпохи Владимира порою переходит в разгадывание исторических «головоломок». Что же, занятие это увлекательное и полезное для любого читателя, любящего историю. Поэтому не станем избегать и этого, по необходимости. Пусть читатель вместе с автором и сам судит, какие из расходящихся подчас довольно далеко исторических версий выглядят более убедительно и достоверно.
Итак, вот источники наших знаний о Владимире и его времени. Ниже указываются использованные автором их издания. Все цитаты даются по этим изданиям. Древнерусские тексты везде даются в переводе автора этой книги.
Полное собрание русских летописей:
Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997.
Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998.
Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.
Т. 4. Ч. 1. Новгородская четвертая летопись. М., 2000.
Т. 6. Вып. 1. Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000.
Т. 15. Рогожская летопись. Тверской сборник. М., 2000.
Т. 27. Сокращенный летописный свод 1495 года. М., 1962.
Т. 38. Радзивилловская летопись. Л., 1989.
Т. 41. Летописец Переяславля Суздальского. М., 1995.
Т. 42. Новгородско-Карамзинская летопись. М., 2002.
Татищев В.Н. История Российская. Т. 1–2, 4. М., 1994–1995.
Древнерусские княжеские жития. М., 2001.
Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. М., 1915.
Святые князья-мученики Борис и Глеб. СПб., 2006.
Слово о Законе и Благодати // Памятники литературы Древней Руси. Т. 12. М., 1994.
Бенешевич В.Н. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 2. Пг., 1920.
Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976.
Высоцкий С.А. Древнерусские граффити Софии Киевской. Вып. 1. Киев, 1966.
Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X–XI вв. М., 1995.
Ioannes Scylitzae Synopsis historiarum. Berlin – New York, 1973 (научное издание текста «Обзора историй» Иоанна Скилицы).
Ioannis Zonarae Epitome historiarum. Bonnae, 1897 (научное издание текста «Краткой истории» Иоанна Зонары).
Лев Диакон. История. Перевод М.М. Копыленко, комментарий М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова. М., 1986.
Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. Перевод и комментарии («Хронография») Я.Н. Любарского. СПб., 2003.
Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993 (серия «Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы» (ДИ)).
Назаренко А.В. Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000.
Свердлов М.Б. Латиноязычные средневековые источники по истории Древней Руси. Германия. Вып. 1–3. М. – Л., 1989–1990.
Щавелева Н.В. Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990 (ДИ).
Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. М., 2004 (ДИ).
Глазырина Т.В. Сага об Ингваре Путешественнике. М., 2002 (ДИ).
Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Т. 1. М., 1993 (ДИ).
Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи. М., 2001 (ДИ).
Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия IX–XIV вв. М., 1974.
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о народах Восточной Европы. Вып. 1–2. М., 1964–1967.
Император Василий Болгаробойца: Извлечение из летописи Яхъи Антиохийского / Пер. В.Р. Розена. СПб., 1883.
Кримський А., Кезьма Т. Оповiдания арабского iсторика XI вiку Абу Шоджi Рудраверьскаго про те, як охрестилася Русь // Ювiлейний збiрник на пошану академiка Д. Богалiя. Киiв, 1927.
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X–XI вв. М., 1963.
Русь до Владимира
В первых десятилетиях Х века политическая карта Европы решительно изменилась. На северных и восточных ее «окраинах», там, где прежде жили разрозненные племена, являвшие то страшную угрозу, то, напротив, легкую добычу для цивилизованных соседей, теперь строились новые государства. Государства, уступавшие державам старой, обладавшей античным наследием Европы лишь прочностью, но не силой. Они по-прежнему грозили Югу и Западу, – славяне, норманны, венгры, – но вот покорять их становилось делом совсем не легким. А значит, вся система международных связей, которую даже вчерашние «варвары»-германцы строили по привычной модели «римского мира», – вся эта система неизбежно перестраивалась.
Большинство новых держав, родившихся из пестроты племенных королевств и княжеств, были славянскими. А из славянских самым мощным и крупным оказалась Русь. Огромная страна, почти внезапно раскинувшаяся на равнинных просторах Восточной Европы, от далекой Балтики до Черного моря. До древнегреческого Эвксинского Понта, теперь – столь же внезапно для древних городов своего побережья – обернувшегося Русским морем. Русь решительно ступила на международную арену раннего Средневековья. И с первого шага, еще в IX веке, заставила считаться с собой самого древнего и сильного из соседей – Византийскую империю.
Так выглядело извне. Такой взгляд – отчасти неизбежность для историка минувших эпох, в распоряжении которого из современных событиям источников находились преимущественно иностранные. Но современная наука вооружена новыми средствами для воссоздания истории бесписьменных тысячелетий. Вдумчивое, на огромном поле сопоставлений, изучение сохраненных средневековыми летописями и хрониками, сказаниями и сагами устных преданий. Богатейший и обогащающийся с каждым годом материал археологов. Исследование исторических изменений в языке. И многое, многое другое. Так что сейчас мы можем посмотреть на рождение первых государств Восточной и Северной Европы и изнутри.
Ничто не появляется внезапно. Ни один, сколь угодно талантливый, вождь и полководец не создаст державу на пустом месте. Века неспешной, «молчаливой» для нелюбознательных истории «варварских» племен, многие из которых оставались напрочь неизвестны античным писателям и географам – подготавливали бурное начало их Средневековья. По крупицам, шаг за шагом, воссоздается перед глазами потомков величественный процесс рождения новых жизненных устоев, новой культуры, нового общества.
Современные ученые могут видеть – пусть не во всех деталях – как из гущи родовых поселений выделяются первые укрепленные «грады», центры племенной власти. Как отдельные племена сплачиваются в обширные, охватывающие нередко огромные пространства племенные союзы. Как выборные сначала князья становятся наследственными правителями своих «волостей», как они обретают собственные дружины и даже подобие администрации. Уже в конце VI и в VII веке мы можем с уверенностью говорить о зарождении государственности у славянских племен, разбросанных по просторам Восточной и Центральной Европы. О том, что первобытность начинает сменяться у них новым общественным строем.
К IX–X векам уже завершилось разделение славян на три всем известные ветви – западных, восточных и южных. Восточные славяне были объединены примерно в дюжину племенных союзов, каковые и стали теми «кирпичиками», из которых сложилась Древняя Русь.
Самый север будущей Руси, земли между Ладожским, Чудским и Белым озерами, чересполосно заселяли кривичи и ильменские словене. Кривичи были первыми пришельцами в эти края, пришедшими в далекие земли от тревог Великого Переселения народов еще в V столетии. Их древняя столица – Изборск, называвшийся ранее Словенском, то есть славянским, – самый старый из градов северных земель. Рядом с ним, на реке Великой, из смешанного селения кривичей и местных финнов, «чуди», подрастал и новый град – Псков. Кривичи широко расселились к югу, заняв огромную территорию от среднего течения Западной Двины до самого Помосковья на востоке. Там возникли особые племенные «княжения» с центрами в Полоцке и Смоленске.
На озеро Ильмень словене пришли из славянских земель к югу от Балтики чуть позже, уже в конце VII века. Они стали смешиваться с кривичами, а вскоре и стали сильнейшим племенным союзом севера. Столица словен не раз переносилась из-за войн и эпидемий. Первой был Холмгород, ставший «Хольмгардом» скандинавских саг – так еще века спустя норманны называли Новгород. Потом, в IX веке, появилось «Рюриково» городище – резиденция князя, возглавлявшего пестрое дружинное братство из славян, норманнов и финнов. Наконец, в 30-х годах X века из трех племенных поселков – словенского, кривичского и чудского – на Волхове, чуть севернее, рождается Новый Град, Новгород, нынешний Новгород Великий. Еще один старый град в словенской земле появился почти на два века ранее при впадении Волхова в Ладожское озеро. Ладога, норманнская Альдейгья, была то базой заморских викингов, то опорой в сопротивлении им, но всегда – местом встречи славянской, норманнской и финской культур. Из новгородской округи потоки переселенцев направлялись на восток, в земли туземных финских племен – белозерской веси, или вепсов, ростовской мери, и еще дальше. На освоенных землях «рубились» славянские грады, возникали новые «княжения», а разноязыкие народы начинали смешиваться друг с другом, как это произошло уже на Ильмене и Волхове.
К югу и юго-востоку от кривичей жили два «рода», связанных между собой братским союзом – настолько тесным, что родилось предание о происхождении их от двух братьев, Радима и Вятка. Радимичи «сидели» по Сожу, между Днепром и Десной, а вятичи – дальше на северо-восток, по Оке. Эти земли долго сохраняли свою особость, упорно противостоя всем попыткам простереть на них извне свою власть. Впрочем, могущественной кочевой державе, Хазарскому каганату, удалось на время покорить вятичей – и это тоже обособило их от соседних славян.
По оба берега Среднего Днепра жили поляне. История славян в этих землях уходила в глубь веков, но сам полянский союз сложился из «родов» разного происхождения только в VII–VIII веках. Тесные узы связывали славян с племенами, жившими и к западу, и к югу и востоку от них. А это превращало их в естественных объединителей всего южного пояса славянских племен. Стольным градом полян являлся Киев, названный в честь легендарного основателя Кия, выстроенный не позже начала VIII века на давно уже заселенных славянами Киевских горах. Хазары на какое-то время обложили данью и Киев, но поляне довольно быстро сбросили их власть.
Племена западнее славян – сидевшие в лесах к западу от Киева древляне, жившие в заболоченном Припятском Полесье дреговичи, бужане-волыняне на Западном Буге – восходили к общему корню древних дулебов, некогда владевших землями от Буга до Днепра. Дулебское княжество рухнуло под ударами кочевников в VII веке, и теперь потомки дулебов не без ревности наблюдали возвышение окраинного Киева. Особенно опасными соперниками полян оказались древляне, и ранняя киевская история полна войн с ними.
Жившие к востоку и югу от полян племена относились к другому родовому гнезду – древних антов, в жилах которых текла кровь не только славян, но и древних скифских и сарматских кочевников. Здесь главными соперниками полян явились угличи, или уличи, сидевшие южнее их по Днепру, за рекой Углом. В 30-х годах Х века, разбитые киевскими дружинами, стесняемые сборщиками дани и набегами кочевников печенегов, угличи переселились на запад, к своим сородичам и союзникам тиверцам, жившим по Днестру и Пруту до нижнего Дуная, на нынешних землях Молдавии. Но натиск кочевников и там не оставил их – и угличи, и тиверцы постепенно покидают только насиженные места, отступая на север.
К северо-востоку от Киева, в глубь Левобережья, простирались земли северы – одного из самых обширных славянских племенных союзов. Самых обширных, но, судя по всему, не самых сильных. Севера платила дань хазарам, а затем обрела независимость от них под рукою киевских князей. Неясно, как долго сохраняла она князей собственных – к концу Х века ей уже наверняка управляли из полянского левобережного града Чернигова.
Наконец, далеко на западе, к северу от тиверцев, в верховьях Днестра и в Карпатах жили хорваты, точнее, белые хорваты, – восточный осколок древнего антского племени, дальняя родня хорватов балканских. Судьбы хорватов примерно на столетие оказались связаны с Моравским, а затем и с Чешским государством – одним из племенных княжений, составивших древнюю Чехию, изначально было княжество западной ветви тех же хорватов. Только Владимиру суждено было, завершая объединение восточнославянских племен, включить хорватов в состав Киевской Руси. Пока до этого еще далеко.
И вот в IX столетии среди всего этого племенного многообразия появляется и вскоре поднимается над ним новое восточнославянское единство – Русь Рюриковичей. По поводу происхождения и династии, и названия «Русь» спор идет много лет. Не вдаваясь в эту сложную тему здесь, отметим лишь, что будь Рюриковичи славянами или скандинавами, государство возникло бы на Руси одновременно с другими славянскими, в силу одних и тех же внутренних законов. Скандинавы же, шедшие, самое большее, вровень со славянами в своем развитии, не могли принести им ничего принципиально нового.
Скорее всего, правы те ученые, – это подтверждается и именами первых русских князей, – кто считает, что в жилах Рюриковичей текла норманнская кровь. Но только ли норманнская? Ведь датская и шведская королевские династии возводили свое происхождение к князю «Радбарду», княжившему в восточнославянском «Хольмгарде», где-то в районе будущего Новгорода, еще в начале VIII века… «Варварские» народы Древнего Севера жили по своим законам, далеким от нынешних понятий о «национальном». Они свободно роднились между собой и признавали власть родичей своих вождей, независимо от «языка» – хотя, конечно, не совсем без учета. Иноземное происхождение правящего рода было скорее предметом гордости. Когда речь заходила о власти, делению «свой – чужой» нередко приходило на смену деление «знатный – незнатный». А что лучше удостоверяет знатность, как не родство со знатью иных «родов» и тем более «языков»? Как бы то ни было, уже во втором от Рюрика поколении династия стала вполне «славянской». Сын Игоря Рюриковича носил славянское имя Святослав, двое из троих его сыновей тоже получили славянские княжеские имена – как позже и одиннадцать из двенадцати сыновей Владимира.
Так или иначе, но в течение IX – первой половины X века русские князья со своими разноплеменными дружинами покорили и обложили данью целый ряд племен. Резиденцией своей князь Олег в конце IX века избрал Киев, и в нем княжил сменивший его Игорь Рюрикович. Племенное название киевских полян постепенно уходило в прошлое, и они сами стали называть себя «русью». С другой стороны, молодая династия, не связанная с племенной ограниченностью, неплохо работала на объединение страны. Но потому же объединение это везде встречало протест и сопротивление. Племенная знать и местные князья ревниво отстаивали свои привилегии.
Но ставили ли сами первые Рюриковичи единение Руси своей задачей? Так можно было бы решить, читая созданные при их далеких потомках, в выстроенном уже государстве русские летописи. Но внимательное изучение и самих летописей, и иных источников свидетельствует – о подлинном объединении говорить еще рано. Первые русские князья во многом еще оставались военными вождями. Главными целями их являлись независимость, собственная слава и обогащение дружины. Потому, отстаивая от захватчиков Киев и окрестности, остальное время они проводили в далеких походах, отправляясь сами или рассылая дружины от Каспия до Константинополя, либо облагая данью соседние племена. Уплатой дани и посылкой войск в особо масштабные военные предприятия зависимость племен от Рюриковичей и ограничивалась. Никакой постоянной «администрации» на местах пока не было.
Потому и Русь к середине Х века представляла собой еще не подлинное единое государство, а огромный конгломерат полунезависимых племенных союзов, по удачному научному определению, «суперсоюз» восточнославянских племен. Помимо Рюриковичей, много здесь было «всякого княжья». Делилось оно на две категории – родичи Рюриковичей, сидевшие в захваченных ими градах, таких, как Чернигов, Полоцк, Ростов и некоторые другие, и местные племенные вожди, сохранившие власть на условиях уплаты дани. Каждый из многочисленных князей Руси и некоторые княгини отправили собственных послов для заключения договора с Византией в 944 году, так что историки получили в свое распоряжение объемный список из более чем двух десятков княжеских имен – настоящую головоломку, поскольку ни одно из них (кроме Игоря Киевского, его жены Ольги и сына Святослава) в летописях более не встречается.
Связывал Русь воедино грандиозный ритуал полюдья, имевший и политическое, и религиозное значение. Издревле славянский князь как духовный и светский глава племени объезжал подвластные пределы, собирая дань с общин, охотясь, заключая при необходимости браки с представительницами местной знати. Теперь великий князь русский выезжал из Киева в конце осени, после завершения военного и торгового сезона, в долгое «кружение» по землям покоренных племен. Собранное во время полюдья по весне отправлялось великим путем «из Варяг в Греки» на юг, в Византию – если с ней был мир.
Игорь Рюрикович «кружил» по землям киевских полян, древлян, дреговичей, кривичей и северы. Брал он дань и с пограничного западнославянского племени лендзян, населявших земли непосредственно к западу от Западного Буга, будущую «Червонную Русь». На севере было свое полюдье. Ильменские словене сохраняли почти что независимость даже тогда, когда в Новгороде сидел киевский наместник. Святослав, сын Игоря, княживший в Новгороде, сам собирал дань со словен и соседних финно-угорских племен – мери, веси-вепсов, эстов-чуди (в нынешней Эстонии). Весной, с новгородскими ладьями, положенная доля дани отправлялась в распоряжение киевского князя.
Размеры дани четко установлены не были. К тому же князь мог передать ту или иную подвластную землю в кормление удачливому полководцу, ее покорившему. Так одарил Игорь своего воеводу Свенельда – сначала данью угличей на правобережье Нижнего Днепра, а затем и данью древлян. Деревская дань и погубила князя. Оставшись после неудачной войны и не слишком выгодного мира с «нагой» и униженной дружиной, Игорь вернул себе деревскую дань, да еще и взял ее в двойном размере. Вернувшись затем с небольшим отрядом, чтобы взять еще, он был разбит и захвачен древлянами под предводительством местного князя Мала. Игоря привязали к двум согнутым деревьям и разорвали надвое, после чего погребли останки у древлянской столицы Искоростеня.
Вдова Игоря, Ольга, сурово отомстила за мужа. Мал пытался взять ее в жены и расправиться с наследником киевского трона – Святославом. В отплату за мужа и защищая сына, Ольга хитростью истребила немалую часть деревской знати. Затем киевское войско выступило на Искоростень и захватила его. Древлянское племенное княжение погибло. Дань с деревской земли была поделена между Ольгой и Святославом. Ольга же стала правительницей Игорева наследства.
Ольге принадлежит заслуга упорядочения управления страной, создания первой системы местного управления, подчиненной центру. Во время первого своего полюдья она установила четкие размеры дани – «уроки» – и места ее сбора – «погосты» с постоянными насельниками из княжеской дружины и челяди. Впервые был установлен прямой сбор дани с Новгородской земли, где теперь не было своего князя – Святослав переехал к матери в Киев. Итак, Ольга по праву может считаться создательницей единой и цельной государственной власти на Руси.
Но до единства было все равно еще далеко. Начать с того, что большинство племен не считали себя ничем обязанными тому князю, который не взял с них дань войною. Так «затворялись» от Игоря после Олега древляне. После Игоря отпали лендзяне. В земле западных кривичей, в Полоцке, объявился некий пришелец из-за моря Рёгнвальд (по-славянски Рогволод), захватил град и стал в нем князем. Кривичи не все отпали от Ольги, которая сама была родом из-под Пскова, но часть их земель оказалась потеряна. Еще один варяг, Торир (Туры), видимо, со славянской в основном дружиной, спустился в землю дреговичей, поставил здесь град, названный по его имени, но и вполне по-славянски Туров. Дреговичи также отпали от Киева. Когда произошли эти события, точно сказать затруднительно – ясно, однако, что западные земли были утрачены в течение правления Ольги и Святослава.
Итак, государством Русь Игоря и даже Ольги была еще строящимся, но не построенным. До Ольги единственной «государственной властью» являлись князья с их дружинами, а единого аппарата управления в центре и на местах не существовало. Заслугой первых Рюриковичей стало международное признание Руси, заключение первых договоров с Византией. Но границы владений киевских князей еще не устоялись. Лишь реформы Ольги более или менее закрепили их. Но и они, будучи важным шагом, не стали шагом последним. На Руси еще не существовало одного из важнейших признаков сложившегося государства – единого для всей страны писаного права. «Закон русский» был правом обычным, устным, и на местах действовали собственные, племенные нормы. Все это лишний раз доказывает, что подлинное значение деятельности легендарного Рюрика, Олега и Игоря было не столь уж велико. Их деяния – лишь эпизод в долгой истории устроения государства на Руси, истории, начавшейся за столетия до них, а завершившейся спустя еще два века.
Только строилась и восточнославянская цивилизация. Грады еще лишь начали превращаться в подлинные города, и во второй половине Х столетия лишь два из них вполне подходят под это определение – столицы сильнейших княжеств, Киев и Полоцк. Это единственные укрепленные торгово-ремесленные поселения, чья площадь превышала 10 гектаров – рубеж во многом условный и бесконечно отстающий от нашего нынешнего представления о «городе». С причинами роста Киева все в целом понятно. Взлет же Полоцка – вероятная заслуга «находника» Рогволода, который обеспечил своей столице независимость от «матери городов русских» и процветание на важнейшем торговом пути по Западной Двине. Главный соперник Полоцка – Новгород – был моложе и только еще складывался из нескольких торговых поселков. К тому же князья – что весьма важно, ибо главными распорядителями и организаторами международной торговли были на Руси в ту пору они, – чаще жили не в самом Новгороде, а в близлежащем «Рюриковом» городище. При Ольге же князя на севере вообще не было. В итоге путь по Западной Двине, связывавший Русь и Скандинавию не хуже Невы и Волхова, на какое-то время стал привлекательнее для купцов.
На Руси уже появилась письменность – правда, пока не книжность. Древнейшая надпись на глиняном сосуде «ГОРУХША», указывающая то ли на содержимое, то ли на имя гончара или владельца, относится примерно ко времени Ольги, к середине Х века. Хотя возможно, что кириллицей были записаны уже славянские тексты договоров с Византией в начале Х века. Письмо пока входило в обиход медленно. Действительно важная, имеющая священный смысл информация веками у разных народов Земли передавалась изустно, не нуждаясь в какой бы то ни было «записи». Так что языческим жрецам и хранителям преданий в письме особой нужды не было – пусть даже скандинавские соседи и использовали издавна руны именно для записи заклинаний (опять же не «историй»). Носителями и распространителями созданного в христианских Моравии и Болгарии славянского письма стали, что логично, именно первые христиане Руси. Уже в IX веке кто-то из них ради перевода Писания попытался в греческом Херсонесе создать собственную систему письма – еще до святого Кирилла, который познакомился с ней.
Христиан на Руси становилось в Х веке все больше. Еще между 789 и 813 годом первый известный нам по имени русский князь Бравлин, придя походом на Крым с далекого севера, из окрестностей будущего Новгорода, крестился в греческом Суроже. Позднее крещение нередко принимали русы, торговавшие или служившие в Византии, подолгу жившие там, особенно в Херсонесе. В 866 году, после заключения очередного мира с Византией, на Руси была создана уже христианская епископия. В Киеве была построена деревянная соборная церковь в честь Ильи Пророка – одного из самых почитаемых с тех пор на Руси святых. В 874 году крестился киевский князь – как полагают, это был Аскольд. После коварного убийства его Олегом на Аскольдовой могиле некий Ольма построил церковь Святого Николая – другого «народного» святого Руси.
Новый период мирных отношений с Византией после войн Олега дал бурный прирост киевской христианской общине. Возможно, в условиях периодических вспышек вражды с Империей она перешла под патронат Болгарской церкви. Во всяком случае, именно Болгария, родина «кириллицы», стала для Руси источником азбуки и переписанных ею книг. В этом и заключался искомый многими «болгарский след» в крещении Руси. К середине Х века в самой дружине киевских князей было немало христиан. А в 957 г. во время посещения Константинополя еще до того покровительствовавшая христианам и державшая при дворе священника Ольга приняла крещение от самого императора Константина VII. Вернувшись в Киев, Ольга разрушила главное киевское капище Перуна на княжеском «теремном дворе». При Ольге в Киеве появилась третья христианская церковь – деревянный храм в честь святой Софии, Премудрости Божьей. Построен он был еще до ее крещения, в 952 году.
Однако христианство с трудом пробивало себе дорогу. Ольга не навязывала веру своим подданным. Между тем большая часть дружины смотрела на религиозные новшества княгини с сомнением и подозрением. Вождя языческая партия нашла в сыне Ольги, Святославе.
Ольга и Святослав
Спор этих двух ярких личностей весьма показателен для русской истории тех веков. В лице Ольги и Святослава столкнулись – старое и новое. И, как ни парадоксально это выглядит, представителем старого выступил именно сын, молодой Святослав. Впрочем, парадоксально это только на первый взгляд. Княгиня Ольга по самой своей природе была чужда патриархального воинского мира славянской дружины. Она доказала дружинникам право на власть, отомстив за убитого мужа. Но идеальным дружинным вождем Ольга стать не могла, да, судя по ее реформам, и не стремилась. На смену бесконечному грабежу своих и чужих она ввела подлинно государственную политику – непривычную для большинства. Принятие чуждого опять же большинству киевской знати христианства явилось последним доказательством того, что княгиня противопоставляет себя воинственной дружинной «руси».
Святослав же, сын Игоря, законный князь, был естественным вождем и заступником старины. Тем паче, что вырос он заправским воителем, любящим ратные дела и ищущим их – достойный наследник своих отцов и дедов, и славянских, и норманнских. Как «великий и светлый князь киевский», он являлся главой языческого религиозного культа. Потому надо полагать, что славянские жрецы и волхвы внесли в воспитание юного князя не меньше, чем дружинники отца.
Итак, когда Ольга вернулась из Константинополя, разногласия ее с сыном стали явными. Мы не знаем наверняка, сколько лет тогда было Святославу. Вопрос этот крайне запутан, и мы вернемся к нему в связи с не менее запутанным вопросом о времени рождения Владимира. Однако в конце 950-х годов киевский князь был уже достаточно взрослым, чтобы открыто воспротивиться материнской воле. Впрочем, справедливости ради отметим, что речь шла скорее не о прямо выраженной воле, а о советах. Ольга упрашивала сына креститься. Но тот наотрез отказался. «Дружина моя, – заявил Святослав, – смеяться начнет». «Если ты крестишься, – возражала Ольга, – и другие сделают то же». Она прекрасно понимала, что в глазах славянина-язычника авторитет князя в делах веры непререкаем, и последующая история оправдала это предвидение. Но Святослав, поддерживаемый отцовской дружиной под предводительством воеводы Свенельда, упорствовал. Впрочем, он не запрещал креститься желавшим этого и не мешал им ничем, кроме издевок – то есть того, чем пугал сам себя.
Чтобы лучше понять отношение киевской воинской знати к христианству, следует вспомнить, что новая вера пришла из Византии – для киевских дружинников если не вечного, то наиболее вероятного врага. И наиболее вероятного источника военной добычи. Война кормила дружину гораздо вернее и щедрее дани. Война – ядро всей культуры языческого «варварского» мира, мать единственно признаваемых в нем, воспеваемых в эпосе воинских добродетелей. А христианство проповедовало мир – или, самое большее, разрешало войну справедливую. Впрочем, совсем не факт, что о последнем языческая дружина имела сколько-нибудь четкое представление. И тогда, и потом противников христианства при княжеском дворе раздражало миролюбие новой веры. Они опасались, что принятие христианства полностью покончит со внешними войнами – и разорит их.
А Ольга как будто взялась оправдать эти опасения. За все время ее правления (прежде чем Святослав окончательно вырвался из-под материнской опеки) ни одной замеченной источниками внешней войны не было. Ольга даже не отправила русских наемников на помощь новому союзнику, Константину VII. Она поддерживала мир с Византией, отправляла послов на запад, к германскому королю – иными словами, расширяла дипломатические связи Руси вместо того, чтобы достойным, по мнению дружины, образом эту дружину кормить.
Добавил киевской знати неприязни к христианству, возможно, и еще один эпизод. Ольга была миролюбива, но тщательно оберегала независимость своей страны. Когда Константин потребовал после крещения фактически признания Русью верховной власти византийского императора, то получил резкую отповедь. Ольга сохранила мир с Империей, но только на равных. Обеспокоенная, однако, посягательствами Царьграда, она обратилась за новым епископом на Запад. В то время Церковь еще была едина, существовавшие между Римом и Константинополем богословские разногласия оставались не понятны и не известны большинству верующих. Что касается Болгарии, то церковная связь с нею, если и имелась, то, вероятно, недолго и уже прервалась. Отношения между двумя сильнейшими славянскими государствами всегда оставляли желать лучшего. Так что в обращении русской княгини, стремившейся упрочить независимость своей страны и своей Церкви, к Западу ничего предосудительного не было.
Однако результат – редкий, если не единственный, в политике Ольги случай – оказался довольно плачевен. В 961 году германский король Оттон (тот самый, который вскоре получит от папы корону римских императоров и создаст новую, Священную Римскую империю) в ответ на просьбу Ольги отправил на восток епископом монаха Адальберта, проповедника небесталанного. Адальберт, строго говоря, подвернулся случайно, из-за смерти так и не отбывшего на Русь епископа Либуция. Сам он ехать не хотел и воспринял назначение с крайней обидой, как ничем не заслуженную ссылку. Адальберт прибыл в Киев – и почти сразу отправился восвояси, вроде бы «убедившись в тщетности своих усилий». Логичнее всего заключить, что языческая партия встретила Адальберта без приязни, а он воспользовался этим как поводом для отъезда. Не один немецкий хронист со слов Адальберта попрекает в этой связи язычников-русов. Но и те сохранили о нем не менее «благодарную» память. «И отцы наши не приняли этого», – скажет спустя десятилетия Владимир представителям Рима о латинском обряде.
Итак, у язычников, у «партии войны», имелось достаточно поводов к недовольству. Но и Ольга, помимо новообретенной веры, имела свои резоны. На собственном опыте она убедилась в непрочности молодого Русского государства. После катастрофы в Деревской земле требовалось накопить силы, а не растрачивать их в дальних походах. Из степи угрожали кочевые племена, на севере ежегодный откуп «ради мира» едва удовлетворял норманнов. Уводить дружину из Киева в эти годы было большим риском. Миролюбие являлось не только данью религии или, тем паче, женской природе, но наиболее разумной политикой на тот момент. Христианство же давало возможность завязать новые связи, заключить новые союзы, войти во все ширящуюся семью европейских христианских государств. Как раз в те же годы, когда из Киева сбежал Адальберт, его более прилежные собратья обратили в христианство польского князя Мешко. Крепнущее Польское княжество постепенно становилось соперником Руси в славянском мире – тем паче, что в лендзянских «Червенских градах» левобережья Буга, некогда плативших дань Игорю, интересы сталкивались уже впрямую. Мир, основанный на единоверии, хотя бы временный, здесь тоже был нужен как воздух.
Однако в конечном счете долгому миру Ольги настал конец. Святослав начал свои прославленные походы на восток и на юг. Мало принесли они Руси новых земель, но князя прославили на века, как полководца и храброго воина. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Святослав лишь бездумно воевал и служил одной войне, не ведая, что творит. Его деяниями были сокрушены два главных соперника Руси в Восточной Европе, наследники древних кочевых империй – Хазарский каганат и Болгарское царство. На расчищенном месте сильнейшей осталась – Русь.
Начав свои военные походы, Святослав добавил уверенности киевским язычникам. Быть если не христианином
вообще, то христианским священником в Киеве стало небезопасно. Даже сама княгиня в последние годы держала при себе христианского пресвитера «втайне».
В 965 году Святослав двинулся на северо-восток. Огнем и мечом пройдя зависимую от хазар Волжскую Болгарию, он спустился по Волге и разбил войска каганата. Столица хазар Итиль пала, каган погиб. Святослав занял важнейшую хазарскую крепость на Дону, Саркел, и превратил в русский оплот, Белую Вежу. Дань Руси обязались платить доселе зависимые от хазар вятичи. Затем Святослав двинулся на Кавказ. Он захватил хазарские крепости у Керченского пролива – Самкерц и Керчь. Это стало началом русской Тмутаракани. Затем он разгромил Аланское царство – мощнейшее государство Северного Кавказа – и подвластные ему адыгские племена. Весь восточный поход занял два года. Князь возвратился в Киев с богатой добычей и полоном.
Территориальные приобретения Святослава, повторим, были не слишком значительны. Он и не пытался обложить данью хазар, волжских болгар, алан, адыгов. Однако князь, сознательно или нет, обезопасил, прикрыв русскими крепостями, торговый путь по Дону и через Азовское море. Кроме того, еще более важный волжский путь оказался свободен от хазарских сборщиков пошлин, прежде весьма отягощавших русскую торговлю с востоком, с прикаспийскими землями Ирана и с Хорезмом.
Следующий удар оказался направлен на юго-запад. В 968 году в Киев прибыло византийское посольство. Империя вступила в очередную войну с Болгарским царством, занимавшим теперь многие древние ромейские провинции. Обе стороны, несмотря на единоверие, уже десятилетиями вели борьбу на взаимное уничтожение. Теперь Византия решила обратиться за помощью к русам – пусть большей частью язычникам, но союзным. Святослав с готовностью откликнулся. Болгарская держава являлась еще одним, пусть менее угрожающим, давним соперником Руси. К тому же памятны были услуги, которые болгары некогда оказывали «грекам» во время походов русских князей на Византию. Следует отметить, что на Руси и спустя пару веков еще помнили, что болгары – давнишние «находники» из степей, покорившие местные славянские племена. То, что сами эти племена давно уже приняли болгарское имя, а завоеватели – славянский язык, то, что христианство сплотило славян и болгар в единый народ, на Руси заметили отнюдь не сразу.
Святослав выступил на Балканы и нанес армии болгарского царя Петра сокрушительное поражение. Петр вскоре умер, его сын Борис оказался в незавидной роли марионетки русского князя. Но отдавать болгарские земли Византии Святослав отнюдь не намеревался. Более того, он уже требовал от самих ромеев отдать ему все европейские провинции. В голове князя зароились амбициозные планы – объединить под своей властью Балканы, Чехию, Венгрию и Русь, сделать столицей болгарский Преслав и оттуда управлять всем востоком Европы.
Но в этот момент Киев впервые осадили печенеги. Эти кочевые племена давно уже беспокоили восточных славян своими набегами. Игорь воевал с ними. Однако до падения Хазарского каганата, сковывавшего силы кочевников, печенеги не дерзали глубоко забираться в русские земли и подступать к стенам самой столицы. Теперь Ольга оказалась запертой в обступленном городе с одной младшей дружиной. Ей удалось послать весть за Днепр, к воеводе Претичу, командовавшему дружиной «той стороны Днепра» – то есть дружиной полянского племенного княжения в Переяславле. Претич, однако, лишь отпугнул печенегов, которые, опасаясь подхода Святослава, отошли от города. Наконец вернувшийся по призыву матери князь прогнал кочевников.
Ольга упрашивала сына остаться в Киеве и упрекала его в том, что из-за его далеких войн печенеги едва не захватили родной город со всей княжеской семьей. Послание киевлян своему князю гласило: «Ты, княже, чужой земли ищешь и блуждаешь, эту свою забросив. Едва ведь нас не взяли печенеги, мать твою и детей твоих. Если не придешь, не оборонишь нас, так еще нас возьмут. Или тебе не жаль отчины своей, и матери старой, и детей своих?» Святослав выполнил свой долг. Однако теперь его было не переубедить. Князь раскрыл перед матерью свои дерзновенные замыслы: «Не любо, – заявил Святослав, – мне жить в Киеве. Хочу жить в Переяславце и на Дунае, потому что там середина земли моей. Туда все блага сходятся – от греков паволоки, золото и вино, овощи различные, из Чехов и из Угров серебро и кони, а из Руси же меха и воск, и мед, и челядь». На это Ольга ответила только: «Видишь меня больную. Как хочешь от меня идти? Погреби меня и иди куда захочешь».
Княгиня действительно была тяжело больна. 11 июля 969 года она скончалась. Князь с детьми и все киевские горожане оплакали Ольгу. Погребли ее, согласно завещанию, без тризны, по христианскому обряду. Отпевание совершил тот самый священник, которого она держала при себе «втайне» последние годы. Уже скоро среди киевских христиан Ольгу начали чтить как святую.
Святослав же сразу после смерти матери засобирался в поход. Теперь он готовился к войне уже не столько с болгарами, сколько с Византией. Ради этой войны он заключил союз с Венгрией, а также с недавними врагами печенегами. Последние охотно согласились в расчете на воинскую удачу грозного для них Святослава и богатую добычу. Перед походом, однако, требовалось упорядочить управление Русью. Святослав, по примеру некоторых славянских и скандинавских правителей – но впервые в истории Руси – решил разделить свое огромное «княжение» на уделы между сыновьями. Сыновей у него было трое – Ярополк, Олег и Владимир.
Сын Малуши
О времени рождения и материнском роде Ярополка и Олега мы не знаем практически ничего. Из двоих старшим был Ярополк, но родился ли он на самом деле раньше и Владимира, непонятно. Мать у этих двух княжичей, – опять же по всей вероятности, – была одна. Судя по всему, это и есть неизвестная нам по имени главная, в полном смысле законная жена Святослава. Происходила она, очевидно, из знатного рода. Скорее угадывают, чем утверждают, что союз Святослава с венгерским князем-жупаном Гейзой скрепил династический брак. Но союз этот, насколько нам известно, заключили лишь для войны с Византией, когда Ярополк и Олег уже принимали власть. Логичнее уж заключить, что жена Святослава была славянкой, княжной одного из многочисленных подвластных племен или градов, «приведенной» в полюдье. Все русские княгини, сопровождавшие Ольгу в Константинополь в 957 году, были с ней в родстве или в свойстве – кто-то, возможно, как раз через брак Святослава. Любопытно, что при осаде Киева печенегами говорится только о матери и детях, но не о жене отсутствовавшего князя. Это может свидетельствовать о том, что княгиня уже умерла к тому году.
К моменту кончины Ольги Ярополк уже достиг брачного возраста – то есть было ему не менее двенадцати или даже четырнадцати лет. В двенадцать лет русин считался уже совершеннолетним «отроком» и мог брать в руки оружие. Но время жениться наступало все-таки чуть позднее. Святослав привез сыну подарок с Балкан – красивую лицом девушку-невесту из разоренного греческого монастыря. Только один поздний летописец, передающий церковную легенду о ней, сообщает имя этой «грекини» – Наталия. Ярополк взял ее в жены, однако браком этим, для силой расстриженной язычниками юной монахини отнюдь не добровольным, особо не дорожил.
Именно между Ярополком и Олегом Святослав изначально хотел поделить Русь. Ярополку он назначил Киев. Следует помнить, что князь совершенно не собирался в случае успеха возвращаться в свою столицу. Так что Ярополк действительно становился под рукою отца верховным правителем Руси, собственно русским великим князем.
Понимая, что после смерти Ольги и в его отсутствие Деревскую землю будет трудно удержать в повиновении Киеву, Святослав посадил второго сына, Олега, на княжение в Деревах. Таким образом, самолюбие местной знати, несомненно, униженной подчинением Рюриковичам, отчасти удовлетворялось. Резиденцией Олег избрал град Вручий. Тем самым столичная власть над Деревами отнималась у соплеменников древнего княжеского рода Малов, правивших в Малине и Искоростене, в южном междуречье Ирши и Ужа. Вручий стоял выше по Ужу, за рекой Жерев, где еще в IX веке существовал независимый племенной союз жеревичей, подчиненный позже южным древлянам.
Известия о кончине Ольги и грядущем уходе ее сына на Балканы между тем дошли и до севера Руси. В набирающей силу столице Русского Севера, Новгороде, все это вызвало вполне обоснованное беспокойство.
Новгород долго сохранял независимость и обособленность. Известная всем по учебникам картина объединения Киева и Новгорода князем Олегом уже в конце IX века восходит, в конечном счете только к летописному преданию. Сейчас, с позиций современной науки, ее стоит подкорректировать – хотя бы потому, что самого Новгорода Великого в IX веке еще не было. Скорее Рюриковичи, какое-то время поправив на Ильмене, просто покинули здешние места на произвол судьбы. В самом первом договоре Олега с Византией ни Новгород (что понятно), ни (что гораздо существеннее) какой-нибудь его предшественник не упомянут ни словом. В скандинавских же викингских сагах, источнике пусть крайне легендарном, если не сказочном, но все же восходящем и к подлинным преданиям, рисуется картина ожесточенной борьбы за «Хольмгард» между местными князьями и скандинавскими «морскими конунгами» как раз в конце IX – первой трети Х века.
Как бы то ни было, достоверно о подчинении ильменцев Киеву можно говорить лишь после основания собственно Новгорода в начале 930-х годов. Объединение словен, кривичей и «чуди» на Ильмене, их желание гарантировать себе спокойное будущее побудили обратиться к могущественному уже киевскому князю, выходцу с севера. Именно тогда и должны были установить «дань», откуп «ради мира», уплачивавшийся в пользу соседних варягов – шведов. В Новгороде же или в остававшемся княжеской резиденцией «Рюриковом» городище уже к 944 году сидел киевский наместник – княжич Святослав Игоревич.
Присоединение к «Киевской» Руси было, как видим, скорее добровольным. Новгород сохранил широкую автономию, право распоряжения неконтролируемой частью собственной дани и получения с нее доходов по пути в «Греки». Он имел собственного князя и собственную дружину – более ценную воинскую силу, чем племенное ополчение.
Ольга после гибели Игоря забрала сына в Киев и включила Новгород в первый же «круг» великокняжеского полюдья. Однако псковитянка Ольга оставила ильменцам, почти что своим землякам, толику прежних прав. По установленным тогда «урокам» дань с ильменских земель составляла три тысячи гривен. Из них лишь две тысячи шло в Киев, тысяча же оставалась в распоряжении новгородских правителей, «посадников». Это было, конечно, не прежнее довольство – но все равно ценный источник дохода для новгородской знати и возможность содержать довольно крупную дружину. Неизвестно, кто непосредственно правил Новгородом при Ольге. Ясно, однако, что это не был кто-то из Рюриковичей, и едва ли князь.
Такое положение устраивало новгородцев до поры до времени. Но когда родившаяся на севере княгиня умерла, новгородцы встревожились. Только князь из рода Рюриковичей, – рассуждала новгородская знать, – обеспечит сохранение уцелевшей части их привилегий. И вот Святослава перед уходом из Киева застает новгородское посольство.
«Люди новгородские» просили у прежнего своего правителя Святослава отправить к ним князя из своего рода. «Если не пойдете к нам, – заявили они, – то мы найдем себе князя». Угроза звучала вполне убедительно. Оставляя в стороне относительно еще недавнее «призвание варягов» – неподалеку от Новгорода, в Ладоге, постоянно гнездились изгнанные из своих краев норманнские «морские конунги». Любой из этих викингских вожаков счел бы за невиданную удачу приглашение на новгородский стол. Это не говоря уже о том, что Рюриковичи были в ту пору отнюдь не единственным великокняжеским родом на Руси. Допустим, в Полоцке сидел Рогволод, также не бездетный. И его земли лежали к Новгороду тоже гораздо ближе, чем Киев.
Но Святослава мрачный посул новгородцев нисколько не впечатлил. Мыслями своими князь был на юге. О Новгороде же воспоминания у него по каким-то причинам остались не лучшие. С едва ли оправданным для государственного мужа пренебрежением славный воитель бросил в ответ послам: «Да пошел бы кто к вам».
Ярополк и Олег, разумеется, совершенно не желали отправляться в Новгород. Чувства отца к далекому северному городу они, похоже, вполне унаследовали. Древлянское княжение Олега было после похода и реформ Ольги гораздо спокойнее и в любом случае ближе к родным местам. Ярополка, по большому счету, и спрашивать не было смысла. Летописец, впрочем, следуя доставшемуся ему устному преданию, чинно замечает: «И отказались Ярополк и Олег». Тут и вспомнилось о Владимире.
«Робичич» – значит, сын «робы», рабыни. Прозвание-клеймо (и юридически четкое указание на место в обществе), долго преследовавшее Владимира Святославича и, без сомнения, немало отягощавшее его молодые годы. Владимир был сыном Святослава и Малуши, ключницы княгини Ольги. Ключница – служанка привилегированная, ответственная за все хозяйство княжеского дома. Но все же только служанка. «Роба». Судя по славянским именам и ее, и отца ее Малка, и брата Добрыни, Малуша вышла из холопов – рабов-соплеменников, обращенных в рабство за долги или преступления. Им нередко доверяли ответственные посты при дворе. Но и самые доверенные холопы обязаны помнить свое место.
Первобытный славянский закон отнюдь не воспрещал многоженства. Но, если, скажем, у вятичей иметь «по две и по три жены», если верить летописи, являлось обычным делом, то в Киеве многоженство осталось привилегией одних князей. Жен они получали в результате династических браков, либо им «приводили» невест во время полюдья от подвластных племен. Но помимо «чинного», с соблюдением всех обычаев брака со свободной женщиной, языческий князь имел право и на иные утехи. Именно – взять себе «на ложе», наложницей холопку либо полонянку.
Арабский путешественник Ибн Фадлан, отправившийся в северные края в 922 году, оставил живописное, со слов очевидцев, описание гарема «царя русов» – насколько мы можем понять, Игоря. Единственной известной нам женой Игоря была Ольга, «приведенная» ему в полюдье от кривичей. Но помимо того, как узнаем мы уже от арабского автора, у князя имелись десятки наложниц. Правда, от них Игорь старался детей не заводить – логичное объяснение тому, что Святослав остался единственным сыном-наследником. Сам Святослав, как видим, оказался менее щепетилен. Он сошелся с Малушей как со своей «робой» – и на свет появился Владимир.
Среди ученых нового времени немало предпринималось попыток как-то «приподнять» происхождение Владимира. Его возводили то к древлянскому князю Малу, то к воеводе Свенельду, то даже к ним обоим, изысканно сплетая родословные древа. Искусная игра научных умов, подчас действительно гениальных. Не имеющая, однако, ни малейшего основания в источниках. Любопытно, что древним летописцам, которым «облагородить» великого во всех смыслах князя, казалось бы, было нужнее, подобные построения в голову не приходили. Никогда.
Отца Малуши звали Малко Любечанин. Следовательно, он либо родом был из Любеча – важной полянской крепости в левобережье, выше Киева и за впадением Десны, либо жил там. Любеч со времен захвата Киева Олегом являлся княжеским городом, в начале X века и позже там сидел собственный великий князь, родич и подданный великого князя русского. Однако уже к середине Х столетия Любеч превратился в замок киевских князей – вероятно, местная линия пресеклась. Самое большее, мы можем предположить, что Малко служил Ольге в качестве управителя Любечской крепости. Хотя и в пользу этого никаких свидетельств не имеется. О Малко известно, по сути, только три вещи – прозывали его «Любечанин», дочь его была княжеской «робой», имел же он двух детей, дочь Малушу и сына Добрыню.
Ученые по-разному судят и об обстоятельствах связи Святослава с Малушей. Кто-то подозревает, что Ольга сама содействовала союзу, пусть неполноправному, своей ключницы с сыном. Версия занятная и не нелепая, однако опять-таки не имеющая никаких подтверждений. Кто-то, напротив, полагает, что Малуша, сойдясь с молодым князем, прогневила хозяйку. В связи с ссылаются на одну из летописей XVI века, утверждающую на основе каких-то местных легенд, будто Владимир рос в селе Будотино, куда Ольга сослала «в гневе» его мать. Там княжич-«робичич» оставался якобы даже после смерти княгини. Но если первая версия просто не имеет подтверждений, то вторая надежно опровергается источниками более ранними и достоверными. Действительно, живший в XI веке автор первого жизнеописания Владимира, Иаков Мних, рассказывает нам, что Владимир был довольно близок к своей святой бабке. Она поведала ему немало о своей вере, пробуждая интерес и воспитывая терпимость к христианам. Позже выросший Владимир сознательно подражал великой княгине во многих делах. Может, Иаков кое-что здесь и преувеличил, но никакой враждебности между бабушкой и внуком младшие современники явно не помнили. Летопись говорит о том, что дети Святослава (без исключений) находились при Ольге во время осады Киева печенегами, в последний год ее жизни. Если предание XVI века и достоверно (а обязательно ли ему являться достоверным?), то отражает какой-то «проходной» эпизод из жизни Малуши и ее сына.
Какое же место занимал «робичич» в княжеской семье? Едва ли значительное. Судить можно хотя бы по тому, что Святослав и в расчет не взял третьего сына при разделе земель. С другой стороны, он рос при княжеском дворе и официально княжеским сыном признавался. На это указывает и княжеское славянское имя «Володимер», полученное им от отца. Имя древнее, совсем не «рабское», на половину (вторую) восходящее к связям славян и готов, означавшее же тогда «Обладатель славы». Смысл этот едва ли помнился к Х веку, но имя у славян давалось только князьям. Сам Владимир и его двор предпочитали позднее более простую и легко переводимую славянскую народную форму – «Владимир», «владеющий миром».
Двойственность положения, конечно, наложила отпечаток на весь характер Владимира Святославича. Едва ли подраставший княжич мог питать особую приязнь к киевской знати и смотревшим свысока сородичам. Свидетельство Иакова Мниха о внимании Ольги к внуку выглядит вполне достоверно – если кто и уделял «робичичу» достойное внимание, то, конечно, это была княгиня-христианка, осуждавшая языческие обычаи.
Однако Ольга не осталась единственной учительницей Владимира, да и время должна была делить между всеми внуками. Воспитателем Владимира, его «кормильцем», как называлось это на Руси, стал по обычаю его «уй», то есть дядя по матери Добрыня Малкович. Это объясняет, почему воспитанник Ольги так и не стал христианином в молодости. Добрыня, насколько нам известно, первоначально являлся язычником ревностным. И это «уравновесило» благожелательные рассказы княгини о христианстве. Да, Ольга первой поведала Владимиру, говоря словами митрополита Илариона, «о благоверной земле Греческой, христолюбивой и сильной верою, как Единого Бога в Троице почитают и кланяются, какие у них совершаются сильные чудеса и знамения, как церкви людьми исполнены, как веси и грады благоверные все в молитвах предстоят, все Богу предстоят». Но молодой Владимир остался убежден в истинности языческих верований, доставшихся по «отеческому преданию», и чужд христианства. Самое большее, княгине удалось привить внуку некоторый интерес к своей религии – но и к другим верам вообще, «широту взглядов», говоря современным языком. Отсюда до обращения – дистанция огромного размера, и Владимиру только предстояло ее пройти. Впрочем, оставшееся на всю жизнь уважение к Ольге на этом пути сильно помогло. Но это потом.
Итак, сын Малуши рос при княжеском дворе Ольги в Киеве. Мы не знаем с достоверностью, когда скончалась его мать. В летописи о дальнейшей судьбе Малуши нет никаких надежных свидетельств. Правда, один скандинавский сагописец при описании событий примерно 963 года представляет нам мать Владимира – как всеми на Руси почитаемую ведунью-пророчицу. Но в том он нуждался для своих литературных целей, и мы не знаем, действительно ли Малуша славилась чем-то подобным. Очень вероятно, что ее уже не было в живых в 969 году, когда посольство новгородцев вывело Владимира на сцену большой истории. Впрочем, не знаем мы и того, насколько, собственно, вырос Владимир к тому времени. Суховатые строки летописи не позволяют судить, говорится ли о ребенке, о входящем в возраст «отроке» или уже о вполне зрелом молодом человеке.
Удивительно, что мы не можем с уверенностью ответить на простой вопрос – когда родился Владимир Святой? Впрочем, как увидим далее, даже дата его прихода к власти в Киеве ненадежна. Здесь же нам придется немного углубиться в историческую «кухню» работы с источниками. Это и необходимо для решения вопроса, и полезно – поскольку позволяет показать, как трудно подчас работать на поле истории «дописьменной», основанной в основном не на достоверных свидетельствах очевидцев, а на записанных века спустя устных преданиях. Понятно, что «устных хронистов» из княжеских дружин хронология если и беспокоила, то не в первую очередь. Недаром два первых русских киевских князя, Олег и Игорь, княжат каждый по былинному сроку в тридцать три года – то есть просто «долго». На таких-то основаниях и покоится нередко летописная хронология…
Впрочем, Владимир стоит на рубеже двух эпох – языческой и христианской, «устной истории» и писаной истории. А значит, ничего удивительного, что срок его жизни оказался все-таки записан с высокой точностью. Пусть всего в одном и довольно позднем, начала XIII века, источнике. Но все-таки записан.
Созданный в Северо-Восточной Руси, пользовавшийся различными устными преданиями, а также не сохранившимися версиями житий, Летописец Переславля Суздальского под 1015 годом свидетельствует о Владимире: «И так скончался 73 лет». Если верить этому уникальному показанию источника, то получается, что сын Святослава и Малуши появился на свет в 942 году.
Однако это только начало. Дело в том, что по единогласному свидетельству всех летописей, и прежде всего – Начального летописца, основывающегося на древнейшем сказании младших современников Владимира, Святослав на момент гибели отца зимой 944/945 года был очень мал. «Бе бо мал еще, детеск» («мал ведь был еще, детских лет») – отмечает летописец в связи с походом Ольги на древлян в 946 году. По обычаю князю полагалось начать битву. Но ребенку Святославу не под силу оказался настоящий бросок копья. Он лишь «сунул» копье между ушами коня, а Свенельд и кормилец Святослава Асмунд воскликнули: «Князь уже начал! Поспешим, дружина, за князем!»
С этим прекрасно, казалось бы, согласуется и запись в Галицко-Волынском летописном своде конца XIII века, т. н. Ипатьевской летописи, отсутствующая во всех остальных версиях «Повести временных лет». Галицкий летописец под 942 годом (уже любопытно!) отмечает: «Родился Святослав у Игоря». Итак, в 942 году родился вовсе не Владимир, а его отец?!
Автор Галицко-Волынского свода пользовался более ранней киевской летописью конца XII века, которая, в свою очередь, восходила в этой части к «Повести временных лет». Летопись эта сохранилась до нас только в составе Ипатьевской, однако В.Н. Татищев вроде бы читал и использовал ее как самостоятельный памятник. Называет он это позже утерянное сочинение Раскольничьей летописью, поскольку получил ее от сибирского раскольника-старообрядца. Так вот, Раскольничья летопись в показаниях о возрасте Святослава совершенно расходилась с основанной, казалось бы, именно на ней Ипатьевской. По Раскольничьей, Святославу было 52 года в момент гибели, в 972 году. Значит, родился он вовсе не в 942-м, а в 920-м? Тогда, конечно, в 942 мог родиться и Владимир. Галицкий же летописец, – рассуждаем на этой основе далее, – заметил противоречие с «детским» возрастом Святослава в летописном сказании о мести Ольги и решил «исправить» кажущуюся ошибку. Увы! – ценность свидетельства Раскольничьей ошеломляюще перечеркнул сам Татищев. При одной из правок он почему-то заменил ссылку на Раскольничью ссылкой на другие летописи – а эти летописи до нас сохранились, и в них ничего подобного нет вообще! Так не идет ли речь просто о догадке или об ошибке памяти историка XVIII века, который так и не смог найти под пришедшее на ум измышление подходящую ссылку?
Здесь в «игру» вступают свидетельства современников-иностранцев. Прежде всего, упомянутый выше император Константин VII Багрянородный в своем обширном трактате «Об управлении Империей» сообщает, что еще при жизни Игоря Святослав правил в Новгороде. Представить, что Игорь и Ольга отпустили «княжить» в только что покорившийся (и недавно возникший) далекий град на северном порубежье двухлетнего мальчика, даже с надежной дружиной, – за пределами вероятия, почти абсурд. Помимо прочего, Святослав практически во всех источниках предстает как единственный законный наследник своего отца. Рисковать им почти во младенчестве даже ради Поильменья родители едва ли стали бы. Святослав между тем имел свою дружину и даже отправлял особого посла для заключения договора с Империей в 944 году.
Титмар Мерзебургский, немецкий хронист и современник Владимира, утверждает, что тот умер не просто «в преклонных летах», но «глубоким стариком». Можно ли было сказать такое о Владимире, если его отец родился в 942-м, а сам он, следовательно, – не ранее 956-го или даже 957-го – года? Шестьдесят лет уже могут быть признаны по средневековым понятиям старостью, но едва ли слишком «глубокой». По крайней мере, ничего исключительного, требующего указания на возраст, в такой кончине не было бы. Старость же Владимира отнюдь не бросалась в глаза. В 1008 году, по свидетельству другого немецкого современника и очевидца, он легко «спрыгивал» с коня. А от последнего брака, заключенного уже после 1011 года, имел ребенка. Само по себе ни то, ни другое ничего не говорит о возрасте. Однако показывает, что шестьдесят едва ли были б сочтены для Владимира очень уж «глубокой» старостью. Скорее надо думать о возрасте за шестьдесят или даже ближе к семидесяти. То, что Владимир до таких лет дожил – и тем паче сохранил бодрость телесную почти до самого конца – вот это действительно обратило бы на себя внимание современников.
Все эти рассуждения если не сокрушают, то серьезно подрывают версию галицкого летописца о том, будто Святославу было всего три года на момент гибели отца. Правда, совсем необязательно считать при этом выдумкой живописный летописный рассказ о юном князе, начавшем битву с древлянами. Речь вполне может идти о возрасте 10–12 лет, также вполне «детском» по древнерусским понятиям. Правда, и тогда встает вопрос – в каком все-таки возрасте родители отправили своего единственного наследника Святослава на княжение в далекий и вполовину еще непокорный Новгород? Может быть, стоит вспомнить, что о Владимире в брачных уже летах, причем при описании второго брака, владимирский летописец начала XIII века вполне четко и осознанно говорит то же самое: «детску сущу». Так же осознанно называл в своем житии «детским» Нестор 25 – 26-летнего князя Глеба Владимировича.
Что касается аргументов «от психологии» (почему доблестный воитель Святослав вышел из-под материнской опеки и начал ратные труды лишь в возрасте за тридцать или за сорок?), то они не вполне убедительны. У нас, к несчастью, просто нет надежного психологического портрета Святослава. Есть образ, скроенный из дружинных эпических преданий об идеальном вожде и из личной, более критической точки зрения нашего Начального летописца. Подлинное лицо князя можно лишь воссоздавать – но тогда уже с учетом всех показаний источников.
Это все, что известно и может быть выведено относительно времени появления на свет самого Святослава и его прославленного сына. Общий же вывод будет не слишком утешительный. Мы не можем установить, когда точно они родились. Все сообщаемые в летописях даты и сроки крайне ненадежны и сомнительны. Из вышесказанного ясно одно – Малуша родила Владимира еще до 955 года, самое позднее около того. Может, не в 942-м, а в 952-м? Драма, связанная с этим рождением, если и была, то осталась в прошлом, и Владимир занял место – пусть не очень почетное – в княжеской семье. К моменту ухода Святослава из Киева на вторую Болгарскую войну Владимиру было самое меньшее лет четырнадцать. По всем древнерусским понятиям, это уже совершеннолетие.
Новгород
Итак, нам неизвестно, насколько возрос Владимир к моменту новгородского посольства в Киев. Как бы то ни было, двигателем дальнейших событий летопись рисует не его самого, а его дядю и кормильца Добрыню Малковича. Добрыня определенно был старше своего племянника. Другой вопрос – насколько. Но это уже точно вопрос без ответа. Если о хронологии жизни русских князей тех лет мы имеем представления гадательные, то о хронологии жизни их приближенных – почти никаких.
Добрыню тяготило двойственное положение воспитанника. Тем паче, что двойственным оказалось и его собственное. С одной стороны, «уй» и воспитатель княжеского сына, с другой – княжеский холоп. Перед ним приоткрывалась дразнящая дверь в верхи общества, но лишь приоткрывалась. Летописи рисуют Добрыню скупыми, но четкими красками. Перед нами предстает человек честолюбивый и гордый, даже властолюбивый, стыдящийся низкой доли. И в то же время – заслуженно честолюбивый, тонкий и прозорливый, достойный советник в делах именно властных. Один из летописцев назвал Добрыню «мужем храбрым и распорядительным». Недаром народный эпос, былины «Владимирова цикла», Добрыню запомнил и воспел как Добрыню Никитича, храброго в бою, честного, мудрого и «вежественного» при дворе. В былинах, однако, Добрыня – знатный боярин родом, в отличие от крестьянского сына Ильи Муромца и поповича Алеши. В памяти народной закрепилось положение, достигнутое Добрыней позднее, а не то, с которого он поднялся.
Реальному Добрыне в 969 году было далеко до боярства. Со всеми его талантами и достоинствами, самое большее, на что он мог рассчитывать – это место при скудном дворе «робичича», если братья ему оставят хоть какой-то двор после смерти Ольги и Святослава. Вокруг Рюриковичей плотной стеной стояли еще их родственники и свойственники, родовитые скандинавы вроде Свенельда и Асмунда. В старшую дружину путь холопскому сыну был перекрыт. Впрочем, близилось время, когда бесшабашная доблесть Святослава изрядно проредит эту стену, да и аппетиты викингских потомков станут слишком велики для правителей строящегося государства. Время это настанет уже скоро, очень скоро. Но в том году, когда Святослав только отправлялся в свой последний поход, изменений не предвиделось. Не мог их предвидеть, при всей своей прозорливости, и Добрыня – разве что попытаться претворить в жизнь собственными руками.
Посольство из Новгорода, встретившее холодный прием у Святослава и законных наследников, представилось Добрыне единственным шансом изменить свою и Владимира сомнительную участь. Когда Ярополк и Олег свысока отказались от новгородского стола, к раздраженным новгородцам сам явился Добрыня. «Просите Владимира», – посоветовал он им.
Новгородцы вновь явились к Святославу и неожиданно, должно быть, для него попросили: «Дай нам Владимира». Святослав, выведенный из нежеланного затруднения, с легкостью согласился. Его ответ вновь звучал пренебрежительно, выказывая отношение и к Новгороду, и к собственному сыну от Малуши: «Это вам ведать». Так записан он в древнейшей по происхождению из летописных версий, но позднейшие ее не сильно смягчают: «Ваш он». Со всех трех княжичей, по преданию, Святослав взял клятву хранить установленные границы уделов и не искать большего. С тем он распрощался и с новгородцами, и с Киевом. Навсегда. Осенью 969 года князь уже сражался сначала с восставшими болгарами, а затем и с византийцами на Балканах.
Новгородцы же, забрав Владимира и Добрыню, в самые дни княжеского выступления отправились на север. Надо было успеть до зимней распутицы. Так что Владимир, скорее всего, въехал в Новгород еще в том же 969 году. Так он внезапно для себя обрел собственное княжество, собственный «стол».
Княжество это было огромным. Владения Новгорода еще во времена правления там Святослава охватывали земли ильменских словен, веси, мери, «чуди»-эстов – весь Север Руси. Они простирались от Финского залива до Белого озера и Волго-Окского междуречья, включая несколько независимых еще славяно-финских племенных «княжений». К Новгороду тяготели и земли псковских кривичей, родина Ольги. Русь Новгородская по размерам была сопоставима с Русью Киевской – как мы помним, в Новгороде до реформ Ольги был собственный центр полюдья, и такое противопоставление вполне правомочно. В своей устремленности к югу и в презрении к прежнему месту княжения Святослав запамятовал обо всем этом.
Забыл он и об исторической традиции, подкреплявшей амбиции Новгорода. Оттуда, из этих мест, вышел княжеский род Рюриковичей. Там правили Олег, Игорь и сам Святослав, прежде чем обосноваться в Киеве. А когда-то здесь рождалась Русь и правил легендарный Бравлин. Можно не сомневаться, что Новгород, в отличие от своего прежнего правителя, обо всем этом не забыл. Богатеющий град, привлекавший толпы скандинавских наемников, имел достаточно мощи, чтобы продолжить традицию. Получив на стол от киевлян «робичича» вместо наследника киевского князя, Новгород от этого не стал слабее. А вот сам «робичич» обретал исключительную силу, даже если прибыл без собственной дружины (на что весьма похоже).
Но что представлял тогда из себя Новгород? Словосочетание «Новгород Великий» у современного читателя неизбежно вызывает в памяти добавление – «Господин Великий Новгород». В памяти сразу предстает Новгород средневековый, даже скорее былинный, – с теснящимися у пристани купеческими кораблями, многолюдным торгом, богатыми боярскими дворами, крестами православных соборов и, разумеется, с вечевым колоколом. Говоря сухим научным языком – «крупнейший экономический и культурный центр Руси», «столица Новгородской республики».
Но в описываемое время «республики» не было еще и в помине (оставляя в стороне вопрос о том, когда именно стал и стал ли Новгород вообще «республикой»). Новгород только появился менее чем за полвека до описываемых событий, и в «крупнейший центр» ему только предстояло обратиться. Важнейшим градом и единственным подлинным городом Севера в ту пору являлся, как уже говорилось, Полоцк – достойный соперник Киева. Новгороду за эту роль предстояло побороться. И если успехи пришедших с Новгородчины Рюриковичей объяснялись выгодным положением тех земель, то весь политический вес Новгорода, вся его власть над Севером были порождены как раз Рюриковичами. Изборск или тот же Полоцк имели не меньше шансов – но не они стали родиной правящей всей Русью династии. Хотя на стороне Новгорода было все-таки еще одно преимущество – тесные связи с восточными финскими окраинами, куда из перенаселенного Поильменья устремлялись потоки переселенцев – и славян, и варягов, и местных финнов же.
Итак, Новгород возник совсем недавно. Уже позже летописцы назовут «Новгородом» и место княжения Рюрика, и даже припишут честь основания града ему. Но на самом деле княжеской резиденцией в IX веке было, а при Владимире еще и оставалось, небольшое укрепление южнее Новгорода по Волхову, над самым озером Ильмень. Ученые несколько условно назвали его «Рюриковым Городищем». Было ли Городище тем Холмградом, который принес Новгороду его скандинавское имя «Хольмгард»? Или оно само по отношению к более древнему Холмграду именовалось «Новгород»? Высказывались обе версии. Действительно ли здесь «сидел» Рюрик, возникло Городище при нем или после него – тоже неизвестно, как неизвестно наверняка и само время правления Рюрика. В Х веке Городище было богатым дружинным градом, в котором на заказ работали десятки ремесленников. Среди знатных насельников его водились и варяги, и славяне. При Ольге град особенно разросся, превратившись в главный «погост» новгородской округи. Здесь и поселился Владимир, приняв начальство над здешней дружиной и двором, хотя титул его и звучал уже «князь новгородский».
Сам Новгород, как уже сказано, родился из трех поселений. Позднее они стали тремя древнейшими «концами», городскими районами Новгорода Великого. Самым первым начало обретать городской облик поселение кривичей, и недаром в средневековом Новгороде оно звалось «Людин конец» – то есть попросту конец людей, полноправных общинников. Некоторые поздние предания возводят в Изборск-Словенск или в Псков, в кривичские земли, род первого новгородского правителя Гостомысла, предшественника Рюриковичей. Уже в начале 930-х годов в Людином конце появляются правильные улицы с деревянной мостовой между огороженных дворов знати. Потом к Людиному добавилось еще два конца – словенский, Славенский через Волхов, и «чудской» по населению Неревский на том же берегу. Чтобы связывать Людин и Неревский концы со Славенским, через Волхов построили большой деревянный мост. Прямо за ним, на словенской Торговой стороне, и был знаменитый новгородский Торг – сердцевина уже самого раннего Новгорода.
Улицы на Торговой стороне строили уже при Ольге. Лишь немногим раньше – надо думать, в связи с приглашением в князья Святослава, – на возвышенности с «Людиной» стороны моста воздвигли укрепленный град, Детинец. В ту пору он строился еще из дерева и был очень невелик. Если Городище являлось княжеской резиденцией и средоточием русской дружины, до Детинец воздвигался как место собраний и в случае нужды укрытия племенной знати, жрецов и «старцев», из которых далеко не все торопились стать княжескими боярами. Оказавшись неспособны сами управлять разноплеменным поселением и отстаивать его от алчных заморских находников, знатные новгородцы тем не менее показывали прибывшему князю свою силу и независимость. Удивительно ли, что Святослав сохранил о Новгороде не самую добрую память?
Первые правители Новгорода титуловались «посадники». Для нас это слово опять-таки прочно связано со временами Новгородской «республики», когда так именовался глава боярского «правительства» Новгорода, нередко грозный соперник князя. На заре Руси было иначе. Посадника «сажали» в отсутствие князя – либо киевский князь, либо сами новгородцы. Иногда выбранного или назначенного князя самого называли «посадником». Не очень понятно при этом, связан ли титул в самом деле со словом «посад», обозначавшим торгово-ремесленную часть русского города. Во всяком случае, посадники правили отнюдь не только посадом. Разве что весь Новгород считался «посадом» по отношению к Городищу – а это вполне вероятно.
Первым посадником предание именует некоего Гостомысла. Последующие летописцы расцветили краткие упоминания о нем, создали легенду о том, будто именно он передал власть Рюрику. Но гораздо логичнее заключить, что Гостомысл, как первый правитель Новгорода, жил в 30-х годах Х века, а если кому и передал власть, то Святославу Игоревичу. После Святослава Ольга, немало позаботившаяся о разрастании и обогащении Новгорода, назначала туда посадников. И вот теперь Новгород вновь обрел князя из Рюриковичей.
Расширявшийся град становился известен за пределами Руси. Укрепляя свою власть среди своенравных местных аристократов и дружинной вольницы Городища, Владимир и Добрыня должны были заботиться и о поддержании нарождающегося престижа. Через Новгород проходил знаменитый торговый путь «из Варяг в Греки». Во времена правления Святослава отсюда по завершении княжеского полюдья отправляли особый купеческий караван в Киев и дальше в Византию. Кроме того, Новгород всегда вел оживленную торговлю и с Востоком, по Волге, – путь, ставший намного более выгодным и доступным благодаря крушению Хазарского каганата. Все это привлекало в Новгород торговцев с разных берегов Балтики, хотя путь к известным днепровским волокам в Волоковском лесу вверх по Западной Двине для кого-то и мог казаться короче.
Изначально, в первых десятилетиях IX века, ильменцы особенно тесно знались с жителями торговых поселений юго-западной Балтики – полабскими и поморскими славянами. Родней довольно близкой, учитывая, что предки словен пришли откуда-то из тех мест всего лишь в конце VII столетия. В Новгород и позднее прибывало немало переселенцев с Поморья и с Лабы, а родословные знати оказались переплетены. Потому и Гостомысл носил имя, которое до него встречалось лишь в княжеском роду полабских ободритов.
Времена, однако, менялись. Полабские и поморские племенные княжества, упорно сохранявшие верность язычеству, оказались в почти полной внешней изоляции затиснуты между грозными противниками и сдавали одну позицию за другой. Немецкие императоры, польские князья и вожаки скандинавских викингов шаг за шагом, год за годом стягивали кольцо вокруг балтийских славян. Превратившись в заложников борьбы сильных соседей, они позднее окончательно лишатся независимости – хотя в борьбе за нее явят чудеса героизма. Тогда в Новгород, за новым домом и православным крещением, опять хлынет поток переселенцев, теперь уже беженцев с Южной Балтики – и даст Руси немало славных знатных фамилий (достаточно вспомнить Пушкиных). Но это потом, еще два века спустя.
Пока же прибалтийские «венды» слабели и беднели, и все реже могли посещать земли восточных сородичей. Более важным и выгодным партнером становились крепнущие скандинавские королевства. Норманны тоже не были чужими ильменцам. Уже в середине VIII века они обосновались в Ладоге, а в IX – на Городище. Датская и шведская королевские династии выводили себя из «Хольмгарда». Русские Рюриковичи, в свою очередь, вели род из варяжского «заморья». Для Новгорода же Рюрик был в описываемую эпоху лишь одним из многих знатных «находников», побывавших на ильменской земле и какое-то время правивших там. Память о других хранят ныне лишь саги, но тогда в Поильменье их еще помнили. Среди родовитых «новгородских людей» немало было и «от рода варяжского». В новгородской округе селились и вэринги (по-славянски варяги) – скандинавские наемники, служившие русским князьям, и кюльфинги (по-славянски колбяги) – смешанные финно-норманно-славянские вольные дружины, зародившиеся в Ладоге. И те и другие вместе с новгородцами отправлялись дальше на восток, основывали торговые и дружинные поселения по Волге, Оке, на северных Волоках.
Двумя ликами была обращена Скандинавия эпохи викингов во внешний мир. И две «партии» противостояли друг другу в самой Скандинавии. С одной стороны, были викинги и короли-викинги. Свирепые завоеватели, державшие в страхе всю Европу, непревзойденные воины и мореходы. Не только чужеземцам, но и самим норманнам часто приходилось иметь дело с их жестокостью. Уже в Х веке для скандинавского бонда-домохозяина слово «викинг» звучало ругательством. Но далеко не для всех скандинавских аристократов, даже королевского рода. Для них совершать в молодости викингские походы, разорять и по возможности захватывать чужие земли было делом чести.
Но была и другая Скандинавия. Скандинавия тех самых бондов, зажиточных хуторских крестьян, добывавших себе хлеб насущный и обогащавших страну ежедневным кропотливым трудом. Блюдущих строгий патриархальный закон и «порядок». Скандинавия ловких, решительных и знающих счет деньгам купцов, плавающих в дальние чужие края не за разбоем, а за честной прибылью. Наконец, тех сравнительно еще немногих «добрых» конунгов, которые предпочитали разграблению чужого наращивание своего через мир и торговлю с соседями. Именно их трудами из прибрежных крестьянских общин разрастаются настоящие торговые города, для которых викинги уже – не источник дохода, а самый первый враг.
Конечно, подлинная картина была гораздо сложнее. И викинг нередко остепенялся с возрастом, оседал на землю или становился честным купцом. И купец в нужде, либо изгнанный из дому сородичами бонд, мог вполне обратиться в пирата. И сами прибрежные города возникали сначала все-таки как «вики» – не только торговые пристани, но и викингские базы. Но с течением времени разлом внутри скандинавского общества становится все серьезнее.
Как ни странно, но для Новгорода обе стороны скандинавского мира оказывались приемлемы. Стоя вдали от моря и даже от Ладожского озера, выход из которого надежно запирала Ладога, ильменские грады могли не бояться викингских набегов. В самом худшем случае от них страдали западные «чудские» земли, с которых многие заморские конунги пытались брать дань в свою пользу. Пиратские вожаки в итоге становились из угрозы полезным подспорьем. Именно они селились в Ладоге – безопасном, удаленном от всех врагов оплоте. Именно они нанимались на службу к новгородским князьям, обеспечивая град дополнительной и весьма умелой военной силой. Именно вчерашние викинги, которых никто не ждал по ту сторону моря, искали вместе с новгородцами новых мест поселения на востоке. Наконец, именно из числа знатных скандинавских изгоев, «морских конунгов», можно было избрать в случае необходимости по договору-«ряду» независимого от местных родовых распрей военного вождя для защиты словенских земель – в том числе и от себе подобных. Впрочем, в этом последнем нужда давно миновала. Разноплеменные ладожские дружины сами отправлялись в набеги на Балтику, обогащая грады по Волхову богатой добычей. Ближайшим же и наиболее опасным в прошлом варягам – шведам – «ради мира» платили ежегодный откуп в триста гривен. Невеликая цена за мир, хотя и десятинная добавка к собираемой с Новгородской земли «урочной» дани.
Об обоюдной же выгоде от торговли с мирными норманнами нечего и говорить. Новгород стал для них воротами (пусть не единственными) к богатствам южных земель, Византии и мусульманского Востока. Новгород обогащался сам и обогащал приезжавших купцов. Немалая часть добычи от скандинавских военных и торговых предприятий оседала именно здесь. Так что словене отнюдь не только тратились на скандинавских наемников. Для Скандинавии же почетное прозвище «Хольмгардсфари» – «Ездок в Хольмгард» постепенно становится синонимом торговой удачи и богатства. Как раз около описываемого времени известен один такой «Хольмгардсфари» – норвежец Хравн, скупавший товары в скандинавских землях до самых Фарерских островов и «постоянно» возивший их в Новгород. Среди товаров, которые привозил Хравн в Новгород, были и рабы – немалая ценность по всей языческой Европе. Известен по имени один Хравн, но был он, конечно, не одинок.
Так, трудами своих жителей и привлеченных соседей, креп и богател будущий Великий Новгород. Пусть Полоцк Рогволода пока оставался торговой столицей севера – он обгонял ненамного, и достойный соперник, что называется, дышал в спину. Все это происходило на глазах молодого Владимира. Но о его собственной причастности к рождающемуся процветанию мы можем только догадываться. Летописное повествование следует за подлинными и легендарными подвигами великого князя Святослава на Балканах, затем за судьбами братьев-наследников. О Владимире рассказ начинается только накануне решающей для него схватки за киевский престол. Но можно быть уверенным, что князь, направляемый изощренным умом своего воспитателя, немало трудов вложил в строящийся Новгород. Не этому ли обязан Добрыня прочной и доброй памятью о себе в северных былинах? Может быть, и не только этому – но этому не в последнюю очередь.
Здесь коренится и одно из объяснений того, почему Владимир вырос довольно непохожим на своих предков. Наставляемый Ольгой, он с самого начала получил воспитание не чисто воинское. Добрыня, конечно, надеялся на лучшее – но готовить «робичича» к стезе предводителя ратей казалось делом не слишком благодарным, а то и подозрительным. Владимир, подобно отцу, любил и ценил дружину, умел и сражаться сам, и водить войско. Однако полководцем и воином был, насколько можно судить, не столь яростно-великим, как Святослав или легендарный Олег. В отличие же от своего деда Игоря Владимир и не пытался выдать себя за такового. От славы он, разумеется, не бежал. Но мирное, строительное новгородское княжение научило молодого князя ценить мир. «Подражая житию» Ольги, которую признавал «мудрейшей из людей», Владимир рано осознал, что выстраивание государства – не меньшая, а то и большая заслуга, чем ратные победы. И именно этому достойному делу посвятил князь всю дальнейшую жизнь, как бы не менялись при том его убеждения и нрав. Уже в ту пору князь прославился справедливостью, щедростью и добротой к подданным, заботясь в первую очередь об их благосостоянии. Спустя три четверти века митрополит Иларион скажет о главном достоинстве Владимира еще в языческие годы: «землю свою пас по правде». Помимо же того, мужающий князь блистал «крепостью и силой», «мужеством и разумом».
То ли в Новгороде, то ли еще до того (если мы сочтем, что Владимир прибыл на Север уже взрослым) молодой князь в первый раз женился. Жену его летопись именует «чехиней» и более того не сообщает. Скандинавские саги называют новгородскую жену Владимира Аллогией. Кое-кто полагает, что это искажение имени Ольги. Но Ольгу еще в X веке (а византийские хронисты и позднее) называли скандинавской формой имени «Эльга», Хельга – так неужели норманнам оно бы запомнилось как-то иначе? Скорее уж это искажение какого-то западноевропейского имени с германским корнем, теперь совершенно нераспознаваемым. В этом случае надо полагать, что жена Владимира была чешкой-христианкой – не неожиданный выбор для воспитанника христианки Ольги.
Другой вопрос – кем была Аллогия (будем все-таки называть ее так) по происхождению? На этот счет строилось немало догадок. Княжну выводили и из полуязыческого княжеского рода белых хорватов, и просто из западных славян в широком смысле. Наконец, допускали сложную политическую интригу, связанную с борьбой Германии, Польши и Чехии, приведшую к браку новгородского князя с чешской княжной из правящего рода Пржемысловичей и затем – к усобице на Руси. Возможно, конечно, все. Выдача христианок, католических принцесс, замуж за языческих правителей давно стала частью политики римского престола. Так была некогда крещена Англия. Так совсем недавно была крещена Польша – как раз через чешскую княжну Добраву, жену гнезненского князя Мешка. Но был ли прок выдавать княжну за «робичича» без перспектив на великокняжеский престол? И почему о том ни слова ни в одном западном источнике?
Думается, что дело обстояло гораздо проще. Аллогия была женою под стать самому Владимиру – рабыней, купленной или полонянкой, хотя и знатного рода. Брак с княжеским сыном для нее означал возвращение свободы. Новгородское вокняжение Владимира – возвращение знатности. Долгое время Аллогия оставалась единственной женой Владимира. От нее родился его первенец. Сын получил славянское имя Вышеслав. Оно не встречалось в роду Рюриковичей и вообще редко на Руси, но отмечено на западе славянского мира – еще одно свидетельство чешского происхождения матери. Так Владимир опередил киевского брата в продолжении рода. Ярополк сыном-наследником долго не обзаводился – может, потому, что в самом деле был моложе, даже гораздо моложе «робичича»? Как бы то ни было, продолжателем династии выглядел именно новгородский князь – знак для киевского зловещий, в чем тот не мог не отдавать себе отчета.
Можно ли было избежать столкновения? Кто знает. Но едва ли честолюбие Добрыни ограничивалось одним Новгородом, особенно теперь, после рождения внучатого племянника. Если даже и так, то новгородская знать, – и родовые «старцы», и дружина, – были достаточно честолюбивы сами. Киев относился к Новгороду с пренебрежением, Полоцк опережал его в росте, перехватывая торговые доходы, – а значит, мирному правлению рано или поздно должен был наступить конец. Буря приближалась независимо от воли Владимира. Но гром грянул не с севера.
Наследство Святослава
Осенью 971 года великий князь русский Святослав возвращался с Болгарской войны в Киев. Позади были два года битв и героических свершений. Свершений, стоивших огромных потерь – и не приведших ни к чему. Болгария оставалась за спиной, и оставалась она победителям, византийцам. О стольном городе Преславе, о власти над Балканами, Венгрией и Чехией можно было забыть.
Что же, в Болгарии Святослав встретил наконец достойного соперника-ратоборца. Византийский император Иоанн Цимисхий, захвативший власть над своей страной как раз в это время, тоже был государем-воителем. В бою он оказывался подчас еще отважнее Святослава – даже вызывал русского князя на поединок и получил презрительный отказ. Но что гораздо ценнее и что точно не заслуживало пренебрежения – Иоанн оказался более искусным полководцем. И более искусным политиком.
Сначала русские побеждали. Разгромив и покорив отложившихся было болгар, Святослав со своими союзниками – венграми и печенегами – двинулся к самому Константинополю. Однако уже в 970 году военная удача отвернулась. Под Аркадиополем Цимисхий остановил натиск «варваров» и вынудил их отступать на север. По пятам шла византийская армия – свежие силы, пришедшие со своим бывшим командующим, а теперь императором из Малой Азии. Цимисхию без особого труда удалось привлечь на свою сторону единоверцев-болгар, оказавшихся во власти язычников. Его войска взяли Преслав. Здесь погиб командовавший гарнизоном Сфенгал – второй по знатности в русском войске после Святослава, его воевода. В 971 году Святослав оказался заперт в придунайской крепости Доростол. После долгих изнурительных боев, стоивших жизни многим русским дружинникам, в том числе новому воеводе Икмору, Святослав решился на переговоры. Лично встретившись с Цимисхием, он согласовал условия относительно почетного мира. С русской стороны его свидетельствовали князь и старый Свенельд, вновь принявший на время руководство дружиной. Договор оставлял Болгарию за Византией, а прежние торговые привилегии – за Русью. Святославу осталась даже военная добыча. Русь ничего не теряла – но признавала поражение.
Русская летопись, основанная на дружинном эпосе, предпочитает поражений не помнить. Уход Святослава из Болгарии предстает едва ли не добровольным. Он будто бы взял с греков «дань» и после этого сам решил вернуться на Русь. Однако причины его указаны верно – у князя оставалось «мало дружины». Верно, скорее всего, и другое. Исполненный мрачного смирения перед византийцами, Святослав вовсе не собирался сдаваться. Рассуждал он так: «Пойду на Русь и приведу дружину».
Тем не менее возобновить и без того дорого стоившую Руси войну за Болгарию Святославу было не суждено. Уже в Доростоле стало известно, что недовольные миром с греками печенеги расторгли союз. Святослав собирался выйти на ладьях в Черное море, а затем подниматься по Днепру, чтобы попасть в Киев быстрее. Свенельд, однако, сказал: «Пойдем, княже, вдоль на конях – ведь в порогах стоят печенеги». Днепровские пороги, где ладьи приходилось перетаскивать волоком, были излюбленным местом атаки кочевников.
При встрече с императором Святослав попросил Цимисхия отправить к печенегам посольство – с тем чтобы они, сами также заключив мир с Византией, пропустили заодно и возвращающихся русов. Император обещал и обещание выполнил. Послом к печенегам отправился епископ Феофил Евхаитский. Он предложил печенежскому хану Куре стать «другом и союзником» Империи, отказаться от разорительных набегов в Болгарию и пропустить Святослава. Первые два предложения Куря принял. От последнего решительно отказался.
Многие ученые в этой связи высказывали догадку – а в популярной литературе она превратилась в странную уверенность – что византийцы, напротив, наняли печенегов против Святослава. Это действительно странно. Источники не только не утверждают ничего подобного, но прямо этому противоречат. Цимисхий мог подозревать Святослава в намерении нарушить договор. Но у печенегов, сложивших немало жизней и лишившихся возможной добычи, резонов нападать на заключившего мир Святослава было гораздо больше. Открытое намерение продолжить войну скорее сразу превратило бы их опять в друзей киевского князя. Самое большее, можно допустить, что Феофил не особенно настаивал на последнем пункте, касавшемся русских.
Но и настаивай он, это ничего бы не дало. Аппетиты Кури уже разожгло другое посольство. Сообщает о нем русская летопись – источник не самый благожелательный к греческой «льстивости», но сейчас полностью с греков ответственность снимающий. К печенегам прибыло посольство из Преслава, от двора несостоявшегося, униженного и Святославом, и Цимисхием болгарского царя Бориса. «Идет через вас Святослав на Русь, – сообщили болгары, – взяв имения много у греков и полон бесчисленный, с малой дружиной».
Другое летописное известие (правда, дошедшее только в поздней передаче польского хрониста) добавляет к возможным виновникам еще и неких «киевлян». Известию этому веры мало. Но полностью сбрасывать его со счетов не следует. Войны князя-завоевателя истощили Русь. Многие давно уже считали, что Святослав «свою землю забросил». В киевской дружине вполне могли найтись охотники даже ценой предательства положить этому конец.
Печенеги Кури немедленно «заступили» пороги. На пороге зимы русские ладьи вошли в днепровское устье – и Святослав узнал о преграде. Он остановился на зимовку неподалеку от устья, в Белобережье. Здесь дружина страшно голодала. «Был голод великий, по полугривне голова конская» – замечает летописец. Дружинники, следовательно, покупали друг у друга за греческую добычу коней для пропитания.
По весне Святослав решил идти в бой. Можно было, конечно, попытаться обойти печенежскую заставу посуху – даже с поредевшей за голодные месяцы конницей. Но это было не в духе киевского князя. Как многие северные воители – будь то скандинавы или славяне – он ежедневно готовился умереть с мечом в руке. И не бежал от смерти. Речь, сказанная Святославом перед одной из битв с греками, достойно прозвучала бы и в последний день его жизни: «Уже нам некуда деться – волей или неволей встанем супротив. Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми тут. Мертвые ведь срама не имут, а если побежим, то срам обретем. Так что не побежим, но встанем крепко, я же перед вами пойду. Если моя глава ляжет, то промыслите о себе». Тогда воины ответили: «Где, княже, глава твоя, тут и наши головы сложим». Сражаться в отчаянии и вопреки ему, смотреть в глаза погибели и ее приветствовать – таков был закон Древнего Севера, знающего, что сам мир богов в вечной борьбе неудержимо катится в ночь и погибель.
Изнуренное, умалившееся и все еще нагруженное добычей войско поднялось к порогам – и Куря атаковал. Святослав сражался храбро и упорно, но был обречен. Древние летописи кратки в описании последнего боя. Подробности появляются в письменных памятниках позже – как стесненное войско обратилось в бегство, как Святослав пытался остановить их и сражался едва ли не один. Наконец он то ли погиб на поле боя, то ли был захвачен живым в плен и тут же убит. Куря по степному обычаю приказал отрубить князю голову и сделать из черепа чашу. Долго еще он пил из нее.
Вырвавшиеся из печенежской засады остатки дружины собрались под начальством Свенельда. Он и привел их в Киев – тех немногих, кто уцелел из большой рати, уведенной Святославом на Балканы. Летопись – редкий случай – ничего не говорит о скорби по убитом князе в Киеве. Киеву и так было кого оплакивать. Благодаря Святославу Русь стяжала немалую славу. Но понесла и огромные потери. Лихой воитель и одаренный полководец, Святослав завоевателем оказался гораздо менее удачливым. Из своих приобретений он мало что удержал. Так что первыми ощущениями большинства современников после его гибели, должно быть, явились ожесточение и разочарование. Но в дружинных сказаниях Святослав остался, не мог не остаться, подлинным героем – и этот-то образ перешел в летописи.
Потери, вместе с тем, больнее всего ударили как раз по дружине. Святослав увел с собой по ту сторону Дуная и жизни цвет русского войска, наиболее близких княжескому дому, знатнейших мужей. Пусть имена Сфенгала и Икмора не отмечены в русских летописях – достаточно того, что они оказались известны даже врагу. Свенельд уцелел одним из немногих. Но он в ту пору был уже стариком не менее чем 70 лет – ведь служил Игорю воеводой уже в 930-х годах. Аристократии первых Рюриковичей, родовитым выходцам с Севера, пришел конец.
Кто же мог заменить потери? Пришлая династия по-прежнему не могла полагаться на местную знать. Дети родовых «господ» и «старцев», конечно, служили в княжеских дружинах, вливаясь в число бояр. Но отчуждение не могло исчезнуть сразу даже в Киеве. Так что главной опорой молодых князей очутилась младшая дружина, доступ в которую оставался открыт людям любого происхождения – была бы княжья милость. Собственно, только младшую дружину Святослав им и оставил. В массе своей младшие дружинники были уже славянами, хотя и наемные варяги относились к ней же. Незнатный славянин оказывался для князя гораздо лучшим и более верным слугой, чем родовитый «старец» или княжеский свойственник из «заморья».
Дружину Ярополка возглавлял Блуд. Имя это смущало умы первых русских историков нового времени – но ничего странного в нем нет, оно в славянских языках известно. Имя просто указывало на то, что новый киевский воевода являлся незаконнорожденным. В прежние времена оказаться на самом верху общественной лестницы для него было бы вряд ли возможно – как и для холопа Добрыни. Балканский поход Святослава такую дорогу открыл.
Но как раз когда Блуд после гибели Сфенгала и Икмора с полным правом приступил к обязанностям киевского воеводы, в Киев вернулся Свенельд. Свенельд, давно сложивший с себя воеводский сан, не оттеснил Блуда формально. Но фактически сразу стал главным советником Ярополка. Молодой князь, хотя и приближал к себе незнатных дружинников, не мог игнорировать советы старого боярина – даже, и особенно, если тот остался одним из немногих осколков прежней русской знати. Для Блуда же, должно быть, временная потеря только что обретенного статуса – первого на Руси после князя – оказалась весьма болезненна.
Гибель Святослава автоматически делала киевского князя Ярополка великим князем русским. Насколько братья признавали его старшинство и главенство, не очень ясно. Указаний Святослава на этот счет не существовало – он рассматривал Киев лишь как один из уделов своей будущей империи. Ярополк и не склонен был утверждать свои права силой. Он также воспитывался Ольгой и высоко ценил мир. О каких-либо внешних войнах в его правление ничего неизвестно. Не только потому, что силы Руси были истощены. Ярополк стремился наладить мирные отношения с христианскими государствами. Ничего достоверного о его интересе к христианству не известно, но следует помнить, что женою его (вопрос – насколько любимой) была угнанная Святославом из монастыря «грекиня».
В 973 году посольство от Ярополка побывало в Германии. 23 марта этого года русские послы присутствовали в Кведлинбурге на имперском сейме – пасхальной встрече императора с высшей знатью. О чем велись переговоры с императором Оттоном, неизвестно. Видимо, Ярополк просто пытался после разрыва и кровавой войны с Византией возобновить связи с Западом. Есть мнение, что была достигнута договоренность о династическом браке русского князя в расчете на его крещение. В доказательство приводится одно позднее и недатированное известие о женитьбе некоего «короля ругов» на родственнице императора. Но что мы достоверно знаем о Ярополке – так это то, что был он не только язычник, но и многоженец. Отдавать за него высокородную немку вряд ли стали бы, даже в столь радужных видах. В упомянутом же известии (много позже мы к нему вернемся) «королем» чаще считают Владимира.
Впрочем, какие-то немецкие или итальянские миссионеры на Руси в ту пору все-таки побывали. Они донесли до Запада чрезвычайно искаженные в позднейшей передаче слухи о русских усобицах. По этим смутным и неверным данным, Ярополк вроде бы действительно благоволил к христианам и собирался даже принять крещение. Братья же его, ревностные язычники, якобы противились этому и осуждали князя. Так ли было – неведомо. Христианином Ярополк определенно не стал. Владимир действительно ревностно относился к «отчему преданию», а Олег нам с этой стороны решительно никак не известен.
Дальнейшие события датировать непросто. Уже упоминалось о том, что дата вокняжения Владимира в Киеве расходится. Разница составляет два года – речь идет либо о 978-м, либо о 980 годе. Последний вариант вошел в летописи, а через них – и в большинство общих трудов по русской истории. Но первую дату приводит Иаков Мних, и его показания гораздо точнее. Они совпадают и со сведениями о рождении сыновей Владимира. Однако Иаков же первым совершил ошибку, породившую путаницу. Написав, будто Владимир сел в Киев через восемь лет после смерти Святослава, он спутал годы правления Ярополка с годами после гибели его отца. Но Ярополк правил в Киеве не с весны 972-го, а с осени 969 года. Позднейшие летописцы, зная правильную дату смерти Святослава, высчитали вокняжение Владимира по-своему. Но как датировались в древнейшем сказании события времен правления самого Ярополка? Если по годам княжения, то, значит, и они в летописи сместились на два года вперед. Такая версия выглядит вполне логично, так что из нее и будем исходить.
Распря между Святославичами началась в сезон полюдья, в последние месяцы 973 года. После раздела державы Ольги ее реформы остались в силе в землях Ярополка и Владимира. Здесь на места по-прежнему выезжали княжеские приближенные, сборщики дани, а к ним на укрепленные погосты свозили «повоз». Но в небольшом древлянском княжестве оказалось возможно возродить старое княжеское полюдье – пышный ритуал, сопровождавшийся объездом всех владений и загонной охотой, «ловами».
Такой «лов» и совершал в положенный срок Олег Святославич в своих Деревах – древлянском лесном массиве, вплотную подступавшем с запада к киевским Полям. Княжеский «лов» являлся священным действом, закреплявшим сверхъестественную власть владыки, потомка небесных богов, над землей и ее тварями. Во время его уничтожалась всякая попадавшаяся живность, включая домашний скот даже самых знатных людей. Эта священная суть охоты в сезон полюдья легко объясняет все произошедшее далее.
Гон древлянского князя находился где-то близко от рубежа Полей, когда Олег, к своему изумлению и раздражению, узрел мчащую через лес за зверем чужую охоту. Перебивать княжескую добычу само по себе являлось кощунством. В этой же пограничной полосе речь шла о посягательстве на рубежи. «Кто это такой?» – спросил князь. «Свенельдич», – ответили ему, разведав, приближенные.
То был Лют Свенельдич, знатный киевский боярин и сын Игорева воеводы. Выехав из Киева, он устроил свой «лов» и теперь дерзко вторгся в самые Дерева. Может быть, Лют увлекся охотой и не заметил рубежа. А может, его действия были сознательным вызовом, проверкой молодого древлянского князя на прочность. Лют едва ли забыл, как Игорь некогда передал его отцу право сбора древлянской дани. При Ольге Свенельд и Свенельдичи голоса поднимать не смели. Но теперь, быть может, настала пора вернуть кормление? Если дело действительно происходило в пору сбора дани, вызов усугублялся.
Все это, конечно, знал и понимал также сам Олег. Он воспринял вторжение Люта именно как посягательство на свои владения. Помчавшись со своей дружиной вслед за охотниками, он внезапно напал на них. Завязалась схватка, и Лют погиб.
Вести об этом тут же достигли Киева. Ярополк был разгневан гибелью своего боярина. Были или нет у него разногласия с Олегом по поводу западных проповедников – теперь между братьями действительно возникла «ненависть». Ее всячески разжигал и усугублял Свенельд. Желая отомстить за сына, он внушал Ярополку: «Пойди на брата своего, и примешь власть его». Свенельд открыто призывал князя вновь покорить древлян – быть может, рассчитывая вернуть все-таки себе и своему потомству древлянскую дань. Еще один сын, Мстиша, у него оставался.
Не сразу поддался Ярополк. Память о данной отцу клятве и верность кровным узам какое-то время пересиливали гнев. Но наконец в 975 году убеждения Свенельда подействовали. В роду Рюриковичей впервые разгорелась распря, впервые брат пошел войной на брата. Винить здесь одного Свенельда едва ли следует. Родовые связи слабели перед лицом племенного и нарождающегося государственного интереса. Древляне оставались врагами полян и Руси, пока оставались независимы. Олег эту независимость проявил. И с точки зрения Киева должен был за это поплатиться. Так что Свенельд был, скорее всего, не одинок в своих уговорах. И именно это почти два года спустя после убийства Люта решило дело.
Войска Ярополка вступили в Деревскую землю, направляясь к Вручему. Олег собрал свое войско и выступил против брата. Где-то недалеко от княжеского града древлян произошло решающее сражение. Ярополк одержал победу, как и бывало обычно в открытых сражениях киевской рати с древлянами. Олег и его войско побежали к граду. Вручий был защищен деревянной стеной с единственными воротами и глубоким рвом, через который к воротам вел мост. Что произошло дальше, неясно – и в этом мало удивительного. Летопись рассказывает, что на узком для бегущего древлянского ополчения мосту началась чудовищная давка. Люди спихивали друг друга в ров, пытаясь дорваться до спасительных ворот. Многие падали вместе с конями. В суматохе бегства кто-то столкнул в ров и самого князя. Олег упал в ров, и его вскоре завалили другие упавшие – кони и люди. Согласно же Иакову Мниху, мост проломился под толпой бегущих, и Олег рухнул вниз тогда. Груда искалеченных тел раздавила живого еще князя.
По следам бегущих древлян в город вступила рать Ярополка. Не встречая более сопротивления, Ярополк «приял власть» брата. После этого он послал разыскивать его. Судя по дальнейшему, князь отнюдь не собирался расправляться с побежденным. Братоубийств среди Рюриковичей пока не случалось. Но розыски древлянского князя результатов не дали. Наконец один древлянин сказал: «Видел я вчера, как спихнули его с моста».
Ярополк послал своих людей расчистить ров. С рассвета до полудня киевляне извлекали из рва трупы вчерашних врагов. Наконец в самой глубине под завалами тел обнаружили Олега. Найдя его, тело вынесли и положили на ковер. Ярополк пришел к обнаруженному телу и, узнав брата, разрыдался. «Вот, – воскликнул он, обращаясь к Свенельду, – этого-то ты и хотел!»
Олега похоронили здесь же, под стенами Вручего. Курган его показывали еще спустя десятилетия. Хотя само тело князь Ярослав Мудрый позднее выкопал и перенес в Киев. Наследников у Олега не осталось. Правда, поздние чешские историки уверяют, будто своего единственного сына, тоже Олега, князь отправил в Чехию, и ссылаются при этом на «древнейшие русские анналы». К Олегу Олеговичу возводила свой род одна из моравских дворянских фамилий XVI–XVII веков. Но именно это подрывает доверие к легенде. В «древнейших русских анналах», скорее всего, содержалось только известие о погибшем без детей и лишенном отцовского наследства древнем Рюриковиче – подходящий кандидат для возводившего себя к каким-то старинным русским изгнанникам моравского рода.
Итак, Олег погиб, не оставив наследников. И Ярополк с полным законным основанием, пусть и оплакав брата, принял власть над Деревской землей. Что касается Свенельда, то он ненадолго пережил свое торжество. К 978 году старого воеводы уже в живых не было, что неудивительно с учетом его возраста. Ярополк вопреки собственным устремлениям оказался правителем большей части отцовского наследия, и правителем самостоятельным. Препятствием оставался только Владимиров Новгород, и Владимир быстро это понял.
Олав
Пока на юге разворачивалась невиданная прежде среди Рюриковичей распря, в Новгороде длилось безмятежное и мирное правление Владимира. Он следил за происходящим между братьями, но до поры это его не тревожило. Из всех событий этого мирного периода упоминание на страницах истории заслужило только появление рядом с Владимиром норвежского княжича Олава Трюггвасона.
Хронология саг еще менее надежна, чем хронология русских летописей. Дата рождения Олава сильно колеблется – хотя в диапазоне «всего лишь» десяти лет. Не так уж много, сравнительно с Владимиром или Святославом. Но излишне много для историка, пытающегося построить последовательный рассказ о событиях тех лет. Ведь об Олаве на Руси – а именно это нас интересует – твердо сообщается лишь то, что попал он туда в девятилетнем возрасте. Будем исходить из того, что наиболее раннее повествование об Олаве относит его рождение к 963 году. Следовательно, появление его в Новгороде следует датировать 972-м, годом смерти Святослава.
Среди служивших Владимиру варягов был знатный норвежец Сигурд Эйриксон. Он пользовался доверием князя, входил в число его приближенных и, помимо прочего, посылался за данью к подвластным Новгороду племенам. Сага, разумеется, несколько преувеличивает влияние Сигурда, утверждая, что он не только получил от Владимира какой-то «лен» (может быть, кормление?), но и вел все дела князя, собирая дань со «всех областей». Кажется, она приписывает ему прерогативы Добрыни, о котором вообще ничего не знает.
Сестра Сигурда, Астрид, вышла замуж за Трюггви, конунга из династии Инглингов, правившего в богатой южнонорвежской области Вик. Трюггви приходилось с ожесточением отстаивать свои владения и их независимость против многочисленных посягательств как сородичей, так и других соперников. Наконец, в 963-м или в 966 году он погиб в борьбе с верховным норвежским конунгом, своим двоюродным братом Харальдом Серой Шкурой. Астрид бежала на запад, на Оркнейские острова, где следы ее потерялись. Ей требовалось спасти своего малолетнего сына Олава не только от людей Харальда, но и от недавнего союзника его отца – ярла Хакона из рода Халейгов. Тот намеревался истребить правящий род Инглингов и завладеть властью над Норвегией.
В сезон полюдья в конце 972 года Сигурд отправился за данью в земли чуди или, по-норманнски, в Эстланд. Объезжая с приданной дружиной эстские поселения, он следил за тем, чтобы дань была уплачена с каждого «дыма» – домохозяйства – один из действительно известных на Руси способов ее сбора, мягкий по сравнению с практиковавшейся на собственно словенских землях данью «от мужа». В одном из домов Эйрик не застал работавшего в поле хозяина, но обнаружил играющих детей. Один девятилетний мальчик почтительно приветствовал его. Сигурд был поражен его обхождением и с симпатией сказал: «То вижу я, добрый мальчик, что ты ничуть не похож на местных жителей, внешностью или речью. Теперь скажи мне имя свое, и род, и родину».{ Здесь и далее «Сага об Олаве» в различных редакциях цитируется по изданию: Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Т. 1. М., 1993.}
Ответ был: «Олавом зовусь я, и Норег – моя родина, род мой – королевский». Сигурд опять спросил: «Каково имя твоего отца или матери?». Олав ответил: «Трюггви зовется мой отец, и Астрид – мать». Сигурд, начавший понимать, спросил еще: «Чьей дочерью была твоя мать?» Олав сказал: «Она была дочерью Эйрика из Опростадира, могущественного человека». Обрадованный Сигурд соскочил с коня и расцеловал мальчика. «Я брат твоей матери, – воскликнул он, – и определенно это радостный день, когда мы здесь встретились!»
Сигурд стал расспрашивать Олава о том, как тот оказался в Эстланде. Что помнил и мог рассказать о своих злоключениях в возрасте девяти лет реальный Олав, нам теперь не узнать. Впрочем, по старейшей из пространных саг о нем, его судьбу делил мальчик постарше, и он мог рассказать больше. Как бы то ни было, мы располагаем только расходящимися версиями саг. По самой старой, содержащейся в самых древних и кратких из саговых сводок, Астрид, узнав о том, что ярл Хакон плетет козни против ее ребенка, вверила его судьбу воспитателю Торольву Вшивобородому и тайно отправила с Оркнейев. Сама она осталась там, поскольку скрыть собственный отъезд сочла невозможным. Торольв отправился в Швецию через собственные земли ярла Хакона, северонорвежский Трандхейм, и «через величайшие опасности» прибыл наконец в безопасные шведские земли. Оттуда, однако, он вознамерился поехать на Русь, где жили его родичи. Течение отнесло корабль Торольва к берегам Эстланда. Около острова Эйсюсла (Сааремаа), известной пиратской обители, на корабль напали разбойники-эсты. В завязавшемся бою Торольв был убит, Олав же захвачен и продан в рабство.
Последующие саги, однако, расцвечивают картину несчастий мальчика новыми подробностями. Какие-то из них могут быть и достоверны, но какие-то – явно вымышлены. Так, создатель цитированной ранее пространной саги, монах Одд, отправляет вместе с Олавом на восток и его мать, вопреки ясным свидетельствам более ранних источников. Ее якобы тогда же захватили эсты и продали отдельно от сына. Сообщение это восходит к семейным преданиям одного богатого южнонорвежского рода, основатель коего будто бы выкупил Астрид и на ней женился. Тот же Одд упрощает сюжет, утверждая, будто Торольв отправлялся не к какой-то своей родне, а к Сигурду (более ранние саги даже имени Сигурда не называют).
Олава якобы дважды перепродавали. Сперва его держал при себе некий Клеркон – пират, убивший Торольва на глазах у ребенка. Наиболее поздние версии добавляют, будто Торольв пал не в бою, а был убит Клерконом позже – разбойник счел, что он слишком стар для продажи в рабство. Затем за «необычайно хорошего козла» Олава купил другой эст, с подозрительно похожим именем Клерк. Следующим и последним хозяином Олава, давшим за него «драгоценную одежду» – плащ, был Эрес. О нем сообщаются уже некоторые, хотя и сомнительные, подробности – имя жены Рекон и сына Реаса. Вместе с Олавом перепродавали сына Торольва, Торгильса, который был чуть старше. Эрес относился к Олаву очень хорошо. Он ни в чем не отказывал мальчику и растил его вместе со своими детьми, отнюдь не как невольника.
Сколько лет провел Олав в Эстланде, неясно. По наиболее частой в сагах версии, он прожил там шесть лет, то есть попал в плен в три года. Но по другой, и одной из самых ранних, три года ему было в момент смерти отца. Торольв же прожил в Швеции некоторое время, прежде чем отправиться в злосчастную поездку за Балтику.
Возвращаемся теперь к повествованию пространной саги. Услышав от Олава обо всем происшедшем, Сигурд спросил: «Хочешь ты теперь, родич, чтобы я купил тебя у твоего хозяина, и ты бы не был больше у него в неволе и услужении?» «Мне теперь стало хорошо, – ответил Олав, – по сравнению с тем, что раньше, но я очень хотел бы быть освобожденным отсюда, если бы мой брат по воспитанию был освобожден из рабства и поехал бы он со мной прочь». Сигурд обещал ничего не пожалеть для такого исхода.
Между тем Эрес вернулся домой. После положенных приветствий – а хозяин встретил княжеского посланца с глубоким почтением – Сигурд предложил продать двух мальчиков «за любую цену». «Я теперь тотчас заплачу за них», – поручился он. Эрес, однако, ответил: «Я продам старшего мальчика, как мы договоримся, а младший у меня не для продажи, потому что он умнее и даже красивее, и его я люблю много больше, и мне трудно расстаться с ним. И я не продам его, кроме как по большой цене». «Как высоко поднимется цена?» – решительно спросил Сигурд. Эрес стал отнекиваться, но под натиском норманна не устоял. Уговорились на том, что за Торгильса Сигурд дал марку золота, а за Олава – девять, и то Эрес принял их без охоты. Скандинавская марка (около 218 г) равнялась примерно четырем новгородским гривнам. Сорок (не золотых) гривен – стандартный выкуп «за голову» на Руси.
Вместе с обоими детьми Сигурд покинул Эстланд и вернулся в Новгород. Здесь он втайне воспитывал Олава у себя дома. Варяг опасался, что непрошеное воспитание иностранного королевича вызовет княжеский гнев. Так что немногие знали о происхождении Олава. Поздние саги придумывают даже особый русский закон, «что там не полагалось воспитывать сына конунга из иноземного рода или из далекого государства без ведома самого конунга», то есть русского князя. «Закон» мог и существовать – как негласное и неписаное, всем без слов понятное правило приличия. Ясно, что воспитание столь родовитых изгнанников и претендентов вполне могло привести и к международным осложнениям, и даже к войне. Харальд же Серая Шкура, конунг Норвегии, пусть и занятый постоянно внутренними распрями, славился как дерзкий викинг, не раз нападавший на чужие края.
Так прошло три года. Когда Олаву исполнилось двенадцать, однажды на новгородском торгу он встретил эста, вооруженного боевым топором. Олав узнал топор своего воспитателя Торольва. Он начал расспрашивать о происхождении оружия. Эст беззаботно похвалялся перед отроком, и тот вскоре понял, что перед ним убийца Торольва. Олав попросил топор и, взяв его в руки, рубанул эста. Враг упал замертво. Произошло это посреди торга, на глазах у огромной толпы народа. Зная о суровых русских законах, защищающих приезжих гостей, Олав бежал на двор к княгине – надо думать, не без совета Сигурда. Княгиня, узнав обо всем, и вправду вступилась за Олава, настаивая на справедливости убийства. Поскольку кровная месть по русским законам также была оправданна, Владимир не только помиловал Олава, но и похвалил его, сочтя поступок «небывалым», а удар «очень славным» для двенадцатилетнего отрока. Он позволил Олаву остаться в Новгороде, а вскоре усыновил его.
Так описывают событие самые ранние повествования. Большинство позднейших следуют за ними, лишь добавляя подробности. Так, поскольку в поздних сагах Клеркон убивал Торольва на глазах у Олава, то никакого топора Олаву для опознания уже не требовалось. К княгине Аллогии Олава отводит здесь – что логично – Сигурд. Дальше разворачивается целая масштабная сцена защиты юного мстителя. Аллогия созывает вооруженных дружинников, толпа народа несется к ее двору, чтоб покарать Олава. Князь со своим «войском» бросается между сторонами, предотвращая сражение, и устраивает мир. Виру вместо Олава платит княгиня (никакой речи о вире в ранних сагах нет, Олава просто сочли справедливым кровником – в точности по тогдашнему русскому праву). Сигурд рассказывает княгине, кто такой Олав, и она уговаривает Владимира взять того «под покровительство».
Одд же рассказывает совершенно иную историю, в которой о самой возможности наказания его героя не заходит и речи. Верить здесь его саге не слишком следует, но интересна она тем, как скандинавский монах в ней представляет Древнюю Русь времен язычества. История мести изложена здесь подробно, но она не столь важна для рассказчика. Узнав Клеркона на торгу, Олав и Торгильс поспешно вернулись домой и сообщили об этом Сигурду. Олав попросил помощи у воспитателя. Сигурд с большим отрядом явился на торг, схватил Клеркона и вывел его за город. А там Олав выступил мстителем и палачом, отрубив голову эсту.
Принятие Олава при дворе Владимира у Одда никак не связано с местью. Якобы мать Владимира, языческая «пророчица», еще в год рождения Олава предсказала его прибытие на Русь и великие блага, которые он ей принесет. На Руси вообще было «много прорицателей» – картина достаточно достоверная, если иметь в виду новгородских языческих волхвов. Те вещали, уже по прибытии Олава, что страну посетили «духи-хранители», несказанно «светлые», знатного чужеземца. В год мести Олава Аллогия, «умнейшая из всех женщин», попросила Владимира созвать вече со всех окрестностей. Князь согласился на просьбу жены. Аллогия обходила людей, заглядывая им в глаза и пытаясь определить обладателя «светлого духа». Только на третий день, когда князь под угрозой велел прийти действительно всем, обнаружился мальчик «в плохой одежде» – Олав. Аллогия сразу определила, что вещуны имели в виду его. Когда Олав открыл князю и княгине свое происхождение, они обрадовались еще больше и приняли его на воспитание как собственного сына. Олав, – здесь все подробные саги, разумеется, согласны, – опережал всех сверстников, а в воинской доблести и уме сравнялся с самыми опытными мужами.
История достаточно красивая и объяснимая для создателя саги-жития, хотя и до странного благожелательная к языческим предвещаниям. Но первая, непритязательная и мрачноватая, вызывает больше доверия. Случайно обнаруживший себя и уже обладающий задатками воина отрок пришелся к новгородскому двору как нельзя кстати, безо всяких сверхъестественных побуждений. Как раз в 975 году пал Харальд Серая Шкура, и власть над Норвегией перешла к ярлу Хакону. За влияние над страной соперничали две партии, датская и шведская. Хакон представлял датскую. Он не стал принимать титул конунга, а признал таковым датского Харальда Синезубого.
Если со Швецией у Руси сложились относительно добрососедские отношения, то с Данией не было вообще никаких. Когда же датская морская держава начала усиливаться в западных морях, претендуя на Норвегию и Англию, то отношения сразу возникли и оказались весьма натянутыми. Датчане – единственный из скандинавских народов, не упоминающийся особо в русских летописях. Странно, поскольку в IX веке датские викинги были частыми и не враждебными гостями в Ладоге и в Поильменье. Наверное, не нужно рассуждать только о средневековой «геополитике» – в конечном счете Русь не притязала на роль владычицы северных морей и до поры не сталкивалась с Данией напрямую в Прибалтике. Корни наставшего к Х веку отчуждения могут быть скорее в области генеалогии. Следует вспомнить, что имя «Хрёрик», «Рерик», «Рюрик» было родовым в древней династии Скъёльдунгов, которых свергли и отчасти истребили правившие ныне Данией Кнютлинги. А сами Кнютлинги возводили свой род к славянским князьям, которые владели «Хольмгардом» задолго до появления Рюриковичей. Так что вражда между теми и другими может восходить в темные глубины кровных распрей племенной эпохи – распрей, оставшихся вне памяти и понимания и летописцев, и саготворцев.
Отсюда ясно, что претендент на норвежский престол Владимиру пригодился бы. Борьба за Норвегию, в любом случае, позволяла держать датских викингов подальше от рубежей Руси и ее данников. Но вырастить из Олава еще лучшего воина и отправить его отвоевывать родные земли у Владимира, Добрыни и Аллогии времени не оказалось. Более того, пришлось искать убежища самим. В том же 975 году Ярополк невольно погубил Олега и захватил его княжество.
Схватка за север
Узнав о происшедшем на юге, Владимир с Добрыней раздумывали недолго. Гибель Олега они восприняли как нечто большее, чем только месть Свенельда. Отчетливо проступило стремление киевской дружины – а в конечном счете и самого Ярополка – объединить Русь под своей властью, вернуться к единодержавию Ольги и Святослава. К этому и сводились наущения Свенельда. Если Ярополк внял им однажды, то почему бы и дальше ему не действовать в том же духе? Конечно, Новгород был не единственной ожидаемой целью. На Руси оставалось еще немало «всякого княжья». Но Владимир, как сын Святослава, не мог не поразиться первому в роду Рюриковичей братоубийству и не представить себя живо следующей жертвой. Князь новгородский «убоялся» и, погрузившись с приближенными на корабли, бежал «за море».
Путь он держал, конечно, в ближайшие и союзные варяжские области – в Швецию или на Готланд. Дания враждебна, а в Норвегии новоявленному приемному отцу Олава Трюггвасона (тем более самому юному королевичу) делать нечего. С собой Владимир увел верную часть дружины и рассчитывал пополнить ее за счет скандинавских наемников. Так что вез он с собой и немало казны. Монах Одд сообщает в своей саге, что именно в 12 лет Олав совершил свой первый поход, якобы получив от приемного отца корабль и отряд воинов. За этой хвалебной сказкой при желании можно увидеть реальность – то самое бегство из Новгорода. По всеобщему обыкновению тех лет, знатные изгои пополняли в дороге припасы и средства грабежом прибрежных областей. Тогда-то норвежский королевич и должен был получить первый боевой опыт. В 12 лет, как оно и положено на Руси и в Скандинавии.
Ярополк не отказался от сделанного Владимиром «подарка». Узнав еще до исхода года о бегстве брата, он немедля отправил в Новгород своих посадников (именно нескольких, не менее двоих). Лишнее доказательство того, что к захвату Новгорода князь киевский действительно был готов – по крайней мере морально. После гибели родного брата едва ли он стал бы особенно скорбеть об уделе и даже жизни сводного «робичича». Прибавление власти возбуждало жажду еще большей. «И стал владеть один в Руси», – подытоживает победы Ярополка летописец.
Впрочем, до реального единовластия Ярополку было еще далеко. На Руси, повторим, еще оставалось немало князей, в том числе «великих». В Полоцке княжил Рогволод, в Турове – Туры. Собственное княжение, как полагают многие ученые, сохранялось еще на Левобережье Днепра, в Чернигове. Здесь правила отдаленная родня Рюриковичей. Дань Ярополку не платили радимичи. После же гибели Святослава отложились покоренные именно им – и только ему, со своей точки зрения, данью обязанные – вятичи. В западных землях, на Волыни, вырастали собственные княжества, стольные грады которых, превращавшиеся в города, размерами (если не богатством) соперничали уже с Киевом и превосходили Полоцк. И помимо этого, у всех подвластных Киеву племен сохранялись свои «княжения» с мелким «княжьем» во главе.
Теперь, однако, с киевским князем как с великим князем русским начали считаться и независимые доселе соседи. Даже Рогволод Полоцкий искал с ним союза и готов был признать верховную власть Киева. Можно было не опасаться миролюбивой Ольги и ищущего дальних краев Святослава. Но теперь Киев обратил оружие внутрь Руси, и каждому надлежало сделать свой выбор. Выгоды складывавшейся ситуации Ярополк использовать не успел – как не успел и показать, насколько способен справиться с подступающими проблемами и стать подлинным «самовластцем» Руси.
Правление посадников Ярополка в Новгороде закончилось уже краткое время спустя. Весной или в начале лета 976 года Владимир вернулся с варяжским наемным войском. Прибыв в Новгород, он не встретил ни малейшего сопротивления. Ни новгородские люди, ни дружина с Городища не собирались сражаться со своим князем за Ярополка. Сойдя на новгородский берег, Владимир просто призвал к себе посадников Ярополка и заявил им: «Идите к брату моему и так скажите ему: Идет Владимир на тебя, выстраивайся к бою с ним». Посадников упрашивать не пришлось. Они покинули Новгород и поспешили на юг с грозными вестями.
В изгнании, наняв свежие силы, Владимир – не без влияния решительного и честолюбивого Добрыни, главного движителя всех дальнейших событий – решил более не бежать от опасности. Если Киев угрожал Владимиру, следовало самому нанести удар. Это было бы и местью за брата Олега – сколь бы ни скорбел Ярополк, гибель эта оставалась на его совести. Конечно, в идее мести за Олега можно увидеть долю лицемерия – едва ли Владимир питал к нему более теплые чувства, чем к Ярополку. Но, с другой стороны, первая кровь, пролитая между Рюриковичами, должна была потрясти всю Русь, и не меньше самих Рюриковичей. Чужих им, вроде Рогволода, это побуждало скорее, во избежание худшей доли, пристроиться к победителю. Но в своих, живущих по закону кровного единства и кровной мести, – возбуждало жажду мстить. С точки зрения княжеского права и родового закона прав был Олег, и не делом Ярополка являлось мстить за чужие «обиды». Если же Ярополк вывел себя за пределы кровного закона, то мстителем оставался один Владимир – пусть «робичич», пусть сводный, но брат. К этому взывало «отчее предание», а Владимир в те годы служил ему беззаветно. Победа же сулила киевский престол.
Перед этой целью давнишние наставления Ольги, пытавшейся привить внуку христианские добродетели, поблекли и забылись. Владимир, ведомый и наставляемый не боящимся войны Добрыней, весь отдался потоку междоусобной брани. Добрый правитель Новгорода превратился в безжалостного даже к побежденным врагам ратоборца – нередкое и даже одобряемое явление в ту эпоху. Но даже в эти месяцы Владимир вполне мог полагать, что «подражает житию» бабки. Только подражал он Ольге-язычнице, жестоко отмстившей за гибель мужа мятежным древлянам.
Воевать с Киевом силами одного Новгорода, даже с приведенной варяжской подмогой, Владимир и Добрыня не решались. Нельзя было оставлять в тылу союзный Ярополку Полоцк. Полочане в ту пору превосходили ильменцев не только богатством, но и живой силой. К тому же Полоцк, стольный град независимых кривичей, мог обрести влияние и на Смоленск, и на Псков с Изборском, и на Людин конец самого Новгорода. Пока для кривичской знати «находник» Рогволод был не ближе Рюриковичей. Кривичи – не только новгородские – приняли сторону более близкого и доказавшего свою силу первым успехом Владимира. Но все же со всех точек зрения требовалось перетянуть на свою сторону и Рогволода, а в идеале – заручиться его военной поддержкой.
У Рогволода, помимо двух сыновей, от жены-княгини имелась дочь на выданье. Носила она скандинавское имя Рагнид – по-русски Рогнедь или Рогнеда. Решение, которое могло обеспечить прочную поддержку Полоцка, напрашивалось – как для Владимира, так и для Ярополка. В пору полюдья, поздней осенью и зимой, на Руси заключали браки – в том числе «вели» дев из местной знати за великих князей. Для Рогволода теперь действительно настала пора сделать выбор, в ситуации более острой, чем год назад. Выбор между Киевом и отложившимся Новгородом. От этого выбор полоцкого князя зависел весь расклад сил на Руси.
Накануне сезона полюдья, в конце лета или уже в начале осени 976 года, Владимир по совету Добрыни отправил в Полоцк послами своих дружинников-«отроков». Они передали Рогволоду послание своего князя: «Хочу взять дочь твою женою себе». Рогволод в ответ спросил у своей дочери: «Хочешь ли за Владимира?» «Не хочу я разувать робичича, – ответила Рогнеда, – но Ярополка хочу». Гордая княжна имела в виду русский свадебный обряд, в котором невеста разувает жениха.
Ответ дочери полностью совпадал с устремлениями самого Рогволода, который уже вел переговоры с Киевом. Так что дело закончилось, новгородские отроки вернулись несолоно хлебавши. Князю своему они смогли лишь слово в слово передать надменный ответ полоцкой княжны.
Владимира охватил гнев. Он не без попреков переложил все Добрыне. Если о князе в летописи сказано, что он «разгневался», то о Добрыне – что он «исполнился ярости». Напоминание о рабском происхождении для него было еще оскорбительнее, чем для воспитанника. Всякая политическая изощренность отступила перед жаждой мести. Насмешливое же сравнение с Ярополком, думается, окончательно определило судьбу киевского князя. Соперник должен был быть не просто свергнут, а уничтожен.
Добрыня немедленно стал собирать новгородскую рать – благо созыв племенных ополчений для войны с Киевом уже объявили. В поход выступило большое войско всех подвластных племен, намного превосходившее силы полочан. Шли привезенные Владимиром из-за моря и местные, ладожские варяги, шли ильменские словене, шли подвластные «чудские», финские племена. Шли с Владимиром и кривичи – как минимум новгородские и псковские, а может, и смоленские.
Рогволод между тем успел договориться с Киевом о браке. В самом конце 976 года Рогнеду должны были «вести» за Ярополка. Князю киевскому при назревавшей войне с Новгородом полоцкий брак становился так же необходим, как врагу. Новая жена могла одарить Ярополка сыном-наследником, чего до сих пор так и не сделала пленная «грекиня».
Но Рогнеде не суждено было отправиться в Киев невестой Ярополка. Как раз когда она собиралась покинуть родной город, нагрянула рать Добрыни и Владимира. Рогволод встретил врага под стенами Полоцка. Не рассчитав силы нанесенного дочерью оскорбления и не успев подготовиться к внезапному нападению, он тем не менее рискнул удачей в открытом бою. Рискнул – и проиграл. В битве пали оба сына Рогволода. Сам князь под натиском Добрыни бежал за городские стены. Но и они простояли недолго. Полоцк пал. Рогволод с женой и Рогнеда были захвачены в плен и приведены к Добрыне.
Никакого милосердия к побежденным ни Добрыня, ни Владимир не выказали. Это едва ли заслуживает каких-то комментариев. Обиды в языческую эпоху смывались только кровью, и даже изощренная жестокость придуманной Добрыней кары не являлась чем-то исключительным на Севере тех веков.
Сперва Добрыня вволю поиздевался над пленниками поносными словами. «Теперь и ты робичица», – насмешливо сказал он Рогнеде. Потом, свидетельствует летописное предание, он «повелел Владимиру быть с нею пред отцом ее и матерью». Лишь после этого, последнего и самого страшного унижения, Рогволода позволили убить. И лишь после убийства отца Добрыня объявил уже обесчещенную Рогнеду женой Владимира. Чтобы стереть само ее родовое имя, он дал ей новое, славянское – Горислава.
Но Владимир – и странного тут в конечном счете немного, – полюбил Рогнеду. «Чехиня» Аллогия родила лишь одного сына. Рогнеда позднее принесет Владимиру четырех. Одно это давало ей старшинство в глазах мужа перед любыми другими женами и наложницами. Да и сама она, дочь своего жестокого века, простила Владимира и признала в нем законного мужа – до поры, до первых измен. Потому, должно быть, имя Горислава, напоминавшее о позоре и крови родни, не вошло в официальные перечни жен Владимира и около полутораста лет помнилось только в дружинном предании. Следует помнить, однако, и о том, что первые летописные сказания создавались при дворе Ярослава Мудрого, сына Рогнеды и Владимира.
Добрыня, свирепо расправившись с княжеским родом, не стал разрушать Полоцк дотла. Напротив, после новгородского похода укрепление и отстройка кривичской столицы продолжились. Только теперь в городском детинце сидели наместники Владимира. Полоцк долго еще соперничал с Новгородом в богатстве и даже по-прежнему превосходил его размерами. Но решительный поворот в пользу Новгорода произошел, ибо на какое-то время град на Полоте собственных князей лишился, войдя в состав «империи Рюриковичей».
«Империю», впрочем, тогда еще только нужно было воссоздавать. Зиму 976/977 года Владимир завершил в Новгороде, где собирал рати для похода на Киев. Теперь в его распоряжении были уже дружины и ополчения всей Северной Руси, включая Полоцк и Смоленск. В 977 году новая жена понесла и в течение года родила двух старших сыновей – вероятнее всего, близнецов, – Изяслава и Мстислава. Мстислав умер в раннем детстве, но Изяслав остался следующим после Вышеслава продолжателем рода.
Владимир не мог не воспринять рождение у Рогнеды двух первенцев как добрый знак. Оба сына, по уже утвердившейся и поддерживавшейся Владимиром традиции, получили славянские имена. Причем имя «Мстислав» в те годы являлось родовым для княжеского рода славян-ободритов, живших в Южной Прибалтике, на Лабе. Видимо, это след материнского рода Рогнеды – брачных союзов между скандинавскими викингами и ободритами было не меньше, чем войн. Может, о том же напоминает и имя сына Свенельда – Мстиша. Не был ли Рогволод в родстве или через ободритскую жену в свойстве со Свенельдом? Только догадки, но многое объясняющие. А можно вспомнить и о том, что ободритский князь Мстивой выдал дочь за датского конунга, еще одного противника Владимира.
Но попытки разрешить эту навеки скрытую тайну минувшего далеко отводят нас от нити нашего повествования. Завершив битву за власть над Севером и объединив все его силы, Владимир был готов теперь к решению главной своей задачи. Примерно летом 977 года огромная новгородская рать выступила в поход на Киев.
Киевский стол
Войска Владимира спустились по Днепру, не встречая никакого сопротивления. Раздавленный потерей Полоцка и ни в каком смысле не готовившийся к столь масштабной междоусобице Ярополк не посмел созвать южные ополчения и встретить противника в поле. «Не мог стоять Ярополк против Владимира», – пишет Начальный летописец, имея в виду огромное численное превосходство новгородцев и их союзников. Киевский князь в итоге предпочел «затвориться» в своем граде со всей местной ратью.
Владимир, подступив к Киеву, оказался перед необходимостью вести долгую осаду. Все в этой усобице происходило впервые – мрачное первопроходство. Впервые пошел среди Рюриковичей брат на брата, впервые пролилась братская кровь, впервые русские войска осаждали Киев. Владимир разбил лагерь у селения Дорогожичи чуть севернее Киева. Между Дорогожичем и старым киевским Капищем на Хоривице по его приказу вырыли осадный ров, прикрывавший заодно лагерь на случай вылазок. Этот ров сохранялся долго, его показывали и спустя десятилетия.
Осада, конечно, не являлась просто бесцельным «сидением» на измор. Случались вылазки и приступы, между сторонами происходили стычки. Главной ударной силой в войске Владимира были его варяги, так что основную заслугу в его успехах они приписывали себе. Тогда-то получил первый по-настоящему боевой опыт юный воспитанник князя, четырнадцатилетний Олав Трюггвасон. О том, как он на пороге совершеннолетия «обагрял меч на востоке в Гардах», вспоминали позже его придворные скальды.
Осада хорошо укрепленного, богатого и многолюдного Киева могла продолжаться долго. Она и так затянулась на месяцы. Владимир не мог полностью окружить Гору, широким склоном спускавшуюся в южную лесостепь. Так что осадное кольцо кольцом-то как раз и не являлось. Подвоз продовольствия в Киев не прекращался. Если бы к Ярополку подошли подкрепления, то сам Владимир оказался бы в роли осажденного в своем дорогожичском лагере.
Потому новгородский князь решил действовать хитростью. Он заслал в Киев лазутчиков, которые встретились с воеводой Блудом. Ему они передали следующие речи своего князя: «Прими меня. Если убью брата своего, любить тебя начну вместо отца своего и многую честь примешь от меня. Ведь не я начал убивать братьев, но он. Я же того убоялся и пришел на него». И Блуд велел посланным, чтобы они передали своему князю: «Буду я тебе в сердце и в приязнь».
Измена Блуда вызывает вполне справедливое возмущение летописца. Для русских летописей, – и еще раз повторим, что это вполне справедливо, – Блуд являлся бесспорным антигероем. Но всякая измена имеет свои мотивы. Из того, что мы уже знаем о Блуде, мотивы эти проступают с явственностью. Блуд чувствовал себя крайне неуютно среди киевской полянской и варяжской знати. Оттесненный Свенельдом с только полученного – немалыми, надо думать, заслугами, – высокого положения, он не мог повлиять на развитие событий. Тех самых событий, которые теперь привели новгородскую рать под стены Киева. Еще до появления послов Владимира Блуд имел все основания сочувствовать его делу. И сочувствовать самому «робичичу» – просто из-за его, столь сходного с собственным, происхождения. От такого князя Блуд обоснованно надеялся получить истинные, заслуженные им почести. Та «честь многая», которую оказывал своему воеводе Ярополк, казалась Блуду недостаточной и ненадежной.
И еще один, ничего, конечно, не исправляющий в давней кровавой истории, штрих. В народном эпосе, в былинах Блуд – персонаж положительный. Он и его семья, богатая, но незнатная, противопоставлены алчным и надменным боярам. В былине сын Блуда силой оружия добивается руки боярской дочери, посрамляя, а то и убивая ее братьев. Былина новгородская по происхождению, а Блуд позднее немало лет провел в Новгороде. Для того чтобы оставить по себе добрую память в народной толще, он кое-что для нее должен был сделать. Так что едва ли следует во всем следовать за летописью с ее однозначной оценкой киевского воеводы.
Как бы то ни было, но тогда, в последних месяцах 977 года, предательство состоялось. Блуд не раз посылал к Владимиру, призывая его идти на приступ и обещая с началом боя убить Ярополка. Воины Владимира подступали ко граду, но их отбивали. Попытки Блуда срывались одна за другой. Киевляне были преданны своему князю, и Блуд не мог найти подходящего случая. Однако ему удалось уговорить воодушевленного было успехами князя не выходить на вылазку против превосходящих сил врага.
Окончательно отчаявшись, воевода решил пойти на обман. Придя к Ярополку, он сказал: «Киевляне ссылаются с Владимиром, говоря: Приступай ко граду, и предадим тебе Ярополка. Беги из града». После изнурительной осады, при зримой нерешительности князя, такие настроения киевлян были бы вполне объяснимы. И Ярополк поверил. Вместе с Блудом и всей своей дружиной он бежал из города по открытому южному пути.
Князь достиг града Родни при устье реки Рось, правого притока Днепра и древнего южного рубежа полянской земли. Родня была и важной крепостью на границе со Степью, и древним святилищем, связанным с именем бога Рода. Здесь Ярополк почувствовал себя в безопасности и решился продолжить оборону. Теперь он затворился в Родне. Но это оказалось роковой ошибкой. Град, разумеется, не готовился к осаде. Довольно крупный, он тем не менее не был рассчитан на прокорм всей киевской дружины в течение долгого времени.
Владимир со своей дружиной вступил в Киев. Сразу после бегства князя брошенные им киевляне вполне закономерно отворили ворота его мятежному брату. Владимир, войдя в город, не стал сразу объявлять себя великим князем. Ярополк был еще жив. А по строгому закону языческих времен, когда князь являлся не только правителем, но и верховным жрецом, кровно связанным с богами, князь мог быть только один. Убивший его – становился князем. Итак, Владимир пока князем себя не объявил.
Новый хозяин почти сразу покинул город, двинув рать на юг. Войска победителя обступили Родню. Осада Родни происходила в первой половине 978 года. Дополнительного продовольствия в граде запасти не успели. Родня была гораздо меньше Киева. Для приступа крепость была надежно защищена, но в то же время расположена не столь удобно, как столица. Обступить ее можно было со всех сторон. Наблюдение за реками (а новгородцы и варяги, разумеется, привели с севера ладьи) полностью отрезало град от внешнего мира.
Теперь Ярополк оказался в совершенно отчаянном положении, безо всякой надежды на спасение. Раньше он имел в распоряжении всю киевскую рать и, действуя решительно, вполне способен был одержать победу. Теперь же под рукой у князя были только оставшиеся верными дружинники и воины из Родни. Превосходство сил противника стало сокрушающим. Но войска Владимира даже не пытались штурмовать оплот врага. За них все делал голод. Многие из последних соратников Ярополка умерли, не обнажив меча. Страшное вымирание осажденной Родни запомнилось в русских преданиях. Веками на Руси бытовала поговорка: «Беда, как в Родне».
В конечном счете, когда Ярополк окончательно отчаялся, Блуд обратился к нему с новым советом. «Видишь ли, сколько есть воев у брата твоего? Нам их не перебороть. Твори мир с братом своим». В правоте этим словам отказать было нельзя. И Ярополк, не желавший усобицы с самого начала, согласился. «Да будет так», – ответил он.
Блуд немедля отправил к Владимиру верных людей. Несли они не столько послание князя, сколько вести от самого предателя. «Сбылась мысль твоя, – передавал Блуд, – приведу к тебе Ярополка, так что приготовься убить его». Владимир немедленно свернул осадный лагерь и вернулся в Киев. Там он поднялся на Гору и вместе со всем новгородским войском обосновался на теремном дворе князя Игоря. Сам князь с дружинниками занял построенный при Игоре великокняжеский дворец – каменный терем. Площадь же двора на время превратилась в воинский стан.
Это жест призван был убедить Ярополка в чистоте намерений брата. И Ярополк, на свою беду, поверил. После ухода Владимира Блуд сказал своему князю: «Пойди к брату своему и скажи ему: Что ни дашь мне, то я приму». Ярополк, уже согласившийся на почетную сдачу, тут же с небольшой дружиной отправился в Киев. По пути к нему обратился некто Варяжко, тоже княжеский «милостник», судя по имени – полуваряг не слишком знатного рода. Вполне представляя себе законную судьбу свергнутого князя, Варяжко сказал: «Не ходи, княже, убьют тебя». «Таков-то ты милостник у князя», – насмешливо заметил Блуд. «И то – всякий милостник подобен змее запазушной», – язвительно парировал Варяжко, имея в виду самого воеводу. И продолжил, обращаясь к князю: «Беги, княже, к печенегам, и приведешь воев».
Но Ярополк смирился со своей участью, надеялся на милость брата и, помимо прочего, не собирался обращаться за помощью к убийцам Святослава. Он продолжил путь и прибыл в Киев. С дружиною он поднялся к теремному двору и был приглашен братом в терем.
Ярополк и шедший с ним рядом Блуд вошли в двери княжеского чертога первыми. В этот миг два варяга, спрятавшихся по обе стороны дверного проема, вонзили в князя мечи. Блуд захлопнул и запер дверь перед идущими следом дружинниками. Ярополк умер на месте. Когда это стало ясно, двери распахнулись. Месть за Олега свершилась.
Увидев, что князь мертв, большинство дружинников сопротивляться не стали. Да и смысла то не имело. Лишь Варяжко, охваченный горем и ненавистью, «бежал со двора». Путь он держал туда, куда и звал князя – в печенежскую степь. От него печенеги получили первые ясные вести о смене власти в Киеве. И их отряды двинулись к границам Руси. Вряд ли кочевников вдохновляла месть за сына Святослава, хотя Ярополк и поддерживал с ними мир. Но смута на Руси, казавшаяся неизбежной и затяжной, сулила дешевый прибыток. В печенежских ратях шел и Варяжко – как провожатый и один из предводителей. Если Блуд коварно предал своего князя, то Варяжко из верности князю предал на поток и разграбление саму Русь. Его летопись и стоящее за нею предание – странное дело – как будто совсем не осуждают. Для той эпохи верность «милостника» господину-покровителю, верность князю и своему «роду», вообще личные обязательства значили гораздо больше, чем преданность «стране» в целом. Самого последнего понятия – преданности стране, Руси, как ответственности пред всеми ее людьми – еще не существовало. Такие представления принесет, и не сразу, христианская эпоха, сплотившая разрозненные «роды»-племена в единый народ.
Так Владимир убийством брата заработал первую и самую затяжную из своих войн, которую потом пришлось вести до последнего вздоха. Но пока он еще не знал об этом и мог наслаждаться полученной властью. Бегству Варяжка князь внимания не уделил. Отомстив, – как пытался уверить себя и окружающих, – за гибель Олега и освободив для себя княжеский стол, Владимир сразу провозгласил себя князем киевским, великим князем русским. Произошло это 11 июня 978 года.
Обосновавшись на теремном дворе, Владимир встретился с женой брата – «грекиней». Красота лица бывшей монахини не поблекла, хотя она в ту пору носила ребенка. Владимир прельстился – и «залег» вдову убитого. Беременность его то ли не смутила, то ли он ничего о ней еще не знал. Никакого чинного брака князь не совершал, видя в «грекине» рабыню-полонянку и собственную военную добычу. Вскоре, поздним летом или в начале осени 978 года, она родила сына.
Ребенка назвали Святополком – древним славянским княжеским именем, соединявшим в то же время половины имен его деда Святослава и настоящего отца, Ярополка. То, что Святополк сын Ярополка, Владимир, естественно, понял сразу. Ребенка «от двух отцов» он невзлюбил, но все-таки признал своим, даже имя дал в напоминание о погибшем и стал воспитывать. Мать же Святополка теперь, после рождения сына, Владимир приравнял к своим женам.
Первые решения
Итак, Владимир стал великим князем русским, наследником власти Олега, Игоря и Святослава. При этом в его руках, под непосредственной, без «всякого княжья» властью оказалось больше земель и градов, чем у кого-либо из предшественников. Он сам владел не только Киевом, Переяславлем и Любечем, но также Деревами, Новгородом, Псковом, Полоцком и, вероятно, Смоленском. Такого могущества ни один прежний русский князь не достигал. Кривичи, меря, весь, эстская «чудь», а на юге – древляне и севера исправно платили дань ему, киевскому великому князю.
Такая власть уже превосходила понятия просто о «княжеской». И Владимир, наряду с княжеским, принимает новый титул. Он восстановил употреблявшийся самыми первыми русскими князьями IX века, но забытый начиная с Олега тюркский титул кагана. Когда-то его принятие являлось вызовом хазарским каганам, владычествовавшим в Степи. Теперь, после падения каганата под ударами Святослава, русский князь становился в некотором роде законным наследником каганского достоинства. «Старый новый» титул, равновеликий по общему мнению императорскому, закреплял новую роль Руси Рюриковичей на международной арене – роль единственного гегемона для всей Восточной Европы. Роль эту завоевал для Руси Святослав – дело не менее важное, чем так и не добытые им территориальные обретения. Но именно Владимир осознал ее и первым стал использовать по назначению.
Владимир и не скрывал своего положения захватчика власти. Оправдывая себя местью за Олега, он в то же время рассматривал произошедшее как конец прежнего «рода» русских князей и начало нового, родоначальником коего хотел стать сам. В знак этого он сменил родовую эмблему Рюриковичей, изображавшуюся со времен Святослава на княжеских печатях, а еще при Игоре добивавшейся на иностранные монеты из княжеской казны. Игорь, Святослав и Ярополк в качестве родового знака использовали двузубец, сохранявший еще очень отдаленное сходство с древними ладожскими схематическими изображениями норманнской ладьи. Владимир – первый, судя по всему, князь, получивший чисто славянское воспитание, – расстался с этим старым символом, изменив его почти до неузнаваемости. Двузубец у него превратился в трезубец – священный знак, широко известный и поднепровским славянам, и степным кочевникам. Тем самым Владимир как бы положил начало новой традиции. И традиция эта взывала больше к преданиям Юга, чем Севера.
Огромной державой следовало управлять. И здесь Владимиру пригодились реформы Ольги. Князь еще в Новгороде отказался от громоздкого и рискованного ритуала полюдья. Теперь оно полностью ушло в прошлое. Власть Владимира над подданными, добытая силой оружия, и без того не нуждалась в подтверждениях. Все свое время Владимир проводил если не в военных походах, то в стольном Киеве. Что касается дани, то подвластные племена доставляли ее «повозом» на погосты. Туда приезжали – или даже постоянно там находились – княжеские сборщики дани, отвечавшие за доставку собранного в Киев.
Тем не менее, Владимир понимал, что не все непосредственно ему подчиненные земли сохранят верность при одинаковом подходе. Новгород заслуживал поощрения за поддержку. К тому же новгородская знать, отдав своего князя Киеву, имела право рассчитывать на замену. И Владимир отправил в Новгород своего дядю, Добрыню. Судя по всему, с княжеским титулом. По крайней мере, в списки новгородских посадников Добрыню не включали, в то время как княжеский новгородский список подчеркнуто начинается только с крещения Руси. Согласно летописи, Новгородом к началу XI века уже долго правили именно «князья», платившие дань Киеву. А Владимир «посадил» в Новгороде после захвата власти именно Добрыню, никого другого. Летописцам XI и позднейших веков наличие иных, кроме Рюриковичей, князей, тем паче по пожалованию, казалось уже неким нонсенсом. И они просто обошли вопрос о титуле Добрыни. Итак, мы можем заключить, что княжеский холоп Добрыня Малкович в итоге достиг-таки самой вершины русской общественной лестницы, встав вровень со знатнейшими и владетельными представителями княжеского дома. Достойная плата за обеспеченные им успехи.
И в то же время отчасти и ссылка. Владимир не разделял, конечно, пренебрежения отца к Новгороду и новгородцам. Но Новгород все-таки стоял от Киева очень далеко, и сообщение велось не каждодневно. Владимир, вошедший (как не считай) уже в возраст, разумеется, тяготился зависимостью от воспитателя. Вознаграждая Добрыню сверх его мечтаний, князь в то же время освобождался от его опеки. Насколько осознанно Владимир это проделал, мы судить не можем. Но в итоге оказался не только формальным, но и фактическим правителем своей новой державы.
После гибели Ярополка и с отъездом Добрыни свободным осталось место киевского воеводы. По обычаям того времени, само собой разумелось, что новый князь набирает дружину (пусть из тех же людей) заново. Следовательно, менялся и воевода. Свенельд сложил когда-то полномочия после совершеннолетия Святослава, оставшись при нем до последних злосчастных боев лишь «воеводой отчим». Добрыня, кормилец Владимира, являлся законным его воеводой в Новгороде, но теперь получил иное пожалование. Блуд же, пусть и предавший Ярополка, оставался воеводой убитого князя – следовательно, его время в этом качестве закончилось.
Киевским воеводой при Владимире стал некто Волчий Хвост – больше похоже на прозвище, а не на имя. Скорее всего, так и есть. В двух версиях Жития Владимира киевский воевода именуется иначе – Олегом. Это древнее родовое имя могло принадлежать только потомку Олега Вещего. А прозвище отражало давнее поверье о роде, из которого вышел тот, старый Олег, – будто прибывшие из-за моря «вещуны» умеют превращаться в волков. Назначение Волчьего Хвоста было знаком для старой киевской знати, для уцелевших после войн Святослава дружинных родов. Ни одному из них Владимир зла не чинил. Приказав убить брата, он пощадил род Свенельда. Сын Свенельда Мстиша был хорошо известен в Киеве еще и после Владимира, и летописец специально указывает при упоминании Свенельда: «а он отец Мстишин». К рассказам-то Мстиши Свенельдича, как можно судить, восходят многие летописные предания о начальных веках Руси, где главным персонажем выступает его отец.
Что же касается Блуда, то он без дела не остался. Рогнеда сопровождала мужа в походе на юг. В том же 978 году у нее родился третий сын, названный – уже как обычно – славянским именем Ярослав. В качестве кормильца к новорожденному Владимир приставил Блуда. Должность почетная, хотя и несколько более низкая, чем прежняя. Насколько был удовлетворен (и одарен помимо назначения) Блуд, неизвестно. Однако Ярославу он оставался верен до самого своего конца, а суждено ему было пережить Владимира. Должность кормильца означала в будущем должность воеводы при молодом князе, пусть на тот момент и не при наследнике киевского престола. Но Блуд уже знал, что престол сей занимают не только наследники.
Воспитание Ярослава, надо сказать, оказалось непростой задачей. Мальчик родился с легким вывихом правой ноги и долго не решался ходить из-за боли, вызванной первыми попытками. Чтобы пестовать «сидня», от бывшего воеводы требовались и сочувствие, и умение. То, что он остался рядом с Ярославом и по его возрастании, доказывает – всем этим Блуд, как бы ни рисовала его летопись, обладал.
Как было сказано, Владимир милостиво и даже благожелательно обошелся с киевской знатью, потомками древних варягов. Но одно дело – ославянившиеся Свенельдичи и Ольговичи, и другое – варяги новопришлые. С ними Владимир повел себя не слишком любезно, давая понять, что эпоха «находников» на Руси завершилась. Впрочем, виноваты были сами наемники.
После гибели Ярополка норманнские вожаки заявили Владимиру: «Это наш град, и мы взяли его. Так что хотим взять с них откуп, по две гривны на человека». Владимир, еще не обустроивший новое княжение, с кажущейся готовностью ответил: «Подождите, пока вам соберут куны, – месяц». Неизвестно, собирал ли что-то Владимир. Но варяги не получили ничего. Прождав больше месяца, они вновь пошли к князю.
Теперь ситуация была иной. Владимир заручился поддержкой киевлян и собрал новую дружину. К тому же начавшиеся набеги печенегов держали в боеготовности южнорусские ополчения. Поднимать смуту для наемников было уже очень рискованно. Получив твердый отказ в деньгах, варяги сказали князю: «Раз обманул ты нас, то кажи нам путь в Греки». В ответ прозвучало только: «Идите».
Владимир с легкостью отделался от назойливых наемников, но не желал полностью отказываться от варяжской силы. Отпустив всех, он затем отобрал среди варягов некоторое число «мужей добрых, храбрых и мудрых». Таким он «раздал грады» в кормление. Тем самым он обеспечил себя беззаветно преданными наместниками, на благо центральной власти и всему огромному княжеству.
Прочие варяги в июле 978 года покинули Киев и направились к Константинополю. Они рассчитывали наняться на службу к византийским императорам, братьям Василию и Константину. Выходцы со скандинавского и Русского Севера привечались в Царьграде, в «Цесарском граде» как надежные и сильные воины. Постепенно при дворе византийских императоров складывался особый варяжско-русский корпус. Впрочем, служило в нем пока больше именно русских, чем скандинавов, и всех пришедших по пути «из Варяг в Греки» ромеи общо именовали «росами» или «тавроскифами».
Владимир, однако, не удовлетворился самим уходом варяжской дружины. Он решил перекрыть им саму возможность возвращения. Вперед варягов он отправил в Царьград свое посольство. Оно передало послание князя старшему императору Василию: «Вот идут к тебе варяги. Не думай их держать в граде, чтобы не сотворили тебе во граде опять зла, какое здесь сотворили. Но расточи их врозь, а сюда не пускай ни единого». Императоры выполнили просьбу русского князя – она выглядела разумно, поскольку норманны действительно славились своими разбоями по всей Европе. Особого «зла» в Киеве им, кажется, благодаря ловкости Владимира так сотворить и не удалось – но в Константинополе едва ли об этом знали. Кроме того, Византии, постоянно воевавшей на два фронта – с арабами и с так и не покорившимися болгарами – с Русью требовался прочный, ничем не омрачаемый мир.
Проводив наемников, Владимир все же продолжал, как уже сказано, держать выходцев из Скандинавии у себя на службе. Среди них выделялся княжеский воспитанник Олав Трюггвасон. Первые годы княжения Владимира в Киеве молодой норвежец процветал. Отличившись при завоевании стольного града, он обрел новые княжьи милости и укрепился в своем положении любимца княгини. После победы Олав вернулся на север и, обосновавшись в Новгороде или Ладоге, совершал оттуда набеги на прибалтийские земли. Теперь у него действительно был собственный корабль – и опытные воины-наставники, следившие за юным «предводителем». Иными словами, Олав превратился в типичного «морского конунга», родовитого викингского вождя.
Первые набеги Олава прибавили ему славы и обогатили Новгород. Изрядную долю добычи он поднес Владимиру и Аллогии, с которыми в Киеве проводил большую часть зимы. Сага Одда говорит о «разного рода сокровищах из золота и прекрасных дорогих материй, и драгоценных камнях». По преданию (которое может, впрочем, говорить и о более поздних походах Олава) однажды при возвращении на Русь сами паруса его кораблей и походные шатры воинов были из «драгоценных материй». Но это едва ли можно было добыть в прибалтийских селениях – разве что Олав уже тогда добирался до прибрежных крепостей датчан или ободритов. Если когда-либо такие ценности и прошли через его руки, то во время пребывания варягов в Киеве, когда воины Владимира, разумеется, запустили руки в казну побежденного Ярополка. Что же до парусов из дорогих «паволок», то эту дружинную легенду рассказывали еще о победителе Царьграда Олеге Вещем…
Да, Владимир покровительствовал «своим» викингам. Но с его приходом в Киев эпоха викингских конунгов и князей-разбойников для Восточной Европы навсегда завершилась. В этом Владимир действительно с первых шагов явился продолжателем дела Ольги. Придя к власти захватчиком и не избегая войн, он тем не менее и строил – строил Русское государство. Заходя решительнее и дальше, чем сама проложившая ему дорогу великая княгиня.
Боги Владимира
Об отношении Ярополка к христианской и языческой верам ничего достоверного, как уже говорилось, нам не известно. Уже исходя из одного этого можно предположить, что на самом деле наследник Святослава и Ольги остался равнодушен к обеим религиям. Но те, кто вошел в Киев ему на смену и через его труп, были язычниками ревностными. Для Владимира «отчие предания», вера предков оставались святы, невзирая на наставления Ольги. В этом одном он пока совершенно не собирался подражать ей.
Но что же представляли из себя эти «отчие предания» к моменту вокняжения Владимира? Первое, что бросается в глаза исследователю славянских древностей – удивительная пестрота верований и мифов. Религия разных племен и местностей сильно отличалась. Имена богов и их «родословные» (там, где таковые известны) тоже расходились – даже если ограничиваться рамками только восточного славянства. Хотя для исследователя-то в этом ничего удивительного нет. Многообразие, вариативность – характерные черты религий эпохи расцвета мифической картины мира на пороге цивилизации.
Это живое многообразие, очевидное для любого серьезного специалиста, несколько затемняется иными современными «реконструкторами»-непрофессионалами, пытающимися воссоздать мифологию «не хуже древнегреческой». Однако ничего «не хуже» закоснелой литературной формы греческих мифов у славян и быть не могло. Нашим предкам неведома была нужда согласовывать множество несхожих вариантов, навязывать им новое моральное содержание, тем более изгонять из мифов диковатую архаику – ту самую, которая столь привлекает иных наших современников в мифах кельтов или германцев. Славяне и жили в мире этой архаики. В том и отличие славянской религии (или кельтской, или германской) от греческой, что это была религия мифа. Мифа как живого жанра устной «литературы», свободной от какого бы то ни было устоявшегося «канона», тесно переплетенной с обрядами и поверьями. А не мифа как «басни», как «памятника старины», уже слабо связанного с реальным, столь же косным и формализованным религиозным поклонением. Два полюса язычества – первобытные религии, фонтанирующие красками разнящихся фантазий, и чинные религиозные установления умирающих цивилизаций, которые и должны бы расстаться с фантастическим миром мифа, а не хотят этого признавать. И оба полюса оказывались одинаково слабы, но каждый по-своему, перед верой в Единого Бога, верой, свободной от мифа.
Можно сожалеть о том, что славянскую мифологию не сохранил литературный «случай». Наподобие того, который позволил еще в Средние века записать, пусть с неизбежными искажениями, мифы их западных соседей (и дальних сородичей) в Ирландии и Исландии. Но считать, что «ничего не сохранилось», и на этом основании искать утешения в домыслах, а то и в подлогах, – едва ли стоит. Кропотливый труд многих поколений ученых, – историков, археологов, языковедов, этнографов, – позволяет с достаточной полнотой (хотя, конечно, не без загадок и расхождений) воссоздать мир языческой восточнославянской религии.
Прежде всего следует сказать, что общеславянские (и тем более общие для всех восточных славян) боги все-таки существовали. Это были божества, чья «родословная» уходила в глубь веков, к расселению первых индоевропейцев в Европе. К Х веку таким наследием древнейшей поры славянской истории оставались на Руси два основных бога – Перун и Велес.
Перун – громовержец, глава небесных богов. В священном браке с Землей он производит на свет все земное «обилие». Он – покровитель и родоначальник княжеской власти, прообраз земных князей, идеальный бог-воин. В качестве такового особым почитанием он пользовался в среде дружинников. По мере же укрепления государства неизбежно становился верховным богом.
Перун рассматривался не только как владелец «стрел»-молний, но и как их «создатель», божественный кузнец, «божий коваль». В результате его ипостасью становился легендарный князь-кузнец, победитель Змея Сварог, образ которого распространился у всех славян до Балтийского моря из древних антских земель. Через своего сына Дажьбога, бога Солнца и второго по значимости небесного повелителя, Сварог числился непосредственным родоначальником славянских князей. Другим его сыном считался Огонь – воплощение священной для славян стихии.
Велес или Волос являлся противником Перуна в «основном мифе» древних славян и противопоставлялся ему во многих отношениях. Велес – владыка загробного мира, даритель богатств и покровитель чародейских умений. Он – «скотий бог», покровитель скотоводства, охоты, но отчасти и земледельческого труда. Потому связан он со «всеми людьми», с простым народом, а не с князем и знатью. В древнем мифе о «ковале» Свароге «двойник» Велеса – змееподобный бог Троян, побежденный героем-кузнецом. Правитель подземного, потустороннего мира, он представлялся трехголовым – имя его является народным переосмыслением имени римского императора Траяна, воевавшего за Дунаем, в порубежье славянского мира. По «тропе Трояновой» на иную сторону бытия отправляются в полузабытьи «Велесовы внуки», песнотворцы, воскрешая перед слушателями образы минувшего. На знаменитом Збручском идоле, представляющем картину мира древних славян, троеликий бог подземного мира обречен поддерживать землю и небо с их обитателями на своих плечах.
Таковы были главные боги древних русов. Хотя имелись и другие, тоже известные на Руси повсеместно – как, например, бог и «дед» ветров Стрибог. Однако наряду с этим обреталось и немалое число мелких, местных божков. Не говоря уже о том, что для простого селянина во все времена важнее было общение с духами природы и собственного дома – лешими и водяными, домовыми и овинными, – чем с высокими «светлыми» богами жреческой мифологии.
Различия бросаются в глаза уже при изучении того, каким богам пантеона и где поклонялись преимущественно. На юге господствовал дружинно-княжеский культ действительно «светлых» богов, Перуна и Дажьбога. Именно здесь шире всего распространен и миф о ковале-змееборце, доживший даже до нового времени. Но на севере, у словен и кривичей, было иначе. Здесь главный персонаж в пантеоне – Велес, а Перун долго оставался на вторых ролях. Здесь поклонялись священным зверям Велеса медведям и полумифическим огромным змеям-ящерам. Здесь же наиболее распространены культы женских божеств, воплощающих одновременно и животворные, и губительные силы природы, – культы, воплотившиеся, помимо прочего, в сказочном образе Бабы-яги.
Кроме же того, на местах богов сближали, а то и прямо отождествляли с легендарными героями, первопредками племен. Неслучайно основатель Киева, Кий, носит имя, обозначавшее в древнейшую эпоху божественного кузнеца-змееборца. И именно в древней земле полян миф о «божьем ковале» сохранился лучше всего. Но на Волыни коваля отождествили с местным древним князем Радаром. Словене полагали, что Перун воплотился в основателе их племенного княжения, князе-оборотне Волхе. Наконец, кривичи считали себя потомками «Крива», «кривого» Велеса, которому приписывали еще балтийский по происхождению эпитет «Бай» – «Ужасный». Родоначальник древних кривичских князей Бой выступал сыном Бая-Велеса.
Все эти местные культы довольно сложно было привести к общему знаменателю. Уже это являлось одной из причин, порождавших естественный скепсис у людей, познакомившихся с иными вероучениями. Особенно после возникновения разноплеменной русской дружины. Для тех же скандинавов Перун, например, более-менее легко отождествлялся с Тором, а Велес – с Одином. Но попытка согласовать что-то большее, чем имена и функции богов, – скажем, связанные с этими именами мифы, – наталкивалась уже на трудности. В этом смысле Русь, на совсем иной стадии религиозного развития, оказалась неожиданно схожей с поздним Римом. Здесь тоже смешение разных народов порождало смешение и религиозное, – творя новую, громоздкую и запутанную религиозную систему.
На Руси не существовало единой, централизованной структуры языческого жречества. Слово «жрец» обозначало непосредственного отправителя религиозных обрядов, того, кто приносит жертву и вкушает от нее, «жрет». Верховным жрецом считался сам князь, и авторитет его в религиозных делах был в глазах любого славянина непререкаем. На это ставила Ольга, убеждая креститься Святослава, – но страх князя перед мнением дружины не дал возможности проверить его влияние на подданных. Великий князь русский был единственной фигурой, которая связывала воедино русских язычников. Так что любая попытка «централизовать» религию могла исходить только от него.
Однако жрец был не единственной и не самой влиятельной фигурой в славянском культе. Действуя только через обслуживавшиеся жрецами общинные и племенные капища, результата трудно было достичь. Подлинными «идеологами» язычества являлись волхвы – бродячие чародеи и песнотворцы, хранители поэтической «премудрости», возводившейся к Велесу, и особого «поэтического» языка, борцы с разного рода враждебным колдовством. Волхвы пользовались после князя самым большим религиозным почитанием. Но если князь был далеко, в стольном граде, то волхвы обходили всю Русь.
На севере, в новгородских землях, где особенно развит был культ Велеса, волхвы составляли нечто вроде влиятельной корпорации, центрами которой являлись капища «скотьего бога». Только здесь, в их тайном учении, язычество приобретало черты целостной системы. Эта «глубинная» мудрость являлась наследием южнобалтийских предков новгородцев. Тамошние славяне создавали довольно сложные религиозные построения, разветвленные пантеоны богов – правда, у каждого племени свои.
Но и волхвами славянское языческое «духовенство» не исчерпывалось. Были еще жрицы женских культов, ведьмы, потесненные новым патриархальным порядком, но еще не сдавшие полностью своих позиций, не превратившиеся просто в ночных колдуний. Тем не менее злое колдовство им издавна приписывали, и не без оснований – обряды ведьм всегда были буйны, а то и жестоки. Служителей мужских и женских божеств разделяла вражда. Летописи рисуют волхвов даже XI века, времен христианских, охотниками на ведьм. Что же происходило, пока и те и другие еще оставались в силе, но за спинами волхвов стояла военная мощь княжеской дружины? Языческий в основе своей обряд сожжения чучела «ведьмы» в середине лета – не просто невинная забава…
А на местах, в народной толще, жили и трудились сотни мелких заклинателей и знахарей, никакого отношения к жреческим иерархиям вообще не имевших. И простой славянин чаще имел дело с ними – точно так же, как чаще взывал к лешему или полевику, чем к Перуну.
Рюриковичи, обосновавшись в Киеве, восприняли почитание Перуна. Его капище на теремном дворе Олега и Игоря может с некоторой долей условности считаться религиозным «центром» древнейшей Руси. Но, с другой стороны, почитали Олег с Игорем и Велеса. Его капище располагалось не на Киевской Горе, не в княжеской крепости, а к северу, за открытым торгово-ремесленным Подолом – в Оболони. В договорах с Византией русы с равным рвением клянутся и Перуном, и Велесом. Неудивительно, если вспомнить, что в родной для многих из них Скандинавии именно Один стоял на первом месте, а Тор считался лишь его сыном.
Ольга, крестившись, разрушила «требище» на теремном дворе. Никакого сопротивлении это не встретило – лишнее свидетельство того, что основная масса даже киевского люда видела в «главном» святилище просто домашнюю молельню князей. Святослав восстанавливать капище не стал – ни когда приступил к делам власти, ни даже после смерти матери. Почему? Во-первых, князь не собирался жить в Киеве, и судьба города, в том числе духовная, была ему безразлична. Во-вторых же, и это главное, – Святослав, вопреки многим толкованиям, в том числе средневековым, вовсе не являлся убежденным язычником. Древнейшие источники говорят, что он отказался креститься не из-за языческой веры, а из опасения насмешек дружины. И в этом отношении Святослав в своем поколении был, кстати, даже типичен. И на Руси, и в Скандинавии кризис старой веры порождал таких людей – отважных, самозабвенных бродяг-воителей, уверенных в том, что завоюют все блага мира только своим мечом, без всякой помощи богов. На вопрос: «Во что ты веруешь?» – такие отвечали: «В самого себя».
Тем более не взялся за восстановление капища на Горе Ярополк. То ли действительно прислушивался к западным проповедникам и раздумывал над их речами, то ли, не пойдя в отца нравом, унаследовал все же его отношение к вере. Итак, на протяжении уже двух десятков лет «главным» святилищем в княжеской столице оставалось капище «скотьего бога» Велеса в Оболони. С точки зрения искреннего язычника, каким – повторим – являлся тогда Владимир, ситуация нелепая до абсурда.
Владимир, пребывая в Новгороде, познал язычество более глубокое и цельное, чем верования южных племен. Войдя в Киев, он немедленно поставил себе задачу силой новой власти создать нечто похожее для всей Руси. Но ставку князь сделал не на новгородский культ Велеса и не на «глубинные» тайны северных волхвов, а на дружинную традицию поклонения «светлому» Перуну. При этом, по ряду признаков, он взялся еще и очистить религию от мифологических излишеств, «приподнять» Перуна над миром людей, отделить его от легендарных героев-первопредков – задача почти непосильная, разве что для современных литераторов. Но в этом скрывался вызов покойной Ольге. Принятию «чужого» Бога греков Владимир попытался противопоставить возвеличение «своего» – до уподобления Ему. Зная кое-что о христианстве и интересуясь разными религиями, Владимир пытался и из язычества сделать нечто «не хуже». Можно сказать, что уже тогда он неясно для самого себя, вопреки проговариваемому, искал Бога Единого, Бога вне людских мифов и суеверий. В этом побуждении он походил на Ольгу и опять-таки подражал ей. Но, преданный старине, не мог поверить в то, что Ольга нашла Бога там, где следует.
Владимир тоже не стал восстанавливать старое капище на теремном дворе. Вместо этого на близлежащем холме над Днепром, за городскими валами, он поставил не одного, а пять идолов, сведя воедино всех «светлых», небесных богов нового пантеона. Капище, по обычаю, обнесли глубокими рвами. Перед статуями богов горели неугасимые огни.
Все идолы представляли из себя высокие деревянные столбы с резными изображениями. Но глава пантеона, княжеский бог Перун выделялся особой красотой. У него, замечает летописец, были «глава серебряная, а ус золотой». Речь, конечно, о красках, а не о том, что деревянному кумиру действительно приделали голову из драгоценного металла. На киевлян эти новые украшения знакомого божества произвели глубокое впечатление, потому и запомнились.
Громовержец Перун являлся главой «Владимирова пантеона», верховным божеством, которое новый князь предлагал всей Руси. Второе же место закономерно занимал предок князей – Дажьбог, бог Солнца. В большинстве летописей речь идет о двух солнечных божествах – Хорсе и Дажьбоге. Однако решает дело одно свидетельство Начального летописца о более поздних временах, когда упоминает он именно пять, а не шесть языческих богов. Второй из богов Владимира именовался «Хорс Дажьбог». При этом местное киевское имя «Хорс», в позабытые времена воспринятое у давно сгинувших сарматских кочевников, толковалось ныне как личное имя бога. Легко же переводимое со славянского «Дажьбог» – как прозвище, «Бог Дающий». Потомки Дажьбога, «Дажьбожьи внуки», киевские князья правили под особым его покровительством. Сохранившееся в былинах княжеское прозвание «Красное Солнышко» – смутное о том напоминание. Так что второе место Солнца после всевластного громовника было вполне оправданно.
Третьим богом «Владимирова пантеона» стал Стрибог. Если Перуна и Велеса знали в разных концах славянского мира, то Стрибог являлся специфически восточнославянским, древнерусским божеством. В древности, до выдвижения Перуна на первое место среди небесных богов, предки славян почитали Небесного Отца как главу и родоначальника других мироправителей. Какие-то функции этого древнего персонажа достались на время богу Роду, воплощению родового единства. Но власть над атмосферными явлениями унаследовал Стрибог, «Стрый-бог». Стрыем у славян назывался дядя по отцу, в отличие от вуя или уя – дяди по матери. «Отец» в этой комбинации, – конечно, Перун. Таким образом, Стрибог – его брат. Стрибог в восточнославянских мифах и поверьях выступал как дед и хозяин братьев-Ветров, способных нести земледельцу и блага, и разрушения.
Четвертое, среди современных ученых вызывающее наибольшее количество споров, имя во Владимировом пантеоне – Семаргл. Пришло оно тоже в глубокой древности из сарматских степей, и был Семаргл местным богом Южной Руси, Киевщины и Левобережья. За что именно он отвечал – как раз и есть предмет главных споров. То ли, подобно своему иранскому прообразу, чудовищной птице (или крылатому псу) Сэнмурву, Семаргл был хранителем водных источников. То ли слился с исконно славянским семиглавым божеством войны, тем более что бог или дух войны в облике огромной хищной птицы часто встречается в мифах кочевников. Во всяком случае, ясно, что Семаргл принадлежал к младшим богам пантеона и не был известен даже по всей Руси. Сами имена Семаргла и Хорса подчеркивали верность Владимира киевским, южнорусским религиозным преданиям.
Замыкает список пяти богов Владимира единственное среди них женское божество – Мокошь. Очевидно, это жена верховного бога Перуна. Мокошь могли отождествлять с высшим женским началом славянской религии – «Матерью Сырой Землей». Однако это лишь одна из ее ипостасей. В общеславянской мифологии Мокошь занимала довольно скромное место, почитаясь как богиня земной влаги и покровительница женского рукоделия. На Руси ее почитание возросло, но в верховную богиню превратил Мокошь, вероятно, только Владимир – в ущерб другим, более популярным ипостасям женского божества.
Вообще, масса «народных» богов и божков, связанных в языческих мифах со Средним, земным, и с Нижним, подземным мирами, дарителей плодов земных и богатств, осталось вне Владимирова сонма. Даже включение Мокоши выглядит здесь некой уступкой. Капище на пригородном холме являлось подчеркнуто княжеским, дружинным – с тем отличием от своего предшественника на Горе, что призвано было служить действительно общим и главным для всего Киева, а то и для всей Руси. Правда, Владимир не только не разрушил других мест поклонения в Киеве, но и подновил капище и идол Велеса в Оболони. Но теперь, при наличии главного святилища сразу нескольких богов пантеона, одинокое почитание Велеса окончательно уходило на второй план, превращаясь постепенно из сколько-нибудь государственного в простонародный культ.
Почитание нового созвездия государственных богов требовалось подкрепить и обосновать. Одного авторитета княжеской власти в Киеве хватило бы, но поддержавшие «реформу» жрецы, связанные со старым киевским боярством, а особенно с городскими «старцами», домогались большего. Они добивались – на будущее – укрепления собственного влияния, собственного общественного веса. И Владимир последовал их советам, поставив на страх и силу. Вправе ли кто-то был ждать иного от захватчика власти, переступившего только что через тело брата?
Славяне отнюдь не были чужды жертвоприношений. Как правило, совершались кровавые животные жертвы, которым много не только письменных, но и археологических свидетельств. Человеческие жертвы встречались сравнительно редко, но все-таки вспоминаются и в фольклоре, и в источниках. Есть их следы и среди материалов раскопок. В процессе строительства славянских государств многие древние мрачные обряды отошли в прошлое, оставшись лишь смутными воспоминаниями в календарных праздниках с сожжениями или расчленениями чучел и кукол. Но параллельно этому крепло и переполнялось новыми амбициями жреческое «сословие».
В частых жертвоприношениях Владимира, добавившего к животной крови и человеческую, часто видят «тлетворное влияние» скандинавов. Однако это не так. У норманнов обряды такого рода встречались не намного чаще, чем у славян, хоть и были более изощренными. А во времена Владимира (и, что важно, позднее, «по окраинам» двоеверной еще Руси) жертвы животные и человеческие приносились по славянскому, а не скандинавскому ритуалу, – только резались и сжигались. Видимо, в разных местах Руси волхвы и жрецы переходили к этому верному средству держать население в страхе самостоятельно. Владимир лишь освятил новую «традицию» своим княжеским словом и в своем новопостроенном святилище.
В обычное время богам Владимира приносились обильные животные жертвы. Перуну, например, забивали быков. Но в честь знаменательных событий или по особо важным молениям совершались людские жертвоприношения. Тогда городские старцы и княжеские бояре бросали жребий, определяя, какая семья должна «дать богам» неженатого отрока или незамужнюю девицу. «И оскверняли землю требами своими, – пишет летописец, – и осквернилась земля Русская кровью и холм тот».
Однако здесь жрецы просчитались, и сам Владимир вместе с ними. Киев отвык от подобных порядков, даже если они были привычны в прошлом. В городе уже имелось достаточно христиан, и кое-кто из них не скрывал своего мнения. Рано или поздно должно было возникнуть прямое столкновение, и оно произошло, – лишь на время оставив иллюзорную победу за язычниками. Но об этом после.
Более сдержано вела себя киевская иудейская община – осколок былого величия Хазарии. Массовых обращений в иудаизм в Киеве не происходило, но община без того была велика и богата. Ни языческие, ни христианские князья ни в малом их не притесняли. В отличие от христиан, иудеям никогда не приходилось скрывать свою веру. Но их тоже не радовала ревность нового князя о язычестве. Тем паче что у некоторых хазарских раввинов уже возникла идея найти в Руси наследника рухнувшего каганата – в том числе в религиозном смысле. Это тоже проявилось позднее.
Пока что Владимир распространял «реформу» за пределы Киева. Задумывались меры по обновлению язычества вместе с Добрыней. Когда новый правитель прибыл в Новгород, то первым делом взялся за наведение именно религиозного порядка. И здесь власть действовала гораздо жестче, чем в Киеве. Хотя утверждения о том, что Добрыня сперва «огнем и мечом» обращал новгородцев в веру Перуна, а потом, дескать, точно так же обращал и в христианство, ни на чем не основаны. К обращению Новгорода в христианство мы придем в свой черед. Пока же надо отметить, что ни о каком сопротивлении Добрыне-язычнику речи в источниках нет. Авторитет княжеской воли сработал безукоризненно. Тем более что Владимир еще оставался для многих «своим» князем, сверх того, – победителем и завоевателем Киева.
Издревле главным святилищем ильменцев являлось Перынское капище недалеко от Нового града, прозывавшееся еще «Волховным городком». Оно располагалось на холме над Волховом, поднимающемся из соснового леска. Здесь, по преданию, жил и кудесил легендарный князь Волх, предок ильменского княжеского рода, от имени которого будто бы пошло название реки Волхов. Волх считался чародеем и оборотнем-волкодлаком, обращавшимся в разных зверей, сыном Змея. Поздние былины приписывают ему завоевание далекой южной страны. В ранних эпических сказаниях подвиги Волха немногим скромнее. Он побеждал своих врагов в пределах Поильменья, «преобразуясь, – излагает местный писатель XVII века, – во образ лютого зверя коркодила», или, как передавала менее ученая народная молва, «змияки». Добившись покорности от всех ильменцев, он утвердился над ними князем. Погиб Волх на реке, от лап волховских водяных, с которыми кровно враждовал. Тело его в змеином обличье пышно погребли близ «Волховного городка», но следующей ночью его «пожрала» Земля. Для язычников это служило доказательством того, что Волх чудесным образом «в боги сел». Новгородцы почитали его как воплощение Перуна и совершали в «Волховном городке» жертвоприношения.
Добрыня снес старый «Волховный городок», покончив – на словах, на «официальном» уровне, – с этим причудливым культом. Яму-провал, в которой исчезло тело Волха, впрочем, так никогда и не засыпали, и еще суеверы XVII века уделяли ей внимание. Но вот вместо старого «городка» Добрыня соорудил над Волховом новый, – и именно его помнили позднее новгородцы. Центром его стал столбовой кумир Перуна, вытесанный по киевскому образцу. Перун изображался как бог-воин, вооруженный огромной палицей. Площадку с идолом большим неровным кольцом опоясывал широкий, семиметровый (но глубиной лишь до 1 метра) ров в форме восьмилепесткового цветка. В «лепестках» на праздники зажигался огонь, в который бросались более скромные подношения – горшки с пищей, ремесленные изделия. В восточном «лепестке», обращенном к реке Волхов, огонь, поддерживаемый священной древесиной дуба, горел постоянно. Животные и человеческие жертвы приносились перед ликом Перуна в жертвенном круге, выложенном большими булыжниками.
Побуждения Добрыни ясны. Он насаждал культ киевского Перуна – верховного надмирного покровителя князей и дружины, а не племенного князька-полубога. Заодно с построением и на Волхове «главного» капища, отодвигалось на задворки столь популярное на Севере поклонение хозяйственным, простонародным богам – Велесу и Земле. Однако справиться с этим Добрыне оказалось не под силу. Культ Велеса все равно остался основным для словен. Просто центр его переместился на восточную периферию, в Ростов и Тимерево, что близ позднейшего Ярославля. Здесь же скопились и хранившие верность Велесу в его прежней мощи волхвы – будущие соперники первых поколений проповедников христианства.
Часто говорят о том, что «первая религиозная реформа» Владимира не удалась из-за разнообразия местных языческих культов, а результаты ее проведения разочаровали князя. Правильнее сказать, что она как следует и не развернулась. Владимир ограничился утверждением своего пантеона в Киеве и в Новгороде. Причем новгородский результат оказался настолько двусмыслен, что дальнейших мер просто не предпринималось. Никаких. Владимир и Добрыня, люди умные и дальновидные, – насколько позволяла им в этом вопросе вера отцов, – быстро поняли, что попытка свести к «общему знаменателю» племенные верования ведет в никуда. Потому они остановились в своей преобразовательной деятельности – для дальнейшего раздумья. «Реформа» застопорилась, толком и не начавшись.
Это, однако, не означало еще разочарования в самой отчей вере – или прекращения жертвоприношений в Киеве. Между тем среди киевлян, как уже говорилось, со времен Ольги существовала христианская община. Владимир не устраивал явного гонения. Но после Ярополка киевские христиане, как и на пике славы Святослава, предпочитали веру «держать в тайне». Недовольны были христиане – но недовольны доходившим до изуверства религиозным рвением князя оказывались и новые «безбожники». Те самые, «верующие в самих себя». Таких в княжеской дружине имелось немало – и славян, и оставшихся норманнов. Больше, чем христиан, убежденных врагов язычества, которым Владимир вряд ли доверял. Точку зрения именно этой колеблющейся дружинной массы, скептичной и раздраженной жуткими новшествами, вкладывает монах Одд в уста своего героя, княжеского воспитанника Олава Трюггвасона. К чести будущего крестителя Норвегии. Хотя вовсе необязательно подобные речи вел с будущим крестителем Руси именно он. Повторим, – это вполне мог быть и иной славянин из ближней дружины. Норманны, совмещавшие своих богов с местными, легче, конечно, впадали в скепсис. Но если бы скепсис не выходил за пределы небольшого круга чужеземцев, то вся история Руси сложилась бы иначе. Здесь же важна сама более или менее достоверно воспроизводимая преданием точка зрения, а не ее «автор».
Итак, Олав, никогда никаким богам не молившийся (собственно, в рабском детстве его некому было учить, а потом привыкать оказалось поздно), обычно ходил с Владимиром лишь до «дверей» «храма». Там он останавливался и ждал, пока князь завершит свои обряды. «Храмов», наподобие западнославянских или скандинавских, у славян восточных никогда не водилось, но это как раз объяснимая условность. Однажды обеспокоенный Владимир попросил приемного сына: «Не делай так больше. Может случиться так, что боги разгневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей молодости. Я бы очень хотел, чтобы ты смирился перед ними. Боюсь, что они обрушат на тебя сильный гнев, коему ты себя сам подвергаешь». Но Олав ответил: «Никогда я не испугаюсь богов, не имеющих ни слуха, ни зрения, ни сознания, и я могу понять, что у них нет никакого разума. И из того я могу сделать заключение, господин, какова их природа, что ты мне представляешься всякий раз с милым выражением, за исключением того времени, когда ты там и приносишь им жертвы. Тогда, когда ты там, ты мне всегда кажешься несчастным. И из этого я заключаю, что те боги, которым ты поклоняешься, должно быть, правят мраком».
Безотносительно к тому, велись ли с князем подобные разговоры, он имел все основания для мрачности. И дело даже не в кровавых ритуалах, призванных умилостивить богов. Владимир определенно не находил в язычестве ответа на мучившие его вопросы. Пусть убийца князя – князь по закону. Но распространяется ли закон на «робичича»? На братоубийцу? Владимир-то знал, что его оправдание местью являлось уловкой. Но можно ли скрыть это от богов? Тем более от тех могущественных, надмирных, которых он хотел видеть? Что «по ту сторону»? Помогут ли усердные жертвы – в главном, в конечном? Князь быстро стал раскаиваться во многом из совершенного, видеть в себе преступника против закона крови – и вообще против закона человеческого. Мягкие нравы, привитые Ольгой, начали брать верх над свирепостью междоусобной брани, как только она завершилась.
Но, не отказываясь от «отчего предания», раскаиваться смысла не имело. Древние боги сурово и неумолимо стояли на страже древних законов. Ни на земле, ни на небе преступление не могло обернуться страшной ошибкой, не могло быть зачтено за помрачение. «Убьет муж мужа – так мстит брат за брата, или сын за отца…» Так гласил русский закон еще в середине XI столетия. Иначе ли судили боги, предки князей и исток княжеского суда? А сын Ярополка между тем подрастал в княжеском доме…
Кто же и каким образом способен понять и простить? Выхода Владимир не видел. Искал и не находил. Не находил в пределах своей веры и не смел пока обратиться к другим. Оставалось забыться, жить настоящим – явление частое на закате язычества. Благо, новая власть открывала новые возможности.
Жены Владимира
Во время княжения в Новгороде Владимир, сколь нам известно, оставался верным мужем единственной жены – «чехини» Аллогии. Но затем в его доме появилась Рогнеда, а следом, в Киеве, – «грекиня» Наталия. Что же касается Аллогии, то она долго после вокняжения Владимира на новом месте не прожила. Это видно и из того, что князь имел от нее лишь одного сына, и из того, что положение главной, «старшей» жены великого князя уже в начале 980-х годов перешло к Рогнеде. Это закономерно – она к тому времени родила князю четверых сыновей (четвертым стал Всеволод, родившийся в 979-м или в 980-м) и, возможно, старшую дочь. С другой стороны, смерть первой жены, матери сына-наследника Вышеслава, позволяет лучше объяснить случившееся затем.
Сын наложницы, Владимир определенно в наложничестве ничего дурного не видел. Ни один из его браков (за вычетом первого, о заключении которого нам ничего неизвестно) не являлся «чинным». Владимир сначала брал себе «жену», а потом милостиво признавал ее в этом качестве. Он едва был виноват в этом – князя влекли злосчастные обстоятельства, «логика событий», неизбежная в ту эпоху. Рогнеда отвергла чинный брак и унизила его, навлекши на свой род страшную месть. Захватив же Киев, Владимир оказался сражен красотой вдовы брата, находившейся теперь в его власти (и на его ответственности), – и взял ее себе.
При всем том, князь искал достойный выход из положения. Ничто ему не мешало оставить своих пленниц наложницами – но он всех родивших ему признавал женами. Даже мать родившегося «от двух отцов» Святополка. В отличие от многих современников и единоверцев, Владимир, – «любил» он Святополка или «не любил», – и не подумал избавиться от ребенка и его матери, хотя бы спровадив из страны. Поступил же с точностью до наоборот. Повторим – в отличие от многих своих современников и единоверцев, хотя бы в той же Скандинавии.
Но два заключенных силою «брака», смерть первой жены, да ко всему новая, необъятная власть киевского «единодержца», – не могли не изменить нрав Владимира. Был он, следует помнить, еще молодым или относительно молодым, на заре полной зрелости, человеком. Возраст его на момент захвата великого княжения определяется от 23 до 36 лет, причем последнее наименее вероятно. Страшные, расходившиеся с его внутренним складом деяния, совершенные под давлением советников и обстоятельств, больно ранили сердце. Кто-то забывается вином. Владимир шумные пиры с дружинниками любил. Но временное утешение нашел в ином соблазне. Он, очутившись на киевском столе, очень скоро «побежден был похотью женской».
«Несытовством» на блуд новый киевский князь превзошел всех своих предков. У Игоря наложниц было всего-то сорок. Счет наложницам Владимира пошел на сотни. Игорь держал своих при себе в Киеве. Владимир превратил княжеские «грады» под Киевом и еще одну резиденцию, село Берестово, в серали. 300 наложниц обитало в Вышгороде, помнившем еще в своих стенах святость Ольги. Еще 300 в другой княжеской крепости – Белгороде. В неукрепленном Берестове жило чуть меньше – всего 200.
Но Владимиру в его непокое и этого было мало. «И был несыт на блуд, – рассказывает Начальная летопись, – и приводил к себе мужних жен, и девиц растлевал». Даже былинный эпос, древнейшие, к киевской эпохе восходящие песни которого, как правило, добры к Владимиру Красное Солнышко, сохранил память об этой нечистоте. В одной из былин сказывается, как князь по наущению коварного советника, боярина Вечары Лазорьевича, увел жену у своего богатыря Данилы Ловчанина, а самого Данилу сгубил. При общей любви большинства подданных к Владимиру, «мужних жен и девиц» народ ему не прощал.
Не слишком плохо, в общем-то, относившийся к Владимиру немецкий хронист Титмар Мерзебургский в описании «великого и жестокого распутника» детален до скабрезности. «Упомянутый король, – смакует он, – носил венерин набедренник, усугублявший врожденную склонность к блуду». Наиболее любознательные исследователи до сих пор гадают, что имеется в виду… Впрочем, и Титмар завершает рассказ, подобно русским авторам, удостоверяя подлинность их свидетельств для самых безнадежных скептиков – полным перерождением Владимира во Христе. При таком исходе в устах современника-иноземца и вольности звучат совсем иначе.
Русские же летописцы и агиографы повествуют о блуде великого князя целомудренно, без излишеств. Сухо перечисляют княжеские резиденции и число наложниц, в них содержавшихся. Приводят речения из Писания, осуждающие распутство, – и тут же восхищаются случившимся позднее преображением Владимира: «Был ведь женолюбец, как и Соломон, у коего было, говорят, жен семьсот, а наложниц триста. Мудр был тот, а под конец погиб. Этот же был невежественен, а под конец обрел спасение. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разуму Его несть числа».
Пока, однако, до спасения еще не один год. Пока Владимир взял себе еще одну жену. В летописи при перечислении детей Владимира говорится: «от чехини – Вышеслава, а от другой – Святослава, Мстислава». Некоторые летописцы уже в XV–XVI веках толковали: «другой чехини». Но логичнее заключить, что речь идет просто о «другой жене», скорее всего, из местных, имени которой историческая память не сохранила. Или сохранила? В поминальных записях начала XI века о смертях членов княжеского дома, вошедших в Начальную летопись, наряду с Рогнедой упомянута некая «Малфредь», Мальфрид. Это скандинавское имя не поддается (хотя попытки делались) отождествлению с матерью Владимира славянкой Малушей. Не поддается оно и отождествлению с любой «чехиней» (хотя Татищев высказал именно такую догадку, и мы ожидаемо находим ее «подтверждение» в Иоакимовской). А вот боярская дочь из Киева, происходившая из рода вроде Свенельдова, варяжских кровей, имя такое вполне могла носить.
Сыновья ее, как будто, получили имена в честь покойных членов княжеского дома – деда Святослава и умершего в детстве Мстислава «Рогнедича». Но возможен и другой вариант – старший назван действительно в честь князя Святослава, а второй в честь не столько покойного сводного брата, сколько живого родича Мстиши Свенельдича. Мстиша, представитель знатнейшего боярского рода, годился князю и в тести, и в шурья. Возможно, от той же Мальфрид родилась одна из дочерей Владимира – Премислава.
Владимир вступил в брак с Мальфрид уже после рождения у Рогнеды четвертого сына, Всеволода. У любимой жены великого князя появление новых княгинь не могло не вызвать недовольства. Брак с «грекиней» казался просто оскорбительным. Неужели жена для Владимира – это просто родившая сына, к тому же неизвестно чьего, наложница? Рогнеда чувствовала себя униженной. Но женитьба на Мальфрид (если наши предположения о ее происхождении верны) унижала гордую полоцкую княжну совсем иначе, более того, была опасна. Владимир впервые за последние годы заключил полноправный «чинный» брак со свободной, не зависящей от его меча женщиной. Рогнеда поняла, что ее положение пошатнулось.
Была, конечно, и обычная ревность, обида на мужа, делившего себя между тремя женами и сотнями наложниц. И превыше всего – память о крови родни, которая по-настоящему взывала к Рогнеде лишь теперь, когда она ощутила себя покинутой победителем. Княгиню охватывал гнев. В конечном счете она решилась отомстить убийце своего отца и неверному мужу за все.
Однажды, когда Владимир спал рядом с ней, Рогнеда выхватила нож и попыталась зарезать князя. Но Владимир вовремя проснулся и перехватил руку жены. «Опечалилась я, – сказала Рогнеда, – ведь ты отца моего убил и землю его полонил ради меня. А ныне, вот, не любишь меня и с младенцем этим». Она имела в виду своего первенца Изяслава. Тот уже достаточно вырос, чтобы ходить, разговаривать и даже держать легкий меч.
Владимир разгневался. Никакой правоты за Рогнедой он не видел, позволять ей покушаться на себя вновь не желал. А потому решил казнить жену. Князь велел ей одеться в свадебный наряд и сесть на чистой постели в хоромах – с тем, чтобы он пронзил ее мечом. Она покорилась, но перед приходом Владимира подозвала Изяслава и, вложив ему в руку обнаженный меч, сказала: «Когда войдет твой отец, выступи и скажи: “Отче, думаешь, что один тут ходишь?”» Мальчик сделал все так, как наказала мать. Разозленный Владимир воскликнул: «Да кто думал, что ты здесь?!» – и бросив меч, ушел прочь.
Созвав своих бояр, князь поведал им о происшедшем. Бояре рассудили, что убивать Рогнеду несправедливо, а держать в Киеве опасно: «Уже не убивай ее ради этого ребенка, – сказали они, – но восстанови отчину ее и дай ей с сыном своим». Владимир так и поступил. Но сначала он отдал Рогнеде и отправившемуся с ней Изяславу не Полоцк, а новый, построенный специально для того град – Изяславль. Изяславль «срубили» на самых южных границах Полоцкой земли, между верховьями Немана и Вилии. Место, вероятно, выбирала сама Рогнеда. Совсем близко к югу лежали владения Туры, спутника и, вполне возможно, родича ее отца. Владимир с Туровом не враждовал и потому согласился с выбором. Младших сыновей он с Рогнедой разлучил. Ярослав и Всеволод остались в Киеве при отце, старший, как мы знаем, – на попечении Блуда.
Лишив на время Рогнеду младших сыновей, Владимир сам во всех смыслах лишился старшего от нее сына. Рогнеда, пестуя свои обиды, растила Изяслава в нелюбви к отцу и братьям. И он, и все его позднейшие потомки твердо знали, что род их – Рогволодовичи, а не Рюриковичи. Только «Рогволожими внуками» считали себя они, и в роду Владимира пробился росток новой, на этот раз вековой кровавой распри. Так оба основанных на силе языческих брака Владимира принесли его потомству горькие плоды. Но жатвы князь уже не увидел.
Легко рассуждать обо всем изложенном выше с позиций сегодняшнего дня. Человека современного грехи средневековых и тем более «варварских» предков, как правило, потрясают (почему-то больше, чем уничтожение миллионов современными правителями). Но попробуем ответить на несколько простых вопросов. Видел ли во Владимире злодея хотя бы кто-то из современников, будь то русских или иностранных? Нет – ни одного однозначно негативного свидетельства. Русские летописцы, Иаков Мних, Титмар бичуют языческое прошлое князя – но лишь в противопоставление его дальнейшему раскаянию. Холодноваты краткие свидетельства византийцев, но это и объяснимо, да там и какой-либо прямой негатив отсутствует.
Другой вопрос – был ли Владимир плохим правителем, «тираном»? Тоже ведь нет. Разве что в том смысле, что получил власть беззаконно. Смерть Ярополка от рук наемников брата ужасна и легла кровавым пятном на судьбы Рюриковичей. Но во вред Руси она не пошла. Владимир с первых шагов являлся строителем, а не разрушителем. Даже в своих учиненных во имя единения страны языческих жестокостях. Никто, кстати, не обвиняет его в их «политическом» использовании. Ни один из язычников жертвоприношениям князя не воспротивился. Почти весь нехристианский Киев внешне принял их как должное.
Был ли Владимир по характеру «злым», черствым человеком? Из данных всех до единого описывающих его нрав источников ясно, что нет. К подданным князь всегда был добр и щедр, воспитал «двуотчича» Святополка, как родного сына, пусть и не без борьбы с самим собой, Рогнеду не только простил, но и пожаловал, а позже примирился с нею, не раз искренне раскаивался в содеянных поступках. Кажется лишь, что князь был резок в своих порывах до полного помрачения, но «отходчив». Не здесь ли корень сотворенного им в междоусобицу и сразу после за ней зла – как и скоро наступавшего глубочайшего раскаяния?
Владимир совершал преступления – и пытался бежать от них. Он не находил опоры ни в законах людских, ни в додумывавшейся им самим божеской «правде». Стараясь забыться на ложах любви, он встречал там рабскую покорность, холодный расчет или нож мстительницы. Пустота и бессмысленность усилий обступали душу князя, терзали ее все больше и больше.
Правы были летописцы, не скрывая пороков великого князя, не затушевывая темных пятен в его языческом прошлом. Без них – невозможно понять, как Владимир Святославич стал Владимиром Святым, что подтолкнуло его измениться до самых потаенных сердечных глубин. Владимир искал спасения потому, что знал, от чего спасается. И страх перед бездной, разверзавшейся за спиной, гнал его к верному исходу. Но горькая память – она осталась навсегда.
А между тем приходилось править страной, и править достойно. Иначе Владимир не умел. А еще требовалось доказывать дружине, что новый великий князь русский достоин своего титула и своих великих предков. Доказывать – успешными войнами.
Войны Владимира
Войн Владимир не любил и потому с охотой подчинял «окрестных» миром. Так, миром, без всякого упоминания о военных действиях, подчинились Киеву на первых порах волыняне, а возможно, и туровские дреговичи. Долгое время покорно великому князю было и чернигово-северское Левобережье с собственным княжением.
Правда, одна война преследовала Владимира с самого восшествия на престол – и до конца его дней. Наведенные Варяжком печенеги терзали своими набегами русское пограничье. Владимиру кое-как удалось завязать сношения с дружинником-мстителем. В конце концов после сложных уговоров Варяжко опомнился и скрепя сердце согласился принести «роту», клятву на верность новому князю. Однако для печенегов месть Варяжка за Ярополка была лишь первым поводом, открывшим дорогу на Русь. Они продолжали набеги и после его возвращения в Киев. Владимир вынужден был держать на рубежах значительные силы – гарнизоны в укрепленных «градах» и отдельные разъезды-«заставы», воспетые позже в былинах. Для этих целей он не только набирал воинов по племенам. Князю приходилось нанимать и новых варягов. Благо, Ладога ими полнилась.
Оборонительная война отнимала силы. Но долг князя – кормить дружину. Подражать и здесь образу действий Ольги для недавнего завоевателя престола было бы смерти подобно. Да Владимир и понимал, что миром не восстановить прежних границ Руси. Ольга сохраняла верность своему миролюбию после победы над древлянами неукоснительно. Но в результате накопилось немало потерь. Святослав вел себя прямо противоположным образом. Но побед не закрепил, а наследник утратил часть и этих завоеваний. К тому же Святослав не возвращал утраченного своего, а боролся за новые земли. Полоцк вернул под власть Рюриковичей только Владимир. Теперь требовалось продолжить дело. Владимир поставил своей задачей включить в состав строящегося государства все земли, которые когда-либо платили Рюриковичам дань.
Начать он решил с Запада. Здесь стремительно усиливалось молодое, христианское уже государство – гнезненская Польша князя Мешка. Мешко сплачивал вокруг своего княжения западнославянские племена, готовясь бросить вызов сильнейшему из их княжеств – Чешскому, владевшему тогда и частью южных «ляшских» земель. Главным яблоком раздора Польши с Русью являлись «Червенские города». Стояли они в землях племенного союза червян, которых западные славяне считали своими общими предками. Потому для «ляхов» обладание Червнем, Перемышлем и другими градами к западу от Западного Буга имело огромный смысл. Но прямые потомки древних червян, лендзяне (от названия коих, кстати, и произошла некогда усеченная форма «ляхи»), долго сохраняли полную независимость. При Игоре они стали платить дань русскому князю. После Игоря – перестали.
Ни Святослав, ни Ярополк не озаботились восстановлением власти над лендзянами. Святослав мечтал о Чехии и Венгрии, но не о Польше и не о Червенских градах. К тому же земли лендзян были отделены в те годы от Руси отпавшими дреговичами и набиравшими силу независимыми волынянами. Ситуация была создана как будто специально для Мешка. Он не замедлил подчинить лендзян своей власти. Когда это произошло, с точностью неизвестно. Но к 981 году Червень, Перемышль и прочие Червенские грады были уже градами «ляхов» – об этом свидетельствует летопись, а других данных у нас просто нет.
Владимир выступил в поход на запад в 981 году. По пути он миновал землю волынян, не встречая сопротивления. Силы у волынян определенно были – об этом можно судить по размерам их укрепленных «градов», раскопанных ныне археологами. Но они не поднялись на Владимира. Из этого мы и заключаем, что именно их покорил он «миром», о каковых мирных покорениях вспоминал позднее митрополит Иларион. Волыняне впервые тогда уплатили дань Киеву. До Владимира ни одному Рюриковичу это не удавалось.
Но за Бугом о мирных решениях речи уже не шло. Грянула война. Власть Мешка в столь отдаленных от Гнезна районах не успела еще утвердиться. Владимиру сопутствовал успех. Один за другим Червенские грады пали. Взяв их с боя, Владимир вновь обложил земли данью. Местное племенное княжение уничтожил еще Мешко, так что теперь лендзяне лишились всякой автономии. Само имя их исчезло со страниц источников, а прежние лендзянские земли стали зваться «Червонной Русью». Дань они платили непосредственно Киеву. Следуя примеру Ольги, покорительницы древлян, Владимир подчинил себе первое завоевание напрямую.
Итоги первого похода Владимира оказались впечатляющими. Руси покорились Червень и Перемышль – надежные оплоты на левобережье Буга. Граница Польши сместилась далеко на запад. Граница же Руси, по свидетельству договора Мешка с римским папой, описывающего рубежи Польши, теперь «протягивалась до Кракова». Краков принадлежал Чехии, и Русь обрела довольно протяженное пограничье с ней. Чешские князья владели, хотя зыбко, территорией восточнославянских хорватов по Верхнему Днестру и в Закарпатье. Перемышль стоял на самом рубеже хорватских земель. Владения Владимира широким клином вошли между землями польского и чешского князей, оставляя хорватов к югу, почти недосягаемыми для поляков.
Итак, войну с Владимиром Мешко проиграл. Однако никакого мира заключено не было. Пограничье по-прежнему оставалось зоной вялотекущего противостояния, частых военных тревог. Потому польский князь, должно быть, обрадовался случившемуся в том же году приобретению. К врагу своего воспитателя в год начала войны примкнул – правда, весьма условно, – Олав Трюггвасон.
Первое время, как мы уже знаем, у знатного норвежца на Руси дела шли совсем неплохо. Со временем, однако, пребывание северного викинга при дворе великого князя начало раздражать киевскую знать. Варяги из Скандинавии все уже казались ей опасными чужаками. На Олава стали наговаривать, «клеветать», если верить саге. Только довольно поздние версии считают возможным конкретизировать «клевету». Князю будто бы советовали более не возвышать Олава. «Такой человек, – говорили Владимиру, – для тебя всего опаснее, если он захочет посвятить себя тому, чтобы нанести вред Вам или Вашему государству, особенно поскольку он обладает такими физическими и духовными совершенствами и его так любят. И не знаем мы, – добавляли наушники, – о чем они с княгиней постоянно разговаривают». Автор саги не хочет, чтобы Олава даже клеветники обвиняли в чем-то однозначно дурном, и тут же открывает нам – оказывается, у княгини имелась своя, равная княжеской, дружина, на ее содержание собиралась дань, и Владимир соперничал с женой из-за родовитых воинов. Заподозрив Олава в том, что тот хочет перейти на службу к его жене, князь оскорбился. Если мы желаем увидеть здесь историческое зерно (что, как часто с поздними подробными сагами, совсем не обязательно), то можно допустить, что после покушения Рогнеды Владимир заподозрил Олава в каком-то сговоре с ней.
Так или иначе, Олав уехал на Север. Только что цитированная версия вводит трогательное прощание с княгиней и намерение Олава отвоевать родные земли. Но так далеко замыслы норвежского королевича пока не простирались. Поступил он, в конечном счете, так же, как поступали многие норманны – не получив признания у одного государя, отправился к его врагу. Если Олав действительно был «скептического» исповедания и его раздражали киевские религиозные порядки, то и это могло подтолкнуть его к отъезду на Запад.
В Ладоге Олав собрал под свое начало многих викингов из разных скандинавских племен и отправился с ними искать удачи. Летом 981 года, одновременно с выступлением Владимира в поход, Олав отплыл в Балтику. На Русь он не возвращался более трех лет. Разорив по пути берега Прибалтики и разграбив датский Борнхольм, Олав нашел новый приют в Волине, норманнском Йомсборге – столице славянского племенного княжения в устье Одры, незадолго до того захваченной и облюбованной разноплеменными викингами. Отсюда он немедленно завязал контакты с Мешком. Тот, желая привлечь Олава себе на службу, даже выдал за него, формально язычника, одну из своих дочерей. Но Олав в условиях начавшейся войны между Русью и Польшей не хотел открыто выступать против воспитателя. Норвежец предпочел остаться самостоятельным «морским конунгом». Его флот еще более увеличился за счет «йомсвикингов» и разного рода изгоев – как норманнов, так и славян. В то же время, поддерживая отношения с Мешком и разбойничая из Йомсборга по всем северным морям, Олав демонстрировал Владимиру свою силу и полезность.
Владимиру, однако, пока было не до того, чтобы оценивать размеры сей утраты. Думается, он просто на какое-то время выбросил неблагодарного питомца из головы. У него имелись пока иные заботы. Разгромив «ляхов», князь не сидел в Киеве. Тут же, не дав дружине отдыха, он бросил войска на другой конец Руси, к порубежью вятичей.
Вятичи в свое время с относительной легкостью покорились Святославу, избавившему их от хазарского ига. Но все же, когда освободитель облагал данью и их, они воспротивились, и их пришлось «побеждать» на обратном пути в Киев. Киевская дань по размеру не отличалась от хазарской, а киевлян вятичи воспринимали почти как таких же чужаков. После смерти Святослава они сочли себя ничем не обязанными его наследникам. Ярополк и не пытался исправить дело.
Владимир, вдохновленный первым успехом, решил завершить основные дела еще до исхода года. Пройдя через северские земли и набрав, должно быть, здесь еще воев, он вторгся в пределы непокорных вятичей. В победе сыграла роль и внезапность появления воевавшего только что далеко на западе киевского князя. Разгромив, он обязал их платить дань «от плуга», которую они давали Святославу.
Владимир вернулся на зиму в Киев. Однако решить с одного маха вятичскую задачу ему не удалось. Вятичи «заратились» снова. Отказавшись платить положенную дань, они стали готовиться к войне, собирая племенное ополчение. Они могли рассчитывать на поддержку своих союзников и «братьев» радимичей, также упорно не желавших покоряться Киеву. Весной 982 года, получив вместо «повоза» с северо-востока тревожные вести, Владимир снова выступил в поход. Он вновь вступил в земли вятичей и вновь нанес им поражение. На этот раз окончательно – в свое правление. Позднее вятичи доставят еще немало беспокойств Рюриковичам, но сейчас они покорились Руси и впоследствии платили дань неукоснительно.
Итак, Владимир в течение четырех лет разом восстановил границы Руси Игоря и Руси Святослава, да еще с небольшими приращениями. Но этого казалось мало. Теперь на очередь становилось расширение пределов власти Киева. Еще не пределов «страны» – едва ли сообщество платящих дань Руси племен подходило тогда под такое определение. Но уже скоро, очень скоро под властью Владимира сообщество это начнет в единую страну превращаться.
Пока же продолжалось покорение соседних земель. Весной 983 года Владимир выступил из Киева на северо-запад. Целью его были земли ятвягов – балтского племенного союза, занимавшего земли между Неманом и Западным Бугом. Воинственные ятвяги представляли постоянную угрозу для восточнославянских и западнославянских княжеств, время от времени совершая опустошительные набеги на земли соседей. Те, разумеется, в долгу не оставались, и поход Владимира стал одним из актов в длинной цепочке ожесточенных войн. С другой стороны, ятвяги и смешивались со славянами, особенно по Бугу и в верховьях Немана – с расселявшимися на север дреговичами. В результате к северу от дреговичского Полесья постепенно складывалось население будущей Черной Руси. Но в описываемое время ятвяжские земли Русью еще далеко не числились.
Как именно шел Владимир на ятвягов, неизвестно. Судя по тому, что он не враждовал с Туровом, можно допустить, что и через земли дреговичей, вдоль Припяти. Но вероятнее, что княжеское войско поднялось по Бугу. Приняв под свою руку волынян, Владимир принял и ответственность за их внешнюю безопасность. Между тем северные волынские земли являлись главной мишенью для ятвяжских набегов. Для защиты от этих врагов и возник опорный пункт Руси на стыке рубежей ятвягов, дреговичей и волынян – Берестье, нынешний Брест. Идти по Припяти или по Бугу, – Берестье в любом случае являлось лучшим перевалочным пунктом для киевского войска, вступающего в эти края.
По-разному складывались войны с ятвягами у славянских князей, русских и польских. Заболоченные просторы, среди которых возвышались хорошо укрепленные ятвяжские грады, таили немало ловушек для врага. Но Владимиру, как и всегда, сопутствовала удача. Летопись кратка в описании этой победы, как и большинства других походов Владимира: «и победил ятвягов, и взял землю их». Точно то же – «и ятвягов взял» – сообщает Иаков Мних. Судя по этим формулировкам, Владимир не просто собрал с ятвягов дань, а на какое-то время уничтожил их племенные княжества, напрямую подчинил противника Киеву. На какое-то время – поскольку уже сыну Владимира Ярославу вновь пришлось, и безуспешно, иметь дело с независимыми ятвягами.
Победы Владимира многое давали Руси, обогащая ее, расширяя ее пределы, делая безопасными границы. Этим они отличались от преходящих побед лихого Святослава. Но одно омрачало многим радость от успехов князя. Воинские доблести становились поводом для особо торжественных жертвоприношений. И животной кровью дело не ограничивалось. Киевская знать по жребию определяла человеческую жертву, и с каждой победой какой-нибудь столичный дом лишался своего ребенка. Речь при этом шла отнюдь не о подольском люде, а о богатых дворовладельцах Града. Владетельные киевляне истребляли собственные семьи. Это была и благодарность за посланную удачу, и молитва о новых победах.
И в этот раз, после победы над ятвягами, князь приступил к «требе кумирам с людьми своими». Вступил он в Киев в начале июля 983 года. Утром 12 июля собравшиеся бояре и старцы «метали жребий об отроках и девицах». «На кого падет, – говорилось при этом, – того зарежем богам».
В этот раз жребий пал на сына одного из киевских христиан. Варяг, в крещении звавшийся Феодором, прибыл в Киев из Византии. Там он служил или торговал – о том точно неведомо. Двор его стоял в стенах княжеского града, в широком полукольце, образованном княжескими теремами разных лет, неподалеку от могилы княгини Ольги. Феодор, конечно, служил в княжеской дружине, но притом «втайне» исповедовал христианство. Для князя он вполне мог сойти за неизбежное зло, за еще одного варяга-«безбожника», так что неучастие в жертвоприношениях богам Феодору прощалось. Сына Феодора звали – опять же в крещении – Иоанном. «Красен телом и душою», – говорит о нем летописец. В ту пору Иоанн уже входил в юношеский возраст.
Феодор, разумеется, не присутствовал на совете высшей знати, решившем его судьбу. Строго говоря, и не по чину это было пришельцу-варягу. Порешив (с умыслом или «честно») об Иоанне, старцы и бояре отправили к Феодору вестников. «Пал жребий на сына твоего, – поведали те, – поскольку изволили его себе боги наши. Да сотворим требу богам».
«Не боги это, а дерево, – твердо и прямо ответил ошеломленный такими вестями Феодор. – Сегодня есть, а утром сгниет. Ведь боги не едят, не пьют, не говорят – сделаны они из дерева руками, секирою и ножом. А Бог един, Ему служат греки и поклоняются, Он сотворил небо, землю и звезды, солнце, луну и человека, дал ему жить на земле. А ваши боги что сделали? – сами сделаны. Не дам сына своего бесам».
Пораженные богохульством и открывшимся христианством Феодора, посланные тут же удалились. Его слова они передали киевским аристократам. Те немедля вооружились и созвали на вече киевлян. Собрав огромную толпу язычников при оружии, они вломились на двор к Феодору и «обступили» его терем. Феодор с сыном вышли на сени. Ясно было, что сдаваться они не собираются.
«Дай сына своего, а мы отдадим богам!» – закричали варягу. «Если это боги, то пусть пошлют одного из богов и возьмут сына моего, а вы зачем пришли сюда, – зачем вы им требуетесь?!» – ответил Феодор. Тут «народ кликнул великим гласом», под варягами подрубили столбы деревянных сеней. Упавших добили. Тела не стали подносить богам, а закопали неизвестно где.
О том, принимал ли какое-то участи в происшедшем князь, ничего неизвестно. Мимо Владимира эта трагедия, свершившаяся в связи с его победой и в его дружине, пройти не могла. Однако и он считал жребий в воле богов, и он ничего не мог – при тогдашней своей вере – в событиях изменить. И вместе с тем для религиозной обстановки в Киеве гибель Феодора и Иоанна стала жестким, кровавым рубежом. До сих пор, даже во времена Святослава, не было явных гонений на христиан. Правда, те, кто доверяет рассказу Иоакимовской летописи о крещении «огнем и мечом», должны верить ее же свидетельствам о Святославе – гонителе христиан, разрушителе церквей и даже братоубийце. Очень поздние редакции жития Владимира, кстати, приписывают почти точно те же злодеяния ему. Но все эти сведения не находят никакого подтверждения в достоверных памятниках. Повторим – согласно подлинным древним источникам, ни Святослав, ни Владимир настоящими гонителями не были. Просто христианам в описываемые годы жилось в Киеве неуютно.
Но притеснения, опасность насмешек или неправого суда – одно. Прямая смертельная опасность – совсем другое. Феодор и Иоанн погибли потому, что исповедовали христианство. Так это было в действительности, и так это поняли все иноверцы в Киеве. А значит, русское язычество стало другим. При Святославе оно только ревниво оборонялось от чуждых влияний. Теперь оно претендовало на единственную истину, безжалостно уничтожая несогласных. Как в Древнем Риме. Как во многих других странах, освященных христианским мученичеством.
Да, Феодор и Иоанн, не поступившиеся христианской верой, исповедавшие ее открыто перед лицом смерти, явились первыми мучениками Русской Церкви. Единственными за языческую эпоху. Древние и прочные, укрепленные государственным правом языческие культы могли выстаивать против такого смиренно-твердого противления веками. Но и прежний Рим в конце концов пал. Языческой Руси, на счастье русов, хватило нескольких лет. Феодор и Иоанн дали пример. Проверять, насколько другие христиане готовы следовать ему, язычники более не осмеливались. Счет христианам шел не на единицы, и жрецы могли опасаться настоящих волнений. Владимир же еще раз оценил преданность христиан своему Богу – и ему прибыло раздумий.
Начальный летописец заключает рассказ о первых мучениках Руси словами: «Были ведь люди невежественны и поганы; и дьявол радовался сему, не ведая, что близка уже его погибель. Так ведь прежде тщился погубить род христианский, но прогнан был крестом честным в иных странах. Здесь же, мнил окаянный, – “здесь мне жилище, здесь ведь апостолы не учили и пророки не прорицали”. Не ведал пророка, глаголющего: “И нареку не людей моих людьми моими”. И об апостолах сказано: “Во всю землю изошли вещания их и в конец вселенной глаголы их”. Если телом апостолы и не были здесь, то учения их, как трубы, звучат по вселенной в церквах, их же учением побеждаем супротивного врага и попираем под ноги, как попрали его и эти оба, принявшие венец небесный со святыми мучениками и с праведниками».
А Владимир между тем снова шел на войну, не оставляя себе времени на сторонние размышления. Князь продолжал доказывать дружине свое право на власть, и доказывал успешно. За ятвягами настала очередь радимичей. Настала логично – после покорения вятичей оставлять их вернейших союзников независимыми было неразумно. Тем более, что радимичи жили гораздо ближе к Киеву. Уже при Игоре они находились почти в замкнутом кольце покоренных Русью племен, но полюдье обходило их стороной. Вроде бы когда-то радимичей обложил данью Олег. Во всяком случае, предание о давней, чуть ли не с появления радимичей в начале IX века, зависимости их от Руси жило в Киеве. Но то предания, в область которых уже отступало понемногу и княжение Олега Вещего. Игорь и даже Святослав покорением радимичей не озаботились. Это, конечно, добавляло смелости вятичам в их отложениях. Для защиты от киевских войск лесистые земли радимичей годились не хуже вятичских или древлянских.
Владимир выступил в поход вверх по Днепру весной 984 года. Впереди себя, в авангарде, он выслал часть дружины во главе с воеводой Волчьим Хвостом. Волчий Хвост справился с задачей и сам. Углубившись в радимичские леса по Сожу, где располагались главные поселения врага, воевода прошел его земли почти до самых кривичских рубежей, не встречая сопротивления. Наконец на реке Пищане, одном из притоков Сожа, киевлян встретило племенное ополчение радимичей. Волчий Хвост вступил в битву и разгромил их наголову. После этого радимичи покорились Владимиру и обязались доставлять «повоз» наравне с вятичами. Это сохранило им некоторую самостоятельность на полтора века. Притом обитатели Киевщины еще долго издевались над северными соседями, так и не дождавшимися главной княжеской рати, присловьем: «Пищанцы от волчьего хвоста бегают».
Теперь Русь Владимира охватывала почти все восточнославянские земли. Где-то земля находилась под прямым княжеским управлением, где-то сохранялись племенные или удельные княжения. Но верховную власть Владимира признавали все. Полностью независимыми от нее (и зависимыми от Чехии) оставались только белые хорваты. На западных границах покорены были лендзяне и ятвяги. Сверх того, дань Владимиру по-прежнему платили финские племена – эсты, вадьялы, вепсы, меря. Ни один прежний русский князь не добивался такого могущества. И ни один из них не пользовался в полную мощь отлаженным государственным механизмом, основы которого заложила княгиня Ольга.
Но Владимир не успокоился на достигнутом. Он снова готовился к войне, и она отличалась от предыдущих. Свою способность править на рати он дружине доказал. Но идеальным вождем для дружины в прежние века был князь, завоевывающий добычу в богатых края Юга и Востока. Наверняка немало мысливших так пережило походы Святослава – хотя в целом новое поколение дружинников по неизбежности стало более здравомыслящим и больше ценило достойную защиту ближних рубежей, чем дальние походы. Но сейчас Владимиру представился случай уподобиться отцу. И случаем этим он воспользовался, тем более что повод граничил с необходимостью.
Здесь опять придется сказать о политических просчетах великого завоевателя Святослава. Расчистив было волжский путь от хазарских поборов, он не задумался о дальнейшей его судьбе. Дон и Керченский пролив – путь к Византии – он крепостями прикрыл, но и не пытался закрепиться в низовьях Волги. Более рачительные соседи через некоторое время обнаружились.
Святослав, разумеется, не истребил хазар полностью и не хотел этого делать. В Крыму и в самой русской Тмутаракани осталось немало хазар. Они продолжали исповедовать иудаизм, а к западу от Керчи сохранили независимость. Позднее местные хазарские князьки приняли каганский титул, отреклись от прежней религии и уже как христианские правители сохраняли за собой власть до первых десятилетий XI века. При этом часть их подданных, как и хазары под русской властью в Тмутаракани, все равно оставалась иудеями.
Основная масса волжских хазар бежала на юг, в подвластные им некогда земли Дагестана. Часть осела в горах и смешалась с местными жителями. Другие ушли вдоль Каспийского моря еще дальше, к границам стран ислама. Сильнейшим мусульманским государством Закавказья и всего Кавказа в Х столетии стал Ширван, на землях нынешнего Азербайджана. Ширванские правители, ведшие род от древних иранцев, приняли титул персидских царей – шах, ширваншах. Ширван находился в стороне от оживленной русской торговли с Востоком. Она обогащала в основном земли к югу и к востоку от Каспия. В том числе главного соперника Ширвана на крайнем севере мусульманского мира – среднеазиатский Хорезм. Хорезм исстари являлся основным торговым партнером Руси и Хазарии. Именно по этой стране, «Хвалисам», на Руси и Каспийское море именовали Хвалисским.
Итак, особых прибылей от русской торговли Ширван не ждал. А вот с воинской силой русов закавказские мусульмане спознались еще в IX веке. Здесь еще помнили многократно описанный и в хрониках, и в эпических поэмах поход русов на Берда в 943–944 годах, который только внезапная эпидемия обратила в неудачу для завоевателей. Появление в низовьях Волги, а затем и в предгорьях Кавказа Святослава, крушение Хазарии и превращение Самкерца в Тмутаракань заставило властителей прикаспийских земель побеспокоиться. Обосновавшиеся в Тмутаракани русы проникали оттуда на восток, расселялись по горам, вступая в союзы и браки с христианами-аланами и язычниками-горцами. Уже в ХI веке жители некоторых горских селений считались «чистыми русами» по происхождению. Вплоть до Дагестана горские общины искали союза с Русью, с нею «делили поровну добро, зло, важные дела». Русь подступала вплотную к границам Ширвана, даже если новых вторжений с севера не происходило.
Ширваншах Мухаммад, вступивший на престол в 981 году, решил взять под свой контроль волжский путь и одновременно поставить заслон русскому влиянию. Для этого он собрал рассеянных по Ширвану хазарских беженцев. Мухаммад предложил вернуть их на места прежнего обитания при условии признания его верховной власти. Он даже не требовал обращения в ислам. Воссоздание волжского каганата позволяло ширваншаху ущемить не только Русь. Еще серьезнее оно било по интересам арабского Дербентского эмирата – главного оплота ислама в Дагестане, но и главного врага Ширвана в пределах Кавказа.
При помощи ширваншаха хазары возвратились в низовья Волги, разбили обосновавшихся здесь кочевников огузов, или торков, былых союзников Святослава, и восстановили Итиль. Волжский путь оказался под контролем Ширвана и его новоявленных подданных-союзников. Когда возрождение каганата обнаружилось на Руси, – а после победы над вятичами сообщение с Востоком облегчилось и для Киева – от князя потребовались решительные действия.
Весной 985 года Владимир выступил из Киева на север. Из земли вятичей, по Оке киевляне шли в ладьях. В устье Оки их встретила новгородская рать под командованием Добрыни. Первым последствия ширванской политики ощутил на себе именно русский Север, да участие всех сил в столь масштабном походе просто было необходимо. В средневолжских степях Владимира ждали союзники – торки, желавшие вернуть себе доходные земли низовий.
На пути к Хазарии стояло еще одно государство – Волжская Болгария. Волжские «серебряные болгары» приходились дунайским весьма отдаленной родней. Если дунайские насельники давно смешались со славянами, то на Средней Волге исконные тюркские язык и культура сохранялись столь же хорошо, как и древнее имя народа. Столицей Болгарии был богатый торговый порт на Волге – город Болгар, или Булгар, как называли его арабы. На Руси этих болгар, в отличие от дунайских, называли еще «низовскими», поскольку жили они ниже славян по волжскому пути. Звали их еще и «болгарами веры бохмичей» – по причине, о которой сейчас скажем.
С Хазарией волжские болгары находились в застарелой вражде. Хазарские каганы наследовали титул и амбиции своих предков, древних тюркских каганов, пытавшихся покорить кочевых болгар. Именно хазары некогда прогнали серебряных болгар в холодные приволжские лесостепи из благодатного Приазовья. Оставшиеся там, на месте, черные болгары долго зависели от каганата. Вражда усугубилась после того, как болгарский царь в 920 году принял ислам и обратился (бесплодно) за помощью против «иудеев» хазар к новым единоверцам. Хорезм все же поддерживал тесные связи с «булгарами», вызывая ревность кагана и не давая ему решиться на большую войну.
Тем не менее и с Русью отношения у серебряных болгар в последние десятилетия не сложились. С одной стороны, немалая часть русской торговли и в IX, и в X веке шла через Булгар. Русские купеческие караваны останавливались в городе по пути в «Хвалисы», купцы жили здесь подолгу, тесно общались с местными. С другой стороны, особых льгот у них не было. В 965 году болгары оказались на пути идущих на Хазарию войск Святослава. Тот, не ища свободного прохода, разбил их, разорил Булгар дотла и двинулся дальше. Тем самым он на некоторое время освободил русских купцов от лишних пошлин – и заодно от «лишнего» рынка сбыта. Самое же главное – мир с болгарами оказался расторгнут. К середине 980-х Булгар восстановился. А восстановление и Хазарии при помощи ширваншаха давало надежду на успешную борьбу с Русью. Если хазары сокращали для русов волжский путь, то болгары своей враждебностью просто его уничтожали.
Так что в первую очередь Владимир шел именно на Волжскую Болгарию. Цель его заключалась не в том, чтобы повторить сомнительный подвиг отца. Он намеревался действительно встать на Волге твердой ногой, обложить волжских болгар и хазар постоянной данью. Это надолго закрепило бы волжский торговый путь за Русью. Так что поход Владимира только внешне напоминал прежние далекие рейды Олега и Игоря за добычей а богатые страны. Все-таки это был поход в его собственном духе, направленный на расширение государства, а не только на обогащение киевской дружины.
Владимир вступил в пределы Волжской Болгарии по реке «в ладьях». По берегу шла торческая конница. «И так победил болгар», – кратко отмечает летописец. Болгары не обладали навыками войны на воде, а речная пристань Булгара, сооружавшаяся для торговых целей, была едва защищена. Слаженный натиск с реки и с суши парализовал всякое сопротивление. Владимир захватил множество пленных. Он собирался продиктовать побежденным свои условия, обязав их Киеву данью.
Но вскоре после победы к Владимиру пришел Добрыня. Он по-прежнему оставался его ближайшим и доверенным советником. Расстояние между Киевом и Новгородом усиливало независимость Владимира – и, как часто бывает, только способствовало взаимной теплоте. Добрыня, как передает летопись, сказал воспитаннику следующее: «Осмотрел колодников, и все они в сапогах. Этим нам дани не давать. Пойдем искать лапотников».
В этой странной на первой взгляд, короткой летописной тираде заключена целая политическая программа, принципиально новая для Руси. Она обозначает один из важнейших поворотов истории, переворот в мышлении целого сословия. И недаром выразителем этих новых идей стал не боярин заморских кровей, а бывший холоп Добрыня, за которым не стояли многовековые обычаи и предрассудки.
Мир людей здесь как бы делится на две части. Одна часть – те, кто «в сапогах», богатые народы Юга и Востока, прежде служившие главной целью лихих дружинных налетов. Другая, «своя» по праву часть – «лапотники», многочисленные племена Восточной Европы. Славяне, балты, финно-угры, объединенные общими историческими судьбами и схожим жизненным укладом.
Прежние князья считали не зазорным, а почетным «взять дань на греках». Добрыня не первым взглянул на вещи трезво, но первым ясно выразил их суть. Не станут «греки» или «низовские болгары» платить Руси постоянную дань. А значит, и войны с ними, затеваемые лишь ради этого, будут только разбойными набегами, растрачивающими столь необходимые силы. Ничего почетного и полезного в таких войнах нет, и завершаются они в итоге в лучшем случае справедливым договором, безо всякой «дани». А договора с разумным соседом можно достигнуть и без войны. Для этого и нужны сберегаемые силы. Чтобы закрепиться среди сложившихся сопредельных государств, чтобы явить им себя достойным соревнователем, нужно сплотить вокруг Киева разрозненные еще «роды» «лапотников». Выстроить подлинное государство самим.
Насколько мудрый Добрыня выражал общее мнение, неизвестно. Впрочем, загубленный Святославом на Балканах цвет русского воинства все еще помнился, и едва ли возражавших нашлось бы много. Владимир же прислушался к дяде сразу, тем более что совет согласовывался со всей его политикой. Он освободил пленных болгар и предложил их власть предержащим мирный договор на равных. Естественно, побежденные с радостью приняли предложение мира и союза. Болгары и русские поклялись друг другу в вечной дружбе. «Тогда не будет между нами мира, – гласила клятва, – когда камень начнет плавать, а хмель тонуть».
Итак, с Волжской Болгарией был заключен мир. Но начатое следовало завершить. Хазария была врагом настоящим, заклятым, а ее восстановление Мухаммадом – прямым вызовом Киеву. К тому же союзные торки не остались вполне удовлетворенными, а Владимир помнил судьбу Святослава, погибшего от рук недовольных союзников. Русская рать, оставив за спиной дружественную теперь Болгарию, двинулась на Итиль. Ее по-прежнему сопровождали торки, наиболее заинтересованные в удаче.
За происходящим в Поволжье внимательно следил Мамун, эмир северной части Хорезма. Свежая информация постоянно шла на Восток из Булгара. Так что Мамун знал и о договоре болгар с русами, и о дальнейшем движении войск северных язычников. Когда русы подступили к границам Хазарии, эмир понял, что пришел его час. Хорезмийское войско, миновавшее к тому времени приуральские степи, вторглось в Хазарию с востока. Мамун потребовал от хазар подчинения себе и немедленного принятия ислама.
Помощи из Ширвана не последовало. Ширваншах представлял, какие последствия может иметь для него заступничество за иудейских союзников – не против язычников, а против ведущих войну за веру мусульман. Сами хазары даже с одним из врагов справиться не могли. Русы со своими торкскими соратниками дошли до волжских низовий. Тогда хазарский бек или «царь», глава военной знати и второе лицо в каганате после кагана, обратился за милостью к хорезмийцам. От Руси он по старой памяти пощады не ждал – а, возможно, зря. Владимир вполне мог предложить мягкие условия мира.
Мамун же остался неумолим. Он обязался защитить хазар от нашествия язычников – при условии ввода в их города хорезмийских гарнизонов и принятия ислама. При полном разгроме ничего иного не оставалась. Все волжские хазары под водительством бека отреклись от иудейской веры и приняли мусульманство. Остаться иудеем позволили на время лишь кагану – но после этих событий каганат волжских хазар исчезает со страниц истории. В Итиле, Семендере и в других отстроенных при ширванской помощи городах обосновались хорезмийские солдаты и чиновники. У выхода волжского пути в Каспий появился новый хозяин.
Владимир не собирался ссориться с Хорезмом, основным партнером Руси на мусульманском Востоке. Более того, он воспользовался случаем, чтобы завязать прямые сношения с «Хвалисским» правителем. Между Хорезмом и Русью был заключен союз. Кое-кто же из дружинников обратил тогда внимание на достоинства исламского «джихада меча», священной войны на пути Аллаха. Что касается хазар, то они обязались выплатить Владимиру разовую «дань». Основная ее часть, несомненно, причиталась отработавшим ее торкам. Им же в результате хорезмийского завоевания досталась вся степь вне городских стен. Большего кочевники и не добивались.
Владимир вернулся в Киев. Здесь ожидал он прибытия на следующий год послов из Болгарии и Хазарии для утверждения заключенного мира. Возвращением в Киев и завершает русская летопись рассказ о войнах Владимира-язычника, поскольку встречи его с этими послами касались иного, гораздо более важного для летописца вопроса. О договорах он в связи с этим уже не вспоминает.
Вне поля зрения летописцев остался, однако, еще один внешний конфликт, в который оказалась вовлечена Русь. Причины этому достаточно ясны. Древнейшие летописи составлялись в Киеве, а эти события развернулись всецело на новгородском Севере. Владимир в ту пору был занят иными заботами, и его вмешательства не потребовалось. А летопись, как и дружинное предание, следует за князем и его дружиной. Поэтому в воссоздании происходившего мы вынуждены идти за отрывочными сведениями никак не связанных между собой саг.
Еще в 984 году обратно в Ладогу из Йомсборга перебрался Олав Трюггвасон. В том году он овдовел. Внезапная смерть молодой Мешковны повергла викинга в скорбь. «Печаль» привела его к мысли покинуть страну. Впрочем, «печаль», при всей искренности горя, имела и иную очевидную причину. Мешко так и не смог использовать Олава против Владимира, а теперь, после смерти дочери, ничто его с Олавом и не связывало. Владимир же так и не прислал за Олавом покаянного посольства – так что оставалось самому «идти с повинной». Олав справедливо рассудил, что лучше всего вернуться с большим войском и добычей. Он собрал весь свой немалый флот и первым делом совершил налет на Данию. Здесь, однако, его войско чуть не погибло. Проживший с женой-христианкой три года и не крестившийся Олав дал обет принять христианство – и спасся. Впрочем, до исполнения обета оставалось еще девять лет.
Вернувшись на Русь, Олав вновь предложил Владимиру свои услуги и был привечен с радостью. Одаренный и популярный среди собратьев викингский вожак пришелся как нельзя кстати. По мере усиления державы датских Кнютлингов, а при их поддержке и норвежских Халейгов, на Балтике становилось все беспокойнее. Пути норвежских и датских викингов, отправлявшихся за добычей, а то и «данью», в Швецию, на Готланд, в Эстланд, пересекались с маршрутами их ладожских «коллег». Но могли, сверх того, и пересечь дорогу княжескому сборщику дани где-нибудь в «чудских» землях. Богатый «Восточный Путь» никогда не ускользал от алчущего взора норманнских конунгов. Главным врагом и датчан, и норвежцев пока являлась Швеция, но Русь явственно брезжила на горизонте.
Олав вернулся к прежнему времяпрепровождению, принявшись совершать набеги на западные берега Балтики. При этом он зимовал чаще на Руси, чем в Йомсборге, а то и посещал Владимира в Киеве. Вскоре в нем настала нужда.
Викинги из Ладоги, как мы и видели на примере Олава, заплывали достаточно далеко в Балтийское море. Их суда достигали на западе известных викингских стоянок у островков при устье Лабы. Летом 985 года здесь пристала флотилия из пяти кораблей под водительством некоего «Рандвера из Хольмгарда». Если имя не додумано рассказчиком саги, то это был славянин-новгородец из знатнейшего рода. «Рандвером» (явно попытка саг передать славянское имя) некогда звали сына ильменского князя «Радбарда», родоначальника датской и шведской королевских династий. Потомки древних князей вполне могли еще процветать у словен.
К той же естественной гавани подошли и два норвежских корабля, которыми командовал молодой викинг Сигмунд Брестасон, фаререц по происхождению. Сигмунд, лишившийся родины из-за семейной распри, служил в дружине норвежского ярла Хакона. До недавнего времени Хакон служил датскому конунгу Харальду Гормсону, но теперь порвал с ним – не в последнюю очередь из-за своей верности язычеству. Хакон стремился укрепить свою власть. Сигмунд – заслужить доверие и поддержку своего ярла. Тем летом он отправился на двух кораблях в Балтийское море. Викинги много и успешно грабили по побережьям. Затронули, должно быть, и подвластные Руси берега эстов.
Встретив на стоянке у устья Лабы Сигмунда, Рандвер изготовился к бою. По требованию противника он представился и заявил: «Предлагаю на выбор две возможности. Отдайте свои корабли и самих себя в мою власть. Либо, напротив, защищайтесь». Едва ли речь о каком-то «патриотизме». Скорее просто о викингской распре за добычу – явление частое в те века. Сигмунд с готовностью принял бой и выиграл. Часть вражеских кораблей он захватил, часть пустил ко дну. Рандвер погиб.
Следующим летом, в 986 году, Сигмунд по воле ярла Хакона отправился в викингский поход на Швецию. Там он захватил «много добычи». Но, ища большей и вспомнив прошлогоднюю обиду, вернулся в Норвегию не сразу. Вместо этого он из Швеции поплыл дальше на восток. Викинги достигли берегов Финского залива или даже вошли в Ладожское озеро. Подвластное Новгороду побережье было разграблено. Приумножив добычу, Сигмунд безнаказанно вернулся восвояси.
Со времени построения Новгорода и утверждения в нем Рюриковичей это первый упомянутый где-либо викингский набег на рубежи словен. С одной стороны, он был дерзким предприятием вожака-одиночки, даже не «морского конунга». С другой – закономерным итогом предшествующих событий. На счастье, у Руси было чем ответить. С этого же 986 года Олав переместил поле своих набегов дальше на запад, за Данию. Теперь он чаще пиратствовал в «Западных землях», в Англии и Ирландии, подспудно угрожая Хакону в Норвегии. Дании временно можно было не опасаться. Там разразилась междоусобица, стоившая конунгу Харальду жизни. Чтобы подчеркнуть свою связь с русским князем Владимиром и его «поддержку», Олав на Западе называл себя не иначе, как «Али Гардский». Хакона не меньше, чем войны с датчанами и шведами, начали беспокоить слухи об удачливом «морском конунге», претендующем на норвежский престол.
Итак, северные рубежи в те тревожные годы вполне обходились без прямого вмешательства Владимира. Уместно – ибо для него близилось время решений, переменивших всю его (и не только его) жизнь. Дела военные и политические предшествующих лет были лишь прелюдией к этому главному акту жизненной драмы великого князя киевского. Драмы, ведущей к прославлению.
Поиски на востоке
История крещения Руси подробно описана в летописи, многократно изложена в объемных научных трудах, в прямом смысле вошла в учебники. Тем не менее до сих пор в ней есть неясности, порождающие споры среди специалистов. Одна из главных, как ни странно, касается хронологии. После ситуаций с рождением Владимира и его восшествием на престол основной вопрос прозвучит вполне привычно – когда именно происходили описанные в источниках события?
В Начальной и всех последующих летописях история крещения страны четко разбита на три смысловых блока. Каждому отведено по погодной статье. Под 6494 (мартовским 986/7 по древнерусскому счислению) годом рассказывается о посольствах к князю от представителей разных религий, о знаменитом «выборе вер». Под 6495 (987/8) – об ответных посольствах, об «испытании вер» и о решении Владимира принять крещение. Под 6496 (988/9), наконец, – о походе Владимира на Корсунь (греческий Херсонес), принятии там крещения, брачном договоре и союзе с Византией и о «крещении Руси». Причины внезапной войны с Византией никак не объяснены. Начальная летопись, однако, под 988/9 годом вновь кратко сообщает о крещении Руси, подробно рассказывая о создании духовной иерархии и крещении Новгорода. Объясняется дублирование просто. Источником т. н. «корсунской легенды» является не историческое сказание о первых князьях, а особый сохранившийся до нас житийный памятник – «Слово о том, как крестился Владимир, взяв Корсунь». В Повести временных лет двойная датировка исчезла. Но осталась отсылка к ошибочным, по мнению летописцев, версиям крещения – будто Владимир крестился на Руси, в Киеве или в Василеве. Те, кто так считает, названы «не ведающими право».
Но, по многим признакам, «не ведал» сам наш Начальный летописец. Уж слишком авторитетны свидетельства «не ведающих». Повествование Иакова Мниха укладывается в несколько строк, но выглядит гораздо стройнее. Согласно ему, сам Владимир крестился на Руси в конце 987-го или в самом начале 988 года. Поход на Херсонес имел место в 989-м, и после него произошло общее «крещение Руси». Так же, как Иаков, датирует крещение Владимира и Нестор в «Чтении о Борисе и Глебе». Вопреки Повести временных лет, одним из авторов или редакторов которой являлся.
Это прекрасно согласуется со свидетельствами иностранных современников. У Титмара последовательность почти та же: сначала брачный договор и крещение князя, а потом война Владимира с греками. Лев Диакон, византийский историк конца Х века, четко относит взятие Херсонеса к 989 году. Из свидетельств же других византийских и арабо-христианских авторов становится совершенно ясно, что переговоры с Византией о браке и крещении велись только с осени 987 года и в 988-м вылились в союз. Правда, со слов сирийского хрониста XI века Йахъи Антиохийского можно понять, что война с Византией предшествовала этому союзу. Но это место не очень четко, и больше оснований – в том числе чисто хронологических – вслед за Иаковом и Титмаром говорить о временном разрыве. О причинах такого разрыва высказывались вполне достоверные гипотезы, и здесь как раз русские летописцы проливают свет на реальность. Такая хронология в целом не противоречит общеизвестной дате крещения Руси, восходящей к Начальной летописи. Но позволяет уточнить некоторые важнейшие детали. Изложим, однако, всю последовательность событий – именно в деталях.
Летописная повесть о «выборе вер» во многом легендарна. Главная слабость летописной разбивки заключается в том, что каждый рассказ – о «выборе», «испытании» и Корсунском походе – вполне закончен. В конце каждого принимается одно и то же решение – о принятии христианства. И без всякой даже чисто психологической мотивировки дважды оно не имеет продолжения. Колебания в столь серьезном выборе более чем естественны, но то-то и оно, что в летописи этих колебаний нет. Отсюда несообразности. Так, в «выборе вер» Владимир отвергает все иные варианты единственными хлесткими фразами – но после этого при «испытании» все веры вновь для него равноценны. Далее, как уже ясно, доверившийся Корсунскому преданию Начальный летописец ради цельности изложения по той самой разбивке несколько сместил хронологию. В кратком Древнейшем житии последовательность иная, более согласная с иностранными источниками и более логичная – сначала отказ от ислама и от крещения с Запада, а затем уже контакт с Византией. Наконец, летопись, сосредоточившись на главном, совершенно снимает весь политический фон важнейших событий.
А таковой у них был. Послы из Булгара и Итиля прибыли к Владимиру в 986 году для скрепления мирных договоров прошлого года. Посольство от волжских болгар, кроме того, решило еще одно дело – верный способ упрочения мира. Как раз в это время Владимир вступил в свой последний языческий брак. И была его жена «болгарыней».
Здесь, правда, возникает определенное противоречие. Младший сын «болгарыни», последнее дитя, зачатое Владимиром до брака с византийской царевной, носил древнее северное имя Глеб – единственное, кстати, неславянское по происхождению среди Владимировых сыновей. Но старший, родившийся, вероятно, еще до крещения, стал Борисом. Это славянское имя именно в такой «краткой» форме – чисто дунайско-болгарское, его носил первый болгарский князь-христианин. Могло ли оно быть занесено в Болгарию Волжскую? Собственно, имя Борис вкупе с попытками некоторых поздних средневековых писателей приписать святым Борису и Глебу происхождение от христианской жены Владимира Анны породило разные «дунайские» гипотезы. После того как ошибочность «подкрепленных» Псевдо-Иоакимом догадок В.Н. Татищева о болгарском происхождении самой Анны обнаружилась, возникла идея расторгнутого ради Анны первого христианского брака с болгарской царевной. Никакого следа этого, однако, ни в одном источнике, даже критичном к Владимиру, нет.
А вот на вопрос – могло ли быть занесено в Волжскую Болгарию имя «Борис»? – ответ положительный. Могло. После Болгарской войны Иоанн Цимисхий уничтожил Первое Болгарское царство, уже порушенное Святославом. Из Болгарии в другие славянские страны (в том числе и на Русь) потянулись беженцы. Те, кто остался на родине, возродили государство и организовали сопротивление. Но многие представители знати, конечно, бежали. Бежали не обязательно к славянам. У болгар была и иная родня, и это долго помнилось на Балканах. Болгары не могли не осознавать себя единокровными с далеким народом того же имени. О связях Волги с Дунаем нам ничего не известно, но сомневаться в них не приходится. Принятие одними болгарами христианства и другими ислама разделило древнее единство. Но кое-кто мог попытаться его воскресить. Так что разбивать связь между болгарским посольством 986 года и последним языческим браком Владимира с «болгарыней» смысла не имеет. Эта жена его вела род в первом или втором поколении от недавних беглецов с Балкан, которые вполне могли и сохранить верность христианству.
Итак, послы прибыли в Киев. Политические дела не требовали долгих разговоров и завершились быстро. Все порешили еще в минувшем году. Болгары и принявшие ислам хазары, впрочем, наверняка хлопотали еще и о хорезмийских интересах. Владимир шел навстречу, рассчитывая завязать с богатой среднеазиатской страной прямые связи.
Во время пребывания в Киеве послы стали свидетелями языческих ритуалов – и клятвы русов перед своими кумирами на верность новым договорам, и княжеской свадьбы. Так что разговор с князем о вере возник легко. Другое дело, что ревностный еще недавно язычник внезапно проявил гораздо большее, чем обычную вежливую любознательность. Владимир не просто расспрашивал послов об их воззрениях – он выбирал воззрения себе по вкусу. Поняв это, послы прямо принялись проповедовать, «учить».
Мы не можем точно сказать, когда именно привитая Ольгой широта духовных интересов по-настоящему заставила Владимира усомниться в язычестве. Возможно, воспоминания об Ольгином единобожии возбудили душу князя после созерцания мужественной гибели Феодора и Иоанна. Владимир не мог не видеть, что его боги оставили моральную победу за служителями Бога греков. Может, процесс шел гораздо медленнее, и сомнение просто само собой вырастало из долгих размышлений о собственной судьбе, о собственных проступках и преступлениях. Языческие боги не обещали милосердия – но, похоже, не торопились и карать. Владимир мало-помалу начинал понимать, что не обильные жертвы, а собственные ум и доблесть приносят ему победы. Начинал «верить в самого себя», подобно многим дружинникам. Наконец, возможно, что отказ от прежней политики при заключении мира с болгарами дал новое направление мыслям князя. Дружинная жизнь-война с ее разбойной доблестью освящались не только вековой традицией, но и столь милым недавно князю культом Перуна. Невозможно было отказаться от одного, не отказываясь от другого. Здесь, если угодно, тот самый «политический» мотив принятия единобожия, который столь тщательно искала нехристианская наука.
Впрочем, конечно, и политические события наводили на раздумья. Другое дело, что в глазах человека средневекового все окружающее неразрывно было связано со сверхъестественным. Владимир видел, что языческой Европе приходит конец. Одно за другим и славянские, и скандинавские княжества и королевства принимали христианство. Болгария, Сербия, Хорватия, Чехия, Польша, Дания… Слово Бога победительно шествовало до самого Севера, а языческие боги славян и норманнов оказались бессильны перед ним. С юго-востока же наступал ислам, и теперь, вслед за волжскими болгарами, мусульманами стали уже и хазары. Принять христианство или ислам означало войти в огромную, все расширяющуюся семью народов. Хранить верность древним богам – оставаться на стороне проигравших. Может, Владимир и верил еще в сам факт существования языческих богов, но уже признал их слабее Бога Единого. Потому и задумался он о «выборе веры», потому разговор его с послами единобожников склонился к вопросам религии.
Первыми решительно взялись за дело болгарские мусульмане. Но от них не отстали приехавшие в хазарском посольстве итильские раввины. Мамун обратил своим мечом хазар в ислам, но, в согласии с нормами Корана, не стал выгонять из Хазарии евреев. Они пока входили в окружение кагана и могли помочь хорезмийским торговым делам на западе. У самих иудеев имелся свой интерес. Вернее, он возник во время пребывания хазарского посольства в Киеве. Наблюдая ровную, зажиточную жизнь обосновавшейся в этой важнейшей точке трансъевропейского пути еврейской общины, приезжие раввины решили попытаться во имя своей веры и своего народа найти в славянской Руси замену тюркской Хазарии.
Но, повторим, сначала и смелее взялись за дело «болгары веры бохмичей». Иудейская Хазария только что окончательно сгинула. Тогда как за спиной Волжской Болгарии воздвигалась огромная мусульманская держава, с которой Владимир искал союза. Разговор предстоял действительно серьезный.
Несомненно, в посольстве имелся мусульманский ученый, который сумел хотя бы в общих чертах изложить Владимиру основы ислама. Летописец здесь излагает устами болгар свои, немного искаженные представления о мусульманстве. Хотя общая мотивация, предложенная послами Владимиру, звучит вполне убедительно: «Ты, князь, мудр и разумен, а закона не ведаешь. Прими закон наш». Владимиру, разумеется, поведали об Аллахе как единственном боге и о Мухаммаде как «венце пророков», познакомили с основными предписаниями ислама, в том числе с обязанностями и правами правоверного. Владимира, хоть он и спрашивал – «какова вера ваша?» – прежде всего интересовало не богословие, а как раз особенности повседневной жизни, «закон». Он легко свернул разговор именно на эту тему, и так же старался поступать в дальнейшем.
Владимира поначалу привлекло в исламе совмещение веры в единственного Бога с относительной простотой нравов. Летопись сосредотачивается на многоженстве, и недаром. Из всего последующего ясно, что это превратилось для Владимира едва ли не в основную проблему на его духовном пути. В христианстве его настораживала необходимость иметь одну жену. Как кажется, не только в силу похотливости, которую он медленно, но преодолевал. Владимир по-своему любил своих жен, да и отвечал за каждую женщину, родившую ему сына. Можно отпустить наложниц. Но расторгнуть браки с княгинями, матерями своих детей – нечто совсем иное. Надо отметить, что привезшие князю очередную невесту болгарские послы наверняка понимали его и действительно, как и представляет летописец, уделили вопросу немало внимания.
Однако насколько Владимиру понравилось в исламе привычное для славянина-язычника, настолько же не понравилось непривычное. Причем дело касалось не столько основ веры, – их еще предстояло обдумывать, – сколько требований опять-таки бытовых. Обрезание, отказ от свинины и вина не соответствовали ни его внутреннему строю, ни обычаям его народа. Летопись вкладывает в уста князя бойкое присловье, с которым он будто бы и отправил болгар восвояси: «Руси есть веселье пить, не можем без того быть». На самом деле, как увидим далее, дело обстояло чуть сложнее. Но то, что Владимир взял некоторые связанные с исламом трудности на заметку уже при первых переговорах, не вызывает сомнений.
Между беседой с болгарами и хазарами летопись вклинивает посольство «немцев из Рима», «от папы». Проблема в данном случае заключается в том, что никаких следов переговоров Владимира с Западом именно в эти годы ни в одном западном источнике нет. Поэтому мы не можем сказать, действительно ли как раз к переговорам с болгарами удачно прибыло еще одно посольство, или события имели место позже. Одно несомненно – крещение с Запада рассматривалось как реальная альтернатива.
В том, что именно посланцы Римской церкви, а не Византии, очутились в Киеве первыми, нет ничего удивительного. Приходится признать, что в те годы Восточная Империя мало уделяла внимания миссионерству. Разочарование в великих достижениях IX века – в крещеной Болгарии, в первом крещении Киева, – сказалось на дальнейшей политике. Западные же проповедники именно в Х веке были на пике активности. Далеко не все они вели себя подобно нерадивому Адальберту. После Польши и Дании до Руси очередь доходила естественным образом.
Так что, вполне возможно, на самом деле не было никакого специального посольства от папы. Просто в Киеве при Ярополке и Владимире работала небольшая немецкая или итальянская миссия. Ее члены поддерживали киевскую христианскую общину, а заодно пытались привлечь ее к римскому обряду. Последовал ли кто-нибудь за ними, неизвестно. Но надо учитывать, что со времен Ольги прямая связь с Константинополем была утрачена, а значит, не было и канонического поставления священников. Какое-то время местных, русских священников в Киеве просто не могло быть. Определенно имелись болгары – но среди них были как православные, так и враждебные любой церкви еретики-богомилы. Об этом можно судить по характеру начавшей проникать на Русь в те годы христианской литературы, но прямых данных нет никаких. О миссионерах же с Запада при Ярополке у нас есть хотя бы смутные сведения.
Приезд болгар-мусульман и брак князя с «болгарыней» не являлись, конечно, государственной тайной. Быстро просочились и сведения об учительных беседах с князем. В дружине хватало людей, симпатизировавших христианству, даже если Феодор был единственным тайным христианином. Весть о возможном принятии великим князем ислама должна была стать для любого киевского христианина страшным шоком. Тем более для упорно работавших слуг Святого престола. Достаточное основание для того, чтобы добиться встречи с князем и изложения своего учения.
Владимир не отказался встретиться и с западными учителями. О Римской церкви он, конечно, знал давно. Едва ли он вникал в медленно накапливавшиеся богословские разногласия между Римом и «Царьградом». Напомним, что к церковному расколу разногласия эти приведут почти семь десятилетий спустя. Пока же, в отсутствие представителей греков, от которых Ольга принимала крещение, «немцы» (к которым она прибегла затем) представляли христианскую альтернативу наставлениям мусульман. Чтивший Ольгу Владимир решил, наконец, уже в зрелом возрасте выслушать ее единоверцев.
«Земля твоя, – сказали, по летописи, посланцы Рима, – такая же, как и земля наша, а вера ваша не такая, как вера наша. Ведь наша вера – свет. Поклоняемся Богу, который сотворил небо, землю, звезды, месяц и всякое дыхание, а ваши боги деревянные». С этим Владимир внутренне уже согласился. Но особых разночтений с обдумываемым исламом пока не мог увидеть. Он стал расспрашивать подробнее – и остался не удовлетворен. Чем именно – понять трудно. Летописец сам точно этого не представлял. Он заставляет Владимира, только что отказавшего мусульманам из-за вина и свинины, осудить латинян за их умеренность в посте, за «пост по силе»!
Корень сомнений Владимира в той загадочной фразе, которой он, по летописи, спроваживает «немцев». Загадочной, поскольку летописец ничего не знал о миссии Адальберта. Очевидно, мысль Владимира сохранило достоверное дружинное предание: «Идите вы к себе – отцы наши этого не приняли». Печальный опыт, о котором он слышал или свидетелем которого стал в детские годы, настраивал против «латинства». Слабые места такого выбора к тому же лежали на поверхности – монархический авторитет папы и господство латинского языка. Конечно, принцип «священство выше царства» еще не звучал во всю мощь. Но зато папство было тесно связано со Священной Римской империей, а та уже с разной степенью удачи требовала политического подчинения и от Чехии, и от Польши, и от Дании. Славянская церковная служба и славянская книжность не были еще под полным запретом на Западе. Но латынь преобладала безусловно, а Владимир считал себя вправе внимать словам веры, звучащим на его родном языке.
Выслушав мусульман и христиан, Владимир позволил себе для полноты картины пообщаться и с иудеями. Явно не для того, чтобы принять иудаизм, – скорее, чтобы выслушать «критику со стороны». Здесь он не обманулся. Если верить летописи, то раввины начали именно с критики предшественников. Помянув в доказательство слабости и смертности Христа его распятие («а христиане веруют в того, кого мы распяли» – точка зрения, отраженная ярче всего в полемическом иудейском сочинении IV века «Тольдот Иешу»), они подчеркнули древность и исконность своей веры: «Мы, – говорили они, – веруем во единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковлего». Владимир, как и у других, спросил: «Что есть закон ваш?» В изложении летописи иудеи кратко перечислили: «Обрезаться, не есть ни свинины, ни зайчатины, субботу хранить». Учитывая, однако, разработанность в среде тогдашних проповедников иудаизма проблемы «обязательных» и «необязательных» для обращаемых неевреев заповедей, да и саму важность Закона, можно смело утверждать, что сказано было гораздо больше.
Услышанное Владимира, похоже, не только не устроило, но и привело в ироническое расположение духа. Дальнейшему летописному диалогу вполне можно поверить. Владимир совершенно не собирался принимать иудаизм, тем более после уничтожения на его глазах древней Хазарии. Иудаизм позднее и не всплывает при «испытании вер» ни в летописи, ни в житии.
«Где земля ваша?» – спросил Владимир у итильских раввинов. «В Иерусалиме», – отвечали те. «Да там ли она?» – переспросил он. «Разгневался Бог на отцов наших, – прямо, в полном согласии с талмудической доктриной «последней казни» ответили ему, – и расточил нас по странам грехов ради наших, и предана была земля наша христианам». Владимир, как, конечно, и намеревался, с торжеством заявил: «Так как же вы других учите, а сами отвержены от Бога и расточены? Если бы Бог так закон ваш любил, то не были б вы расточены по чужим землям. Или мыслите, чтобы и мы то же зло приняли?!» Намек на горькую судьбу Хазарии был очевиден. Иудеям и далее пришлось полагаться только на терпимость, но не на симпатию Рюриковичей.
Что касается болгар и «немцев», то их предложения требовали серьезного обсуждения. Если следовать принятой нами хронологии, то еще в том же 986 году Владимир созвал на совет бояр и старцев. Князь сказал им: «Вот, приходили ко мне болгары, говоря: прими закон наш. Потом пришли немцы, и те хвалили закон свой. Еще потом приходили иудеи. Что вам на ум приходит, говорите».
Переговоры князя о вере не были тайной для приближенных, и каждый составил свое мнение. Однако характерно, что возражений не прозвучало. Недавние вожаки вечевой толпы, убившей Феодора и Иоанна, теперь смиренно ответили князю: «Знаешь, княже, что своего никто не хулит, но хвалит. Если хочешь разницу между ними испытать, то имеешь у себя мужей. Послав, испытай каждую службу – кто как служит Богу».
Конечно, здесь сработал авторитет князя как верховного священнослужителя. Но было и иное. Киевская знать не была убежденно-языческой поголовно. Как только князь ясно высказал свои мысли, тайные доселе единобожники и склонявшиеся к ним «скептики» тоже выступили открыто. Те же, кто действительно находил радость в поклонении богам и кого не напугали даже события трехлетней давности, предпочли промолчать. Таковых, однако, и становилось все меньше – и теперь этот процесс шел все быстрее. То, что князь, спокойно пустившийся в рассуждения о вере, не навлек на себя никакой кары, само по себе убеждало в слабости богов. Не один Владимир раздумывал наедине с собой о подобных вещах годами. Не он один и беседовал в последние месяцы с чужеземными вероучителями.
Итак, весть о возможной смене веры оказалась встречена знатью на удивление спокойно. А за знатью и старшиной, как прежде, следовал и уверенный в их мудрости киевский люд. Но вот дальше начинались разногласия.
Русские источники излагают мотивы интереса самого Владимира и к исламу, и к христианству. Гораздо более скупо они отражают аргументы тех дружинников, кто выступал за принятие христианской веры. Судя по всему, для советовавших Владимиру принять именно христианство самым важным доказательством были ссылки на авторитет Ольги. Доводы же противной стороны, склонявшейся к исламу, подробно рассмотрены средневековыми мусульманскими авторами. Доводы эти выглядят излишне рационально, даже корыстно – не только для современного читателя. Очевидно, что они не вымышлены исламскими учеными, нашедшими бы более патетические ноты.
У противников христианства перед глазами тоже стояло крещение Ольги. Но если для сторонников веры греков и латинян это само по себе свидетельствовало за крещение, то для других все было с точностью до наоборот. За ислам выступила та часть дружинников, которая хотела сохранить верность прежней, завоевательной политике. Мирное правление Ольги казалось им бесславным и скудным. Единственный достойный способ добывать пропитание, – говорили они, – нападать на соседей. Только-только вернулись они к удачным походам после поражений Святослава и Ярополковой смуты – а теперь вновь встает вопрос о принятии миролюбивой греческой веры. Тем более, что это означало вероятный долгий или даже вечный мир именно с христианами-греками. Вновь зазвучало нечто вроде погубившего некогда Игоря «мы наги!» – правда, сейчас без достаточных на то оснований. Следует, – утверждали судившие так дружинники, – принять ислам. Тогда Русь поручит освященное им право вести войну за веру. Следует помнить, что свидетелями удачного «джихада меча» русы только что оказались в Хазарии.
Чьей именно победой являлось решение отправить послов на «испытание вер», сказать трудно. Очевидно, оно потому и прошло, что давало отсрочку и временно удовлетворяло обе партии. К тому же большинство, очевидно, на тот момент составляли как раз «скептики», отвернувшиеся от язычества, но не сделавшие дальнейшего выбора. Обеим сторонам было на что рассчитывать. Посольство на запад могло как подтвердить, так и опровергнуть справедливость неприязни к «латинянам». К тому же последнее обстоятельство, в глазах сторонников христианства, ничего не решало. Ольга, в конце концов, принимала «закон греческий». Для сторонников мусульманства, мало что о нем знавших, исход посольства на Восток тоже мог оказаться двояким. К тому же, зная мало, они и сами хотели бы просветиться.
На Восток отправилось четверо придворных бояр Владимира, столько же, вероятно, – на Запад. Западное посольство вернулось быстрее. Скорее всего, оно не уехало дальше Чехии – потому память о переговорах и не отложилась в хрониках Священной Римской империи. Принесенные вести подтвердили разочарование князя в речах латинян внешними впечатлениями: «Пришли в Немцы. Видели их в храме, творящими службу, а красоты не видели никакой».
Отправленным на Восток предстоял путь более дальний. Не задерживаясь в Болгарии, они отправились по волжскому пути дальше, до низовий, а оттуда или от восточного берега Каспия – в Хорезм. Мамун пришел в восторг от русского посольства и от его цели. Ему уже грезилось приращение земель ислама до мифических границ мира на дальнем севере. После покорения Хазарии такая победа на пути веры навсегда бы прославила его имя, приравняв к древним воителям Халифата, превратившим мусульманство в мировую религию.
По приказу Мамуна русских подробно ознакомили с мусульманским богослужением. Он подтвердил верность союзу с Владимиром – и, вероятно, какие-то права русских купцов в «Хвалисах». Это было ценным приобретением. Но к увиденному послы отнеслись по-разному. Итог всей миссии достаточно ясен. Но там, в Хорезме, по меньшей мере кому-то из бояр исламский обряд пришелся по вкусу. Во всяком случае, убежденный в успехе Мамун отправил с посольством в обратный путь на Русь одного из придворных имамов. Он должен был принять от Владимира и всех русов исповедание истинной веры и учредить общину. Благодаря этому самоуверенному акту мусульманские историки позднейших веков не усомнились, что старания хотя бы на время увенчались успехом.
На самом деле сложилось иначе. Посольство вернулось в Киев, скорее всего, уже в первых месяцах 987 года. По возвращении послы представили Владимиру свой отчет. В летописи он выглядит крайне удручающе для ислама – взгляд из совершенно иной культурной традиции на незнакомое и непонятное: «Пришли сначала к болгарам и посмотрели, как кланяются в ропате, стоя без пояса. А поклонившись, сядет и глядит туда-сюда, как бешеный. Нет веселья у них, но печаль и смрад великий. Не добр закон их». Думается, глас послов был не единодушен, а может, и более мягок. В конце концов, кто-то же привез на Русь имама. Даже если то была уступка радушному и настойчивому Мамуну, появление готового обращать хорезмийца следовало как-то обосновать перед скорым на гнев князем.
Но, что бы ни сказали послы, летописный текст верно отражает выводы, сделанные князем. Если христианство он не мог решиться принять с отвергнутого уже Русью римского Запада, то ислам принимать просто отказался. И для него, пока еще нехристианина, главным здесь было именно общее впечатление от чего-то чуждого всему образу жизни русов, чего-то бесконечно от их нравов далекого.
То, что при этом имам не был тут же возвращен с позором на родину, тоже вполне объяснимо. Владимир мог быть спокоен за его действия – без княжеской воли ислам приняли бы разве что самые дерзкие. С Хорезмом же он ссориться не хотел. Слухи о возможности принятия князем ислама бродили по прикаспийским землям, и он решил воспользоваться этим в торговых и политических целях. Не исключено, что хорезмийский имам прожил в Киеве до самого крещения Руси, а то и до конца своих дней. Может, кого-то ему даже удалось склонить к своей вере.
Между тем Владимир под прикрытием переговоров с Хорезмом решил предпринять еще одну попытку закрепиться на Каспии. После утверждения хорезмийцев в Хазарии Руси нужно было искать – на всякий случай – обходные пути в Каспийское море. Такие пути открывало расселение тмутараканских русов в кавказских горах. Отдельные «роды» осели в горах Дагестана, на подступах к Дербенту. Дербент, «Железные Врата», как звали эту древнюю иранскую крепость на Руси, оставался в ту пору самостоятельным эмиратом. Правившие им арабские эмиры отстояли свою независимость от посягательств ширваншахов. Дербент являлся и надежными «воротами» между северной степью и Закавказьем, и оплотом ислама в Кавказских горах, и важнейшим каспийским портом. Овладение Дербентом дало бы Владимиру свой ключ к Каспию даже при господстве хорезмийцев в низовьях Волги. Сплошная полоса союзников и даже сородичей Руси связывала бы Дербент с Тмутараканью. Но владей Русь Дербентом, никто не посмел бы закрывать от нее и Волгу.
Разрабатывая комбинацию, Владимир вряд ли задумывался о ее последствиях в случае ясного отказа от ислама. Видимо, мысль пришла ему на ум еще тогда, когда он не сделал окончательного выбора. А может, колебания продлились чуть дольше, чем кажется нам. Во всяком случае, в 987 году он выслал по Волге флот из 18 больших ладей. Поход начался в ответ на мольбы Маймуна, дербентского эмира. За несколько лет до этого его заточила в узилище городская старшина, которую весьма удачно натравливал на своего соперника ширваншах. Узнав о том, что у русов появились серьезные интересы в Прикаспии, Маймун сумел обратиться к ним за помощью, обещая щедрую награду.
Русский флот подошел к Дербенту. Воины с одной из ладей высадились и освободили эмира из тюрьмы. После этого русы совершили набег на побережье Ширвана, – видимо, неудачный, поскольку в Дербент другие ладьи не вернулись и вестей от них не было. Но небольшой отряд остался при эмире. Русы оказались храбрыми и умелыми воинами. На пару лет они обеспечили Маймуну повиновение горожан. С другой стороны, Маймун сам находился в зависимости от своих новых телохранителей – и их князя. Фактически в Дербенте появился русский гарнизон.
Итак, Владимир получил от поисков веры на Востоке сиюминутную политическую выгоду. Но искал он вовсе не этого. Отказавшись от идеи принять ислам, не решался он склониться и к христианству. Латинский «закон» его настораживал и отпугивал. Выход напрашивался сам собой. И он пришел безо всяких усилий Владимира. Ранней осенью 987 года, неожиданно – и закономерно для тех, кто видит в истории не только дела людские – в Киев прибыло императорское посольство из Константинополя.
Обращение
Дела Византийской империи шли хуже некуда. Молодые еще императоры Василий II и Константин VIII, сыновья Романа II и внуки Константина VII Багрянородного, приняли власть в 976 году, после смерти Иоанна Цимисхия. Так престол вернулся в руки основанной еще в IX веке Македонской династии. И сразу огромная страна погрузилась в пучину разнообразных политических треволнений.
Прежде всего, отложились болгары. Цимисхию так и не удалось покорить западную часть Дунайской Болгарии. Местная знать не пожелала подчиняться Византии. После смерти Цимисхия восставших возглавил знатный болгарин Самуил, принявший вскоре и царский титул. Попытки новых императоров договориться с ним или внести раскол в лагерь противника провалились. В 986 году произошло решающее сражение между Василием II и болгарами. Запертая в горном ущелье византийская армия почти полностью погибла. Император едва спасся. Самуил восстановил прежние границы своей страны.
Но и Болгарской войне, подступавшей теперь к самым стенам Константинополя, императоры не могли отдать все силы. В Малой Азии, которая и прежде являлась театром военных действий с арабами, теперь один за другим вспыхивали мятежи разбогатевшей и амбициозной военной аристократии. Лавры прежних узурпаторов Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия не давали покоя ромейским полководцам. Принцип наследственной власти для Византии был еще внове. Престол должен получать «достойнейший». А в дни войны достойнейший – это сильнейший.
Попеременно мятежи поднимали двое тезок, два наиболее одаренных военачальника восточной части Империи – Варда Фока, племянник бывшего императора Никифора, и Варда Склир. В 976 году, при восшествии на престол Василия и Константина, род Склиров восстал в первый раз. Для борьбы с ними в 978 году из ссылки возвратили Фоку. Одержав над Вардой Склиром победу в личном поединке, Варда Фока принудил его к бегству из Византии. Склир отправился к багдадскому халифу. Тот, не доверяя ромейскому беглецу, заточил его в темницу.
Но весной 987 года, когда после смерти халифа его преемник выпустил Склира, тот вернулся в Византию и возобновил мятеж. И тут, во многом внезапно для столицы, восстал и Варда Фока. В августе 987 года он провозгласил себя императором. Мятежники заключили между собой союз, согласно условиям которого к Фоке должны были отойти европейские провинции империи, а к Склиру – азиатские. Фока, правда, условия договора бесстыдно нарушил, заточив нового союзника в одной из своих крепостей. После этого он стал собирать соединенные силы для похода на вожделенный Константинополь.
Василия, старшего из братьев, фактически и правившего страной, охватила паника. Сил воевать на два фронта – против болгар и против восставших малоазийских провинций, – он не имел. Оставалось искать внешней помощи. Тут и пригодился заключенный Иоанном Цимисхием новый договор с русами. В нем Святослав клялся: «Если иной кто помыслит на страну вашу, то и я буду против него и стану бороться с ним».
Сразу после отложении Варды Фоки на Русь отправилось спешное посольство с просьбой о помощи. Переговоры следовало завершить в течение осени, с тем чтобы весной уже получить необходимую помощь. Было ясно, что с концом зимовки враг начнет движение к столице.
Слухи о том, что вокруг русского князя роятся чужеземные проповедники, достигли уже к этому времени Константинополя. С точки зрения едва ли думавшего о чем-то ином Василия, это могло повредить необходимым ему союзным отношениям. Особенно вредно, почти катастрофично для Империи, было бы принятие Русью ислама. Василий не мог знать угрожающей для Византии аргументации дружинных сторонников мусульманства, но с учетом исторического опыта она прочитывалась легко. Потому, памятуя о крещении Ольги и наличии в Киеве греческой епархии, учрежденной еще в IX веке, Василий отправил с посольством некоего ученого философа, поручив переговорить с князем о вере.
Имя этого человека, сыгравшего во всей истории Руси исключительную роль, в летописях отсутствует. Позднейших летописцев это озадачило не меньше, чем современных ученых. Кто-то из них даже отождествил его со святым Кириллом, учителем славянским, жившим на сотню с лишним лет раньше. Н.М. Карамзин увидел его в легендарном русском «епископе Павле» одной из редакции саги об Олаве. Но если бы речь шла о епископе, то предание отметило бы этот факт. Определение же «философ» указывает скорее на увлеченного «любомудрием» высокопоставленного чиновника, чем на духовного иерарха. Это не исключает, заметим, священнического сана.
Что касается византийских источников, то они в подавляющем большинстве хранят молчание о крещении Руси во времена Владимира. Факт поразительный и возбуждавший множество споров. Думали и о «болгарском» источнике крещения, якобы сокрытом летописцами, и даже о еретическом крещении (тем более скрываемом). Но, полагаю, все проще. Создатели византийских летописных сводов XI–XII веков знали, когда крещена Русь. Она была крещена в IX столетии, при императоре Василии I. Тогда же была создана русская архиепископия. Последующие отложения русов от правой веры уже не интересовали имперских хронистов. Они писали не историю Руси и не всемирные истории. Крещение Ольги на страницы хроник еще попало, но крещение Владимира уже не осознавалось как событие итоговое, большого исторического значения. Только с появления святого князя в греческих месяцесловах к XV веку церковные писатели озаботились розысками сведений о нем – а нашли их в русских же летописях и житиях.
Однако одно упоминание о крещении Руси в византийских исторических сочинениях все-таки есть. Церковный историк XIV века Никифор Каллист Ксанфопул писал и о крещении русов Василием II, и о создании по его инициативе русской митрополии. Таким образом, его сведения подтверждают и сам факт крещения, и его греческий источник. Однако, чтобы опровергнуть альтернативные версии, «Церковная история» Никифора и не требуется. «Греческое» крещение, наряду с русскими летописями, описывают арабские и немецкие сочинения. Об ином говорить нет оснований.
Но вернемся к изложению событий. Посольство не медлило и прибыло в Киев в начале осени. Переговоры прошли очень быстро. Владимир признал верность союзническим обязательствам, но выдвинул и свое условие. Он решил, как и в болгарском случае, скрепить союз с соседним государством заключением брака.
Владимир, общавшийся со служившими в Византии варягами, знал, что у императоров есть сестра на выданье. Анне, сестре Василия и Константина, исполнилось в 987 году двадцать четыре года. Подобно своему деду Константину VII, Анна была «порфирородной» – то есть рожденной в ту пору, когда отец находился на престоле. Это высший уровень знатности в представлениях византийцев. Даже императорские дети, рожденные до вступления на трон, рассматривались нередко как менее знатные в сравнении с «рожденными в порфире».
Следует помнить (это, кстати, четко понимает и русская летопись, относящая сватовство к более позднему времени), что Владимир не являлся еще на тот момент христианином. Он не предлагал Анне христианского брака. В данной ситуации она могла только пополнить сонм его супруг, пусть как наиболее почитаемая.
Для ромейских послов ответ их государей «варвару» был очевиден. Но сейчас в их задачу входило не злить Владимира, а получить от него воинов. Потому они отложили решение на суд императоров. Зато сватовство к христианке давало повод завести разговор с князем о вере. И к Владимиру отправился философ.
Разговор начался с обсуждения недавнего выбора вер. Русский летописец заставляет философа сперва откровенно утрировать до нелепостей (что признавалось уже первыми российскими историками) мусульманскую обрядность, а затем посвящать князя, еще «невежественного», в богословский спор с латинянами о причастии квасным или пресным хлебом. Думается, что это смысла не имело. Князь уже решил не принимать ни ислама, ни латинского крещения. Выяснив это, философ должен был удовлетвориться.
Но Владимир сказал и другое: «Пришли ко мне иудеи, говоря так, будто немцы и греки веруют в того, кого мы распяли». Эта мысль, отражена она летописцем правильно или в привычных общих чертах, действительно могла засесть в голове у князя после разговора с раввинами. Доблестному полководцу трудно было соотнести триумфальное шествие христианской веры по пепелищу воинственных языческих богов – и распятого Бога, потерпевшего поражение от не раз разгромленных русами иудеев.
«Воистину в Того веруем, – ответил философ. – Ведь о том пророки прорицали, что Бог родится, а другие – что распятому быть, погребенному, а на третий день воскреснуть и на небеса взойти. Они же тех пророков избивали, а других пророков распиливали деревянными пилами. Когда же сбылось проречение их, то сошел на землю, распятие принял волею, воскрес и на небеса взошел. От них же ожидал покаяния 40 и 6 лет, – и не покаялись. И послал на них римлян, и грады их разбили, а самих расточили по странам – и рабствуют они по странам».
У Владимира при этих словах неизбежно пробуждались воспоминания о разговорах с Ольгой. Заинтересованный князь спросил: «Чего ради сошел Бог на землю и страсть такую принял?». «Если хочешь послушать, – ответил философ, – то расскажу тебе изначала, чего ради сошел Бог на землю». «Рад послушать», – сказал Владимир. Так греческий посланник одержал первую победу. Он не дал князю втянуть себя в рассуждение о приземленных деталях «закона», а переключил его внимание на подлинную сущность вероучения. Тем самым философ получил возможность подробно изложить, во что же, собственно, верят христиане.
В летописи это изложение занимает немало места. «Речь философа» когда-то являлась самостоятельным произведением, причем в одном из кратких летописцев XV века сохранилась более объемная версия ее начала. Чтение «Речи» не оставляет сомнений в том, что это действительно краткое изложение основ веры для обращаемого. Почему бы и не для Владимира? Для кого еще могло понадобиться создавать особое литературное произведение, к тому же вошедшее затем в летописи? «Философ» мог записать текст, готовясь к беседе, а затем читать его. Для не знавшего грамоты, возросшего в язычестве Владимира само чтение представлялось процессом священным.
Есть лишь одна трудность – «Речь» определенно создана на Руси. Греческий ученый вполне мог знать славянский язык. Но писать на нем как на родном? Если он и сам был славянином, то южным, и это сказалось бы на имеющихся версиях «Речи». Но определенных «болгаризмов» тоже не обнаруживается. Источником «Речи», с другой стороны, послужила греческая хронография с изложением Священной истории. Итак, «Речь» создал русский христианин. Философ, конечно, должен был прибегнуть к помощи киевской общины. Ее члены могли поведать о ситуации при дворе, выступать посредниками и переводчиками.
«Речь» содержит и отдельные мотивы, восходящие к «отреченной», апокрифической литературе. Здесь, просеянные через сито византийской христианской ученой мысли, они никак не влияют на общий тон. Но в принципе апокрифы на Русь проникали и киевскими христианами читались. Ничего странного в этом нет. Молодому русскому христианству еще долго предстояло учиться. Следует помнить, что духовных лиц среди киевских русов быть не могло – за давним, со времен бегства так и не приступившего к делам Адальберта, отсутствием в Киеве епископа. Уже в XI веке Начальный летописец вслед за началом Символа веры как столь же истинное приводил другое, расширенное Исповедание, утверждая, будто Владимир получил его в Корсуни. И в этом Исповедании относительно лиц Троицы приводится уже откровенно еретическая формула «подобносущий», выдвинутая еретиками-арианами в IV веке против православного «единосущия». Текст действительно мог быть привезен из Корсуни (необязательно Владимиром) – только не от греков, а от крымских готов, еще в VIII веке ариан. То, что православный летописец вставил его в свой труд, а многие его православные же последователи (в том числе автор «Повести временных лет») спокойно воспроизводили, свидетельствует о довольно низком уровне богословской внимательности. Первые русские христиане (как и летописцы XI–XII вв.) не были ни давно сгинувшими арианами, ни, допустим, вполне осязаемыми тогда богомилами. Но, будучи в первые годы Владимира лишены постоянного духовного руководства, они черпали сведения о христианстве откуда могли, из любой привозной книги – не всегда из доброкачественной.
Возможно, впрочем, что «Речь философа» создана вообще не по этому случаю, а после его отъезда, к крещению Владимира. И совершенно ясно, что текст, дошедший до нас, не точно передает оригинал – ясно хотя бы из наличия двух редакций. Но общий план того, что должен был поведать Владимиру греческий посол, «Речь» отражает верно – поскольку действительно сжато и последовательно, в общем, согласно с Библией, излагает Священную историю.
Философ начал речь с Шестоднева, с сотворения Богом всего тварного мира. Он описал падение Сатаны и первородный грех первых людей. Он говорил о братоубийстве Каина, о грехах первых поколений и о грозном воздаянии Всемирного потопа. Он говорил о спасении Ноя в ковчеге и о Ноевом потомстве, о безумии Вавилонского столпотворения и о разделении языков. Поведал он о появлении идолопоклонства, об избрании праведного Авраама и о начале истории еврейского народа. Изложил он историю ветхозаветных патриархов до двенадцати сыновей Иакова, и Завета первых евреев с Богом. Рассказал о пророке Моисее, о десяти казнях, наведенных Господом на непокорный Египет, и об Исходе израильитян. О непокорстве народа Богу и его пророку и о чудесах во время странствий в Синайской пустыне. О кончине Моисея и о завоевании обетованной земли Палестины Иисусом Навиным. Рассказал и о первом отступничестве обретшего страну Израиля, о неверных раскаяниях и новых отпадениях, и о каре Божьей – нашествиях иноплеменников.
Философ говорил Владимиру о величии древнего Израильского царства времен Давида и Соломона. О том, как Бог избрал Давида на царство вместо неправедного Саула, как Давид пророчествовал о Боговоплощении, а Соломон построил Первый Храм, но под конец жизни отдался греху. Он говорил о распаде древнего царства на Израиль и Иудею, о новых отступничествах и идолопоклонстве, о пророках, обличавших соплеменников, и о гневе Божьем на отвергший пророков народ. Пророки, утверждал философ в согласии с христианским учением, ясно предсказывали отвержение прежнего богоизбранного народа и призвание на их место иных племен. Также предсказывали они и грядущее воплощение Божье.
«В какое время сбылось это все, и сбылось ли уже? – спросил Владимир. – Или это только еще наступит?» «Уже прежде сбылось все, – ответил философ, – когда Он воплотился». И он продолжил речь, переходя понемногу от Ветхого к Новому Завету. За отступничество древних евреев и их царей, поведал он, Бог предал их сперва на пленение в Вавилон. Затем, по возвращении, у них не было царей, а правили священники – до захвата власти иноплеменником Иродом. При нем и родился Христос.
Философ говорил о Благовещении, о непорочном зачатии Сына девой Марией, о Рождестве и поклонении волхвов. Говорил он об избиении вифлеемских младенцев Иродом, о бегстве Святого семейства в Египет и о возвращении его в Назарет по смерти гонителя. Он говорил о целительных чудесах Иисуса, о крещении в водах Иордана от Иоанна Крестителя, о Богоявлении и о проповеди Нового Завета. Поведал он об последнем приходе в Иерусалим, о взятии Иисуса под стражу, о суде Понтия Пилата и о понуждении его иерусалимскими книжниками. Он рассказал о распятии на Голгофе, о Воскресении на третий день, о явлении Господа ученикам, и о последней встрече по Вознесении. «И когда истекло пятьдесят дней, сошел Дух Святой на апостолов. И, приняв обетование Святого Духа, разошлись по вселенной, уча и крестя водою».
«Чего ради от жены родился, на дереве распялся и водою крестился?» – спросил Владимир. Философ объяснил. Через жену произошло грехопадение – через жену же явилось и спасение рода человеческого. Древо познания искушением сатаны превратилось в погибельный соблазн для человека – крестное древо побеждает дьявола. Воды потопа некогда погубили падшее поколение человечества – и стали прообразом того, что грехи людей будут губиться водою крещения. Обновление водою знаменовали и расступившееся перед евреями Чермное море. Его же предвестило древнее гадание судии израильского Гедеона. Тот, получив уже Божий ответ, – влагу на руне посреди сухой земли, пожелал искусить Бога, загадав обратное. На следующий день вся земля была влажной, а руно сухим – так и прежде богоизбранные иудеи среди окрещенных водою народов.
«Когда же апостолы учили по вселенной веровать в Бога, их учение и мы, греки, приняли, и вся вселенная верует учению их. Установил же Бог день единый, когда намерен судить живых и мертвых, и воздать каждому по делам его. Праведным – царство небесное, красоту неизреченную и веселье без конца, не умирая вовеки. А грешникам – мука огненная, червь неусыпный, тьма кромешная, и муке не будет конца. Вот какова будет мука тех, кто не верует в Господа нашего Иисуса Христа: мучимы будут в огне, если не крестятся», – завершил философ.
С этими словами он развернул принесенное с собою полотно с изображением Страшного суда. По правую сторону от Бога радостные праведники шествовали в рай. По левую – мрачнела картина ада. Владимир смотрел на завесу и вспоминал свои преступления, страшные даже по языческому закону. Он узнавал себя в братоубийцах, распутниках, идолопоклонниках, о которых слышал только что.
С тяжелым вздохом князь выговорил: «Хорошо этим одесную. Зло же этим, слева». Философ ответил просто: «Если хочешь одесную встать с праведными, то крестись».
Обращение началось именно в этот момент. Владимир «положил на сердце своем». Он услышал то, что хотел и должен был услышать. Вода крещения смывает грехи прошлой жизни. Они гибнут, как погибли грешники в водах древнего потопа. Крещение позволит ему начать все сначала, как следует. С раскаянием, но без угрожающей тьмы впереди.
Правда, внешне Владимир остался любезно-сдержан. «Подожду еще немного», – ответил он. Греческая вера – хотя бы для успокоения дружины – тоже нуждалась в «испытании». Нужно было еще доказать, что она кое-чем отличается от отвергнутой латинской. Владимир щедро одарил философа и «с честью великой» отпустил его.
Созвав бояр и старцев, он поведал им о своих переговорах с ромеями. Договор клятвенно обязывал послать Василию и Константину помощь. Отговаривать князя от сватовства к Анне охотников не нашлось. По поводу же разговора с философом Владимир сказал: «Греки хулили все законы, а свой хвалили. И много говорили, рассказывая от начала мира. Хитро говорили, и чудно слушать их, и любо каждому. О другом свете рассказывают – “если кто верует в нашу веру, то, умерев, опять восстанет, и не умирать ему во веки. Если в иной закон вступите, то на оном свете в огне гореть”». Идея воскресения умерших во все времена, еще в античном мире, воздействовала на умы язычников. В совете и без того имелось достаточно людей, склонявшихся к христианству. Теперь и у других появился повод для раздумий.
Время не ждало. Для скрепления договора, сватовства и для «испытания веры» в Константинополь отправились десять княжеских мужей. Василий II устроил русским послам торжественный прием. Он с готовностью согласился представить им церковную службу. Требование руки Анны, однако, повергло старшего императора в замешательство. Отправлять сестру в дом «варварского» князя-многоженца он совершенно не собирался. Но ситуация требовала каких-то решений. Не затягивая переговоры, Василий обратился к самой Анне. Та, разумеется, наотрез отказалась выходить замуж за язычника, державшего к тому же целый гарем. Что ж, пока это могло сработать на императора. Василий не ставил целью крещение Руси. Его заботили сиюминутные политические проблемы. Он и сомневался в серьезности намерений Владимира. Но для решения его задач интерес князя к христианству был весьма кстати.
Наутро после приема русских послов Василий послал к патриарху Николаю III со словами: «Пришли русы испытать веру нашу. Приготовь церковный клирос и сам облачись в святительские ризы, – да видят славу Бога нашего». Искренне обрадованный патриарх приготовил праздничное богослужение. Так русские послы оказались вместе с императором на торжественной службе в великолепном константинопольском соборе Святой Софии – в сердце восточного христианства. Они были поражены красотой и величием храма, пышной архиерейской литургией. Император, поставив послов рядом с собой, объяснил им, что таково служение греков Богу христиан.
Затем Василий и Константин вновь приняли послов и щедро их одарили. Жесткий ответ Анны они передали, но смягчили его твердым обязательством выдать сестру. Если помощь будет прислана, а Владимир крестится. На последний случай вместе с ответным посольством, сопровождавшим русских, отправили по меньшей мере одного священнослужителя. Киевская община нуждалась в укреплении и руководстве. Проникновение враждебных Империи болгар и вечных соперников латинян не могло не встревожить патриархию. Византийские послы были уполномочены дать от имени императоров согласие на все в случае исполнения условий.
Посольство возвратилось в Киев, видимо, уже после завершения навигации на Черном море, поздней осенью или в начале зимы 987 года. Ответ императоров относительно женитьбы на Анне звучал и сурово, и обнадеживающе: «Недостойно христианам давать за поганых. Если крестишься, то и это получишь, и царство небесное примешь, и с нами единоверец будешь. Если не хочешь сего сотворить, не можем отдать за тебя сестры».
Князь созвал бояр и старцев на новый совет и вызвал туда ходивших «в греки» послов. «Вот, – сказал он, – пришли мужи, посланные нами. Да услышим от них бывшее». «Говорите перед дружиной», – велел он своим посланцам. «Пришли мы в Греки, – поведали те, – и отвели нас туда, где они служат Богу своему. И не ведаем мы, на небе или на земле были. Нет ведь на земле такого вида и красоты такой, – не умеем и высказать. То ведаем только, что сам Бог там с человеками пребывает. Служба их лучше, чем во всех странах. А мы не можем забыть красоты той. Всякий ведь человек, если вкусит сладкого, после горечи не примет. Так и мы не станем здесь жить».
Голоса сторонников крещения зазвучали теперь в открытую, и это был голос большинства совета. «Если бы лих был закон греческий, – сказали Владимиру его бояре, – то не приняла бы его бабка твоя Ольга, что была мудрейшей из всех людей». С этим и сам князь был согласен.
По Корсунской легенде, Владимир затем спросил: «Так где крещение примем?» «Где тебе любо», – ответили ему. Если такой диалог и произошел, то князю любо было принять крещение здесь и сейчас, от присланного из Византии иерея. Без этого не мог быть скреплен брачный договор, которому он теперь, в радости обращения, придавал значение гораздо большее. Брак с Анной стал бы первым христианским браком великого князя. О сложностях Владимир, похоже, не сразу подумал. Но склонный к горячности князь спешил, и стоит ли осуждать его в данном случае?
«Сага об Олаве» монаха Одда, что неудивительно, приписывает главную заслугу в обращении Руси именно норвежскому викингу. Он будто бы увидел в ночи видение рая и ада, и понял, что Владимира и его супругу (сага знает лишь одну) ждут адские муки. Неведомый голос велел ему отправиться в Грецию и там узнать имя Божье. Проснувшись в слезах и «с большим страхом», Олав немедленно со всем своим флотом отплывает в Византию. Но не в грабительский поход, а для беседы с проповедниками христианства. Они обучили его, и Олав принял «первое знаменование» от греческого епископа. Он попросил епископа отправиться с ним на Русь, а тот, в свою очередь, попросил сопровождать себя.
Олав вернулся к Владимиру. В разговорах с ним и его «княгиней» норвежец настаивал: «Поступите в соответствии с тем, что подобает. Много прекраснее вера, когда веруешь в истинного Бога и Творца своего, который сделал небо и землю, и все, что им сопутствует. Мало приличествует тем людям, которые являются могущественными, блуждать в таком великом мраке, чтобы верить в тех богов, которые не могут оказать никакой помощи, и отдавать этому все время и силы. Можете вы также понять, благодаря вашей мудрости, что истинно то, что мы проповедуем. И я никогда не перестану проповедовать вам истинную веру и слово Божье, чтобы вы могли дать плоды для истинного Бога». Первой прислушалась к Олаву будто бы «княгиня», а ей удалось убедить мужа и всех его приближенных, «что все то было языческим заблуждением, с чем они прежде имели дело, а христиане веруют лучше и прекраснее». Тогда приехавший епископ (одна из редакций добавляет ему имя – Павел) крестил Владимира и его мужей.
Можно поверить в то, что Олав Трюггвасон прибыл в Киев после весенне-летних набегов 987 года и отправился вместе с посольством в Византию, как один из десяти представителей князя. Можно поверить и в то, что он, приемный сын князя, возглавлял посольство. В таком случае следует ожидать, что он действительно говорил от имени сотоварищей и с князем, и в совете, убеждая принять крещение. Можно поверить, наконец, и в то, что на окончательное решение князя оказала влияние какая-то из знакомых с христианством жен – либо христианка «грекиня», либо происходившая от христиан «болгарыня». Или под княгиней здесь разумеется уже Анна? С наименьшей долей вероятности можно допустить, что греческого священника, приехавшего с посольством и крестившего князя, звали Павлом. Но епископом он не являлся. Все остальное можно списать на эпические преувеличения.
Несообразность одна – но она ставит под сомнение всю историю. Олав, по саге, убеждает креститься всю Русь. Но при этом так и не крестится сам. А сразу после крещения Владимира уезжает с Руси некрещеным. Крестился же он только в 993 году. Эта картина граничит с абсурдом. Особенно если допустить, что Олава действительно «знаменовали» в Византии – в ту пору этот обычай предварительного приобщения ни на Западе, ни на Востоке полностью не отмер. Нелепость заметили последующие авторы саг – и наиболее «здравомыслящие» просто удалили фрагмент, вместе с достоверным воспоминанием о крещении Руси при Владимире. Итак, если Олав и входил в посольство Владимира, то вряд ли возглавлял его и точно не разделил абсолютную убежденность большинства своих сотоварищей. И не он был главным двигателем крещения Руси. Ценность саги, однако, в том, что она еще раз воспроизводит обычные аргументы сторонников христианства. Пусть они звучат несколько наивно и сумбурно – но зачем ждать от суровых воителей из княжеской дружины риторических изысков?
После дружинного совета Владимир призвал греческих послов и дал им ответ. В Корсунской легенде (относящей, правда, события к более позднему времени) он гласит: «Скажите цесарям так: крещусь, ибо испытал прежде сих дней закон ваш. Он люб мне, как и вера ваша и служение, о коих поведали мне посланные нами мужи».
Принятое Владимиром решение креститься и отправить византийцам войско в обмен на брак с Анной вызвало, вероятно, еще одну пересылку с Константинополем. Обмен гонцами мог произойти и в зимнее время. Во всяком случае, императоры твердо поручились: «Крестись, и тогда пошлем к тебе сестру нашу». Выбора не было – Фока уже пробивался к берегам Мраморного моря. Но там, где для одних присутствовала лишь корысть, другим являлся знак Божий.
Крещение
Князь Владимир крестился в Киеве в начале 988 года, в январе или феврале, приняв крещение от присланного из Константинополя священника. В крещении князя назвали именем Василий. То же имя носил старший византийский император. Святым покровителем князя стал Василий Великий, Кесарийский, память которого празднуется 1 и 30 января.
Вместе с Владимиром крестились его домочадцы, «весь дом» – жены, дети и челядь. Мы не знаем всех христианских имен детей Владимира. Известно, что Ярослав в крещении стал Георгием, Святополк – Петром, Борис – Романом. Родившийся же позже младший сын «болгарыни» Глеб был наречен в крещении Давидом. Полученные при крещении имена языческих жен Владимира нам неизвестны. Что касается дружинников, то из них крещение пока приняли самые решительные и преданные князю. Колеблющихся и скептиков оставалось гораздо больше. Но их Владимир рассчитывал убедить вскоре.
«Бог так изволил и возлюбил человеческое естество, – повествует митрополит Иларион. – Разоблачился каган наш, и с ризами ветхого человека отложил тленное, отряс прах неверия и вошел в святую купель, и родился от Духа и воды, в Христа крестился, в Христа облекся, и вышел из купели бел, став сыном нетления, сыном воскрешения, имя приняв вечное, именитое в роды и роды, Василий, под ним же вписавшись в книги животные в вышнем граде и нетленном Иерусалиме».
«Крестился Владимир, – пишет Иаков Мних, – и чад своих, и весь дом свой святым крещением просветил, и освободил всякую душу, мужской пол и женский, святого ради крещения. И возрадовался и возвеселился о Боге по-Давидовски князь Владимир, и как святой пророк дивный Аввакум о Господе веселился и радовался о Боге, Спасе своем. О блаженное время и день добрый, в которые крестился Владимир князь! И наречен был во святом крещении Василий, и дар Божий осенил его, благодать Святого Духа осветила сердце его и обучила по заповеди Божьей ходить и жить добре о Боге, и веру твердую удерживать недвижимо».
По Корсунской легенде, которая переносит крещение в Херсонес, этому акту предшествовала болезнь, слепота, посланная Богом за многократные промедления. Дав обет креститься и окрестившись, Владимир был исцелен и тогда-то соединился в браке с Анной. Но Иаков о болезни не говорит ничего, а для Илариона как раз то и являлось великим Господним чудом, что Владимир обратился без всяких явных знамений и чудес, просто по Божьему призыву и промыслу:
«Как твое сердце отверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как пристал ты к любви Его? Не видел апостола, пришедшего в землю твою, нищетою своей и наготою, гладом и жаждой сердце твое к смирению склонившего, не видел бесов, изгоняемых именем Иисуса Христа, больных выздоравливающими, немых говорящими, огня, в холод превращаемого, мертвых встающими. Всего этого не увидев, как же уверовал? Дивное чудо! Иные цари и властители, видя все это, явленное святыми мужами, не уверовали, но, более того, предавали их на страсти и муки. Ты же, о блаженный, без всего этого притек к Богу, только от благого разума и острого ума понял, что есть Единый Бог творец видимого и невидимого, небесного и земного, и послал Он в мир спасения ради возлюбленного Сына Своего. И помыслив это, вошел в святую купель. И там, где иным мнится уродство, тебе явилась сила Божья».
Итак, писавший ранее всех Иларион ничего не знает о грозном чуде, сопровождавшем, по летописи, крещение Владимира. Стал бы он прямо отрицать, если бы таковое свершилось? И разве умаляют слова древнего святителя величие Господа? Кажется, что напротив. Да, Владимир не видел (тем паче не чувствовал на себе) «больных выздоравливающими». И «без всего этого», «только от благого разума и острого ума» все же последовал Слову Божьему.
Здесь уместно, наконец, сказать и о том, как появилась столь прочно вошедшая в русскую историческую память Корсунская легенда. В ее возникновении не было никакого злого умысла или стремления к фальсификации. Естественно, что разные местности на протяжении всего следующего века соперничали за право быть местом крещения Владимира. Так, жители Василева, первого города, названного в честь святого покровителя князя, верили, что Владимир крестился у них – хотя Василева на тот момент еще и существовать не могло. Возможно, впрочем, что здесь отразилось какая-та легенда о крещении на месте Василева, на реке Стугне, по пути к днепровским порогам. Подобные предания рождались из ошибочных рассуждений, а не из сознательного вымысла.
Свое предание о крещении Владимира имелось и в Крыму. В Херсонесе и Керчи уже спустя уже одно-два поколения уверились, что Владимир-христианин не стал бы вести войну с Византией. К тому же крещение князя оказалось плотно увязано в устной исторической памяти с его женитьбой на византийской царевне – как и у арабских христианских историков XI века. А поскольку бракосочетание свершилось в Херсонесе, то и крещение перенеслось туда. Мотив же болезни князя соединил церковную формулу освобождения новообращенного от духовной «слепоты» с преданием соседнего Сурожа о древнем русском князе Бравлине. Тот на рубеже VIII–IX веков захватил и разграбил Сурож, но, сраженный грозным чудом покойного епископа, святого Стефана Сурожского, крестился и заключил с городом мир.
Так родилось «Слово о том, как крестился Владимир, взяв Корсунь». Само название этого памятника – явная полемика с другими версиями. В 70-х или в начале 80-х годов XI века он вошел в Начальную летопись благодаря известному переводчику и писателю Никону Великому, долго прожившему в Тмутаракани. Он был, по крайней мере, одним из создателей древнейшего нашего летописания. Не исключено, что Никон сам и написал на основе крымских преданий «Слово», а потом его дополнял и редактировал для включения в летопись. В Начальной летописи, наряду с кратким упоминанием «неправых» киевской и василевской версий, присутствует еще и изначальная запись о крещении Руси под 989 годом. Из «Повести временных лет», как уже говорилось, она исчезла – и Корсунская легенда, войдя в позднейшие летописи и в жития, стала единственной, устоявшейся версией крещения Владимира на долгие века, до тех пор, пока историки нового времени не обратились к трудам Илариона и Иакова.
Корсунская легенда имела и еще одно основание. Владимир не объявил широко о своем крещении и не решился пока взяться за крещение Руси. Он понимал, что в отсутствии многочисленного духовенства и прочной опоры в дружине такая попытка закончится неудачей. Не исключено, что большинство русов действительно узнало о христианстве князя только после похода на Корсунь. Так что легенда могла иметь прочные корни в преданиях Руси.
Итак, Владимир крестился – и теперь ждал возможности создать Русскую церковь. В Киеве не было епископа, и Владимир обратился к императорам с просьбой прислать на Русь нового предстоятеля, а с ним и других священнослужителей. Статус новой епархии, подчиненной Константинополю, должен был повыситься – с IX века Русь числилась там архиепископией. С тем он по весне и отпустил византийское посольство.
Следом он выступил сам. За Русское море на помощь императорам отправлялось шеститысячное войско. Владимир проводил полки и сам до днепровских порогов. Он отогнал от Днепра постоянно залегавших путь печенегов и встал в порогах, ожидая прибытия архиепископа и новой, христианской супруги. Войска проследовали далее и вскоре явились к императорам. Василий и Константин, готовившиеся к решающей схватке с Фокой на самых подступах к Константинополю с азиатской стороной, приняли помощь с радостью. Силы европейских провинций сосредотачивались вокруг столицы. Фока подтягивал свои. Враги выжидали, стягивая резервы, и в 988 году генерального сражения так и не произошло.
Владимир между тем ждал в порогах. Византийцы, получив все обещанное, выполнять обязательства, казалось, не торопились. Владимир не мог и вернуться в Киев – путь по Днепру для Анны без княжеской дружины был бы очень опасен, поскольку печенеги сразу возвратились бы к порогам. Так прошло лето. Владимир не дождался ни архиепископа, ни Анны. И понял, что обманут.
Справедливости ради надо отметить, что епископа на Русь Василий все-таки послал. Он перевел на вновь создаваемую русскую митрополию управлявшего до тех пор Севастийской епархией в мятежной Малой Азии Феофилакта. Митрополит Феофилакт, близкий к императору и выполнявший разного рода его поручения, должен был как-то потянуть время и смягчить домогательства Владимира. Но на Русь он не доехал. По пути Феофилакта схватили и жестоко убили враждебные Империи болгары царя Самуила. Хитроумная дипломатическая интрига, в чем бы они ни заключалась, провалилась. Василию ничего не оставалось, как тупо тянуть время, оставляя Владимира безо всяких вестей. В Малой Азии шли бои, и русский корпус был по-прежнему нужен.
Отдавать порфирородную сестру северному «варвару», даже крещеному, тем более против ее воли, Василий и Константин не собирались. Если и собирались, то только в крайней нужде и под прямым давлением. Таковы была принципы византийского двора – соблюдавшиеся неукоснительно даже в отношении давно принявших христианство западных «франков». Разве что запредельной настойчивостью правитель Германии, к примеру, мог добиться руки византийской принцессы. Женихов, родовитых ромеев, хватало при дворе автократоров. Пусть такие браки со знатными полководцами плодили новых узурпаторов – зато они не унижали императорский сан. След давно изжившей себя староримской гордыни в «греческом» византийском царстве.
Но и рациональных причин для отказа Владимиру хватало. Ромейская знать восприняла договор с ним, хотя и вынужденный, как оскорбительный для Империи. В строках византийских хроник сквозит явная обида, восходящая к мнению современников событий. А настоящую бурю гнева брачный сговор вызвал на Западе, тем более что в первых слухах Анна оказалась смешана со своей старшей сестрой Еленой, к которой неудачно сватался германский император. Естественно немцы, которым предпочли новокрещеного Владимира, пришли в ярость. Ссориться еще и с Западной Империей в такую пору восточные императоры не собирались. Оставить Анну дома казалось наилучшим исходом.
Но и Владимир, по правде сказать, пока был не без греха. Раздраженный бесплодным ожиданием Анны, он продолжил жить с «болгарыней», и их младший сын Глеб-Давид родился примерно в год крещения Руси. Сомнительность ситуации, конечно, оправдывала князя. Но Владимир по-прежнему и не знал, как поступить со своими языческими женами, и не мог принять естественного для византийцев условия – расторжения прежних браков и признания наследниками лишь будущих сыновей от Анны. Совершенно не ясно, как князь собирался решить эту проблему в момент принятия христианства. Кажется, он посчитал, что прекращения сожительства с супругами и верности новой христианской жене будет достаточно. Но ромеи, конечно, рассуждали иначе. Были ли они правы с христианской точки зрения? Бог весть – прецедентов в Европе, кажется, не было. Прежние славянские князья, принимавшие веру из Византии, имели по одной жене. И не сватались к императорским сестрам.
Владимир был прав с точки зрения древней славянской (и не только славянской) «правды». Как бы то ни было, он не собирался ни прогонять с позором некогда любимых женщин, ни тем более отказываться от сыновей. По родовому закону, снять с себя ответственность за семью для ее главы являлось тягчайшим проступком. Но, искренне приняв душой правоту христианского закона, Владимир видел и то, что продолжение распутной жизни многоженца – грех по этой новой правде. Он раскаивался. Но пока не находил выхода. Не больший ли грех – предательство ближних?
Следует иметь в виду еще, что «расторгнутых» браков у князя на тот момент уже не было. Как раз около этого времени князь примирился с Рогнедой. Даты примирения мы не знаем, но ясно, что произошло оно именно в 987 или даже в 988 году. Девятилетний или десятилетний Изяслав с приданной ему дружиной остался в Изяславле. Рогнеда же вернулась в Киев и вскоре родила Владимиру последнего их ребенка, дочь Предславу. Дочери и ее матери Владимир подарил сельцо под Киевом, названное Предславино. Здесь Рогнеду посещали и ее подраставшие сыновья.
Рогнеда, горько претерпевшая от законов крови, искренне, всей душою приняла новую веру вместе с Владимиром. Спустя два-три года она уже выступает христианкой пылкой и убежденной. Оставить ее вновь, теперь ради Анны, для Владимира было крайне непросто.
Так-то и вышло, что крещеный князь продолжал примерно год – увы, не только формально, – оставаться многоженцем. Именно потому, что боялся причинить непоправимый вред. Вряд ли Титмару, единственному, кто прямо судит Владимира за «распутство» сразу после крещения, пришел бы на ум хоть какой-нибудь всех устраивающий выход из неведомой ему в деталях ситуации. И выход, найденный позднее Владимиром, трудно однозначно оценить современному сознанию. Пока же все оставалось так, как было. И каждая сторона могла себя оправдывать – византийцы наличием у Владимира жен, Владимир же отсутствием клятвенно обещанного христианского брака. Замкнутый круг, который мог быть только разрублен.
Но превыше всех политических дрязг и тревог, превыше личного интереса Владимир уже осознавал свой новый долг – добиться принятия христианства не только в своем доме, но и в своей стране. Отсутствие греческих священников мешало выполнению этой задачи. Еще и потому обман императоров столь сердил князя. Он мог прибегнуть к помощи болгар. Но не мог всецело положиться на них.
В тогдашней Болгарии враждебность к Византии нередко переходила во враждебность к Константинопольской церкви, а та, в свою очередь, – к полному отвержению православия. Думается, что богомильскую ересь с ее совершенно нехристианской картиной мира князь смог бы распознать и без помощи «философов». А распознав – настороженно относился бы ко всей болгарской религиозности в целом. К тому же Болгарию и Русь разделяла давняя политическая вражда, а Святослав клятвенно признал бывшие земли дунайских болгар частью Византии. Наконец, болгарские священники не обладали в глазах князя тем священным авторитетом, которым обладали греки с почти тысячелетней историей христианства за спиной. В древнерусских преданиях болгары рассматриваются в ряду степных кочевых «находников», угнетателей славян, и как народ «славянского языка» еще не осознаны. Владимир не мог надеяться, что это никак не повредит делу проповеди.
Каковы бы ни были причины тому, Владимир не стал обращаться за помощью в церковном устроении в Болгарское царство. Он думал, откуда бы выписать образованных греческих священников, которые помогут ему крестить Русь и установить прямую связь с патриархией. Возникла у него и мысль укрепить русское христианство православными мирянами, переселенцами из Византии. Почти отчаявшись в союзе с императорами, он искал иные пути. И мысли его обратились к Корсуни, к греческому Херсонесу.
Взятие Корсуни
Херсонес, древняя греческая колония на южном выступе Крымского полуострова, теперь являлся столицей византийских владений в Крыму. В своих стенах он давно не видел завоевателей. Если «варвары» и захватывали город, то быстро покидали его, не в силах закрепиться. Сначала для римлян, потом для наследовавших им византийских ромеев Херсонес оставался надежным оплотом на северных берегах Черного моря.
Одновременно он был важнейшим торговым портом, куда сходились купцы и товары со всех сторон света. С севера долгим путем «из Варяг в Греки» ехали славяне и норманны. На востоке стояли древние хазарские крепости – Керчь и через пролив Самкерц – Тмутаракань, издавна привлекавшие еврейских торговцев и разбогатевшие их руками. Оттуда шли пути дальше на восток, ответвления Великого шелкового тракта. Теперь и этими крепостями владели русы, но хазары и их единоверцы никуда не делись, продолжая трудиться и в русской Тмутаракани. Западный берег Черного моря с устьем Дуная и торговыми пристанями Болгарии еще недавно тоже поставлял немало – но теперь это край войны. На юге же лежала большая земля, Империя, на пути к которой Херсонес служил лишь первым, но важнейшим перевалочным пунктом.
Фема Херсон – военно-территориальная единица со столицей в Херсонесе – охватывала весь Южный Крым до Керчи на востоке. С севера Херсон граничил с независимыми горскими и степными княжествами. Среди них выделялся осколок некогда могущественного Хазарского каганата, правители которого претендовали на наследие предков, но склонялись при этом уже к христианской вере.
Неукоснительная верность Империи отнюдь не препятствовала разноплеменности Херсонеса. Иначе и быть не могло – слишком много народов заходило в разное время на земли Крыма. А поскольку свернувшие из Степи, с великого пути переселений, оказывались на полуострове в своеобразном «тупике», то здесь и оседали, добавляя свои цвета в разноцветную палитру языков и нравов. Так пришли и поселились скифы, сарматы, готы – а задолго до них неведомые племена, чьи названия помнились остальному миру лишь по трудам античных географов. По морю же вслед за основателями города греками пришли смешавшиеся с ними римляне, а затем, по торговым делам, создавшие свои общины евреи и армяне.
Нечего удивляться, что в этом разноязычии отыскалось место и для русов. Уже в первых десятилетиях IX века они жили в Херсонесе – «ромейские русы», как называли их на Востоке. Именно отсюда смешанные норманно-славянские ватаги воинов и купцов отправлялись в те годы на службу к императорам или для торговли в богатые города Империи. Но многие оседали, оставались и становились подданными Византии, добропорядочными горожанами. И здесь, в византийском Крыму, только рождающаяся Русь впервые встретилась с христианством.
Многие нити связали молодое русское христианство с землями византийского Херсона. Вторым по значимости городом фемы был Сурож, в котором на рубеже VIII–IX веков крестился русский князь Бравлин. Но, по местным херсонским преданиям, и гораздо раньше будущие русские земли слышали слово Божье из Крыма. По этим преданиям, до Херсонеса доходил с проповедью сам апостол Андрей Первозванный, учитель в том числе и северной «Скифии». Отсюда он будто бы отправился вверх по Днепру, до Киевских гор, на которых поставил крест, а то и дальше самых днепровских верховий, «в Словены». Легенда? Вероятно. Но отражающая труды многих поколений тружеников раннего христианства, проповедовавших Евангелие на землях Крыма и несших его дальше, в земли восточных славян.
Долгие века продолжался этот неспешный и опасный труд. Но в IX столетии, с появлением в Херсонесе разноплеменной «русской» общины, он начал приносить плоды. Славяне узнавали о христианстве больше, норманны в большинстве своем сталкивались с ним впервые. «Ромейские русы» – из тех и из других – с первых лет плаваний «в Греки» начинают принимать новую веру. Уже в те годы из их среды выходят представители духовенства. А примерно в 830-х годах кто-то попытался приложить пришедшие с Севера навыки рунического письма к священным текстам. Были переведены и записаны вновь созданными «русскими письменами» Евангелие и Псалтырь. Опыт, вероятно, оказался не слишком удачен и последствий не имел. Однако он дал направление мыслям видевшего эти первые русские книги святого Кирилла-Константина, первоучителя славянского, создателя вместе со святым Мефодием древнейшей славянской азбуки – глаголицы.
Позднее, по мере того, как оживленнее становилась торговля по пути «из Варяг в Греки», русская община в Херсонесе только разрасталась. Сами нужды жизни на землях православной Империи располагали ее членов к принятию христианства. Так что Херсонес сам собою превратился в важнейший центр проповеди новой веры на Руси. Неудивительно, что, не дождавшись ответа из Константинополя, Владимир подумал о Херсонесе.
В Империи бушевала гражданская война с неясным исходом. Владимир это прекрасно знал и представлял размеры угрожающей Македонской династии опасностей. Позиция правившего Херсонесом византийского стратига оставалась князю неизвестна. Владимир не исключал, что тот пожелает обособиться в этих условиях от далекой Византии и связать свою судьбу с могущественной новокрещеной Русью. Требовалось просто предложить достаточную плату. Это обеспечило бы решение всех проблем.
Владимир отправил в Херсонес к тамошнему «князю» посольство. Он предлагал ему выдать за себя дочь и тем самым без посредства имперских властей установить сношения с Русью. Дочь греческого наместника получила бы все права, которыми должна обладать русская княгиня и первая христианская супруга Владимира. Вместо и на зависть стоявшей намного выше ее по положению порфирородной Анны. Владимир, конечно, думал и о большем, чем сватовство. Херсонский и сурожский епископы вполне могли, хотя и не строго по канонам (каковых Владимир и не знал), поставить кого-нибудь новым епископом в Киев.
Все чинные сватовства Владимира, похоже, преследовал один и тот же рок. Впрочем, в данном случае удивляться не стоит. Если Владимир полагал, что семейство херсонесского стратига окажется менее щепетильным по отношению к браку с «варваром»-многоженцем, чем цареградские государи, то он ошибся. Власти предержащие Херсонеса, разумеется, были прекрасно осведомлены о брачном договоре – и радовались, как и вся имперская знать, его провалу. Послы Владимира получили от стратига одни издевательские насмешки.
Владимир вышел из себя. Он принял решение, которое князь-язычник вынес бы гораздо раньше. Он больше не желал ничего просить. «Вот что сотворю, – рассуждал он теперь, – пойду в землю их, пленю грады их и найду себе учителей». Созвав киевскую рать и призвав наемников-варягов, которые скапливались на юге для гарнизонной службы, а с прошлого года и в надежде на отправку в богатую Византию, князь выступил в поход по Днепру. По некоторым данным, он присоединил к своему войску и черных болгар – немногочисленное кочевое племя Нижнего Поднепровья, временами союзное Руси.
Русские войска появились под стенами Херсонеса в ноябре 988 года. Владимир выбрал подходящее время. Плавать по морю в такую пору можно было лишь вдоль самого берега. Ни о какой спешной пересылке с Константинополем и тем более о получении помощи осажденный город и мечтать не мог. Да Василий II и не сумел бы оказать никакой помощи. Время решающей схватки с узурпатором пришло. Силы сторон встали на зимовку у самых берегов морей, разделяющих Европу и Азию. С Василием был и русский отряд, на помощь которого он более всего полагался. Выступать с таким войском против Владимира или отправлять на север какую-то его часть было равноценно самоубийству. Да Василий и не мог позволить себе выделить ни малого отряда. Константинополь стоил определенно дороже Херсонеса, и по одному этому Варда считался более опасным врагом.
Ладьи Владимира вошли в один из заливов близ Херсонеса и встали там. С берега до западной стены города могла долететь стрела. Херсониты уже знали о приближении русов и потому «затворились во граде». Владимиру пришлось приступить к осаде. Князь понимал, что она выпадет на зимние месяцы и, конечно, запасся продовольствием. Но насколько именно затянется осада, он предполагать не мог. Пока же он полагал, что зимний голод станет его союзником против осажденных.
Первые приступы к стенам херсониты отбили. Тогда Владимир перешел к изнуряющему осадному «обстоянию». Действительно, вскоре не готовившийся к долгой осаде многолюдный город начал терзаться голодом. Поняв это, Владимир послал к стенам своих вестников со словами: «Если не сдадитесь, то буду стоять здесь три года». Но Херсонес отказался сдаваться.
Владимир не использовал под Херсонесом осадную технику. Русы в те века никогда не возили ее с собой, тем более в ладьях-«однодеревках», а строили по необходимости на месте, причем прибегали к ней не слишком часто. На юго-западном берегу Крыма древесины для строительства не хватило, и Владимир поставил не на приступы, а на более привычный для своих воинов путь – измор. Теперь, однако, раздраженный непокорностью греков, он решил прибегнуть к своеобразному осадному приспособлению.
Отрядив своих воинов к стенам, Владимир велел им делать «присыпу» – искусственную земляную насыпь, по которой русские могли бы в достаточном количестве атаковать крепость. День за днем русские ратники наваливали землю в «присыпу», но она все никак не достигала верха стены. Херсониты применили ответную хитрость. Сделав под стену подкоп, они «крали насыпаемую почву, относили к себе во град и ссыпали посреди града». Остатки этого рукотворного холма найдены во время археологических раскопок в Херсонесе, так что история вовсе не легендарна.
Владимир бесплодно стоял под городом шесть месяцев. За это время уже и в его войске должен был возникнуть недостаток съестного, а там недалеко и до голода. Князю грозили и иные беды – неизбежные болезни, непокорство наемников… Помимо же прочего, оставленное почти без присмотра на полгода, только что выстроенное государство вполне могло оказаться в беде. Владимиру, конечно, приходили на ум слова, брошенные киевлянами Святославу: «Ты, княже, свою землю забросил…» Тем более что сам он вполне был со словами этими согласен.
То, что он делал сейчас, вообще-то, противоречило только-только закрепленным новым принципам политики. Владимир, однако, считал, что нет уже другого пути совершить для Руси нечто более важное, чем любая политика. Но этого-то он совершить пока и не мог! «Господи Боже, Владыка всех! – молился князь к избранному им Христу. – Сего у тебя прошу – дай мне град, да возьму и приведу людей-христиан и попов на свою землю, и да научат людей закону христианскому!»
Однажды в стан Владимира прилетела с городских стен стрела с посланием для князя. «Колодцы за тобою с востока, – гласило письмо, – а оттуда идет по трубе вода. Ископай и перейми». Владимир увидел в этом ответ на свои молитвы. По Корсунской легенде, именно тогда, воззрев на небо, Владимир впервые дал обет креститься: «Если сие сбудется, то крещусь».
Стрелу пустил, по наиболее распространенной, восходящей к той же самой Корсунской легенде версии, херсонесский священник, грек Анастас. Что побудило его, неизвестно. Скорее всего, изнурительное «сидение» привело в отчаяние многих. Не все и одобряли стойкость наместника, его верность бросившей северные выселки на произвол судьбы Империи. Надежда на милости Владимира побудила к действию.
По другой, и в каком-то смысле более вероятной, версии, измена произошла в рядах «ромейских русов». В Херсонесе жил и служил, в числе прочих, варяг Жадьберн. Некогда он знался с Владимиром – скорее всего, служил в Киеве или в Новгороде. Не желая и дальше сражаться против русского князя, он со стены выстрелил в лагерь наемных варягов, велев им на родном языке отнести послание Владимиру. Версию эту, повторим, во многих отношениях вероятную и довольно древнюю, несколько подрывают позднейшие расширения – например, утверждается, будто Владимир перехватывал не водопровод, а подземный ход, по которому «корабельщики» проносили от моря продукты.
Историческим фактом является то, что оба лица, называемых в источниках, позднее были облагодетельствованы Владимиром. Очевидно, каждый из них внес свой вклад в падение города. Какой именно, кто именно пустил счастливую для Владимира, но злополучную для многих херсонитов стрелу – сейчас уже не разобраться.
Владимир привел воинов к указанному месту и велел копать наперерез трубам. Докопавшись и обнаружив снабжавший Херсонес керамический водопровод, Владимир, как и советовал ему доброхот, «перенял» воду. Уже очень скоро, как и предполагалось, город изнемог от жажды. Херсонитам ничего не осталось, как открыть ворота «варварам». Произошло это в апреле 989 года. Владимир с дружиной вошел в город и приступил к суду.
В поздней, XVII века, редакции Жития утверждается, будто Владимир (по мысли автора, еще язычник) «беззаконие сотворил» с дочерью наместника перед лицом ее родителей. Это перекликается со словами Титмара о «великом и жестоком распутнике», который уже после крещения «чинил великие насилия над слабыми данайцами» – греками. Но в данном случае перед нами лишь путаница с летописным преданием о Рогнеде. Более ранние версии Жития не говорили о подобном – хотя одна из редакций в согласии с приведенной рассказывает о дальнейшей страшной судьбе семьи херсонесского стратига.
Владимир, дважды униженный греками и шесть месяцев простоявший под стенами непокорного города, вступив в него, оказался далек от милосердия и благородства. Он вновь позволил себе поддаться гневу. Первым делом князь приказал казнить наместника и его жену. Дочь же стратига отдал в жены сдавшему город Жадьберну. Варяга Владимир и поставил своим наместником-управителем в захваченном Херсонесе.
Однако назначение Жадьберна свидетельствовало и о том, что Владимир не собирался разорять Корсунь дотла. Намеревался же он на первых порах остаться в городе всерьез и надолго, не опустошить, а захватить византийский Крым. Убийств и разрушений в первые дни после взятия хватало, погиб даже один христианский храм в центре города, но князь довольно быстро пресек бесчинства. Он обосновался в одном из дворцов в центре города, близ торговой площади, и вместе с Жадьберном навел в городе относительный порядок.
Тем не менее Владимир быстро осознал, что удержать земли с чуждым и враждебным населением маловероятно. Да это и едва приближало его к главной цели. К тому же Империя снова объединялась. Как раз в дни падения Херсонеса, 13 апреля 989 года, Василий II с помощью русского корпуса наголову разгромил войска Фоки при Авидосе. Именно русские воины обеспечили императору победу, предварительно атаковав передовые силы Фоки, разгромив один из вражеских лагерей и спровоцировав в стане врага смуту. При Авидосе узурпатор погиб. Оставался еще Варда Склир, вырвавшийся из заточения после гибели Фоки. Но было ясно, что гражданская война может скоро закончится победой Македонян. Возвращаясь к выработанной уже в Волжской Болгарии политике, Владимир решил искать с греками мира. Но мира равноправного и честного, основанного на выполнении обязательств.
Женитьба
Из захваченного Херсонеса Владимир отправил посольство в Константинополь, к Василию и Константину. Посольству был придан высочайший статус. Возглавил его сам киевский воевода. По летописям выходит, что воеводой в течение всего правления Владимира и чуть позже, как минимум с 984 по 1016 год, являлся Волчий Хвост. Но сообщающие о посольстве редакции Жития, как уже говорилось, сохранили личное и одновременно родовое имя воеводы – Олег, знак его знатнейшего происхождения и родства с княжеским домом. Вместе с Олегом Волчьим Хвостом в посольство вошел и новый херсонский правитель Жадьберн. Если Олег украшал собою посольство, то включение Жадьберна ясно напоминало императорам, кто теперь диктует условия. С другой стороны, херсонит Жадьберн (в отличие от Олега) отлично знал византийские порядки и мог смягчить какие-то острые углы. Возможно также, что в отличие от Олега он уже был христианином.
Послание киевского князя звучало явной и вполне осязаемой угрозой: «Вот, град ваш славный взял. Слышал я, что сестру имеет девою. Если не дадите ее за меня, то вот – сотворю граду вашему, как и этому сотворил». Падение Херсонеса, весть о котором пришла сразу после победы при Авидосе, было воспринято в Константинополе как внезапное бедствие. Отвоевать столицу крымской фемы не имелось ни малейшей возможности. Обещание Владимира пойти на Царьград могло оказаться пустым бахвальством победителя-«варвара» – а если нет? Империя еще не забыла ни давних набегов «русов», ни разорительной войны со Святославом. А между тем Варда Склир пока не был сломлен и собирал новые силы для борьбы с Македонским домом. Василий и Константин «печалились» – но вынуждены были сдаться. В конечном счете Владимир выполнил их главное условие – крестился. Теперь же устами своих послов он обещал крестить и Русь. Здесь веско могло прозвучать слово патриарха Николая Хрисоверга.
Оставалось упросить саму Анну. Корсунская легенда, – почти единственный наш источник, согласно которому Владимир был еще язычником, – сгущает краски, но ненамного. От крещения «варвара», в искренность которого у Анны верить никаких оснований не было, мало что менялось. Братья в конечном счете просто приказали ей отправляться. Анна говорила им: «К поганым не пойду. Лучше мне здесь умереть». Василий и Константин взывали к религиозным чувствам и к долгу перед Империей: «А вдруг тобою обратит Бог Русскую землю в покаяние? А Греческую землю избавишь от лютого рабства. Видишь ведь. Сколько зла русы сотворили грекам. А если сейчас не пойдешь, то же сотворят нам». «И едва ее понудили», – заключает летописец.
Владимир вроде бы приглашал самих новых свойственников в Корсунь, но те не рискнули являться ему на глаза – да и сохранили остатки достоинства перед лицом продолжающегося мятежа. Анна вместе с русскими послами и своими сопровождающими взошла на приготовленную для нее «кубару» – то есть морской корабль. С ней плыла в Корсунь достойная порфирородной царевны свита – сановники императорского двора и священнослужители. Анна с плачем облобызала родственников и навсегда простилась с ними. Плакали и оба императора.
Перед самым отплытием царевна повернулась к куполам Софийского собора и взмолилась: «О Великое Человеколюбие, высокий Царь Славы, Премудрость Отчая, из чистой Отроковицы храм себе создавший, Сыне и Десница Вышнего, – простри, Отче Вседержитель, десницу от средины ядра Твоего и истреби врагов Христа Твоего! Се, враги твои расшумелись, и ненавидящие Тебя воздвигли главу, и на людей Твоих лукавствуют волею, и совещаются на святых, и говорят: “Истребим их из языков, и да не упоминается имя”, зрящее умом на Тебя. Но, Господи, Господи, да не заглушишь слез моих и не прекратишь, и, Боже, от противящихся деснице Твоей сохрани меня, Господи, как зеницу ока, и кровом крыл Твоих укрой меня. Все ведь для Тебя возможно, и Твоя слава во веки, аминь». С этими словами она утерла слезы и взошла на корабль.
Еще в апреле или уже в начале мая 989 года Анна прибыла в Херсонес. Узнав о приближении императорского судна, горожане высыпали за ворота. Анну они встречали как свою освободительницу. К тому же впервые за долгие годы в их город прибыла особа из императорского дома. Царевну «с поклоном» ввели в стены Херсонеса. Ей отвели дворец рядом с дворцом, который занял Владимир. Их «палаты» частично разделяла – весьма знаменательно – христианская церковь. Дворец, отведенный Анне, располагался позади храма, «за алтарем», а захваченный русским князем – с одного из «краев».
Согласно Корсунской легенде, именно тогда Владимир «разболелся очами». «И не видел ничего, – повествует летопись, – и тужил вельми, и не мыслил, что сотворить». Анна послала к жениху со словами: «Если хочешь избыть болезни этой, то поскорее крестись. Если не сделаешь, то не избудешь сего». Версия легенды, приводящая ее молитву перед отплытием, именно в этом находит ответ: «Господи, глаголавший пророком Давидом, что живой в помощи Вышнего в крове Бога Небесного водворится, – обращается Анна к Богу, – ныне Ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой и Помощник мой, уповаю на Тебя». Владимир тогда вторично приносит Богу обет креститься: «Если истинно это будет, то воистину велик Бог христианский». «И повелел, – говорит, наконец, летописец, – крестить себя».
Владимира, по этой версии, крестил корсунский епископ со своими иереями. «Как возложил на него руку, – продолжается рассказ, – тут же прозрел». Владимир в ликовании воскликнул: «Впервые увидел Бога истинного!» Многие дружинники князя немедленно окрестились. После этого Владимира повенчали с Анной.
Любопытно, что буквально каждый источник по-своему называет церковь, в которой крестился Владимир. При этом местоположение везде называется одно и то же: «И стоит та церковь в Корсуни посреди града, где торг делают корсуняне». В списке первой части Начальной летописи, относящемся к XVI веку, названа церковь Cвятого Климента. Этот храм, в котором покоилась обретенная Константином-Кириллом глава святого Климента Римского, действительно была хорошо известна Владимиру. Но Новгородская первая летопись младшего извода, включающая ту же Начальную летопись, говорит о церкви Cвятого Василиска. Это единственное (!) прямое расхождение между двумя источниками на много листов текста. Версии «Повести временных лет» тоже расходятся настолько, что угадать первоначальный вариант невозможно. Южнорусская Ипатьевская летопись говорит о церкви Cвятой Софии. Владимирская Радзивилловская – о церкви Cвятой Богородицы. Но Лаврентьевская летопись, воспринявшая тот же Сильвестров вариант «Повести», – о церкви Cвятого Василия. Видимо, вслед за Летописцем Переяславля Суздальского, который пользовался одной из несохранившихся версий Жития и называет ту же церковь. Наконец, старейшая редакция Жития XII века называет церковь Святого Иакова – правда, не навязывает ей того же «летописного» места на торгу.
Такой разнобой, – конечно, одно из главных свидетельств легендарности корсунского крещения. В церкви на торгу, как бы ни называлась она, состоялось только венчание Владимира и Анны. Кстати, справедлива высказывавшаяся мысль о том, что многими русами оно и могло быть воспринято как «крещение». В конце концов это было первое христианское таинство, первая религиозная церемония новой веры, которую Владимир совершил публично, на глазах у дружины и прочих ратников. Что касается разных херсонских церквей, то в них крестились дружинники Владимира, увидевшие в открытом «крещении» князя ясно выраженную волю – и несомненное торжество новой веры. Корсунский поход должен был решительно повлиять на тех, кто видел в принятии князем христианства происки «льстивых» греков и опасался подчинения им. Владимир, вольно или невольно, показал, что Русь не подчинится Византии, даже будучи крещена ею.
Владимир крестился в Киеве. Но все-таки правы те ученые, которые говорят, что при этом христианином он стал только в Херсонесе. Киевское крещение не было ни легкомысленным, ни тем более лицемерным. Пусть оно выглядело немного поспешным – но князь долго вынашивал мысли о Христе и христианстве. И долго выбирал. Тем не менее византийская неуступчивость с легкостью пробудила в нем неглубоко уснувшего яростного «варварского» вождя. В Киеве Владимир не мог позволить себе изменить привычному образу жизни. При взятии Херсонеса он показал, что мало изменился со времен взятия Полоцка сам. Пусть насилие над Cтратиговной миф – но не миф вручение ее предавшему ее родителей на смерть Жадьберну. А следы свирепости Владимировой рати, – пепелища и братские могилы убитых, – пускай вовремя остановленной, остались в наследство современным археологам.
Но, поселившись в византийских палатах посреди города, Владимир опомнился. И, как часто бывало с ним впоследствии, стал соизмерять свои поступки с заповедями новой веры. Веры, ради которой он, как искренне полагал, и предпринял поход. Тут он должен был с ясностью осознать, что по вступлении в город сослужил службу не миротворцу Христу, а собственной уязвленной гордыне. В Херсонесе он нашел искомых «учителей» – и расположенного к нему Анастаса, и других местных священников. Он видел жизнь христианского города, в которую вторгся со своим мечом, слушал наставления в вере – и душа его медленно изменялась.
А потом прибыла напуганная, разом презиравшая и ненавидевшая его Анна. Владимир, конечно, пытался склонить невесту к себе. И, думается, в какой-то момент посмотрел на себя и на Русь ее глазами. Со стороны пусть надменной и зачастую жестокой, но никогда не посягавшей на силовое завоевание русских земель христианской державы. Которая на протяжении вот уже двух веков подвергалась то вымогающим торговые льготы, а то и просто разбойным набегам с едва ведомого языческого севера. Это понимание – когда искренность обращения жениха осознала Анна – должно было сблизить их. А следующим шагом стала, быть может, попытка посмотреть на все происходившее доселе с высоты истинной веры, с высоты евангельского закона. Тогда-то Владимир и «увидел Бога истинного». И перед ликом Его твердо решил строить новую Русь.
Владимир крестился в Киеве. Но взятие Херсонеса и женитьба на Анне изменили всю его жизнь. Крещение омыло его от прежних грехов. В Херсонесе же князь подлинно раскаялся – и в них, и в совершенных новых. Он изменился до самых глубин своего сердца. И путь, лежавший перед ним, вел теперь к спасению – и к славе. В самом высшем смысле этих слов.
После венчания с Анной князь какое-то время оставался в Херсонесе. Ему преподавали наставления в вере, читали христианские священные книги. Решал он и политические дела. С послами императоров было решено, что Херсонес вернется под руку Василия и Константина – но лишь как вено, выкуп за руку молодой жены. Остались в Империи и русские войска. Не без их помощи Василий осенью 989 года сломил наконец сопротивление Варды Склира и принудил его к покорности.
К тому времени Владимир уже давно отбыл из Херсонеса. На прощание на месте разрушенного храма, из обломков его и городской стены, по приказу Владимира возвели новую церковь. По одной версии, она была построена в честь святого Иоанна Предтечи, под другой, не менее вероятной, – в честь святого покровителя князя, Василия Кесарийского. Церковь стояла на той горе, к которой херсониты ссыпали выкраденную через подкоп землю.
Вместе с русской ратью уходила новая киевская княгиня Анна, а с нею – и присланные для крещения Руси священники. Помимо того, Владимир с согласия и по благословению епископа забрал какое-то число священников из Херсонеса. Среди них известны по именам предавший город Владимиру Анастас, а также Иоаким, будущий основатель Новгородской епархии. Что касается массового увода мирян, то Владимир, похоже, отказался от этой мысли. Но почти наверняка с ним по его призыву ушли многие «ромейские русы», в том числе и несостоявшийся наместник Жадьберн, которому в ромейской Корсуни делать было теперь совершенно нечего.
Не обошлось, впрочем, и без «трофеев». Большая часть из увезенного Владимиром, однако, представляло ценность не столько материальную, сколько духовную. Взял он это «на благословение себе», с почтением и трепетом. В первую очередь, он забрал из храма, в котором положил их святой Кирилл, головы мучеников – святого Климента Римского и ученика его Фива. Кроме того, забрал он с собою немало церковных сосудов, крестов и икон. Все – на «освящение и спасение», свое и Руси.
Взял, однако, князь и кое-что, не имевшее к христианским святыням отношения – «две медных капищи и четыре коня медных». Шесть медных статуй языческой эпохи он взял исключительно для украшения Киева. Эти памятники античного искусства, чем-то приглянувшиеся князю, радовали взоры киевлян еще века спустя. «Невежды мнят их уже мраморными», – замечает в связи с этим летописец.
Князь не повел нагруженное добычей русское войско вверх по Днепру. Причиной этому, как справедливо предполагают, вполне могла стать память о злосчастном возвращении Святослава с Болгарской войны. Сам Владимир, как мы помним, доселе в походы на юг, за пороги не ходил. Русские двинулись к Керчи, откуда можно было проплыть в Азовское море и дальше вверх по Дону и Донцу.
«На Черной Воде», неподалеку от Сурожа, Анна внезапно заболела. Одних треволнений последних недель для того было вполне достаточно, но болезнь княгини казалась смертельной. Можно представить себе горе и тревогу Владимира. Анна обратилась с мольбой к святому Стефану Сурожскому – тому самому, грозное чудо которого заставило некогда креститься русского князя Бравлина. «Святой Стефан! – молилась царевна. – Если избавишь меня от болезни этой, то много одарю тебя и почести воздам тебе!» Как передает собрание «Чудес святого Стефана», святой явился Анне на следующую ночь и объявил ей о выздоровлении. Анна проснулась здоровой и возблагодарила Бога. Все спутники княгини – конечно, в первую очередь русские, – были восхищены и поражены чудом. Поход остановился в Суроже, и молодая чета щедро одарила храм Святого Стефана. Именно вскоре после этого был составлен упомянутый сборник «Чудес». Два описываемых там чуда напрямую связаны с историей Руси, и символично, что сохранились «Чудеса» до нас именно в древнерусском переводе.
Из Сурожа Владимир прибыл в Керчь, откуда собирался безопасно, через завоеванную Святославом Белую Вежу, вернуться на Русь. Благодаря остановке русского войска у Керченского пролива весть о крещении Владимира и открытом исповедании им христианства стремительно разнеслась по Кавказу. Достигла она и Дербента. В городе полыхнул мятеж. Муса ат-Туси, известный мусульманский богослов из Ирана, потребовал от эмира Маймуна немедленно прогнать русский отряд – или обратить их в ислам. Муса сам брался заняться этим делом. Маймун понимал, что принимать ислам, тем более теперь, по своей воле русы не будут – а терять главную опору не хотел. Вместе с ними он ушел в дагестанские горы, оставив Дербент сторонникам ширваншаха. Какое-то время русы помогали Маймуну в продолжающейся борьбе, но уже через год покинули его – очевидно, отозванные понявшим бесполезность усилий Владимиром.
Итак, вся долгая эпопея с выбором веры не принесла Руси и ее князю на первых порах никакой зримой политической выгоды. Херсонес вернулся к грекам, Дербент Владимиру тоже не достался. Но Владимир имел все основания считать, что получил гораздо больше. И дело даже не в браке с порфирородной Анной, который разом вводил его в круг величайших христианских государей Европы. Он нес своей стране веру. И надеялся, что Русь примет от князя этот наивысший дар.
Крещение Киева
Долгий кружной путь по Северскому Донцу, Сейму и Десне, мимо Чернигова, давал Владимиру возможность поразмыслить над дальнейшими действиями. Остававшиеся же в Киеве жители заранее могли узнать о поступках князя и оценить их. Вести о том, что Владимир открыто исповедовал себя христианином, женился на Анне и в вено за нее отдал грекам только что завоеванную Корсунь, конечно, достигли столицы раньше князя. Их привезли купцы-«гречники», весь весенне-летний сезон плававшие по днепровскому пути и неизбежно опередившие неспешное шествие князя. В кого-то вести, должно быть, вселяли тревогу, – но крещение княжеской дружины и твердость намерений Владимира оставляли небольшой выбор противникам христианства.
Чтобы правильно понять все дальнейшее, следует иметь в виду три вещи. С одной стороны, киевляне в основной массе продолжали верить в реальное существование своих привычных богов, почитали и боялись их. С другой стороны, и именно в силу верности привычным языческим представлениям, они видели в князе высший духовный авторитет, признавали за ним право выбирать богов и способы поклонения им. Помимо же этого, долгие споры и советы о вере, почти что публичные «испытания» морально подготовили основную массу горожан к крещению, возбудили неизбежные толки о слабости прежних богов перед Христом. Следует помнить и о том, что в Киеве имелось немало христиан, теперь открыто поднимавших голос. А главное – какая-то часть мужского населения Киева и округи участвовала в походе на Херсонес, а значит, и разделяла с князем ответственность за все там происшедшее. Наверняка многие киевские «люди» крестились уже там, вместе с княжеской дружиной.
Князь приплыл в свой стольный град с севера, с порфирородной женой, богато смотрящейся добычей и невиданно пышной свитой из греческого духовенства – лучший довод против тех, кто видел в крещении унижение Руси. К моменту вступления в Киев этим зрелищем насладилась уже изрядная часть Левобережья. Проходя Чернигов, Владимир, должно быть, заручился поддержкой местной знати, а может, и крестил ее, – но первым среди городов крестить намеревался Киев.
Сооруженное по собственной воле кровавое капище на холме за городом теперь было для Владимира худшим напоминанием об отвергнутом прошлом. Первым делом, войдя в Киев, он отдал приказ ниспровергнуть языческих кумиров. Сначала свергли стоявший отдельно идол Волоса в Оболони. Протащив его до Почайны, небольшого притока Днепра, идол сплавили в великую реку. Затем исполнители княжеской воли поднялись на священный для них еще недавно холм. Ни о каком сопротивлении нет ни слова. Жрецы и волхвы либо сами убедились в бессилии своих богов, либо загодя рассеялись, поняв бесполезность любых попыток борьбы.
Всех пятерых идолов низвергли. Одних «богов» княжеские дружинники изрубили топорами, других предали огню. Более всего досталось Перуну. Подобно своему извечному сопернику Волосу, он был низвергнут и, привязанный к конским хвостам, протащен по торговому Боричеву взвозу до текущего в Днепр Ручая. Двенадцать княжеских мужей при этом били Перуна палками. «Это не потому, – говорит летопись, – что дерево чувствует, но на поругание бесу, который прельщал этим образом людей – да примет от людей возмездие». Так, возможно, рассуждал уже и сам Владимир. Но для его воинов и для масс киевлян это было, конечно же, унижение и избиение побеждаемого Христом старого бога, лишнее доказательство его совершенного бессилия. Владимир, по одному преданию, отдавая приказ, будто бы добавил: «Заверещит ли он?»
Когда Перуна сплавляли по Ручаю, у потока собралась толпа народа. Киевляне не вмешивались, но многие в голос рыдали. Идола проволокли до Днепра и затем пустили вниз по реке. Владимир не ограничился этим. Он приказал дружинникам проводить Перуна до самых порогов: «Если где пристанет, то отпихивайте его от берега, пока не пройдет пороги. Тогда бросьте его». Так до порогов и преследовали свергнутое божество. За порогами, оставленный княжескими служителями, идол был наконец выброшен на отмель ветром. Это место с тех пор на Руси именовали «Перуновой ренью», Перуновой отмелью.
Расправившись со своим некогда святилищем, Владимир разослал по всему Киеву глашатаев с княжеским приказом: «Если кто не обрящется на реке, богатый, убогий, нищий или работник – противником мне будет». Все поняли, что князь задумал общее крещение. Реакция киевлян поразительна для современного сознания. Наутро народ, еще вчера оплакивавший Перуна, собрался «с радостью». В толпе рассуждали: «Если бы не было это добром, то не приняли ли бы этого князь и бояре».
Можно видеть здесь сгущение красок летописцем-христианином, но фактом остается то, что киевляне пришли без всякого явного протеста. Можно с иронией говорить о «добровольно-принудительном крещении» – и это будет понятно современному российскому сознанию. Но сама по себе такая понятность – не свидетельствует ли против столь простого толкования ситуации? Все-таки сознание за века склонно меняться.
Да, распрощавшийся с Перуном Киев пришел креститься с избыточной, где-то показной готовностью. Да, многие, если не большинство, наверняка крестились без понимания христианства, а кое-кто и лицемерно. Но при этом приведенное летописцем суждение действительно владело умами тысяч людей. Для язычника-славянина, повторим еще раз, князь являлся высшим, почти исключительным религиозным авторитетом. Он происходил из рода богов и в некотором смысле «знал» их лично. Если князь, да еще не один, а со всей киевской знатью, избрал из богов Христа – то может ли он ошибаться? И разве исключительная, надмирная сила «греческого» Бога не явлена только что – небывалым и во времена Ольги посрамлением всесильного воителя Перуна? Сознание среднего киевлянина волновал, скорее всего, один вопрос – не слишком ли долго город держался за слабых божков, не прогневал ли этим столь могучего Бога?
Крещение Киева было воистину добровольным. Грозный княжеский указ, опиравшийся на верность дружины и рати, подстегнул, конечно, самых недовольных. Но масса горожан вполне искренне желала распрощаться с поруганным и не умеющим за себя постоять прошлым и воссоединиться с князем в новой вере. Вступив в Киев, Владимир с самого начала поставил на быстроту действий – и не ошибся. Люди пришли к речным берегам, еще живо впечатленные низвержением прежних кумиров. И все же – все же отсутствие всякой открытой борьбы поражало умы ближайших потомков, заставляя их, и справедливо, думать о подлинном чуде.
Крещение происходило, по летописи, в самом Днепре, по Житию же – в водах Почайны. Расхождение, скорее всего, кажущееся, и киевляне крестились у впадения речки в Днепр. Собравшийся утром народ уже ожидал на берегу Владимир, а с ним священники – и херсонские, и приехавшие в Киев с Анной.
«Бесчисленное» множество киевлян вошло в реку. Младшие возрастом остались поближе к берегу. Взрослые вошли на середину потока – кто по грудь, кто даже по шею. Иные держали на руках младенцев. Священники стояли на берегу, читая молитвы. Окрещенные еще какое-то время не расходились, «бродя» по реке среди входящих им на смену.
«И была видна радость на небе и на земле, – говорит Начальный летописец, – ради стольких спасаемых душ. А диавол, стеная, говорил: “Увы мне, и отсюда прогоняем я. Здесь я мнил себе жилище, где ни учения апостольского нет, ни Бога не ведают, и веселился о службе их, когда мне служили. И вот побеждаем уже невеждами, а не апостолами и не мучениками! Не стану уже царствовать в странах сих!”»
Крещение Киева наконец завершилось. Люди разошлись по домам. Владимир поднял глаза к небу и воскликнул: «Боже, сотворивший небо и землю, призри на новых этих людей, и дай им, Господи, увидеть Тебя, истинного Бога, как увидели страны христианские! Утверди веру в них правую и неразвращенную, и мне помоги, Господи, на супротивного врага, да, надеясь на Тебя и на Твою державу, поборю козни его!»
На месте разрушенных языческих капищ князь велел воздвигать храмы. На холме, где прежде приносил жертвы Перуну и его сородичам, Владимир приказал поставить церковь во имя своего святого покровителя – Василия Кесарийского. Вскоре к югу от Киева, на Стугне, он велел срубить град, названный также в честь святого Василия – Василев.
Но еще до того, как завершилось строительство церкви Святого Василия, Владимир выстроил в Киеве церковь в честь святого воина Георгия. Во имя Георгия назван был в крещении Ярослав Владимирович. Строя храм, князь думал о старшем из живших с ним сыновей Рогнеды, увечном от рождения. Надеялся он, строя церковь, на целительное чудо? Или уже благодарил за чудо свершившееся? Этого не узнать, – но, как увидим, чудо произошло. Церковь освятили 26 ноября 989 года.
На месте крещения киевлян у Почайны князь построил еще один храм – в честь апостола Петра. Тоже едва ли случайный выбор, и дело не только в почтении к «князю апостолов». Петр был святым покровителем другого сына Владимира, по воспитанию, – Святополка Ярополчича. Князь уповал на разрешение и искупление и в этой скорби.
Еще летом того же 989 года в Киев прибыл наконец долгожданный глава обновившейся Русской церкви. Статус ее – пока что – определился как митрополия. Этой уступки, поднимавшей уровень прежней Русской архиепископии, Владимир добился, видимо, еще в ходе первых переговоров в Киеве. В митрополиты намечался уже покойный Феофилакт Севастийский.
Имя нового митрополита в источниках разнится. Древнейшие митрополичьи списки вообще начинаются с Феопемпта, правившего в XI веке и закрепившего статус Русской митрополии. Затем, также в кратких списках, появляются упоминания его предшественников – Леона (или Леонта) и Иоанна. Первый из них и был прислан константинопольским патриархом Николаем Хрисовергом к Владимиру. До нас сохранилось богословское сочинение на греческом языке, принадлежащее русскому митрополиту Леону. Мы еще вернемся к этому труду. Но на основании большинства источников форму имени «Леон» можно считать достоверной.
Дело, однако, усложняется другими расхождениями в источников. С судьбой Феофилакта, упомянутого в греческой «Церковной истории» в качестве первого русского митрополита, все более или менее ясно. «Епископ Павел», упомянутый всего в одной редакции «Саги об Олаве» – фигура, скорее всего, совершенно мифическая. Но в так называемом «Церковном Уставе Владимира», созданном в XIII веке, современником и соратником князя выступает митрополит Михаил. Правда, только в некоторых его редакциях и изводах. В других назван «Леон», «Леонт» или «Леонтий».
Существование святителя Михаила – факт не просто вполне вероятный, но почти несомненный. В качестве «первоначальника» Русской церкви он был включен в восходящие к домонгольской эпохе поминальные записи (синодик) Киевской Софии. В сборнике церковного права, Кормчей 1286 года, написанной на Волыни и включившей одну из редакций «Владимирова» Устава, о Михаиле сказано: «взял его первым митрополитом от патриарха и от всего собора, почтённого лампадою и сакосом, как второго патриарха, с ним же крестил всю Русскую землю». Мощи митрополита Михаила с XII века хранились в Киево-Печерском монастыре и поныне почитаются в Киеве.
Отсутствие святого Михаила в древних митрополичьих перечнях, однако, создало серьезную проблему для средневековых летописцев. В XV веке версии, связанные с Михаилом и Леоном (Леонтом), «соперничали». В XVI веке авторы фундаментальных, обобщающих летописных сводов пошли по простейшему пути и поставили их друг за другом – сначала немногим более известного и почитаемого Михаила. Тогда же его образ оброс некоторыми легендарными подробностями, вроде детального описания перемещений по крестящейся Руси и скорой после крещения страны смерти.
Где же решение этой загадки нашей древнейшей церковной истории? Рискну заключить, что оба святителя действительно существовали и в разное время руководили Русской церковью. То, что Леон был современником и соратником Владимира Святого, ни у кого не вызывает сомнений. Что же касается Михаила, то следует обратиться к первому из сообщающих о нем источников. «Владимиров» Церковный устав (о котором мы еще поговорим особо) впервые соединил память о двух крещениях Руси – при князе Владимире в Х веке и при патриархе Фотии еще в IX. Именно в связи с ошибочным представлением о том, будто Владимир и Фотий были современниками, впервые упоминается на страницах письменных памятников святитель Михаил. Позже это мнение, благодаря популярности Устава, широко распространилось и перешло даже в летописи – хотя летописцы знакомились с перечнями константинопольских патриархов и прекрасно знали время правления Фотия. Из Устава же в летописи переходит и имя Михаила.
Это обеспечивает нам одно из возможных решений. Михаил действительно являлся «первоначальником» русского христианства. Это был тот самый епископ, которого еще в 866 году отправил на Русь патриарх Фотий, о чем сам свидетельствует в своем «Окружном послании». Отсутствие на Руси воспоминаний о своем действительно первом святителе часто смущало историков. Оказывается, забвения не было. Просто по законам устной памяти крещение «при Фотии и Михаиле» слилось даже в церковной легенде с крещением «при Владимире». Память о первом епископе жила в Киеве веками, христиане чтили его могилу, а затем перенесли останки в крупнейший киевский монастырь. Забыто оказалось только время, но не сам основатель Русской церкви.
Первым такую догадку, отметим, высказал В.Н. Татищев – и ее, разумеется, «подтвердила» Иоакимовская летопись. Что же, перед нами тот случай, когда с ПсевдоИоакимом (а вернее, с Татищевым) вполне можно согласиться. Хотя дальнейшие его догадки (например, о сирийском происхождении святителя Михаила) уже никакого подтверждения в достоверных источниках не находят. Насколько можно заключить, и Михаил, и Леон были греками.
Но вместе с тем нельзя полностью исключить и того, что верно устойчивое предание, связывающее митрополита Михаила с князем Владимиром. В таком случае следует полагать, что святитель был прислан на Русь уже вскоре после гибели Феофилакта, участвовал непосредственно в крещении Киева и действительно, как и повествуют позднейшие русские летописи, скончался вскоре затем – оставив митрополию вновь прибывшему из Константинополя Леону. В любом случае, именно с Леоном связывают летописи окончательное утверждение церковной иерархии на Руси.
Вместе с митрополитом на Русь прибыл и как минимум один посвященный вместе с ним в Византии епископ. Два иерарха было необходимо, чтобы «поставить» других епископов. Кое-кто из будущих глав епархий приехал вместе с митрополитом. Из числа херсонских священников Владимира возведен в епископский сан был по крайней мере один – Иоаким. В числе первых епископов-греков нам из сравнительно достоверных преданий известны еще имена Феодора и Фомы. Сведения об остальных, как увидим далее, несколько ненадежны.
Итак, Владимир приступал, вслед за крещением Киева, к крещению остальной Руси – и к созданию церковной иерархии. Но предстояло решить еще одну, и весьма болезненную, проблему в собственном доме. Настало время проститься с прежними женами. Вопрос о том, чтобы поразить в правах княжеских сыновей, больше не стоял. Владимир сам диктовал условия – и не мог диктовать их только твердому церковному закону, запрещавшему многоженство. Старшие сыновья оставались старшими наследниками – но матери их уже не могли оставаться княгинями.
Владимир нашел единственный достойный выход. Достойный и для христианина, и для главы большого славянского рода. Хотя, может быть, современный человек затруднится одобрить его в этом случае. Князь предложил женам вступить в брак со знатнейшими боярами по собственному выбору и обязался сам устроить браки – в том числе, конечно, внести приданое. Таким путем он обеспечивал своим супругам надежное будущее. Мальфрид и «болгарыня», очевидно, последовали настоятельному совету князя. «Грекиня» Наталия – нет. Получив наконец после долгого полона свободу, она покинула принесшую ей немало горя Русь и, покинув заодно десятилетнего сына, вернулась на родину. Там она вновь стала монахиней.
Монашеский путь, однако, предпочла не она одна. Теперь он открывался и перед русскими, алкавшими доли выше и труднее мирской. Предание, изложенное в Тверской летописи XV века, но восходящее к древней церковной легенде, рассказывает, что Владимир послал к Рогнеде со словами: «Я ведь отныне крещен, и принял веру и закон христианский. Подобает мне одну жену иметь, ту, которую взял в христианстве. Потому избери себе из вельмож моих, кого хочешь, и сочетаю тебя с ним». Юный Ярослав в это время находился в Предславине у матери, сидел рядом с ней и слушал речи отцовских посланцев.
Но бывшая полоцкая княжна вновь явила гордость. Правда, теперь совсем иного рода. Она приказала передать в ответ Владимиру: «Или ты один хочешь царствие земное и небесное воспринять, а мне с этим кратковременным и будущего дать не хочешь? Ведь ты же отступил от идольской прелести в усыновление Божье, – я же, побыв царицей, не хочу быть рабыней ни земного царя, ни князя, но хочу заневеститься Христу, и восприму ангельский образ».
Посланные удалились. Тогда Ярослав, одиннадцатилетний отрок, как повествует приукрашенная, конечно, легенда, вздохнул и со слезами воскликнул: «О мать моя, воистину ты царица царицам и госпожа госпожам, ибо захотела заменить славу нынешнего века будущей славой, и не захотела с высоты сходить вниз, – оттого блаженна ты в женах!» С этими словами он внезапно встал на ноги. От врожденного увечья осталась лишь легкая хромота, так что Ярослав продолжал слыть при дворе «хромцом». Как здесь не вспомнить о поставленном в Киеве в год крещения храме Святого мученика Георгия, небесного покровителя Ярослава! Что касается Рогнеды, то она действительно приняла монашеский постриг. В монашестве бывшая княгиня носила имя Анастасия.
Примерно в том же 989 году, простившись с прежними женами, князь расстался и еще с одним членом своей семьи – с приемным сыном, норвежцем Олавом Трюггвасоном. Тот окончательно перенес свои действия в западные моря и покинул Русь. По одним данным, он еще возвращался однажды, перед вступлением на норвежский престол. По другим – не возвращался уже никогда, хотя поддерживал сношения с Владимиром и сохранял к нему теплые чувства. На фоне патетического рассказа Одда о роли Олава в крещении Руси его внезапный отъезд так и не крещеным сразу после крещения Владимира (а Одд говорит и об этом) представляется странным. Вся история в сопоставлении с нескандинавскими источниками наводит даже на нелепую, с первого взгляда, мысль – не был ли будущий креститель Норвегии, воинственный викинг, скептик по отношению к языческим богам и некрещеный приверженец единобожия, на самом деле среди сторонников принятия Русью ислама? Приводимые мусульманскими источниками мотивы симпатизировавших исламу русов ему были вполне близки. Крестился Олав только спустя четыре года, в 993 году, на островах Силли близ Ирландии, после того, как местный монах предсказал ему королевский трон.
Впрочем, отбытие Олава имеет и иное объяснение – и более прозаичное, и более возвышенное разом. После принятия новой веры Владимир разочаровался во всяких внешних, завоевательных войнах. По-иному смотрел он и на поддерживавшиеся им доселе викингские разбои. С одной стороны, при таких взглядах приемного отца Олав начинал чувствовать себя лишним. С другой – русские друзья уже давно побуждали Олава забрать наконец собственное королевство у узурпатора Хакона, самому стать из «морского конунга» строителем государства. Олав отправился на Запад, но советам последовал не сразу. Первое время он пиратствовал у берегов христианской Англии, а в 991 году разбил англосаксов в печально воспетой ими битве при Мэлдоне.
Владимир же теперь подвел последнюю черту под языческой порою своей жизнью. Однако не под языческой порою жизни Руси. Он крестил Киев. Оставалось гораздо большее – крестить страну. И первой, главной целью являлся стольный град Русского Севера – Новгород.
Крещение Новгорода
Крещение Новгорода «огнем и мечом» давно стало хрестоматийным примером при изложении истории крещения русских земель. Ничего удивительного в этом нет – это единственный пример, который можно приводить в подтверждение концепции «насильственного крещения», ставшей практически общепринятой в отечественной науке советского периода. По сути, нет практически никаких материальных подтверждений (пожарища, бегство или гибель населения и т. д.) массового характера общественных катаклизмов, будто бы сопровождавших крещение. Даже языческие святилища на периферии Руси функционировали еще спустя столетия. Летописи сообщают о мятежах, поднимаемых приверженцами старой веры, и о репрессиях против них как о событиях исключительных, и происходивших – что достойно замечания – уже в XI и последующих веках.
На базе основной массы источников, письменных и археологических, складывается ощущение мирного и где-то формального принятия крещения горожанами Руси. Оно происходило под несомненным воздействием верховной власти, но как будто не сопровождалось ни репрессиями, ни массовыми силовыми протестами. Следует помнить, что речь идет еще о таком обществе, где оружие, в общем, имелось в доме каждого свободного «мужа». Возможностей для массового мятежа было достаточно – но его не произошло. С другой стороны, у Владимира не было никакой физической возможности силой навязать «свою» веру всем подданным. Киевская дружина могла громить племенные ополчения поодиночке – но если бы крещение встретило отпор на местах, то отложились бы все. Значит, религиозное преображение Руси встретило поддержку большинства местной знати – то ли в силу авторитета великокняжеской власти, то ли в силу собственного скепсиса по отношению к прежней языческой вере.
Именно такую, мирную картину и рисует нам спустя всего одно поколение митрополит Русский Иларион в своем «Слове о законе и благодати»: «Когда же свершилось, не оставил на этом благоверные подвиги, не в этом только явил сущую в нем любовь к Богу, но подвигнулся более, заповедав по всей земле креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ясно и велегласно во всех городах славить Святую Троицу, и всем быть христианами, малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простым, богатым и убогим. И не было ни единого противящегося благочестивому его повелению, – если кто и не любовью, но страхом повелевшего крестились, поскольку благая вера его с властью сопрягалась. И в единое время вся земля наша восславила Христа со Отцом и со Святым Духом. Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря благой веры явилась, тогда тьма служения бесам погибла, и слово евангельское нашу землю осияло. Капища разрушались, и церкви ставились, идолы сокрушались, и иконы святых являлись, бесы убегали, крестом грады освящались. Пастухи словесных овец Христовых, епископы встали пред святым алтарем, жертву неоскверненную вознося, попы и диаконы, и весь клирос украсили и достойно одели святые церкви. Апостольская труба и евангельский гром все грады огласил, фимиам Богу возносится, воздух освятился, монастыри на горах встали, черноризцы явились, мужи и жены, и малые, и великие, все люди, наполнив святые церкви, восславили, глаголя: “Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Богу Отцу, аминь! Христос победил, Христос одолел, Христос воцарился, Христос прославился! Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои! Боже наш, слава Тебе!”»
Картина, конечно, риторически образна и неизбежно приукрашена. Однако отметим главное – Иларион, обращаясь к людям, среди которых некоторые застали крещение в детстве и все слышали о нем от старших родичей-свидетелей, совершенно уверен, что «не было ни единого противящегося». Митрополит, конечно, знал о трудностях крещения за пределами славянской Руси, в Ростове, где одно время сам пытался управлять епископией. Но на Руси, по его словам, сопротивления не было. Это он рассматривал как Божье чудо и приводил в доказательство подлинной чудесности самого крещения. Какая-либо утайка общеизвестного в таком контексте была бы не только рискованна для общего впечатления от «Слова» – просто нелепа.
Однако считается, что известие Иоакимовской летописи о крещении Новгорода разрушает эту идеализированную картину. Здесь нам придется глубже обычного углубиться в сами тексты источников – слишком важно восстановить подлинные события. Рассмотрим же шаг за шагом всю сумму летописных сообщений о крещении Новгорода.
Самый древний рассказ о крещении Новгорода находим в Новгородской первой летописи младшего извода. Этот рассказ находится в той части летописи, которая заимствована из киевского Начального свода второй половины XI века, хотя чаще всего рассматривается исследователями как новгородская вставка в него. Но вполне возможно использование новгородского предания и самим Начальным летописцем. Скорее в пользу этого свидетельствует и отсутствие (полное отсутствие!) сообщений о крещении второго по значимости города в «Повести временных лет». Использовавший Начальную летопись, но пренебрежительно относившийся к новгородцам, автор «Повести», вероятно, проигнорировал сведения предшественника об их крещении как маловажные. Подтверждается это и наличием того же рассказа о крещении в Троицком списке Начальной летописи, относящемся к XVI веку, но не содержащем ни единой новгородской вставки. В любом случае, повторим, это самый древнее, не моложе XII века, повествование о крещении новгородцев.
Вот рассказ о крещении Новгорода из Новгородской первой летописи младшего извода:
«В лето 6497. Крестился Владимир, и вся земля Русская; и поставили в Киеве митрополита, а в Новгороде архиепископа, а по иным градам епископов, попов и диаконов; и была радость всюду. И пришел к Новгороду архиепископ Аким Корсунянин, и требища разрушил, и Перуна срубил, и повелел влечь его в Волхов; и повергли вожжами, влекли его по грязи, избивая палками; и заповедал никому и нигде его не принимать. И шел пидьблянин рано на реку, желая горшки везти в город. А тут Перун приплыл к мосткам, и отринул тот его шестом: “Ты, – сказал, – Перунище, досыта пил и ел, а ныне поплыви прочь”. И уплыл со света некошный».
Как видим, здесь нет данных о насильственном характере крещения и каких-либо конфликтах. Власть, как и в Киеве, призывает «не принимать» сверженного и опозоренного идола – и призыв этот услышан. Гончар из Пидьбы (села под Новгородом) посрамляет павшего бога, что встречает, разумеется, полное одобрение летописца. В такой картине, заметим, нет ничего недостоверного, – дружинный государственный культ Перуна был навязан Новгородчине из Киева в качестве основного лишь за несколько лет до того. Об этом речь шла ранее. Заметим, что и тогда не говорится о каких-либо беспорядках и конфликтах («и жертвовали ему люди новгородские как богу»).
Более всего заставляет подозревать новгородскую вставку именование Иоакима архиепископом. Новгородские епископы стали архиепископами лишь в XII веке. Однако Новгород претендовал на это и ранее. Для Владимира же было вполне естественно после общерусской митрополии в Киеве учредить для севера Руси – именно архиепископию. Новгородский иерарх становился старшим на Руси после митрополита, как новгородский князь после киевского князя. Другое дело, что неустоявшийся статус самого Киева (то ли митрополия, то ли архиепископия) привел в итоге и к снижению статуса Новгорода до «обычной» епископии. Возможно и иное объяснение – в последние годы жизни, в отсутствие иерарха в Киеве, Иоаким временно являлся главой Русской церкви.
В следующей по времени после Начальной летописи – «Повести временных лет» начала XII века, как уже было сказано, речь о крещении Новгорода не идет вообще. Примечательно, что отсутствуют и те данные из вышеприведенной статьи 6497 «лета», которые просто не могли не присутствовать в первоначальном рассказе о крещении Руси – сведения об учреждении иерархии во главе с митрополитом. Это еще один аргумент в пользу того, что рассказ из Новгородской первой принадлежит создателю Начальной летописи. В «Повести» же по указанным ранее причинам была выпущена вся данная летописная статья.
Ряд известий собственно новгородских летописцев о крещении Новгорода открывает статья из Новгородского летописного свода 1411 года, вошедшего в состав Новгородско-Карамзинской летописи. Он, в свою очередь, стал источником для общерусского свода 1418 года, который отразился в Софийской первой и Новгородской четвертой летописях. Эти своды содержат немало ценнейших уникальных известий по истории Киевской Руси, и известия эти, как правило, достоверны.
В новгородской летописи начала XV столетия имелся, конечно, и рассказ о крещении, несколько отличный от Новгородской первой летописи младшего извода. Приводим его далее:
«В лето 6497. Крестился Владимир и взял у Фотия, патриарха цареградского, во-первых, митрополита Киеву Леона, и в Новгород архиепископа Акима Корсунанина, а по иным градам епископов, попов и диаконов, которые крестили всю землю Русскую. И была радость всюду. И пришел в Новгород архиепископ Аким, и требища разорил, и Перуна срубил, и повелел влечь его в Волхов. И повергли вожжами, влекли его по калу, избивая палками и пихая. И в то время вошел в Перуна бес и начал кричать: “О горе! Ох мне! Достался немилостивым сим рукам!” И швырнули его в Волхов. Он же, проплывая под великим мостом, бросил палицу свою на мост – от нее-то и ныне безумные убиваются, утеху творя бесам. И заповедали никому нигде не перенимать его. И шел пидьблянин рано на реку, желая горшки везти во град. А Перун приплыл к мосткам, и отринул тот его шестом: “Ты, – сказал, – Перунище, досыта пил и ел, а нынче поплыви прочь”. И поплыл со света некошный».
В этом тексте имеются две существенные вставки по сравнению с предыдущим рассказом. Во-первых, введена известная, но недостоверная легенда о крещении Владимира при патриархе Фотии, о коей уже речь шла. Именно в связи с этим называется первый митрополит Леон, ранее известный в основном по митрополичьим перечням.
Вторая вставка относится к рассматриваемой нами истории крещения новгородцев. Летописец ввел известный ему и вообще довольно-таки популярный в Новгороде фольклорный сюжет о проклятии Перуна, из-за которого начались вечевые побоища на мосту через Волхов. Таким образом, новгородский идол, в отличие от киевского двойника, в народной памяти все-таки «заверещал». Софийская первая летопись добавляет к его воплям еще и пророчество, изреченное после броска палицы: «Этим пусть меня поминают новгородские дети». Этот миф, сложившийся, как видим, уже в эпоху удельной раздробленности, ничего не добавляет к картине крещения. Хотя, несомненно, он свидетельствует о страхе вчерашних язычников перед своим повергнутым божеством.
С легкой руки создателей общерусского летописного свода 1418 года именно эта редакция рассказа попала в подавляющее большинство позднейших русских летописей, в том числе и в поздние новгородские. Изменения, вносившиеся в текст, оказались незначительны.
Самым существенным оказалось дополнение общерусского Сокращенного летописного свода 1495 года. После рассказа о крещении Владимиром киевлян здесь добавлено: «а Добрыню послал в Новгород». Хронограф 1512 года добавляет, скорее по общей логике, зачем именно был послан Добрыня: «и там повелел крестить всех». Можно полагать, что до конца XV – начала XVI века дожили предания о крещении новгородцев Добрыней. Хотя, с другой стороны, нельзя не отметить, что это мог быть и домысел московских летописцев, знавших, что Добрыня при Владимире управлял Новгородом. Их вывод, если это именно вывод, а не свидетельство предания, подчеркнем, выглядит и на наш взгляд вполне достоверно. Впрочем, столь значительные вольности для XV века еще не характерны. Скорее всего, в легендах говорилось, что при крещении киевлян Добрыня находился в Киеве, а затем был отправлен Владимиром в Новгород вместе с Иоакимом. Учитывая, что об участии Добрыни в походе на Херсонес ничего не известно, логично заключить, что Добрыня оставался в Киеве за племянника и крестился лишь в числе киевлян, в водах Почайны.
Заметим, что если бы не это свидетельство, в самом факте крещения ревностного язычника Добрыни правомочно было бы усомниться. Почти сразу после крещения Владимир посылает в Новгород нового правителя. А значит, всемогущего княжеского кормильца уже нет в живых. По Начальной летописи и «Повести временных лет» можно было бы заключить, что Добрыня умер вскоре после 985 года. Но с учетом свидетельств XV века его смерть следует относить к концу 989 – началу 990 года.
Уже совершенно явными домыслами выглядят позднейшие сообщения Никоновской летописи XVI века. Поздний летописец приписал Добрыне, будто бы сопровождавшему самого митрополита Михаила, крещение едва ли не всего севера Руси.
Ярко выделяется на фоне многочисленных переработок повествования Свода 1418 года лишь один текст – фрагмент Иоакимовской летописи, с упоминания о которой мы начали эту главу. Речь о датировке и подлинности этого памятника уже шла. Здесь подчеркнем, что по самым оптимистичным (нами не разделяемым) взглядам, «летопись» была составлена не ранее последней четверти XVII века. Нечего и говорить, что первому новгородскому епископу Иоакиму, за пересказ повествования которого выдал свой труд «летописец», источник текста принадлежать не мог. О крещении новгородцев Иоакимовская летопись (по черновой рукописи В.Н. Татищева) сообщала следующее:
«В Новгороде люди, проведав, что Добрыня идет крестить их, учинили вече и поклялись все не пустить его во град и не дать идолов ниспровергнуть. И когда пришел, они, разметав мост великий, вышли с оружием, и сколько Добрыня угрозами и ласковыми словами не увещевал их, они не хотели и слушать, и вывезя 2 самострела великих со множеством камней, поставили на мосту, будто на сущих врагов своих. Мы же стояли на торговой стране, ходили по торжищам и улицам, учили люди, сколько могли. Но гибнущим в нечестии слово крестное, как апостол рек, явилось безумием и обманом. И так пребывали два дня, несколько сотен крестив. Тогда тысяцкий новгородский Угоняй, ездя повсюду, вопил: “Лучше нам помереть, нежели богов наших дать на поругание”. Народ же оной стороны, рассвирепев, дом Добрынин разорил, имение разграбил, жену и неких сродников его перебил. Тысяцкий же Владимиров Путята, как муж смышленый и храбрый, приготовив ладьи и избрав от Ростовцев 300 мужей, ночью переехал выше града на ту сторону и вошел во град, никем не замеченный, – все ведь принимали воев за своих. Он же, дойдя до двора Угоняева, оного и других передних мужей взял и отослал к Добрыне за реку. Люди же стороны оной, услышав об этом, собрались до 5000, окружив Путяту, и была между ними сеча злая. Некие, пойдя, церковь Преображения Господня разметали, и дома христиан грабили. Уже на рассвете Добрыня со всеми сущими при нем подоспел и повелел у берега некие дома зажечь, чем люди еще более устрашились, побежали огонь тушить. И оттого прекратилась сеча, и тогда передние мужи запросили мира.
Добрыня же, собрав воев, запретил грабеж, и затем идолов сокрушили, – деревянных сожгли, а каменных, изломав, в реку ввергли. И была нечестивым печаль великая. Мужи и жены, увидев то, с воплем великим и слезами просили за них, как за сущих своих богов. Добрыня же, насмехаясь, им вещал: “Что, безумные, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут, какую помощь вы от них чаять можете”. И послал повсюду, объявляя, чтоб шли ко крещению. Воробей же посадник, сын Стоянов, при Владимире воспитанный и вельми сладкоречивый, пошел на торжище и более всех увещевал. Пошли многие, а не хотевших креститься воины влекли и крестили, мужей выше моста, а жен ниже моста. Тогда многие некрещеные называли себя крещеными; того ради повелел всем крещеным кресты деревянные, или медные, или оловянные на выю возлагать, а если того не имут, не верить и крестить. И затем разметанную церковь опять соорудили. И так крестив, Путята пошел ко Киеву. Из-за этого люди поносят новгородцев: Путята крестил мечом, а Добрыня огнем».
К Иоакимовской летописи вообще и к этому, наиболее известному ее свидетельству в частности, в науке существует прямо противоположное отношение. Одни исследователи видят в Иоакимовской совершенно адекватный, хоть и очень поздний источник и, подчас без каких-либо оговорок, пишут о «восстании» новгородцев против крещения. С другой стороны, некоторые источниковеды высказывали решительные сомнения в подлинности источника вообще, предлагая видеть в нем полностью или частично творчество самого В.Н. Татищева. Свою точку зрения мы уже высказывали. Но, хотя Иоакимовская летопись и является, как мы думаем, составным сочинением XVIII века, в ней использовалось, в том числе, и несохранившееся древнерусское сочинение – то самое, которое составитель Борщов совершенно искренне принял за труд архиепископа Иоакима Корсунянина. Последнее, конечно, не так. Достаточно сказать, что крещение Руси связывалось в нем с именем болгарского царя Симеона, умершего за несколько десятилетий до вокняжения Владимира.
Но что это был за памятник? По всей видимости, сказание о крещении Руси, созданное в Новгороде. Состав его оказался совершенно затемнен отрывками народных преданий, выписками из польских и немецких хроник, «догадками» составителя. Но тенденция древнего сказания отчетлива – даже по этому, несомненно к нему восходящему фрагменту. Древний автор подчеркивал некоторую, говоря библейским языком, «жестоковыйность» своих сограждан, выпячивал их противостояние христианизации не только своего города, но и Руси в целом. Потому, скажем, новгородские князья Олег и Владимир противопоставляются в Иоакимовской киевским Аскольду и Ярополку как воинствующие язычники. Текст сказания мог быть создан в XIII–XV веках, когда подлинные обстоятельства крещения уже стали забываться в устной памяти, но в то же время еще не окончательно перешли во вневременный мир народного эпоса.
Тем не менее сам факт не слишком адекватной передачи Борщовым сохраненного им текста налицо. Примеру его последовал и сам В.Н. Татищев, имевший достаточно оснований не церемониться с сочинением свояка. Предположения и домыслы, пусть не слишком многочисленные, историк смело вносил в «летописное» повествование. В этом можно убедиться, сопоставив черновик «Истории», то есть непосредственную копию летописного текста, с беловой рукописью. Рассматриваемый фрагмент, будучи переписан набело, претерпел следующие изменения. Не совсем, видимо, уместные, на его взгляд, в этом контексте «самострелы» Татищев заменил древнерусским словом «пороки», а в речи Добрыни, обращенной к новгородцам, «помощь» почему-то стала «пользой». Мира новгородские «мужи» теперь просят, «придя к Добрыне». Самое загадочное добавление – целая фраза после описания «пороков»: «Высший же над жрецами славян Богомил, сладкоречия ради нареченный Соловей, вельми претил люду покориться». Это явно чужеродная вставка в текст, где вождем восстания выведен Угоняй, и именно его захватывает в заложники Путята. Можно догадаться, что Татищев счел уместным поставить во главе восставших жреца. Но откуда он взял его имя (точнее, два имени), мы не можем и догадываться. В любом случае, проблема эта имеет больше отношения к истории исторической науки XVIII века, еще во многом стоявшей между летописью и романом, чем к истории крещения Руси.
Итак, вмешательство В.Н. Татищева в текст сравнительно невелико. Но и признание этого факта не делает Иоакимовскую летопись безусловно достоверной. Еще Н.М. Карамзин считал, что вся история крещения новгородцев – лишь развернутый домысел вокруг присловья туманного происхождения. Даже признавая наличие в основе Иоакимовской подлинных преданий, зафиксированных к тому же впервые еще в XIII веке (допустим), мы не можем отрицать противоречий и несообразностей имеющегося текста. Есть в нем и явно малодостоверные детали. Откровенную нелепость встречаем уже в самом начале: как могли новгородцы поставить свои «самострелы» «на мосту», который только что сами «разметали»? Или они построили его снова – навстречу Добрыне? Кстати, именно под этим мостом – целым и невредимым, проплывал, как мы помним, Перун в летописи 1411 года. Само наличие в Новгороде двух камнеметов, кстати, вызывает сильные сомнения. Хотя осадная техника славянам была известна уже с конца VI века, но строили ее, как правило, в походах на месте осады, и то не всегда, а не хранили в мирное время в городах. Об оборонительном использовании камнеметов до того на Руси ничего неизвестно, тем более на севере Руси.
Весьма странным выглядит использование как опоры в крещении Новгорода 300 ростовцев. В Ростове и его округе новая вера утверждалась с трудом и уже в XI – начале XII века. Если бы в Ростове имелись уже во времена Владимира три сотни крещеных воинов, дело, вероятно, пошло бы быстрее. Наличие в Новгороде 5000 боеспособных горожан в конце X века тоже можно подвергнуть сомнению. Нет ни письменных, ни археологических подтверждений существования в Новгороде до крещения церкви Преображения Господня, хотя факт исключить нельзя. Согласно всем источникам, идол в главном Новгородском капище был один – деревянный Перун. Это подтверждается и раскопками на месте Перынского капища. Здесь же говорится о большом числе идолов, в том числе о каменных, в самом городе. Ни тысяцкий Угоняй, ни посадник Воробей Стоянович не упоминаются в других источниках. При этом посадником в X–XI веках титуловался княжеский наместник в Новгороде, а иногда и новгородский князь. Совершенно очевидно, что «посадником» в описываемое время был Добрыня, а не некий Воробей.
Что касается Путяты, то о его существовании можно судить лишь на основании присловья, приводимого в конце отрывка. Правда, при следующем князе киевском, Святополке Окаянном, известен некий Путша, управитель княжеской резиденции в Вышгороде. Но нельзя забывать и о том, что Путятой звали одного из представителей новгородской по происхождению боярской династии Остромировичей в XI веке, и именно отсюда имя могло попасть в фольклор – в том числе в предания и былины о Добрыне. В известной былине «Добрыня и Змей Горыныч» легендарный богатырь спасает от Змея Забаву Путятичну, племянницу князя Владимира. Едва ли здесь можно строить какие-то исторические и генеалогические выводы.
Что же до «объяснения» Псевдо-Иоакимом происхождения обычая обязательно носить нательные кресты, то столь чудовищную нелепость весьма трудно представить под пером какого бы то ни было средневекового летописца. Зато она могла родиться в уме какого-нибудь «птенца гнезда Петрова», преклонявшегося перед протестантизмом и невежественно считавшего многие древние и общехристианские обычаи местными, случайно родившимися суевериями.
Тем не менее уже давно некоторые находки Новгородской археологической экспедиции в слоях конца Х века сопоставлены с известием Псевдо-Иоакима о крещении «огнем». Следы соответствующего по времени пожарища (неопределенного, конечно, происхождения) на берегу Волхова обнаружены. Мы можем полагать, что автор «летописи» опирался в данном случае на подлинное историческое предание, в основе которой лежали реальные факты. Хотя нельзя не оговорить, что весь отрывок, объясняющий смысл слов «а Добрыня огнем» и рассказывающий о поджоге домов, вписан Татищевым на поле черновой рукописи. Сначала было просто: «Добрыня со всеми сущими при нем подоспел, прекратилась сеча, и тогда передние мужи попросили мира».
Но, даже признавая некоторую силу документа за Иоакимовской, мы должны довериться ее свидетельству в целом. А оно достаточно однозначно. Вспомним, что именно сказано в Иоакимовской летописи о происхождении присловья: «из-за того люди поносят новгородцев: Путята крестил мечом, а Добрыня огнем». Итак, «люди поносят новгородцев». Кто же мог «поносить» новгородцев, если бы вся Русь была крещена насильственно, «огнем и мечом»? – очевидно, что никто. Представляется, что как раз Иоакимовская летопись является решающим свидетельством против подобных утверждений. Новгород, где, по преданию, произошли какие-то столкновения, явно стал в силу такого предания исключением из общего правила. Это и привело к появлению в антиновгородских кругах (возможно, в Киеве, а может, и в Москве XV века) «поносного» присловья.
Что же в действительности произошло при крещении Новгорода? На основе ранних достоверных источников, но с учетом предания Псевдо-Иоакима и его предполагаемых археологических подтверждений, можно восстановить следующую картину. Отправляясь в поход на Херсонес, Владимир действительно вызвал из Новгорода Добрыню, оставив дядю вместо себя в Киеве. По возвращении Владимира Добрыня крестился вместе с ним. Мы не знаем, насколько искренне сделал это вчерашний пылкий язычник – но, во всяком случае, хорошо знавший его племянник поверил и доверился. Дождавшись в Киеве прибытия митрополита и рекомендовав ему в архиепископы Новгорода Иоакима, Владимир немедленно по посвящении отправил нового иерарха вместе с Добрыней в Новгород.
Мы не знаем, был ли спутником Добрыни Путша-Путята, был ли он тогда киевским тысяцким и его ли имеет в виду поговорка. Зато с большой долей вероятности можно допустить, что Добрыню сопровождал Олав Трюггвасон со своими варягами – он как раз отправился из Киева в Ладогу, чтобы оттуда отплыть за море. Вряд ли некрещеный Олав внес какой-нибудь вклад в крещение Новгорода, – разве что присутствие его отряда как-то повлияло на недовольных. Но не в этом ли эпизоде корень фантазий саг на тему о ключевой роли Олава в крещении всей Руси?
Прибыв в Новгород, Добрыня и Иоаким взялись за дело. Требище на Перыни было разрушено, а идол Перуна срублен и с позором совлечен в Волхов. Главным крестителем при этом выступал не Добрыня, а именно назначенный архиепископ. По примеру Владимира. Иоаким велел бить идола палками и нигде «не принимать» его. Приказ был выполнен самими обитателями новгородской округи с удовольствием – бог киевской дружины не пользовался у них особой любовью. После крещения города Иоаким расположился в Детинце, где построили епископский терем. На юге Детинца, на той же его главной, отныне Пискуплей, улице, возвели кафедральный собор – деревянную церковь Святой Софии. Так прежняя цитадель языческой родовой знати превратилась в сердце христианского Новгорода.
Однако, видимо, само крещение новгородцев прошло не настолько гладко, как в Киеве. Какое-то недовольство проявилось. В Новгороде позиции волхвов издревле были прочнее, а сами они – более консолидированы. К тому же они могли надеяться на неискренность Добрыни, который еще недавно ревностно насаждал в их городе культ Перуна. Но с тем большим рвением Добрыня подавил недовольство на корню, ответив на силу силой. Стоит отметить, что Иоакимовская летопись вообще рисует его действия как кровную месть – за убитых язычниками жену и родичей. До этой трагедии Добрыня, по словам Псевдо-Иоакима, и не думал прибегать к силе. Доверяя остальному, не стоит ли поверить и этому – и заключить, что и найденная археологами гарь, и хранящая память о событии поговорка являются просто следами лютой, по древнему северному обычаю, расправы с кровниками? Как бы то ни было, столкновение оказалось столь незначительным, а жертвы столь малы, что в Киеве его просто не заметили. Смутная память о нем удержалась лишь в устном предании, причем постепенно превратилось в «поносный» для Новгорода анекдот, передававшийся недоброжелателями. Как всякое предание, оно со временем обрастало избыточными и фантастическими подробностями, далеко выходящими за скромные рамки эпизода.
Мы не можем судить о конкретных обстоятельствах появления действительно древнего, удельной эпохи, текста новгородского первоисточника Иоакимовской летописи. Как не вполне можем судить и о самом его подлинном содержании. Но критичность автора к новгородскому люду совершенно очевидна. Потому какие-то беспорядки, сопровождавшие крещение в Новгороде и не замеченные ни киевским, ни официальным местным летописанием, превращаются в грозное восстание, едва не стоившее первым христианам жизни. «Поносная» приговорка, сочиненная недоброжелателями Новгорода, увенчала этот своеобразный памфлет против сограждан, составленный явно в пику утвердившейся во владычных летописях концепции крещения. Когда в XIX и особенно в ХХ веке наступила пора новых переоценок, текст древнего полемиста вновь оказался востребован. Однако ему придали прямо противоположный смысл. «Иоаким» показывал свой город печальным исключением – некоторые историки нового времени попытались превратить его интерпретацию событий в типичный для всей Руси пример.
Крещение Руси
Вслед за крещением Новгорода Владимир приступил к крещению и остальной Руси. Приближался сезон полюдья – вернее, повоза, – 989/990 года. В земли отдельных племен как раз должны были отправиться княжеские посланцы. На этот раз их сопровождали прибывшие из Византии или поставленные Леоном из числа киевских христиан священники и диаконы. Князь приказал повсеместно, во всех градах Руси, разрушать языческие святилища и строить прямо на месте поверженных идолов христианские храмы. Пример этому уже был дан строительством церкви Святого Василия Кесарийского в Киеве.
Одновременно выстраивалась русская церковная иерархия. Искренних христиан на Руси было пока немного. Крещение захватывало и сельскую округу, но храмы, по небольшому числу духовенства, строились лишь во градах. Грады и становились центрами проповеди новой веры в окрестностях. В большинстве не слишком многолюдных русских градов пока хватало одного прихода, и епархий Владимир с Леоном основали немного.
Достоверно можно говорить только о четырех – Киевской митрополии, Новгородской архиепископии, Турово-Волынской и Ростовской епископиях. Таким образом, вся Русь делилась на четыре гигантских церковных провинции. Земли полян и древлян, центральные области Руси с Киевом, где жило наибольшее число христиан, подчинялись напрямую митрополиту Леону. Юго-запад – земли дреговичей, волынян и лендзян – входили в епархию подчиненного Киеву епископа Фомы. Его резиденцией стал Туров, стольный град дреговичей. Север – огромные земли кривичей и словен – вошли в подчинение архиепископа Иоакима Корсунянина. Такая обширная епархия вполне объясняет архиепископский титул и ему соответствует.
При этом крайняя восточная окраина словенских земель, населенная финно-угорскими племенами вепсов и мери, составила особую Ростовскую епархию. На нее был поставлен прибывший с Леоном и Фомой грек Феодор.
Что до других епископий – Черниговской и даже особой Белгородской под Киевом – то упоминания о них появляются только в поздних сводных летописях XVI века. Причем имена первых епископов – Никиты Белгородского и Неофита Черниговского – подозрительно напоминают имена их вполне исторических преемников, правивших епархиями в 70-х годах XI века и хорошо известных уже по Начальной летописи. Точно такая же история и с первым будто бы епископом основанного чуть позднее Владимира-Волынского – Стефаном. Но и в Чернигове, и во Владимире существовали местные синодики епископов. И в них первыми изначально стояли другие лица, неизвестные летописям. В Чернигове это Мартирий, во Владимире – Анитий.
О Владимире-Волынском речь пойдет далее. Что же касается Чернигова, то время учреждения здесь епархии и поставления на епископский престол Мартирия точно неизвестно. Хронологические расчеты позволяют, правда с известной натяжкой, отнести его еще ко времени Владимира. Это было бы довольно логично. Чернигов, центр пока самостоятельного княжества, через которое Владимир вернулся на Русь после Херсонеса и поддержку которого в деле крещения получил, должен был стать и миссионерским центром для земель восточных племен – северы, радимичей, вятичей. Язычество в этих землях, особенно на селе, держалось прочно и века спустя. Так что основание в Чернигове автономной епархии явилось бы разумным шагом.
В главные города других епархий вместе с епископами князь отправил и новых князей. Это были его старшие сыновья, приближавшиеся к двенадцатилетнему «отроческому» рубежу или уже его перешагнувшие. Так Владимир начал параллельно с крещением проводить и другую, лишь немногим менее значимую реформу. Русь превращалась из союза племен в государственное целое под управлением единой династии, в подлинную «империю Рюриковичей».
Владимира подтолкнуло к выделению уделов пришедшее из Новгорода известие о кончине Добрыни и освобождении новгородского стола. При всем уважении к воспитателю, Владимир не стал передавать власть над городом в руки его сына, известного нам только под христианским именем – Коснятин (Константин). Вместо этого, по заведенной Игорем и близкой его собственному сердцу традиции, Владимир отправил в Новгород своего старшего сына и наследника Вышеслава.
Не ограничившись, однако, этим, он выделил еще три удела, заменивших прежние племенные «княжения». Достигший двенадцати лет Изяслав был переведен из Изяславля в сам Полоцк, получив, таким образом, материнское наследство. Его младший брат, Ярослав, которому двенадцать исполнялось в наступающем году, отправился вместе с Вышеславом далеко на север, только не в Новгород, а в Ростов. Наконец, ровесник Ярослава, «двуотчич» Святополк получил от Владимира стол в Турове – желание держать воспитанника поближе, но и очевидное доверие к нему.
Владимир, конечно, понимал, что многим рискует, воссоздавая удельную систему и даже увеличивая число уделов. Но именно и только этот путь давал наконец возможность сплотить Русь под единой властью. Направление новых князей вместо былых независимых не столько ущемляло местную знать, сколько льстило ее самолюбию. Надо помнить, что из первых пожалований Новгород и Полоцк все равно подчинялись Киеву. Для местных «господ», «старцев» и их детей открывался путь в княжескую дружину, к превращению в придворных бояр Рюриковичей. С другой стороны, пребывание присланных из Киева дружин юных князей во главе с их кормильцами укрепляло подчинение племенных областей центру.
Но была, все равно была и явная опасность. Новое местное боярство отнюдь не отказывалось от своей неприязни или даже ненависти к Рюриковичам. Даже эту ненависть Владимир мог повернуть в свою пользу – в надежде на победу своего князя в борьбе за киевский стол местная знать еще больше стремилась в его дружину. Но великий князь не мог – и не смог – предотвратить самой этой борьбы, даже при своей жизни. Изяслав, при всей неприязни к отцу и к Киеву, и именно из-за этой неприязни, вполне удовлетворялся своим Полоцком. Но теперь появились и другие удельные князья, со своими поводами к недовольству.
Пока, однако, подраставшие княжичи казались надежной опорой отцу. И в деле крещения, и в деле подчинения Руси власти своей династии действительно ею стали. Новгород и Полоцк, напомним еще раз, уже лишились своих племенных княжений. Для Новгорода назначение князя из Киева новшеством не являлось, а для Полоцка стало возвращением толики былой независимости.
Неизвестно, как было в Турове. Судя по местным устным преданиям, дожившим до нового времени, крещение города случилось уже после кончины его основателя, князя Туры. О том, как окончилась жизнь Туры, у нас достоверных сведений нет. Возможно, свет на это проливает одна из скандинавских саг. Она повествует, как некий русский князь «фюлька» (то есть племенной «волости») женился на дочери шведского конунга Эйрика Победоносного. Однако сватавшийся к ней знатный шведский викинг Аки совершил набег на соперника, убил его и увез молодую жену обратно в Швецию. Среди областных князей времен Владимира Туры, чьи владения были вполне доступны для набега с севера, по двинскому пути, оказывается едва ли не единственной подходящей кандидатурой. Если имеется в виду действительно он, то можно сделать вывод, что и в Турове местное княжение пришлось не ликвидировать, а только замещать.
Итак, реформа Владимира не была направлена против великих князей отдельных племенных союзов. Во всяком случае, на первом этапе. Единственным исключением, не только в этом смысле, явился словенско-мерянский Ростов. Но все же Владимир явно старался закрепить княжескую власть и сам княжеский титул исключительно за Рюриковичами. Назначение в Новгород Вышеслава, а не Коснятина, с очевидностью демонстрировало такие чаяния. И в этом великий князь преуспел. Мелкие «волостные» князья, вожди отдельных племен, постепенно вымирали, а потомки их переходили на службу в дружины удельных князей. Это позволяло проститься с малой «волостью», добиться настоящей славы и власти. Так дружинное боярство обогащается людьми со звонкими княжескими именами – Остромир, Творимир, Миронег… Уже в годы Владимира «всякому княжью» на местах настал конец, как и независимым от князя, даже внешне не служащим в дружине «господам» по селам и весям. Осталось лишь боярство, заседающее в княжеском совете, слившееся из пришлых дружин и земской знати.
Но это был хотя и скорый, но все же растянутый на сколько-то лет процесс. Пока же Владимир лишь сделал первый шаг, только отправил своих сыновей на княжения. С ними же выехали из Киева посланные крестить страну епископы и священники. И здесь сопутствовал успех. Крещение прошло мирно. Язычники почти нигде не оказали сопротивления. Повсеместно в градах разрушались языческие капища, сокрушались идолы, на их местах возводились христианские храмы. Крестили и жителей сельской округи – правда, на селе, как уже говорилось, пока церквей не строили. Потому «по окраинам» и даже в окрестностях некоторых крупных городов уцелели и языческие святилища, где долго еще молились древним богам. Священники и княжеские чиновники не вмешивались. Сами языческие обряды никто силой закона не запрещал. Но главное – свершилось. Русь была крещена.
В крещении «всей земли» участвовали не только греки и славяне. Не удивимся, встретив в преданиях о крещении норманнские имена. Вместе с митрополитом Леоном прибыл на Русь какое-то время проживший в Сирии и Византии исландский паломник и проповедник христианства, Торвальд Путешественник. В 985–986 годах он сопровождал немецкого епископа Фридриха, неудачно попытавшегося крестить его соотечественников. Не желая жить в упрямо-языческом краю, Торвальд отправился в паломничество к святым местам. Прибыв же на Русь и увидев торжество веры в новорожденной христианской стране, восхитился и решил остаться. Торвальд основал первый монастырь в Полоцкой земле и прожил в нем до конца своих дней. Видимо, это древнейший минский монастырь Вознесения, создание которого местное предание возводит к первым векам христианства на Руси.
Несправедливо видеть в Древней Руси только некую «Скандовизантию». Но справедливо другое – признать, что, расположенная между древней христианской Империей и молодым языческим миром викингов, она посредничала между ними. Оставляя при этом многое себе и немало отдавая взамен. В таком тесном общении рождалась новая культура – и у славян, и у норманнов. Русь была одним из главных каналов, по которому Скандинавии достигала благая весть о Христе. Вскоре этим путем отправятся на Готланд и в Швецию проповедники новой веры – и долгое время будет оставаться неясно, латинский или греческий «закон» предпочтут короли Севера… Пока же вслед за Новгородом мирно крестилась варяго-славянская Ладога. Главное языческое святилище северного оплота Руси было разрушено, а вместо него возведена церковь Святого Климента Римского.
Итак, почти везде на Руси христианство утверждалось миром. Так это виделось из Киева, и так это помнилось несколько десятков лет спустя. Но там, где кончались границы славянского мира – там, как пришлось понять и Владимиру, пока кончалась и с готовностью принимавшая новую веру Русь. Ни на Волыни, куда христианство издавна проникало и без киевлян, с запада и с юга, ни в Турове, ни в Чернигове никакого сопротивления оказано не было. Но епископу Феодору и князю Ярославу достался Ростов.
Город этот построили в первых десятилетиях IX века словене и вепсы, пришедшие с северо-запада в междуречье Оки и Волги. Местные жители, меря, поладили с переселенцами миром, смешались с ними. Волжским путем часто ходили норманны – и тоже оставили свой след в Ростовской земле, особенно в торговом поселке Тимерево близ нынешнего Ярославля. Названия «Ростов» и «Ростово озеро» происходят от сокращения личного имени «Ростислав». Так, должно быть, звали славянского князя, срубившего град в землях мери. Позднее местный княжеский род то ли вступил в родство с Рюриковичами, то ли был заменен какой-то их родней. Во всяком случае, уже в начале Х века Ростов входил в состав Руси, и здесь сидел великий князь, «под Олегом сущий».
Но рядом с Ростовом стоял племенной град мери, названный археологами «Сарское городище». Здесь сидел свой племенной князь, имелась своя дружина, и был этот град на Саре богаче, крупнее, старше и известнее Ростова. Это был и центр мерянского языческого культа, запретный для чужаков, но не для славян и варягов. Слава о богатом граде русов «Арсе», в котором убивают всех чужеземцев, достигала в IX–X веках и мусульманского Востока. Как раз в середине Х века Сарск достиг наивысшего расцвета. В ту пору здесь жили меряне и какое-то количество варягов – наемников и торговцев.
Это двоевластие и желал уничтожить Владимир, посылая своего сына в славянский Ростов, а не в мерянский Сарск. И с этой задачей как раз справиться вполне удалось. Миром или войною, но кормилец Ярослава Блуд утвердил власть своего воспитанника над мерянами. Скорее миром – следов столкновений не замечено. Похоже, оба князя просто уступили власть юному Рюриковичу. Сарск начинает хиреть и лет через двадцать попросту «переселяется» в крепнущий Ростов.
Но если дела политические решить удалось, то крестить хотя бы ростовчан – нет. Именно сюда, в Ростов, собрались с Северной Руси словенские волхвы, сперва потревоженные насаждением культа княжеского Перуна, а затем – крещением страны. И здесь они дали последний бой княжеской вере. Ростов превратился в столицу Велеса. Здесь ему поклонялись и славяне, и – даже более ревностно – населившие Чудской конец вепсы и меряне. Другое крупнейшее капище «скотьего бога» располагалось тоже в Ростовской земле, на месте нынешнего Ярославля.
Язычники впустили в город Феодора вместе с Ярославом, но вскоре прогнали епископа, наотрез отказавшись принимать крещение. Феодор удалился в Суздаль – тогда еще небольшое славяно-мерянское село далеко к югу от Ростова. Здесь его приняли и позволили жить, а кое-кто даже и крестился. Хоть Ярослав и рос убежденным христианином, хоть при нем и состояла дружина во главе с Блудом, он никак не смог помешать изгнанию епископа. А сам остался править языческим городом. Возможно (хотя вряд ли), заключили некий договор, волей-неволей одобренный и Владимиром, – единая княжеская власть в обмен на удаление епископа. Но вся история доказывает простой факт – там, где крещению действительно всерьез сопротивлялись, не происходило ни крещения, ни каких-либо «столкновений». «Огонь и меч» по всей Руси – ни на чем не основанный несуразный миф.
Ростов остался тогда действительной неудачей. И причиной тому было, что осознавал и митрополит Иларион, вычеркнувший ростовский эпизод из общей величественной картины мирного крещения, простое обстоятельство – Ростовская земля еще не являлась Русью. Русью в том новом смысле, который создавал и выстраивал Владимир – единое государство на славянской основе, сплоченное властью Рюриковичей и православной верой. Со славянами благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия христианство говорило на родном языке, с мерянами и вепсами – еще нет. Они уже восприняли от славян их языческих богов, которым могли совершать привычные обряды. Но принять от славян же, да еще не «своих», а далеких киевских, нечто совершенно новое и непривычное показалось местным финнам уже не благом. Потребовались десятилетия общения и слияния народов на Ростовской земле, чтобы идол Велеса сперва переместился из центра града в Чудской конец, а затем и вовсе был сокрушен преподобным Авраамием Ростовским – уже в начале XII века…
Сейчас же, несмотря на всю тревожность события, Ростов остался именно эпизодом. Малой, пусть и трагичной, неудачей на фоне торжества крещения Руси. Но и напоминанием о том, какие трудности могут ждать князей-просветителей впереди. Владимир понимал, что без долгой и тяжелой борьбы за души подданных победы не достичь. Но пока, получая вести о крещении тысяч славян, о возведении храмов и сокрушении капищ, он имел все основания радоваться чистой и светлой радостью новообретенной веры. Иаков Мних вкладывает в уста ликующего князя благодарственную молитву: «Господи, Владыко благой! Помянул меня и привел меня на свет, и познал я всей твари Творца. Слава Тебе, Боже всех, Отче Господа нашего Иисуса Христа! Слава Тебе с Сыном и Святым Духом! Так меня помиловал! Во тьме был, дьяволу служил и бесам, но Ты меня святым крещением просветил. Как зверь был, много зла творил я в поганстве, и жил, как скотина, но Ты меня укротил и наставил своею благодатью. Слава Тебе, Боже, в Троице прославляемый, Отец, и Сын, и Святой Дух, Троица Святая! Помилуй меня, наставь меня на путь Твой и научи меня творить волю Твою, ибо Ты есть Бог мой».
Сразу после крещения Владимир разослал по Руси новый приказ. Он велел отбирать по всей Руси детей «нарочитой чади» – знати и родовых старейшин – ради обучения грамоте. Стали возникать первые школы, пока лишь в Киеве и некоторых других градах, где русским детям давали «учение книжное». Здесь пригодились и беглецы из Болгарии, и русские грамотеи-христиане. Но, конечно, и из греческого духовенства для отправки на Русь отбирали прежде всего тех, кто был знаком со славянской грамотой. Священник стал и первым учителем.
Владимир не собирался просто распространять отвлеченное «просвещение» в современном смысле слова. Учили не книгам вообще, а именно христианским, в первую очередь Святому Писанию. Князь не считал грамотность и обязательной для воина или правителя – далеко не все его сыновья обучились читать. Но он понимал, что Руси, как воздуха, не хватает собственных священнослужителей, иереев-сородичей, которые были бы для паствы своими во всех смыслах. Он глубоко почитал тех греческих подвижников, которые пришли крестить вчерашних врагов – но понимал, что для подлинного утверждения веры их одних будет мало.
Естественно, очередное княжеское новшество вызвало в новокрещеной стране недоумение и даже страх. Детей приходилось именно набирать по княжескому приказу. Самостоятельно в учение никто пока не шел. Матери оплакивали уведенных княжескими посланцами, как покойников. Лишь со временем, особенно когда школы стали возникать по малым градам, учение стало привычным и даже престижным делом в боярских семьях. Но это произошло гораздо позднее, уже при Ярославе Мудром – не в последнюю очередь получившим свое прозвание именно благодаря заботе о книжной науке.
Описав учреждение школ, Начальный летописец переходит к итоговой похвале крещению Руси. «Прежде не слышали словес книжных, – пишет он, – но Божьему устроению и по милости Своей помиловал нас Бог, как и сказал пророк: “Помилую, кого хочу, помилую”. Помиловал нас также омовением бытия и обновлением духа – по изволению Божьему, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший новых людей, Русскую землю просветивший крещением святым. Потому и мы припадаем к нему, глаголя: Господи Иисусе Христе, чем воздадим Тебе за все, чем воздал нам Ты, грешникам? Недоумеваем о воздаянии дарам Твоим. Велики, Господи, чудны дела Твои, и величию Твоему нет предела!»
Восхвалив вместе с библейскими пророками величие и милость Божью, воспев вместе с апостолом Павлом новое рождение и грядущее воскресение, летописец завершает: «Мы же возопим ко Владыке Богу нашему, глаголя: Благословен Господь, не давший нас в добычу зубам их – сеть сокрушилась, а мы избавлены были от прелести дьявольской! И погибла память их с шумом, а Господь вовеки пребывает, восхваляемый русскими сынами, воспеваемый в Троице. А демон проклинаем верными людьми и целомудренными женами, принявшими святое крещение и покаяние во отпущение грехов, – новые люди, христиане, избранные Богом».
Русь обновленная
О значении крещения Руси написаны, без преувеличения, горы научной и популярной литературы. Для христианина «значение» это очевидно и не нуждается в дополнительных комментариях. Подлинный смысл крещения Владимира и его подданных вполне выражен в приведенных словах Начального летописца. Но невозбранно, конечно, и рассуждать о мирских – будь то политических или культурных – последствиях принятия Русью христианства. Тем более что последствия эти оказались весьма благотворны.
Политическое значение налицо, и Владимир ощутил его выгоды сразу. Крещение включило Русь в сообщество христианских народов Европы. Это открывало путь к установлению добрососедских отношений между Русью и большинством сопредельных государств. Владимир стремился к миру и союзу со всеми единоверцами. Те же видели в нем теперь не вождя воинственного языческого племени, а христианского государя, причем почти что царского достоинства – и благодаря огромным размерам державы, и благодаря браку с порфирородной византийской царевной.
Было и значение внутриполитическое, хотя оно осознавалось и сказывалось гораздо медленнее. Приняв христианство из Византии, Русь сама стала миссионерским, цивилизующим центром для соседних с ней языческих племен. Принятие зависимыми от Руси племенами христианства полностью уравнивало их в правах с основным населением государства, способствовало сближению обычаев и культур. Целый ряд финских и других племен в результате превратились из данников в непосредственные составляющие Древнерусского государства, а позже отчасти и влились в состав русского народа.
Самым же заметным для самих русских в их повседневной жизни оказывался настоящий культурный бум, начавшийся сразу после крещения киевлян. На Русь начали проникать традиции иконописи и церковного каменного зодчества. Облик русских городов стремительно менялся. В одном сравнительно еще небольшом Киеве за время правления Владимира было возведено более четырех сотен церковных зданий – включая часовни и монастыри. Впрочем, каменными были далеко не все. Пока, в год крещения, по всей Руси во множестве рубились деревянные храмы.
Первым каменным храмом на Руси явилась церковь Святой Богородицы Десятинная. После крещения русская культура обрела наконец то духовное ядро для своей целостности, которое только и позволяет говорить о цивилизации. И эта новая духовная составляющая взывала к сотворению памятников себе – на века, в роды и в роды. Не в дереве – в камне. Тысячелетия язычества, при всей просторности и величии древних капищ, не породили у восточных славян ни одного подлинного произведения монументального искусства. Недоставало мобилизующей тысячи людей воли – но и не ощущалось необходимости. Однако теперь настали новые времена.
В 990 году, когда Владимир понял, что страна его крещена, он сразу задумал создать в Киеве подлинно монументальную церковь во имя Святой Богородицы. Это должно было бы стать разнообразно украшенное каменное здание, подобного которому на Руси еще не видели. Он послал в Византию за мастерами – каменотесами и иконописцами. Греки с готовностью оказали помощь. Под их руководством и началось возведение храма, длившееся пять лет. Местом для церкви Владимир избрал двор мучеников Феодора и Иоанна – в память об их гибели и во искупление собственной вины. Таким образом, церковь возводилась посредине киевской Горы, в окружении княжеских дворцов, которые при Владимире тоже перестраивались и украшались.
В дар строящемуся храму Владимир решил передать все те иконы, кресты и церковную утварь, которые вывез из Херсонеса. Но и приезжие греческие мастера добавили свои краски к украшению храма иконами и росписями. Владимиру этого показалось, однако, недостаточно, и для вящего украшения он поставил за Десятинной литые античные статуи, вывезенные из Крыма. Настоятелем церкви Богородицы Владимир поставил Анастаса Корсунянина, которому был благодарен за помощь, обернувшуюся христианским просвещением Руси. Вместе с ним в храме должны были служить и другие приведенные из Херсонеса священники. Согласно «Повести временных лет», Владимир «попов корсунских приставил служить» в новой церкви. Но Начальный летописец говорит – «епископов корсунских». Странная ошибка – если ошибка. Владимир в радости обращения вполне мог добиться для Анастаса и его соотечественников посвящения в епископы – конечно, в «безместные», без епархии.
Строились на Руси храмы – и, разумеется, распространялись по стране грамотность и книжность. Именно книжность виделась летописцу и видится современным ученым одним из главных признаков происходящих изменений. На Руси переписывались книги Священного Писания, переведенные некогда на славянский Кириллом и Мефодием. Фрагмент одного из таких древних списков Псалтыри на навощенных досках, «церах», обнаружен археологами в Новгороде в слоях начала XI века. На сегодняшний день Новгородская Псалтырь – древнейшая русская книга. Однако, конечно, не только (и не столько) на далеком Севере списывались книги Писания и богослужебная литература. Появлялись и первые собственные сочинения, вроде «Речи философа». Через творения славянских книжников Русь стремительно воспринимала богатства восточно-христианской культуры, соединившей в себе наследие православного христианства и эллинской античности.
Для русских людей того времени грамотность еще оставалась неким священным «умением», которое недоступно обычному человеку. Отсюда и особое, трепетное отношение к воспринимаемому на слух книжному слову. Владимир учредил школы – но не ради насаждения всеобщей учености, а для того, чтобы иметь своих, русских ученых. Сам он читать не научился и только жадно слушал чтение книг. Теперь это были уже не изложения Священной истории, а само Писание. Библия стала любимым, если не единственным, чтением новообращенного князя.
Из княжеских сыновей, стоит заметить, достоверно известно о грамотности только двоих – Ярослава и Бориса. Холодный, замкнутый в себе ум бывшего сидня Ярослава искал иной пищи, чем военные утехи, которыми он в детстве наслаждаться не мог. И это помогло ему по мере возмужания укрепляться в вере. Борис же, сын «болгарыни», рос пылким христианином. Для него, как и для отца, если не в еще большей мере, книги Писания и жития указывали жизненный путь, и Борис пылко стремился приникнуть к первоисточнику. Стоит еще сказать при этом, что Глеб, младший единоутробный брат Бориса, грамоте не учился и только слушал чтение старшего брата.
Владимир, как уже говорилось, не считал учение обязательным для князя и полагался только на способности и желание своих сыновей. Не осудим его за это – неграмотными оставались десятки правителей раннего Средневековья, славянских и германских. Например, живший в начале IX века Карл Великий, восстановитель Западной Империи, научившись читать, совершенно не умел писать. «Темное Средневековье» здесь не при чем – оно, наоборот, открыло дорогу к подлинной грамотности прежде «варварским» народам. Просто не все учились в один момент. Об умении Ярослава и Бориса читать источники говорят как о чем-то исключительном.
Однако неграмотность вовсе не мешала великому князю проникаться духом Писания. Слушая чтение Библии и житий, он восхищался деяниями древних патриархов, вождей и царей ветхозаветной эпохи. Его поражали равно гостеприимство Авраама, честность Иакова, кротость Моисея и незлобивость Давида. Он сравнивал себя с крестителем Рима, святым Константином Великим – и понимал, что пока недостоин равняться с ним. У Владимира появились новые примеры для подражания – наряду с Ольгой, о которой он отнюдь не забывал. Князь «поревновал делам святых мужей и житию их». Искренне, слезно раскаиваясь в совершенном до крещения – князь стремился уже к большему, чем просто искупление. И Писание указывало ему путь. Поступки князя, совершаемые под влиянием «словес книжных», могут показаться наивными современному человеку. Нам, читателям сотен тысяч печатных страниц, уже чуждо то преклонение перед писаным словом, которое охватывало души новокрещеных европейцев IX или X века. Но стоит ли удивляться тому, что они видели действительно священное – в священном слове Библии? Не это ли и нормально?
До глубины души поразила Владимира библейская заповедь «не убий». Князь не мог не соизмерить ее со своими деяниями. Отказаться от внешних войн он, конечно, не мог. Печенеги продолжали наседать на границы Руси. Но перестать казнить подданных было вполне в княжеской власти. Так Владимир и сделал.
На беду, вскоре после крещения, в стране «умножились разбои». Раньше «разбойниками» именовались члены бродячих дружин изгоев, которым приписывались оборотнические и колдовские способности. Как и викинги в Скандинавии, они временами прибивались к княжеским дружинам и окружались суеверным уважением. По мере усиления Рюриковичей и выстраивания огромной державы для разбойников становилось все меньше места. Когда же Русь крестилась, их образ жизни окончательно превратился в преступный для власти. Они стали разбойниками в нынешнем смысле слова. Само по себе это уже являлось поводом для озлобления. Но можно не сомневаться, что свою лепту вносили и разбредшиеся по Руси волхвы, для которых разбойники, в основном сохранявшие верность язычеству, становились товарищами по несчастью – и по борьбе.
Далеко не всегда разбойники попадали в руки своих кровников и могли быть убиты по древнему закону. Часто мстителей не оставалось или не обреталось – и тогда наступал черед княжеского правосудия. Избыточное милосердие князя, как только оно обнаружилось, немедленно придало разбойникам наглости. Церковные иерархи быстро осознали корень трудностей. К Владимиру в Киев собрались епископы и спросили князя: «Умножились разбойники. Почто не казнишь?» «Боюсь греха», – отвечал князь. «Так ты поставлен от Бога, – сказали епископы, – на казнь злым, а на милование добрым. Положено тебе казнить разбойников, но с испытанием».
Владимиру напомнили другую библейскую цитату, из послания апостола Павла, говорящего об обязанностях христианина перед мирской властью, но и о сути самой мирской власти как орудия Божьего в наказание злу. Владимир тут же принялся за дело. Он отказался принимать от родичей разбойников виры – откуп за голову. Всякий схваченный и уличенный подлежал после расследования обязательной казни. Усердие Владимира озадачило епископов и встревожило придворных. Киевские «старцы» вместе с епископами выступили в княжеском совете: «Войн много. А вира пойдет на оружие и на коней». «Да будет так», – согласился князь. Прежний порядок расправ за неотомщенные преступления был полностью восстановлен, и родам разбойников дали возможность выкупать своих бедовых сородичей.
Владимир еще в язычестве, еще в пору новгородского княжения, являл доброту и щедрость к подданным. Однако христианство сообщило этим его природным качествам большую глубину. На Руси было много людей, нуждавшихся в княжеской помощи. Разложение древних родов вело к появлению довольно большой прослойки «нищих и убогих», лишенных имущества. После принятия христианства сюда стали вливаться люди, у которых в языческую эпоху было вообще мало шансов выживать – калеки, состарившиеся изгнанники из общин. С другой стороны, нищенство пополнялось и иными людьми – разорившимися или не разжившимися горожанами, а также разного рода добровольными странниками, особенно вечными паломниками. Князь-христианин, подражавший страннолюбию библейского Авраама, должен был проявить достойную заботу об этих людях.
Конкретный толчок к явленным Владимиром чудесам милосердия (а все современники оценивали княжие милости как подлинное чудо, прежде невиданное) описывается по-разному. Согласно Илариону, Владимира захватили слова, сказанные пророком Даниилом языческому вавилонскому царю Навуходоносору: «Совет мой да будет тебе угоден, царь Навуходоносор, грехи твои милостынями очисти и неправды твои – щедротами к нищим». Согласно Титмару же, душу Владимира какое-то время смущала лишь краем уха услышанная евангельская цитата: «Да будут чресла ваши препоясанными». У него она вызывала воспоминания о прежней блудной жизни. Но придворные священники объяснили князю смысл слов «Да будут чресла препоясанными и светильники горящи» – следует каждый день блюсти воздержание, живя ожиданием Второго Пришествия и Страшного суда. Владимир устыдился и, в согласии с другим наставлением из того же Евангелия от Луки – «Подавайте милостыню, тогда все у вас будет чисто» – обратился к щедрым даяниям. Иные цитаты из Библии, слышанные Владимиром, приводит, как далее увидим, Начальный летописец. Он, видимо, и прав – Владимир находил в Писании самые разные подтверждения новой наклонности. Так или иначе, но все источники согласны в одном – истоком милостынь Владимира были его искренняя вера и доверие к библейскому слову, соединенные со страстным желанием искупить былые грехи.
Иларион говорит: «Кто поведает многие твои ночные милостыни и дневные щедроты, к убогим творимые, к сирым, к болящим, к должникам, к вдовам и ко всем требующим милости!.. Когда услышал ты, о честной, не оставил, услышав, сказанного, но делом довершил, просящим подавая, нагих одевая, жадных и алчных насыщая, болящим всякое утешение посылая, должников выкупая, рабам свободу давая. Твои щедроты и милостыня ведь и ныне людьми поминаются, паче же пред Богом и ангелами Его. Ради той милой Богу милостыни многое дерзновение обрел ты перед Ним, как присный Христов раб».
Для Иакова Мниха милости Владимира – главное доказательство его святости. «По делам разумейте святого», – напоминает он. «Прежде же всего милостыню творил князь Владимир, – повествует он далее об этих делах. – если немощный или старец не мог дойти до княжеского двора и взять необходимое, то посылали им на двор – все необходимое немощным и старым князь Владимир давал. И не могу исчислить множество его милостыней: не только в доме своем милостыню творил, но и по всему граду, не в Киеве одном, но и по всей Русской земле, и в градах и в селах, везде милостыню творил, нагих одевая, голодных кормя и жаждущих поя, странников покоя милостью, церковников чтя, любя и жалуя, подавая им потребное. Нищих, сирот, вдов, слепых, хромых и страждущих, и всех жаловал, одевал, кормил и поил». Владимир пышно отмечал все церковные праздники. По воскресным и праздничным дням он «три трапезы ставил: первую митрополиту с епископами, с черноризцами и с попами, вторую – нищим и убогим, третью – себе и боярам своим, и всем мужам своим».
О том же повествует и Начальная летопись: «Любил словеса книжные. Слышал ведь однажды читаемое Евангелие: “Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут”. И еще: “Продайте имения ваши и дайте нищим. Не скрывайте себе сокровищ на земле, где тля таит и тати подкапывают. Но скрывайте себе имение на небесах, где ни тля не таит, ни тати не подкапывают, ни крадут”. И Давида, говорившего: “Блажен муж, милуя и раздавая”. Соломона слышал, говорившего: «Давая нищему, Богу даем взаймы». Это слыша, повелел каждому нищему и убогому приходить на двор княжеский и забирать все необходимое – питье и еду, и из скотницы (т. е. княжеской казны – С.А.) кунами. И устроил еж и это – сказал, что “немощные и больные не могут добраться до двора моего”. И повелел приготовить возы, наложив хлеба и мяса, рыбы, овощей различных, меда в бочках, а в других кваса, и возить по городу, и спрашивать: “Где больные, нищие, не могущие ходить?” – и тем раздавать необходимое». Написанное Нестором «Чтение о Борисе и Глебе» добавляет, что Владимир постоянно расспрашивал своего «проповедника» (вероятно, Анастаса): «Болен ли кто? и где?» О пирах «ласкового князя» Владимира народ вспоминал с благодарностью еще столетия спустя в своих былинах.
Так под воздействием новой веры менялся правитель Руси – а вместе с ним менялась и вся его страна, в жизнь которой вступали новые нравственные идеалы. Но кое-что изменить Владимир не был властен. Он стремился жить в мире с соседними христианскими правителями, и это ему удавалось. Но остановить тех, кто по-прежнему придерживался закона меча, для кого война служила главным источником славы и богатств, мог только меч. И на юге Руси продолжалась война с печенегами.
Разорительные набеги кочевников достигали киевской округи. Старые скифские валы, которые предание связывало с именем победителя Змея, «божьего коваля» Кия-Сварога, и именовало Змиевыми или Трояновыми, не могли сдержать вражеских налетов. Владимир задумал прикрыть Киевщину с юга настоящей оборонительной полосой, которая надежно преграждала бы путь из Степи. Прежде всего, князь рассудил: «Нехорошо, что мало городов около Киева». По его приказу и при его личном участии в первые годы после крещения строятся десятки укрепленных градов на южных реках, правых и левых притоках Днепра. На Десне, Остре, Трубеже, Суле и Стугне возникли крепости, заступавшие дорогу на русские земли Дикому Полю. Одним из первых был построенный на Стугне Василев. Другие были перестроены на местах прежних городищ. Все эти небольшие грады сходны друг с другом. Они защищены линиями валов и рвов, иногда естественными оврагами. Валы Владимира уже не были просто огромными земляными насыпями. В их основе стояли деревянные срубы, укрепленные также кладкой сырцового кирпича. Русские ли умельцы додумались до такой прочной конструкции, или Владимир хотя бы посоветовался с греческими инженерами – неизвестно.
Грады, однако, были бесполезны без гарнизонов. И Владимир, опираясь на налаженную им систему управления, затевает первую в истории Руси подлинную военную реформу. Раньше князь располагал собственной дружиной, племенными ополчениями и ненадежными наемными отрядами варягов и колбягов. В племенных градах, у местных князей или воевод имелись свои дружины (как во времена Святослава у Претича в Переяславле). Но и этого было недостаточно. Владимиру для его войны требовалось постоянное войско, прямо ему подчиненное. И он приказал набирать по северным землям «лучших мужей». Отборные воины словен и кривичей, эстов и вятичей отправлялись по княжеской воле на юг, защищать Русь от печенегов. Не обошлось, судя по всему, и без наемных варягов, – хотя их было гораздо меньше. Владимир нуждался в своих соотечественниках. «Все грады» обязаны были внести свой вклад в этот набор. Пришельцы становились и жителями, и защитниками княжеских крепостей. Подобное еще немыслимо представить себе за несколько десятилетий до того. Но теперь, трудами Ольги и Владимира, Русь сплачивалась в единое целое. Князь и сам ездил на север, в Новгород, чтобы собирать воев.
Владимир не ограничился только строительством и укреплением градов. По его приказу отремонтировали, расширили и укрепили сами Змиевы валы. В результате они превратились в сплошную линию укреплений, в несколько рядов протянувшуюся по обе стороны от Днепра. Она связывала между собой отдельные грады. На вершинах земляных валов Владимир выстроил также сплошную, поражавшую протяженностью воображение современников, деревянную стену. Пространство вокруг валов и градов, по берегам рек патрулировалось, видимо, конными разъездами – теми самыми «заставами богатырскими», о которых вспоминают русские былины. Хранят былины память и о том, из каких краев съезжались богатыри ко двору Владимира. Недаром в число самых славных воителей Владимира Красное Солнышко эпос включил и Илью Муромца, и ростовца Алешу Поповича, а Добрыню Никитича превратил в уроженца Рязани. «Словене и кривичи, чудь и вятичи», – как в Начальной летописи. Правда, вероятно, и в другом – успех воина при дворе «робичича» Владимира мало зависел от его происхождения. Если не среди наместников во градах, то среди старших на заставах вполне могли попадаться дети простых «людей» и смердов – вроде былинного Ильи.
Меры Владимира приносили результат. По словам летописи, он «одолевал» печенегов. Правда, временами кочевникам удавалось и осаждать приграничные грады, и прорываться сквозь линии валов до южных окрестностей Киева. Но до стен самого Киева при Владимире их набеги не заходили. Сил, прорвавшихся сквозь валы, не хватало, чтобы угрожать столице Руси. Самые дальние набеги останавливали на подступах к стольному граду, на Стугне или в верховьях Ирпени. Возведенная Владимиром стена надежно защитила его державу.
Подлинной столицей Владимировой засеки на Левобережье стал Переяславль, который князь полностью, до основания, перестроил в 991 году. Своего князя здесь уже давно не было, зато имелась дружина с воеводой, теперь напрямую подчиненная Киеву. Владимир дал городу нового хозяина. Он принял решение расположить здесь митрополичий престол и поселил в Переяславле митрополита Леона. Тем самым подчеркивалась независимость духовной власти от светской, княжеской.
Говоря о строительстве Переяславля, это следует иметь в виду. Город возводился не только как главный, полный войск и открытый беженцам оплот против печенежских набегов – но и как памятник величия молодой Русской церкви. По всем этим причинам и оказался он самым большим из всех русских укрепленных градов. Его валы охватывали площадь примерно в 80 гектаров – почти в восемь раз большую, чем укрепления Киевской Горы. Дело в том, что в Переяславле – впервые на Руси – охвачены валами оказались не только крепость-детинец, где пребывали митрополит с воеводой, но и застроенный жилыми дворами «окольный город». В окольном городе Переяславля рядом с дворами торгово-ремесленного люда, как и в северном Новгороде, строились богатые боярские усадьбы. Для заселения огромного, по тогдашним меркам, города Владимиру едва ли хватило бы жителей округи. Вероятно, привлек он и переселенцев с северных земель. Переяславль под управлением Леона процветал, оправдывая свое первое место среди всех русских градов.
С появлением постоянного гарнизонного войска менялась роль и княжеской дружины. Дружинники по-прежнему оставались в первую очередь воинами. Но война переставала быть их единственным долгом. Теперь старшие дружинники, бояре больше времени проводили в Киеве при князе, как его советники и соучастники в делах власти. «Владимир любил дружину, – отмечает летописец, – и с ними думал о строении земском, и о ратях, и о уставе земном». Вместе с епископами и градскими «старцами» они помогали Владимиру управлять страной. Впрочем, «старцы» как особый слой постепенно исчезают. Дети полянских родовых старейшин-«господ» уже осознавали себя русами и служили в княжеской дружине. Наследуя влияние и богатства отцов, они превратились в княжеских мужей, в бояр.
Почтение Владимира к своей дружине выражалось и в знаменитых пирах. Каждое воскресенье вслед за пиром для духовенства и для нуждающихся наступал черед княжеских людей – бояр и телохранителей-гридней. Помимо них, на пир в княжескую гридницу приглашались старшины киевского ополчения – сотские и десятские, а также просто богатые и знатные, «нарочитые мужи». Пир по воле Владимира устраивался даже тогда, когда сам он присутствовать не мог. «Бывало на обеде том, – рассказывает летопись, – много мяса скота и зверей, и изобилие всего».
Как-то напившиеся дружинники стали роптать на князя: «Плохо то, что дают нам для еды ложки деревянные, а не серебряные». Ропот, конечно, был сущей наглостью. Но справедливости ради надо отметить, что дружинники уже насмотрелись на столовые приборы греков в Херсонесе. Владимир, услышав пьяные речи, немедленно повелел изготовить для дружины серебряные ложки. «Серебром и златом, – сказал князь, – не найду дружины. А с дружиной найду злато и серебро, как дед мой и отец доискались злата и серебра с дружиною».
В этих словах звучит прежняя, казалось бы, уходящая правда воинского мира. Что же, Владимир стоял на рубеже двух эпох, одним из первых перешагнул порог новой цивилизации. Но он все же не собирался в действительности ходить по дальним странам, «доискиваясь злата и серебра», подражая Игорю и Святославу. В словах князя – дань уходящему «отчему преданию», но и верность тому в нем, что было действительно важно. Владимиру не нужны были заморские наемники, дружина, служащая за «злато и серебро». Он ценил своих «мужей» именно за то, что они были укоренены в русской почве и могли стать вместе с ним наилучшими строителями русского государства. Так старое и новое неразрывно сплетались в делах и речах великого князя. «И жил Владимир по устроению Божьему, и дедовскому и отчему», – так, весьма символично, завершает пространную похвалу князю и повествование о его трудах Начальный летописец.
Князю и необходимости больше не было в завоевательных войнах. Его держава по богатству и размерам превосходила подавляющее большинство христианских стран, на равных соперничала со Священной Римской и почти что на равных – с Византийской империей. Владимир мог позволить себе нескудеющей рукой одарять и дружину, и духовенство, и нищих. Дань свозилась в Киев со всех сторон необъятной Восточноевропейской равнины. Киев, Полоцк, Новгород, другие растущие русские города, пути «из Варяг в Греки» и «в Хвалисы» привлекали купцов со всего христианского мира – и не только. Правители соседних стран искали мира и союза с Владимиром, подносили ему щедрые дары.
Киевский князь неизбежно задумывался о новом титуле. Он именовал себя каганом – но это обозначение высшей власти, хотя и сохранявшееся, принадлежало языческому прошлому. Оно многое говорило восточным славянам и кочевым тюркам – но ничего, кроме памяти о давних войнах с кочевниками, не пробуждало у христианских народов. Владимир думал о христианском империуме, о «царстве» по-славянски. Обновленная держава Рюриковичей вполне могла таковым считаться.
Брак на Анне, как рассуждал Владимир, ввел его в семью византийских «царей». Анну на Руси и даже в греческом Крыму не называли иначе, чем «царица Владимирова». Мы не знаем в точности, как на претензии русов реагировал Константинополь. Однако нет ничего невероятного в том, что Василий и Константин, чтобы почтить сестру, пожаловали Владимиру титул кесаря, «цесаря» – высший после императорского в византийской иерархии чинов. Кесарь считался вторым или третьим (в зависимости от количества императоров) лицом в Империи и в известном смысле соправителем государя. В позднем Риме «цезари» при императорах-августах являлись именно младшими соправителями.
Тонкость, однако, заключалась в том, что разницу на Руси не понимали. С древнеримских времен у славян удержалась память, что «царь», «цесарь» – это и есть император. Иначе византийских императоров (в отличие от разнообразных князей и королей) не называли. Словом «царь» переводили (и поныне переводят) греческое «василевс» – основной императорский титул в Византии. Так что пожалование «цесарства» Владимиру и сам он, и его подданные предпочли понять однозначно. Империя невольно признала за Русью имперское достоинство. Владимир не претендовал, в отличие от Святослава, на власть над «греками». Но в международных делах он хотел иметь вес, сопоставимый с весом византийских императоров. И это, и вместе с тем насущные нужды торговли и регулярных раздач «имения», побудили его к еще одному нововведению. При Владимире рождается русский монетный двор.
Владимир велел чеканить золотники и сребреники. Золотники, скорее всего, чеканили лишь при первых выпусках, сребреники продолжали выпускать вплоть до последних лет его правления. Лучшие образцы этих монет являются замечательным памятником древнерусского искусства. Именно древнерусского – резали штемпели и чеканили монеты русские мастера, уже набившие себе руку на княжеских свинцовых печатях. Изображения на монетах выполнены обычно получше надписей, в коих нередки ошибки. Впрочем, и для изображений наряду с талантливыми мастерами приходилось привлекать и негодящих ремесленников. Это неудивительно при масштабах Владимировых даяний.
Образцом, а заодно и материалом для золотой монеты стал византийский солид. Солид был наиболее уважаемой монетой Европы, и недаром – высокая золотая проба в нем оставалась практически неизменной со времен Древнего Рима. Эту высокую пробу в точности унаследовал и золотник Владимира. Он действительно являлся золотой монетой – и потому неким вызовом византийским свойственникам киевского князя. На лицевой стороне золотников изображался князь, восседающий на княжеском «столе», действительно пока более напоминающем стол, чем престол. В правой руке Владимира – крест, но по левую руку выбит родовой княжеский знак, трезубец. Надпись, ободом охватывавшая княжеский портрет, гласила – «Владимир на столе». Или, реже, – «Владимир, а се его злато». И в том и в другом слышится возглашение мощи независимой Руси и ее князя. Но не забыли резчики и о Том, Кто даровал эту мощь. На обороте монеты, по византийскому образцу, находился лик Христа Пантократора, Вседержителя, с надписью: «Исус Христос».
Изображение князя на монетах – первое в истории Руси и вообще первый русский «портрет» реального лица. Учитывая, что печатей Владимира не сохранилось, именно по золотникам мы можем судить о внешности и облачении киевского князя. Судя по ним, у князя были густые, казавшиеся насупленными брови и крупный, немного горбящийся нос. Владимир, как и его отец Святослав, носил длинные усы. Неясно, отпускал ли князь (в отличие от Святослава и скорее по простонародной традиции) бороду. На некоторых сребрениках он определенно безбородый, но на золотниках кажется бородатым. Может быть, Владимир не мог решить, каким обычаям лучше следовать?
Скипетр с навершием-крестом и увенчанная крестом же высокая шапка с подвесками – явное заимствование из византийского императорского обихода. Однако Владимир, по сути, пока лишь добавил крест к княжескому жезлу и русской шапке-складне. Облачен князь в просторный украшенный плащ, застегнутый фибулой.
Серебряные монеты старейшего типа напоминают золотники. Правда, высокопробных сребреников очень немного. Большая часть их – слегка посеребренная медь. Частое явление в те времена, в том числе для монет византийских и особенно арабских. Непостоянен был и вес этой монеты. Но первые штемпели для сребреников изготовляли тонкие мастера, ответственно подходившие к своей задаче, и изображении на самых ранних не уступают золотникам. Легенда сребреников гласит: «Владимир, а се его сребро».
Собственный монетный двор в глазах Владимира был непременной принадлежностью суверенного государя. Выпуск монеты подтверждал его право общаться на равных с Византией. Право, отвоеванное в Херсонесе. В Херсонесе князь обрел веру. Но там же он и смыл с Руси позор неудач Игоря и Святослава. Русь христианская являла себя не только чище – но и сильнее языческой.
Добиваясь равноправия с Империей, Владимир невольно обращал взор на Запад. Не в религиозном смысле – этот выбор был уже позади. Но самостоятельные отношения с ближними и дальними соседями-христианами являлись главным свидетельством политической независимости Руси. Это, конечно, не значит, что сами западные иерархи и монархи не думали вовлечь Русь в строящийся латинско-католический мир.
Вскоре после крещения Руси, примерно в 991 году, в Киев прибыло, по преданию, посольство от папы. Предание это сохранилось в поздних летописях, но они его позаимствовали из Киевского свода конца XII века и Смоленской летописи века XIII, которые известны нам благодаря выпискам В.Н. Татищева. Около 990 года на Западе произошли события, которые сами по себе могли привлечь внимание Римского престола к Руси, независимо даже от ее крещения.
Князь гнезненских полян Мешко, продолжавший объединять польские земли, но на востоке сдерживаемый Владимиром, устремился на юг. Выбив чехов из древней земли вислян, гнезненский князь подчинил себе Краков, который с этих пор стал одной из столиц Польского государства. Но Мешко понимал, что успех может оказаться и временным. У Польши династии Пястов имелось много сильных врагов – и Чехия, и Русь, и Германия (хотя мир с ней и поддерживался женитьбой овдовевшего Мешка на дочери немецкого маркграфа). И после взятия Кракова Мешко решил отдать Польшу под покровительство Рима. Так поступали многие правители Западной Европы. Вручение своих земель папе, принесение ему вассальной присяги и выплата регулярной дани («денария святого Петра»), вместе с тем гарантировали независимость. Подчиненный напрямую папе не подчинен уже германскому императору. И ни один католический монарх не решится полностью уничтожить владение, платящее дань престолу святого Петра, как бы ни складывались превратности войны.
Вскоре после краковской победы в Польшу прибыли представители папы Иоанна XV. Они вместе с придворными Мешко описали границы Гнезненского княжества и составили сохранившуюся до наших дней дарственную на имя «святого Петра», то есть римского папства. В ней Мешко признавал границу Руси «простирающейся до Кракова» – то есть оставлял Червенские города Владимиру. Думается, что это было совместным решением его и папских послов. Мешку, не на жизнь, а на смерть схватившемуся с чехами, война с Владимиром нужна не была. Рим был заинтересован в мирных и дружеских отношениях западных монархов с новокрещеной Русью – и по искренним соображениям единоверия, и ради усиления Римской церкви за счет привлечения русской паствы.
Пока же папское посольство отправилось из Польши дальше, в Киев, неся вести о решении Мешка. Отказ от претензий на Червенские грады исчерпывал конфликт. Большего Владимир от Польши и не добивался. Воевать с христианами он впредь не желал. Так что если легаты Иоанна XV указывали еще и на новую «подчиненность» Польши Риму, то это было излишне. Разве что дополнительный аргумент для желавшего мира киевского князя.
Вопрос о принятии латинского «закона», было разрешенный, теперь неизбежно ставили перед Владимиром снова. В Киеве, вероятно, еще оставалась миссия латинян, вынужденная свернуть свою деятельность перед лицом успехов греческого духовенства. Однако вряд ли папство так быстро оставило попытки. Вряд ли, однако, и Владимир стремился перерешить раз решенное. Послов от папы он принял и проводил с почетом и лаской, отправил вместе с ними – в том числе и для скрепления мира с Польшей – своего посланца. Но религиозных выводов, ожидаемых на Западе, так никогда и не последовало.
Свою роль в этом, конечно, сыграли и пастырские наставления. В Константинополе переговоры с Римом вызвали тревогу, и патриарх отправил Владимиру некое письмо. Смоленская летопись, создававшаяся в пору ожесточенной борьбы с католическими рыцарями на западных границах Руси, приводит его текст. Однако это в лучшем случае вольное переложение, в худшем – риторический вымысел летописца, к тому же, возможно, обработанный В.Н. Татищевым. В начале действительно перечисляются основные расхождения латинской и греческой веры, о которых Владимиру, по Начальной летописи, говорили еще в Херсонесе. «Вера римская недобра, – писал будто бы патриарх. – Они ведь дурно молвят о Духе Святом, что от Отца и Сына исходит, разделяя Святую Троицу. В субботу постятся, хлеб пресный, а не кислый освящают. Папу безгрешным называют, чему Христос, апостолы и святые отцы не учили. А как папе безгрешным быть, когда много было пап ариан, несториан и других еретиков, за то соборами проклятых?»
Уже тогда, в конце Х века, все эти пункты разногласий хорошо осознавались православным Востоком. Последняя фраза слегка сгущает краски, но может еще объясняться полемическим запалом. Однако далее смоленский летописец заставляет константинопольского патриарха излагать известную легенду о папессе Иоанне – женщине, ставшей папой и умершей родами в крестном ходу. Легенда действительно известна, но только с XIII века – со времени самого летописца! Общий смысл патриаршего послания, по крайней мере, подытожен верно: «И вы того их зловерия не принимайте и учению их не верьте».
Итак, трудно признать сохраненный Татищевым текст патриаршего послания подлинным. Зато до нас сохранилось сочинение Леона, «митрополита Переяславля Русского», направленное против римлян. Называется оно «Послание боголюбивейшего Леона, митрополита Русского Преслава, о том, что не следует употреблять в службе опресноки». Таким образом, этот труд посвящен одному из самых важных пунктов полемики с латинянами. Спор об опресноках носил отнюдь не внешний характер. Разное приготовление хлеба к пресуществлению отражало разный подход Западной и Восточной церквей к ветхозаветному в христианстве, к роли и месту Нового Завета в истории человечества. Запад предпочел пресный хлеб, священный в ветхозаветную эпоху. Восток полагал, что Христос внес в мир «новую закваску».
Если сочинение Леона принадлежит современнику Владимира Святого, то является одним из древнейших византийских сочинений такого рода. Это-то и вызвало сомнения в авторстве первого Владимирова митрополита. Вокруг послания в науке идет дискуссия – в частности, предполагалось существование более позднего митрополита Леона или Леонтия в Переяславле. Но такой не упоминается ни в летописях, ни в синодиках, ни в житиях. Леон же времен Владимира, сидевший в Переяславле, – личность вовсе не гипотетическая.
Повод к написанию «Послания» дало, видимо, как раз прибытие римских послов ко двору русского князя. Леон написал сочинение на родном, греческом языке. Но основные его идеи придворные священники могли изложить князю и на русском. Это было, конечно, обращение не столько непосредственно к князю, сколько именно к духовенству, дававшее ему аргументы в богословском споре. Писался текст, возможно, по поручению патриарха – и не это ли «Послание» в итоге запомнилось при киевском дворе как патриаршее? Событие отразилось и в Начальной летописи, которая относит наставление о латинянах еще к «Речи философа»: «Слышали же и то, – говорит он в летописи, – что приходили от Рима учить вас вере своей. Вера же их немного против нашей искажена. Служат ведь на опресноках, то есть на облатках, которые Бог не заповедал».
События на Западе не только нежданно напомнили князю о раздумьях над выбором «закона». Они побудили его укрепить западную границу Руси, а затем и предпринять последнюю свою – и за все христианское время единственную – завоевательную войну. Усиление Польши, как бы то ни было, требовало ответного усиления киевской власти над Волынью и Червонной Русью. Волыняне же доселе оставались независимыми во внутренних делах, разделенными на несколько племенных княжений с собственными стольными градами – может быть, с верховным князем во главе. Кроме того, поражение Чехии открывало дорогу на Запад. Прикрытые от Польши Червенскими градами, земли белых хорватов оказались фактически самостоятельными после потери чехами Кракова. Однако им угрожали другие соседи – венгры, завоевавшие уже немало славянских земель. Владимир не желал уступать кому-либо земли хорватов. Они остались единственным восточнославянским, древнего антского корня, племенем, которое еще не входило в состав его державы.
В начале 992 года Владимир выступил на Запад. Какое-то время он провел в Белгороде на Ирпени, излюбленной своей резиденции. По его приказу Белгород был перестроен и укреплен заново. В расширившийся город с усиленным гарнизоном «свели» на жительство множество людей из других градов. Размерами и мощью укреплений Белгород сильно уступал Переяславлю. Но если Переяславль стал сердцем восточного, левобережного крыла засеки, то Белгород – западного, правобережного. Заодно он прикрывал с тыла войска великого князя, двинувшиеся теперь на закат.
Владимира, вероятно, сопровождали в походе вступившие в отрочество сыновья – Всеволод «Рогнедич» и Святослав «Мальфредич». Святослава Владимир поставил на княжение в Деревской земле, возрождая тем самым племенную автономию древлян. Здесь он, конечно, встретил хотя бы показную благодарность. Но Всеволода он намеревался посадить князем на Волыни – и наткнулся на сопротивление.
Волынская знать, частично крестившаяся еще в IX веке и постепенно отвращавшая от языческих обычаев люд, ничего не имела против крещения Руси. Но свою власть немалая часть волынских князей и «господ» отдавать даже крещеному Киеву не желала. Когда-то они подчинились Владимиру мирно, озабоченные усилением поляков. Теперь, когда Владимир отодвинул польский рубеж, следовало заботиться уже на его счет.
Летописец ничего не говорит о волынском этапе похода. Судить мы можем по результатам, отразившимся и в материалах раскопок современных археологов, и в самой же летописи. Владимиру пришлось начать военные действия и разрушить несколько волынских племенных градов, в том числе два довольно крупных, соперничавших по размерам с Киевом. Однако другие сдались без насилия и разрушений – в их числе Волынь, стольный град всех волынян на Буге. Владимир, однако, не полагался ни на раздавленных бунтарей, ни на местных сторонников. В землях двух сильнейших племен волынского союза – собственно волынян и лучан – он выстроил два укрепленных града, которые должны были стать новыми оплотами киевской власти. На востоке, у лучан, это был Луцк. На западе же, у волынян – Владимир, названный в честь князя, а позднее прозываемый обычно Владимир-Волынский.
Князь сохранил старшинство волынян в их племенном союзе – видимо, в знак признательности за добровольное покорение города Волыни. Именно Владимир стал стольным градом западных земель. Именно здесь сел на княжение Всеволод Владимирович, младший сын киевского князя и Рогнеды. Владимир-Волынский превратился подлинно в главный город Западной Руси. В сферу его влияния входили не только волынские земли, но и Червенские грады, и непокоренные еще владения белых хорватов.
В этой связи несколько умалялась роль Турова. Сначала град Владимир вошел в Туровскую епархию, и в перечнях волынских митрополитов грек Фома, туровский епископ, стоит на первом месте. Но затем во Владимире учредили независимую епископию, намного превышавшую
туровскую размерами. Имя первого епископа по поздним летописям, Стефан, заимствовано (как в случаях с Черниговом и Белгородом) из позднейшей истории. Синодики же называют первым владимирским епископом после Фомы – некоего Анития. Более о нем ничего не известно. А жаль, поскольку именно он позднее должен был стать одним из главных наставников святого Бориса Владимировича.
Итак, новопостроенный Владимир, не только в церковном смысле, рос отчасти за счет Турова, а это не могло радовать вошедшего в возраст «двуотчича» Святополка. Он с ревностью смотрел на Владимирское княжество и на все происходящее там, видя в самом основании нового града знак отцовской нелюбви. Отцовской ли? Святополк не просто знал, чей он сын на самом деле. Он с гордостью считал и провозглашал себя сыном Ярополка, избрав в качестве княжеского знака, в отличие от Владимира и всех его сыновей, древний двузубец Рюриковичей. Задумывался ли юноша уже тогда о мести? Неведомо. Во всяком случае, Святополк прилагал усилия к обогащению и укреплению собственных земель. Его трудами чуть севернее Припяти, между Туровом и Берестьем, разросся новый град – Пинск, одна из главных его резиденций.
Владимир провел в волынском походе и за строительством новых городов весну и лето 992 года. Зазимовал он, судя по всему, также на западе. Неудивительно, если в только что «срубленном» Владимире. После окончательного покорения Волыни на очереди было завоевание хорватских земель, и возвращаться в Киев не имело смысла.
Передвижения русских войск в Побужье вызвали тревогу в Польше. Дело в том, что как раз в 992 году скончался Мешко. На престол вступил его сын от чешки Добравы Болеслав – немедленно изгнавший из страны свою мачеху Оду с ее сыновьями Мешко и Ламбертом. Задушенная Болеславом в зародыше смута тем не менее подозрительно совпала с походом Владимира на запад. Болеслав, конечно, не мог знать о намерениях киевского князя. Воспринял же он движение русской рати однозначно – как угрозу большой войны. Потому и он привел войска к червенскому порубежью, и со ссылкой на русскую угрозу отказался явиться по вызову германского императора на его войну с полабскими славянами-язычниками.
Но Владимир не собирался более воевать с Польшей. Весной 993 года его войска выступили через Червонную Русь к Верхнему Поднестровью, землям Белой Хорватии. Русские летописи кратки в упоминании этого последнего описанного ими похода великого князя. «Пошел Владимир на хорватов», – этим свидетельство и ограничивается. Но и из позднейшего подчинения почти всех земель белых хорватов Руси, и из несомненного факта крещения всех их по греческому обряду явствует, что война была успешной. Хорваты, конечно, стремились сохранить только что обретенную независимость и оказали сопротивление. Тем не менее едва ли оно являлось по-настоящему организованным и упорным. Наверняка среди хорватской знати, платившей доселе дань чехам, нашлись сторонники подчинения гораздо более близким по крови киевским русам. Крещение же вообще не должно было натолкнуться на особое противодействие – на землях хорватов уже на протяжении нескольких десятилетий вели проповедь миссионеры Пражской епархии. Греческий обряд в соединении со славянским богослужебным языком оказался для тянувшихся к христианству хорватов подлинным даром. Жители Закарпатья, подкарпатские русины, сохраняли верность ему и века спустя, вопреки жесточайшим гонениям времен католического господства. Крещение хорватов оказалось важнейшей задачей для учрежденной Владимиром и Леоном самостоятельной Владимирской епархии.
С походом на хорватов была подведена последняя черта под племенной раздробленностью восточнославянских земель. Все до единого племенные союзы отныне подчинялись власти великого киевского князя. Владимир завершил труды своих предков, создав величайшую державу Восточной Европы и одно из крупнейших европейских государств. Отличие его от отца, деда и пращуров заключалось в том, что он действительно – при помощи Добрыни – осознал в свое время, по какому пути следует идти. Главное же – он строил не просто великую страну, но страну христианскую. И высший знак видится в том, что все восточные славяне сплотились в Русь только тогда, когда княжеский скипетр увенчался крестом.
Рождение легенды
Вслед за походом на хорватов и в связи с ним «Повесть временных лет» содержит обширный вставной рассказ о печенежском набеге, отсутствующий в Начальном летописи. И тут мы вынуждены сделать довольно обширное отступление. Дело в том, что с этим преданием мы выходим за пределы реальной истории конца Х века на просторы народного творчества. Владимир очень быстро стал персонажем легенды, воплотившейся в десятках былин «Владимирова» цикла. И первые из них начали складываться уже в следующем столетии после кончины князя, если не при его жизни. Проследим же историю того, как эпоха Владимира становилась былинным веком. И начнем как раз с двух преданий, вставленных автором «Повести временных лет» в Начальную летопись – под 993 и 997 годами.
Русский народный эпос складывался на протяжении веков и многими устами. Слагали похвальные песни в честь побед и трагические в память поражений придворные песнотворцы, хранившие традиции дохристианской еще дружинной поэзии. Песни эти из княжеских стольных градов разносились по Руси паломниками-каликами и бродячими скоморохами – частыми персонажами былин. Сельские сказители перенимали занесенные сюжеты, сплетали их с местными преданиями и ранее сложенными в племенной толще песнями. На Руси крещеной эпос рождался новый, христианский, – но в него вливались и старые, языческие образы, поверья, мифы.
Имя Владимира попало в этот бурлящий водоворот мифов, преданий и песен очень рано. Скорее всего, еще при его жизни. Масштабные перемены, охватившие все стороны жизни строящейся Руси, до самых дальних ее уголков, захватывали воображение современников и потомков. Длящаяся же десятилетиями, упорная и успешная война с кочевниками давала необходимую пищу для создания героического эпоса. Как и многие другие деяния князя – скажем, впервые за долгие годы победоносный поход на греков или последовавшая затем женитьба на «царице». Придворные песнотворцы Владимира слагали песни-славы в честь князя и его доблестных дружинников. След их находим мы в Начальном своде. Создатель его излагает историю похода на Полоцк и женитьбы на Рогнеде стихом дружинной былины, запечатленным две сотни лет спустя «Словом о полку Игореве». У дружины, у духовенства, у масс русского люда были свои предания о Владимире и его эпохе. По мере того как эпоха уходила в прошлое, предания обретали новые, причудливые связи, и нередко с прославленным «Красным Солнышком» связывались события и деяния времен его далеких предков.
Так и произошло, вероятно, с преданием о печенежском набеге и силаче-кожемяке, с упоминания о котором мы начали эту главу. В начале XII века в городах Южной Руси сказывали о Владимире немало. Это и отразилось в свидетельствах летописца-киевлянина, хорошо знавшего местные предания и эпические песни. Как уже говорилось, предание о кожемяке вписано в «Повесть временных лет» под 993 годом, после позаимствованного из Начального свода известия о хорватском походе. Начинается действие с возвращения Владимира с «хорватской войны».
Итак, Владимир возвращался с хорватской войны. В это время на Левобережье появилась печенежская орда, двигавшаяся от Сулы. Владимир поспешил переправиться через Днепр и на броде у реки Трубеж, «где ныне Переяславль», встретил печенегов. Началось приречное стояние – частое явление в войнах тех веков. Сторона, начавшая переправляться первой, могла понести серьезные потери, потому ни печенеги, ни русские не решались первыми пойти бродом.
Печенежский хан, наконец, сам подъехал к берегу и вызвал киевского князя. «Выпусти ты своего мужа, а я своего, пусть поборются. Если твой побьет моего, да не воюем три года. Если же наш муж побьет, то воюем три года». Вожди разъехались в свои станы. Владимир, вернувшись к себе, разослал по всему войску биричей с призывом: «Есть ли такой муж, что поборолся бы с печенегом?» Но ни одного добровольного охотника не нашлось во всем войске. Утром печенеги подъехали к берегу и привезли своего поединщика. Русские не могли никого выставить. Владимир «начал тужить» и вновь отправил биричей в войско, веля обойти всех воев. Наконец к князю явился некий старик и сказал: «Княже, есть у меня один сын младший дома, – я вышел с четырьмя, – с детства никто его не побил. Один раз ссорились мы, а он мял кожу, и разгневавшись на меня, руками изорвал работу руками». Владимир обрадовался и послал за молодым силачом.
Кожемяку привели к князю, и тот рассказал ему обо всем. Кожемяка сказал: «Княже, не ведаю, смогу ли одолеть его. Испытайте меня – есть ли бык большой и сильный?» Такого быка нашли. Князь повелел раздразнить быка. Того прижгли железом и пустили на кожемяку. Силач отстранился, схватил пробегавшего быка за бок и выдрал ему кожу с мясом, «сколько рука взяла». Владимир подытожил: «Можешь с ним бороться».
Утром печенеги вновь подъехали к броду. «Нет ли мужа? – с издевкой спросили они. – Вот, наш готов». Ночью русская рать вооружилась и изготовилась к бою. На призывы печенегов русский полк выступил из стана и встал против них у брода. Перед полком вышел силач-кожемяка. Печенежский поединщик был «превелик зело и страшен». Он посмеялся над русским, который выглядел как «средний телом». Ровно посредине между выстроившимися войсками, у брода, поединщики сошлись. Они схватились врукопашную. Какое-то время ожесточенно боролись, а затем русский одолел. Он «удавил печенежина в руках до смерти и ударил им о землю».
Печенеги в ужасе закричали и обратились в бегство. Русская рать перешла Трубеж и погналась за врагом. Бегущих печенегов рубили, пока не прогнали в Степь. В радости победы Владимир будто бы заложил у брода град и назвал его Переяславлем – «ибо перенял славу отрок тот». Победителя и его отца князь сделал «великими мужами». После этого «Владимир возвратился в Киев с победою и славою великой».
Вставляя предание о богатыре-кожемяке в летопись, автор «Повести временных лет» опирался только на устную народную память. Владимир действительно отстраивал Переяславль. Но было это, согласно Иакову Мниху, на два года раньше. Самое же главное – название «Переяславль» гораздо старше времен Владимира. Город упоминается в первом соглашении Олега Вещего с Византией от 907 года. Назван же он по славянскому княжескому имени «Переяслав» – видимо, так звали полянского вождя, первым «срубившего» здесь град. В некоторых летописях память о происхождении названия города сохранилась – но аристократическое имя «Переяслав» приписывается кожемяке.
Автор «Повести» прекрасно знал, что Переяславль древнее князя Владимира – сам внес помянутый договор в летопись – но не удержался и от включения народного сказания. Мы должны быть благодарны ему за это, ибо такой вольностью он сохранил для нас осколок древнейшего былинного эпоса. Да не так уж и фантастично предание о кожемяке. Более того, оно может отражать и реальные события – хотя бы и времен основания Переяславля в конце IX – начале Х века. Бурное и величественное время Владимира быстро превратилось в мощный магнит, притягивавший к себе смутные припоминания о давно, неведомо когда, минувших событиях. Условия уговора между князем и печенежским ханом хорошо объясняют датировку события в Повести временных лет – под 996 годом Начальный летописец сообщал о войне с печенегами. Значит, условленные три года тогда уже истекли – рассудил его продолжатель. Отсюда и искусственная привязка действия былины к «хорватской войне».
Другое предание при всей внешней анекдотичности выглядит гораздо более достоверным. В том смысле, что легший в его основу эпизод действительно вполне мог произойти во времена Владимира – едва ли раньше. Правда, датировано предание в летописи тоже искусственно. Автор «Повести временных лет» просто поставил новый рассказ следующей погодной статьей (997 года) после обширной итоговой похвалы Владимиру Начального летописца.
Итак, в 997 году Владимир, как рассказывает «Повесть», отправился в Новгород за «верховскими воями» (Верхней Русью именовались в Киеве земли по Верхнему Днепру и севернее). Как уже говорилось, и как долгое время помнилось на Руси, именно северные племена поставляли гарнизоны приграничных крепостей и пополняли порубежные заставы. Печенеги прослышали о том, что князь в отъезде. Прорвавшись на север по правобережью Днепра, они дошли до Ирпени и осадили Белгород. Кочевников было «великое множество», и в отсутствие князя никто не рискнул оказать помощь. Ни один человек не мог выйти из города через плотную осаду. Начался жестокий голод.
Осада длилась долго. Над горожанами нависла угроза голодной смерти. Поняв это, они собрались на вече. «Уже скоро помрем от голода, – говорили они, – а от князя помощи нет, так лучше помереть. Сдадимся печенегам, – кого пощадят, кого убьют, – а то помираем от голода». На том и порешили. Одного старца не было на вече. Он спросил сограждан: «Зачем было вече?» Ему сказали, что наутро собрались сдавать печенегам город. Старец пригласил к себе городских старейшин и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться». «Не вытерпят люди голода», – отвечали ему. «Послушайте меня, – сказал в ответ старец, – не сдавайтесь три дня, а делайте то, что я велю». К нему прислушались с радостью.
Старик велел: «Соберите по горсти овса, пшеницы или отрубей». Столько нашлось. Городские женщины по приказу старца приготовили болтушку для киселя и залили в кадь. Кадь поставили на дно выкопанного колодца. Затем старец велел найти меду. В подземной княжеской «медуше» отыскалось еще лукно меда. Из этого меда приготовили сладкую «сыту» и тоже погребли в кади, в другой колодец.
Утром следующего дня горожане послали к печенегам со словами: «Возьмите к себе нашего заложника, и пойдите во град, до десяти из вас. Посмотрите, что делается в граде нашем». Печенеги, обрадованные, полагая, что им хотят сдаться, с охотой послали разведать обстановку десяток «лучших мужей». Однако в стенах Белгорода посланных ожидало разочарование. «Почто губите себя? – спросили их люди. – Стойте хоть десять лет – что сможете сотворить? Ведь мы имеем пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами». Их привели к первому колодцу, зачерпнули оттуда болтушки, разлили по латкам и сварили киселю. Затем из второго колодца набрали сыты. Горожане поели сначала сами, а затем дали попробовать и печенегам.
Печенеги поразились. «Не поверят князья наши, – сказали они, – если не поедят сами». Для «князей» налили по корчаге болтушки и сыты. Отведав белгородского киселя, печенежские ханы тоже «подивились» – и поверили. Они отпустили городских заложников, забрали своих «мужей» «и от града пошли восвояси».
Было бы рискованно утверждать, что в этом летописном рассказе «все правда». Однако – повторим – в нем вполне мог отразиться какой-то реальный эпизод войн Владимира с печенегами конца X – начала XI века. Во всяком случае, оба предания – и о богатыре-кожемяке, и о белгородском киселе, – отражают начавшийся процесс складывания народной памяти об эпохе Владимира. Как о времени эпическом, как о «героическом веке».
Время шло, и Владимир, затмевая своих языческих предков, становился главным былинным князем. Новый эпос выстраивался заново, на новой основе. Архаика дохристианских времен уходила в прошлое. Языческие вожди и герои либо исчезали из народной памяти или становились придворными «храбрами» Владимира – как Олег Вещий, ставший в былинах поздней поры Владимировым богатырем Вольгой. Переходный этап этого складывания огромного Владимирова цикла мы можем наблюдать благодаря норвежской «Саге о Тидреке».
Созданная в начале XIII века, «Сага» представляла собой на самом деле переложение немецких эпических поэм о Дитрихе Бернском – главном эпическом короле готского героического эпоса, якобы современнике и враге-друге гуннского Этцеля, Аттилы. Немецкий эпос прославлен в мировой литературе «Песнью о Нибелунгах», и сюжет «Саги» тесно с ней связан. Однако в нить повествования то ли норвежским переводчиком, то ли еще его северонемецким источником, оказалась вплетена так называемая «Сага о вильцинах», главные герои которой – не германцы и не гунны. Действие ее происходит в славянских землях Южной Прибалтики и Руси. По многим признакам, основной сюжет воспринят через Новгород.
Рассказывает эта «сага» о древнем могуществе славянского племени велетов («вильцинов») и их короля Велета («Вильцина»), Волота Волотовича русских былин. Однако затем велетов победили и покорили русские – след давней борьбы предков новгородцев в Южной Прибалтике с действительно воинственными и могущественными велетскими соседями. Позднее описывается блестящее правление русского князя Владимира и его борьба с кочевниками. Последних автор «Саги о Тидреке» для своих целей сделал гуннами, и Владимир терпит у него поражение. Но это уже результат соединения русского и немецкого эпоса.
Итак, Владимир здесь – уже совершенно эпический персонаж, подлинная родословная которого забыта. Он действует во вневременном мире былины, соединяющем древние языческие мифы и исторические предания о сравнительно недавней поре. Что особенно интересно для нас, рядом с Владимиром действует в «Саге» его брат, могучий воитель и мудрый советник по имени Илья. Как не вспомнить Илью Муромца русских былин – но Илья Муромец ведь совсем не брат Красному Солнышку? Видимо, образ богатыря складывался очень долго и из разных источников.
На Руси был еще один святой Владимир – почитавшийся в Новгороде строитель Новгородской Софии, внук крестителя Руси Владимир Ярославич. Он княжил в Новгороде волей своего отца Ярослава Мудрого и имел старшего брата Илью, который княжил там же до него. Илья умер молодым, но отец позаботился, чтобы память о нем сохранилась на Севере. В память сына он возвел несколько храмов, посвященных его небесному покровителю пророку Илии. В народной памяти к началу XIII столетия уже сливались два почитаемых старинных князя, а образ юного Ильи причудливым образом переплелся с народным культом Ильи-Пророка, в котором вчерашние язычники видели сменившего Перуна небесного громовержца. К образу Ильи – якобы соратника и советника Владимира Красное Солнышко – стали притягиваться древние мифы, получая при этом новое содержание. Последнее же и решающее изменение с этим новым персонажем произошло уже к XV веку, когда в Западной Руси богатырем-соратником Владимира стали считать преподобного Илью Муромца-Печерского. Этот подвижник из Киево-Печерского монастыря отличался огромной силой и богатырским телосложением. В молодости, по преданию, он служил в великокняжеской дружине, жил же в XII веке.
Так Владимир вслед за вечным своим спутником в преданиях, Добрыней, обрел и второго из «трех богатырей». Третий присоединился позже всех. Еще в XIV веке, когда создавалось эпическое «Описание об Александре Поповиче», ясно помнилось, что этот ростовский «храбр» служил князьям начала XIII века и погиб в битве с татарами на Калке в 1223 году. Но народная память живет по своим законам. По мере того как сказания об Александре Поповиче опускались в народную толщу, они все более менялись. В них смещались имена и эпохи, добавлялись фантастические подробности – и вот в XVI веке, на страницах монументальной Никоновской летописи Александр Попович оказывается соратником уже и князя Владимира. Это не мешает ему, однако, по представлению летописца, погибнуть спустя века на Калке.
Никоновская летопись, созданная около 1520 года, вообще рисует эпоху Владимира уже вполне былинной, такой, какой она и запечатлелась в народной памяти нового времени. Князь предстает в сердце блестящего богатырского двора, и подвигам богатырей (именно так уже и называемым) уделяется немало места. Упоминаются и Александр Попович, и Ян Усмошвец (ранее безымянный кожемяка), и Рахдай – герой эпических преданий северного края. Князь, опираясь на их доблесть и силу, ведет ожесточенную войну с кочевниками. Причем не только с печенегами, но и с пришедшими спустя лишь полвека половцами. А в некоторых других памятниках того же позднего времени, отметим, – уже и с татарами. Ко двору Владимира приходят креститься неведомые ни по каким другим источникам печенежские князья. Ему покоряется прославленный разбойник Могута. Что-то принадлежит преданию, что-то – домыслам позднего летописца. Несомненно одно – в Никоновской летописи перед нами сухая выжимка из уже существующего во всей своей красе былинного эпоса. Неудивительно – именно в XV–XVI веках должны были складываться первоначальные тексты тех самых былин, которые позже будут записаны исследователями фольклора.
Недаром в начале того же XVI века у Владимира появляется новое отчество – «Всеславич». То самое, под которым и вошел он в былины. Впервые оно отмечено, что любопытно, не просто в официальном придворном, а в насквозь официозном сочинении XVI столетия, в «Сказании о князьях Владимирских», возводившем их родословную к императору Августу. Для сочинителя при московском дворе, человека весьма начитанного, былинное отчество древнего князя звучало уже естественнее книжного и исторического. А в XVII веке появляются среди памятников русской литературы уже и первые записи былин о «Владимире Всеславиче» и его богатырях. «Сказание о богатырях Киевских» – о поездке богатырей в Царьград и победе их над чудовищным Идолищем. Здесь, кстати, Александр Попович уже становится Алешей, а Добрыня – Никитичем, и действуют все три старших богатыря (правда, не они одни). «Сухан» – о богатыре, оскорбленном при дворе и героически погибшем, в одиночку защищая родину от кочевников. Наконец, различные версии знаменитой былины об Илье Муромце и Соловье Разбойнике.
Так, на протяжение веков, Владимир превращался из «просто» исторического персонажа в легенду. В легенду не придворную, даже не только церковную – в подлинно народную. Лучше свидетельство тому, сколь глубокий след оставило совершенное им в истории России. И сколь благодарную память оставил он после себя своей стране и своему народу.
Торжества и неудачи
Но мы, как писали средневековые летописцы, «к прежнему возвратимся». Сложные пути становления предания о Владимире увели нас в сторону от последовательного описания его правления. По неизбежности – ибо предания вклиниваются в сами летописные тексты. Но теперь время продолжить повествование.
995 год стал для Владимира годом и заметного политического успеха, и трагической утраты. И тем и другим он был обязан варяжскому «заморью». Владимир не оставлял своей заботой северные края. Теперь, после крещения Руси, к долгу государственному добавился долг христианский – содействовать просвещению скандинавских язычников. Укрепление связей со Скандинавией теперь не только содействовало бы торговле и обезопасило бы Русь с Балтикой. Владимир первым из русских князей задумался не просто об развитии существующих отношений, но и о установлении на норманнском севере русского влияния. Затея исторически и политически вполне оправданная, хотя бы существованием Ладоги. Владимир, в отличие от первых Рюриковичей, уже определенно не воспринимал варягов как своих соплеменников. Но варяги определенно же попадали в категорию «лапотников» Северо-Восточной Европы, подлежавших сплочению под рукою христианского Киева. Исключение представляла лишь Дания – но о ней Владимир и не думал, разве что как о наиболее вероятном сопернике.
К мыслям о Скандинавии Владимира обратило крещение давнего воспитанника, Олава Трюггвасона. Как уже говорилось, крестился Олав на западе, на островах Силли, в 993 году, получив от местного монаха-отшельника предсказание о королевском троне. После этого прежний свирепый викинг немного изменился. Он заключил мир и союз с христианами-англосаксами и более никогда не грабил христиан.
Владимир, конечно же, с радостью встретил крещение Олава. Напомним, что до разрыва между Западной и Восточной церквями оставалось еще несколько десятилетий, и крещение, пусть даже по латинскому обряду, воссоединяло Олава с Владимиром в христианстве. Отношения между воспитателем и приемным сыном возобновились и неизбежно потеплели. Олав, по одной из версий, даже прибыл на Русь, чтобы заручиться провести время с князем и заручиться заодно поддержкой перед решающей схваткой за власть с ярлом Хаконом.
Власть того в Норвегии к этому времени сильно пошатнулась. Олав не принимал участия в затеянном по наущению данов набеге йомсвикингов на Норвегию в начале 990-х годов. Но наверняка с Хаконом там сражались – пока неудачно – многие его боевые соратники. Хакон разгромил викингов, опираясь на поддержку норвежских бондов. Те ненавидели морских грабителей и видели в Хаконе достойного «доброго» правителя. Но подросли сыновья ярла – сами викинги – и впечатление это стало рассеиваться. К тому же и Хакон к старости впал в распутство и самодурство. Ярл начал вести себя в Норвегии, будто в викингском походе, захватывал чужих жен и девиц, вызывая всеобщее возмущение. Между ярлом и бондами зародилось «немирье». Он стал для них «Злым Ярлом».
Олав отплыл из Англии по весне 995 года. Не исключено, что он сослался с Владимиром или даже действительно побывал в Ладоге. Там он мог встретиться с Вышеславом, а то и с самим бывавшим на Севере приемным отцом. Во всяком случае, совершенно ясно, что некую «поддержку», отнюдь не только моральную, Олав от Владимира получил. В Ладоге имелось достаточно варяжских войск для того, чтобы пополнить флот Олава. Не лишними были бы и богатства княжеской казны. Сторонники Халейгов позднее считали главным виновником победы Олава именно Владимира, и ему считали нужным мстить.
Хакон попытался предотвратить переворот, подослав к Олаву наемного убийцу Торира Клакку. Но тот перешел на сторону претендента и обеспечил ему тайное прибытие в Норвегию. Еще не зная о прибытии Олава, бонды из родного племени Хакона, трёндов, подняли против своего ярла восстание. Хакон потерпел поражение и бежал. Вскоре он был убит собственным рабом Тормодом, который отнес голову хозяина Олаву. Конунг выслушал рассказ предателя и приказал отрубить голову и ему. Головы узурпатора и его убийцы выставили на острове Нидархольм, где трёнды казнили преступников. Подчинив себе всю страну, Олав приступил к утверждению христианства, призвав всех норвежцев принять крещение.
Итак, Владимиру удалось посадить – отчасти и собственными трудами – на норвежский престол приемного сына. Тем самым Норвегия попадала, естественным образом, в сферу влияния Руси. Однако обретение земель далеких «урманов» оказывалось бесполезным без установления контроля над Швецией. Это позволило бы заодно избавиться от не слишком тягостной, но все-таки унизительной дани «ради мира», уплачивавшейся по обычаю Новгородом.
Казалось, судьба Владимиру благоприятствовала. В том же 995 году с Севера пришли вести о смерти конунга свеев Эйрика Победоносного. Власть наследовал его сын Олав. Но фактически правительницей государства стала его вдова, Сигрид. Сигрид отличалась довольно тяжелым нравом, и муж не раз ссорился с ней. В последнее время они жили в разлуке. Эйрик женился на дочери норвежского ярла Хакона, тем самым связав себя союзом с врагом Руси. Но теперь Эйрик умер, а шведское королевство осталось в руках Сигрид, матери нового конунга.
Будь Владимир все еще язычником, путь для решения шведской проблемы был бы ясен. Но князь был теперь женатым христианином, и сватовство к Сигрид превращалось в удел его сыновей. Старшие уже достигли брачного возраста. Вышеслав и Изяслав, видимо, уже женились. Семнадцатилетний «хромец» Ярослав или тоже собирался жениться вскоре, или был сочтен неудобным женихом для гордой шведской королевы. Владимир остановился на младшем «Рогнедиче» Всеволоде. Еще более вероятно, что Всеволод, распаленный мечтой об огромном королевстве, вызвался сам. Правда, Сигрид почти годилась (или даже годилась) Всеволоду в матери. Однако браки по расчету, в том числе и с такой разницей, были пусть не обычным, но известным явлением в Скандинавии тех веков. К тому же Сигрид еще отнюдь не была стара и славилась своей красотой.
Всеволод отправился за море. Сигрид согласилась принять его в одной из своих усадеб. Туда же, как раз к приезду Всеволода, прибыл к королеве воспитанник ее отца, норвежский областной конунг Харальд Гренландец. Он возвращался из викингского похода на восток, повидался с Сигрид и решил тоже посвататься с ней. Королева отказала, но Харальд поехал за ней и оказался в усадьбе в тот же день, что и русский князь.
Обоих женихов Сигрид приняла в просторном деревянном чертоге-«холле». Им поднесли немало вина. Напились и сами Харальд со Всеволодом, и их сопровождающие. Стражи на ночь не выставили. Ночью Сигрид приказала своим людям запереть дом и поджечь. Всех пытавшихся выбраться наружу убили. «Так я отучу, – заявила до глубины души оскорбленная королева, – мелких конунгов приезжать из других стран свататься ко мне». Свирепая расправа над «самоуверенными» женихами впечатлила потомков. Позднейшее предание увеличивает число сожженных конунгов до семи. Утверждается, будто дворец (даже два дворца) королева построила специально для них и устроила семидневный пир, причем каждый день один из женихов должен был являть ей свое красноречие. Увы – красноречия не хватило. Сигрид прозвали Суровой и Гордой.
Для Владимира гибель сына была, конечно, страшным потрясением. Отношения с Швецией на время оказались разорваны. Тем не менее воевать с заморскими варягами Владимир не стал, предоставив месть Олаву Трюггвасону. Тот и в самом деле вскоре начал войну со шведами. Русь, трезво оценивая свои силы, никогда всерьез не пыталась сражаться со скандинавскими викингами на Балтике своими силами.
Во Владимир-Волынский, на место погибшего Всеволода, Владимир посадил своего старшего сына от «болгарыни» Бориса. Борису было в ту пору около девяти лет, но ситуация требовала быстрых решений. Борис рос отцовским любимцем. Воспитывался он в глубокой христианской вере, учился читать. Владимир выделял его из остальных сыновей, и еще поэтому решил дать в управление удел пораньше.
Весной 996 года завершилось строительство каменной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 12 мая этого года митрополит Леон в присутствии князя торжественно освятил храм. Анастас Корсунянин приступил к своим обязанностям настоятеля главной столичной церкви. Освящение недаром провели назавтра после известного всему восточно-христианскому миру дня рождения Константинополя. Святой царь Константин постепенно становился для Владимира идеалом, образцом для подражания, а в своем Киеве князь хотел бы видеть достойного соревнователя для византийской столицы.
В церкви Богородицы Владимир видел духовное сердце новой Руси. Здесь он вознамерился устроить и княжескую усыпальницу. По его приказу мощи княгини Ольги извлекли из почитавшейся киевскими христианами могилы. Владимир сам пришел на место погребения Ольги. Его сопровождал торжественный крестный ход во главе с митрополитом и всеми русскими епископами, собравшимися тогда в Киев. Раскопав могилу, обнаружили, что останков Ольги совсем не коснулся тлен. Мощи пребывали «целы и нерушимы». Владимир и епископы прославили Бога. Тело подняли из могилы и положили затем в церкви Богородицы, в каменном саркофаге. Для убеждения в нетленности мощей в крышке саркофага оставили небольшое «оконце». Но «оконце», замечает Иаков Мних, в его времена отворялось лишь приходившим с верою. Для них открывалось, что тело не только по-прежнему лежит нетленным, но и как будто излучает свет. Многие получали у гроба княгини исцеление болезней.
Там же, у Богородицы, упокоил Владимир и мощи, привезенные из Корсуни – честные главы святого Климента Римского и ученика его Фива. По имени одного из главных почитаемых княжеской семьей святых и сам храм нередко называли «церковью Святого Климента». Иногда предполагают, что в церкви Богородицы имелся посвященный Клименту Римскому придел. Там и хранились его мощи.
Войдя впервые под своды освященного храма, Владимир взмолился: «Господи Боже! Призри с небес и увидь! И посети виноград свой. И заверши, что насадила десница Твоя, новых людей сиих, которым обратил сердце и разум познать Тебя, истинного Бога. Призри на церковь сию, кою создал недостойный раб Твой во имя родивший Тебя Матери и Приснодевы Марии. Если кто помолится в церкви сей, то да услышишь молитву его, и отпусти грехи его, молитвы ради Пресвятой Богородицы».
Помолившись, князь провозгласил: «Вот, даю святой Богородице от имения моего и от градов моих десятую часть». В церкви (видимо, на стене) было начертано решение князя об этом, «клятва». «Если кто осудит это, – утвердил Владимир, – да будет проклят». Ведение новым десятинным сбором было назначено настоятелю церкви Анастасу. По этой княжеской «клятве», сохранявшей силу вплоть до монгольского нашествия, старейшая каменная церковь Руси звалась еще и Десятинной. По завершении дел князь справил в честь освящения храма пышный праздник. На пир были приглашены бояре и киевские «старцы». Но князь, по своему обычаю, не забыл и нуждающихся. В тот день «убогим» раздавали особенно много «имения».
Строительство Десятинной церкви достойно увенчало просветительские труды великого князя Владимира. Выстроенный и украшенный под руководством греческих мастеров в центре княжеской столицы каменный храм стал вековым памятником победе христианства в огромной державе Рюриковичей. На Руси появилась общая для всего строящегося государства идея, сверхценность, достойная увековечения. Появилась единая для страны вера. Так что построение Десятинной – не просто веха в культурной истории. Первое подлинно монументальное творение Руси знаменовало собой завершение длившегося около века созидания цивилизации. Если кто-то захочет подыскать точную дату рождения Русской цивилизации, то это должно быть 12 мая 996 года. Столь близкое дню рождения Константинополя, цитадели восточного христианства.
Запись, сделанная Владимиром в Десятинной церкви, не сохранилась. Вместе с храмом она погибла во время нашествия монгольских орд. Но уже вскоре после ее утраты кто-то из духовных лиц попытался «воссоздать» ее – на основе летописей и преданий о святом князе. Так родился «Церковный Устав Владимира» – один из важнейших памятников русского церковного права. Устав дополнил дарение десятины еще и определением границ княжеского и церковного судов. В основе своей он восходил к достоверным церковным легендам о преобразованиях крестителя Руси. Но в то же время большинство уже самых древних редакций Устава – о чем мы уже говорили – содержат явные ошибки, в первую очередь, упоминание патриарха Фотия как современника Владимира. Десятина же оценивается не просто как десятая часть княжеского и градского имущества, а в более развитых средневековых понятиях, как десятая доля любых налогов и сборов. Но может, само содержание Устава подобной «ошибкой» не является?
Одна из древнейших редакций Устава – Варсонофьевская – не содержит хронологических смещений и не противоречит летописям. Она не выходит за рамки летописи в описании десятинного дарения – Владимир дает храму «десятину по всей Русской земле во всех градах». После этого, продолжает Устав в данной редакции, князь вместе с «княгиней» (не «царицей»!) Анной и со своими детьми определил новые границы компетенции княжеского суда. Об участии церковных властей не упоминается, и это вполне соответствует ситуации X века. Князь в глазах своих подданных был единственным источником судебной власти – не считая общинного веча. Соответственно, и выделить что-то из своего суда, создать новый церковный суд он должен был своей волею.
Устав запрещает князю, боярам и их судьям вмешиваться в судебные дела, связанные с кощунствами и преступлениями против нравственности. В ведение епископам передается и разбор торговых тяжб и расчетов в городах («мерила, спуды и взвешивания»). Только митрополит и епископы вправе разбирать дела «церковных людей» – священнослужителей, церковнослужителей, монахов, паломников. Но если задеты при этом интересы обычного человека, то дело передается «общему суду». Устав ссылается в качестве образца на законы древних византийских императоров и решения Вселенских соборов. Очевидно, подразумевается, что именно Анна познакомила с этими нормами мужа.
В принципе, ничто не мешает предположить, что Варсонофьевская редакция Устава – древнейшая. И что она более или менее точно отражает запись Владимира в Десятинной церкви. В этом случае можно считать ее древнейшим памятником общерусского писаного права и заключить, что именно Владимир был создателем такового. Впрочем, некоторые обстоятельства мешают такому выводу. Церковный устав Ярослава Мудрого, принятый совместно с митрополитом Иларионом в середине XI века, ссылается на «даяние» Владимира, но скорее как на устное «предание», нуждающееся теперь в письменном закреплении и разъяснении. Именно Устав Ярослава не только подробно расписывает компетенцию церковного суда, но и содержит конкретное руководство по вынесению приговоров, является первым церковным судебником. Так что возможно, что лишь дарение десятины отразилось в записи на стене – тогда как независимость церковного суда была утверждена по обычаю, устно. Записали «архетип» Устава, по мнению многих специалистов, относящих его (как и мы) к домонгольской поре, только в XII веке.
Но даже если Варсонофьевская редакция Устава Владимира «подлинна», все равно само существование Устава Ярослава доказывает – решения его отца были лишь первым шагом в становлении новой правовой системы. Для ее утверждения на деле потребовалось несколько десятилетий. Владимир лишь провозгласил разграничение судебной власти светской и церковной. Но завершить эту важнейшую реформу, создать единую систему и светского, и церковного права удалось лишь Ярославу спустя более чем полвека.
Вскоре после освящения Десятинной церкви к Стугне выдвинулась большая печенежская орда. Враги подступили к Василеву. Князь, не соизмерив сил, сам «в малой дружине» вышел против печенегов. 6 августа 996 года произошло сражение, и русские не смогли устоять. Владимир бежал и спрятался от гонящих по следам кочевников под мостом. Ему, как замечает летопись, едва удалось укрыться. Спасение князь воспринял как чудо Господне. Был день Преображения, и он обещал поставить в Василеве церковь Преображения. Князь уцелел и смог войти в Василев. Город печенеги по каким-то причинам штурмовать не стали и ушли к себе в Степь. Возможно, разочарованные успешным бегством врагов.
После ухода кочевников Владимир исполнил свой обет. В следующем году он вновь прибыл в Василев, где по его приказу уже выстроили церковь Преображения Господня. Церковь освятили в престольный праздник, и Владимир в честь своего чудесного избавления устроил долгое веселое празднество. В Василев собрались все бояре, старейшины и посадники со всех русских городов. Для них и василевских горожан наварили 300 берковцев (то есть 45 000 литров) меда. «Убогим» раздали триста гривен. Празднование продолжалось восемь дней. На Успение Богородицы Владимир вернулся в Киев и здесь продолжил праздник, «созвав бесчисленное множество народа».
Русь Владимира находилась на вершине своего расцвета. Отдельные тревоги и неудачи не могли этого отменить. Кстати, не имевшая последствий Василевская битва – единственное известное нам поражение Владимира за всю его жизнь. Владимир объединил под своей властью все восточнославянские племена. Ему платили дань эсты, вадьялы, вепсы, меря, ятвяги. Его приемный сын сидел на норвежском королевском престоле. Большинство окрестных государей боялись войны с ним и искали его дружбы щедрыми дарами. В союзе с Русью находились Византия, Волжская Болгария, Алания. Западная Империя добивалась такого союза – сама и через папский Рим. По всей огромной стране строились и росли новые грады – уже не просто княжеские крепости, а торгово-ремесленные центры. Но и оплоты Церкви, утверждавшей на Руси новую веру. Распространялась грамотность, намечался тот культурный подъем, который проявится всей мощью в новом XI веке. Владимир успешно преодолевал трудности – и внутренние, и внешние.
Князь был главой огромного семейства. После гибели Всеволода у него оставалось еще восемь старших сыновей от языческих жен – Вышеслав Новгородский, Изяслав Полоцкий, Ярослав Ростовский, Святополк Туровский, Святослав Древлянский, Борис Владимирский, а также пока не наделенные княжениями Мстислав и Глеб. Помимо того, Анна принесла Владимиру трех сыновей – Станислава, Позвизда и Судислава. Годы их рождения определить невозможно, но скорее это первые годы брака великокняжеской четы. Неизвестно точно число дочерей Владимира. Всего их было не менее десяти, в том числе одна от второго христианского брака. Двух дочерей, в том числе Предславу, родила Рогнеда, Премиславу – скорее всего, Мальфрид. Возможно, от Анны у Владимира была дочь с «царским» византийским именем Феофано. Имена других неведомы.
Русь стала могущественной. Но и на пике могущества государству приходится решать тяжелые задачи. Не всегда удачно. На юге продолжались печенежские набеги и, как мы видели, не всегда удавалось с успехом противостоять им. Теперь же, в дополнение к этой беде, новая беда пришла с севера. Не неожиданно – но скорее не предвиденной, не просчитанной вовремя. Утверждение Олава в Норвегии вкупе с провалом в Швеции добавило Владимиру врагов.
Сын свергнутого ярла Хакона, Эйрик, после гибели отца бежал в Данию. Там он женился на дочери датского конунга Свейна Вилобородого. Из Дании Эйрик отправился в Швецию, где часто бывал и потом у своего зятя по сестре Олава и его матери Сигрид. Эйрик не просто искал приюта – исполненный жажды мести изгнанник сколотил датско-шведский союз, направленный против Олава и Владимира. Он и сам обзавелся немалым викингским флотом – пиратом Эйрик оказался весьма удачливым. Сражаясь с другими викингами (не исключая и датчан), грабя побережья Балтики до Финского залива, он с каждым набегом приближался к рубежам Руси.
Весной 997 года, после зимовки в Швеции, где теперь имелось немало врагов Владимира, флот Эйрика внезапно прошел по Неве до Ладожского озера. Берега подверглись разорению. А затем викингский флот подошел к Ладоге. Жители града отчаянно оборонялись – но не смогли противостоять ярости и мощи Эйрика. После долгой осады и ожесточенной битвы он вошел в Ладогу и сжег ее. Во граде, который служил викингской базой и торговой пристанью, в руки пиратам Эйрика досталась богатая добыча. Из Ладоги Эйрик двинулся в глубь Руси по Волхову. Повсюду он жег небольшие грады, прикрывавшие Новгород с севера, разорял селения. Жители, не решаясь сопротивляться, бежали в леса. Новгород, однако, норвежец штурмовать не решился. Видимо, князь Вышеслав собрал там все наличные силы и собирался дать бой. Во всяком случае, поздним летом Эйрик повернул обратно на север, а уже в осенние месяцы бился за добычу с другими датскими викингами в Финском заливе.
Причины падения Ладоги очевидны. Владимир долгое время невольно ослаблял Север, призывая всех «лучших мужей» на юг, к печенежской войне. У Вышеслава оставалось довольно мало сил, чтобы противостоять викингским набегам. Именно поэтому, впрочем, князь и стремился обезопасить себя со стороны Скандинавии. Но, как мы видели, попытки эти оказались не слишком удачны. Ладогу, конечно, быстро отстроили. Она нужна была и викингам, и новгородцам. Но у новгородской и ладожской знати теперь появились все основания быть недовольной Владимиром и Киевом. Тем более, что именно из-за неудачного сватовства Рюриковичей возникла кровная вражда с шведами, пресекшая выплаты «ради мира». Теперь из Швеции приплыл Эйрик. Князь, казалось, открыто пренебрегал интересами тех, кто некогда привел его к власти. Новгород перестал быть оплотом Владимира на севере. Так что грабеж Эйрика имел далеко идущие последствия – такие, на которые он не мог рассчитывать и в самых своих мечтаниях.
Эйрик не ограничился этим разорительным набегом. Основными его целями были если не земли самого Владимира, то его данников. Он часто нападал на Эстланд. Во время одного из набегов были дотла разорены острова Сааремаа и Хийумаа – «Сюслы», как называли их скандинавы. Память обо всех грабительских подвигах будущего ярла Норвегии сохранили придворные скальды.
Между тем Олав Трюггвасон насаждал христианство в Норвегии. Именно насаждал. В отличие от своего приемного отца Олав встретил серьезное сопротивление подданных – и ему пришлось самому прибегать к силе, все более ожесточаясь. Впрочем, долготерпением вчерашний викинг совершенно не отличался. Если где христианство действительно вводилось «огнем и мечом», то именно в Норвегии. Саги пестрят сообщениями о выступлениях противников новой веры и о чинимом лично конунгом жестоком суде над врагами. Все это не прибавляло Олаву любви даже среди христиан. Правление крутого на расправу короля-викинга быстро утомило норвежских бондов, вновь обратившихся мыслями к дому Халейгов. Ситуацией не замедлили воспользоваться соседи – и язычники-шведы, и христиане-датчане. Они решили оказать поддержку врагам Олава, с тем чтобы вновь заполучить влияние на норвежские дела.
В 1000 году в морской битве при Сёльде Олаву пришлось сражаться с объединенным флотом Олава Шведского, Свейна Датского и Эйрика Хаконарсона. Сражение было проиграно. Конунг сражался мужественно, но погиб в бою. Половина Норвегии досталась Эйрику, другая – его брату Свейну. Они, по примеру отца, не стали принимать титула конунга, а продолжали именоваться ярлами. Эйрик признал своим конунгом тестя, Свейна Вилобородого. Свейн стал ленником Олава Шведского. Оба ярла крестились, но к крещению подданных и прекращению языческих обрядов усилий не прилагали.
Наиболее преданные сторонники Олава не хотели верить в его гибель. Сразу после смерти конунга стали ходить слухи о его спасении, позднее отлившиеся в долго сохранявшуюся легенду. По одной версии, разгромленный и спасшийся Олав отправился в паломничество в Рим, по другой – в Иерусалим, по третьей – побывал в обоих городах. Оин из вариантов легенды упоминает при этом, что Олав перед отъездом в Иерусалим одну зиму прожил на Руси, в Ладоге. Владимир, конечно, с радостью встретил бы спасение воспитанника и дал бы ему приют даже и не на одну зиму. Но увы – Олав на самом деле погиб при Сёльде.
Набегом Эйрика и свержением Олава Швеция преподала Руси жестокий урок. Владимиру и Вышеславу пришлось возобновить выплату теперь действительно унизительной дани «ради мира», пусть и в прежнем объеме. Этим покупался если не надежный союзник, то хотя бы проверенный партнер, противовес усиливавшейся Дании. О крови Всеволода пришлось забыть – если не простить ее. Вызревший было замысел утвердиться в Скандинавии, само собой, рушился. Но не навсегда. Позднее Ярослав Мудрый учтет просчеты отцовской политики и обеспечит превращение всей Северной Европы в русскую сферу влияния. Так что Владимир, явно не считавший это направление внешних связей главным для себя, указал дорогу своему будущему преемнику.
Спокойная пора
О последних пятнадцати годах жизни и правления Владимира Святославича известно довольно мало. И в основном из источников иностранных. Не потому, что летописцы намеренно что-то умалчивали. Строго говоря, ничего достойного замалчивания мы и в иностранных источниках не наблюдаем. Просто автор древнейшего сказания, редко датировавший события, описал мирное правление Владимира-христианина в общих чертах, а затем перешел к описанию драматических коллизий его предсмертного года. Начальный летописец отнес всю «Похвалу» Владимиру к 996 году. Чтобы заполнить оставшиеся «пустыми» первые годы XI века, он использовал поминальные записи о кончинах членов княжеской семьи за 1000–1011 годы, сохранявшиеся в Десятинной церкви. Других источников он не нашел. Автор «Повести временных лет» добавил еще предание о «белгородском киселе» под 997 годом.
Сказания Руси не сохранили память о бедных на военные события десятилетиях. Владимир мирно и кропотливо трудился над просвещением страны, заботился о благе подданных – но об этом достаточно было сказано в «Похвале». Войны, конечно, случались, – но не приносили ни блистательных, ни разрушительных результатов. То, что во все дни Владимира «была рать от печенегов», летописец и так уже отметил. Не нами подмечено – о временах относительно спокойных рассказывать как будто и нечего.
На самом рубеже X–XI веков Владимиру пришлось еще раз перераспределить уделы между сыновьями. Связано это было с кончиной старшего из них, Вышеслава. Владимир лишился уже третьего сына (считая умершего в детстве Мстислава Рогнедича), и это была, к несчастью, не последняя смерть сына на его веку.
В.Н. Татищев относит смерть Вышеслава и перераспределение уделов к 1010 году. Но ссылки на источник он не приводит, а в летописях такой даты нет. Вероятно, перед нами догадка историка XVIII века, дата округленно-приблизительная. И ошибочная. Кончины членов княжеской семьи в 1000–1011 годах в летописи указаны. Вышеслава среди них нет. Следовательно, можно заключить, что умер он около 1000 года или даже чуть ранее.
Вышеслав умер бездетным. Но будь даже иначе, Новгород являлся уделом для старшего княжеского сына, а не для внуков. Изяслав сидел в Полоцке, который рассматривал как наследство своего деда Рогволода. По букве старого княжеского решения, старший Рогнедич и оставался только князем Полоцким, лишенным прав на киевский стол, но сохранявшим свою отчину для себя и потомков. Оставался Ярослав в Ростове. Он был совсем ненамного моложе княжившего в Турове Святополка. Но доверять «двуотчичу» Новгород Владимир не захотел.
Итак, ростовский князь Ярослав был переведен в Новгород. На освободившееся же место в Ростове Владимир посадил Бориса. К этому времени старший сын «болгарыни» уже входил в юношеский возраст. Грамотный, с упоением читавший христианские книги и истово верующий, он отчетливо выделялся отцом из числа братьев. Во Владимире юный князь пользовался всеобщей любовью за кротость, доброту к «убогим» и милосердие ко всем подданным. Святополк, уже раздраженный самим существованием Владимиро-Волынского удела, заподозрил, что Владимир может назначить Бориса наследником. Для сына Ярополка это явилось болезненным ударом. Он явно сам рассчитывал на киевский стол, особенно теперь, по смерти Вышеслава. Подозрения Святополка отчасти были небезосновательны. Владимир действительно видел в Борисе преемника. Другое дело, что с наклонностями самого княжича это имело мало общего.
Как бы то ни было, Владимир решил перевести Бориса подальше от Святополка, чувства которого стали вполне очевидны. Посадил ли он кого-то во Владимире, неясно. Скорее всего, для успокоения «двуотчича» город оставили без нового князя, под управлением епископа. Однако Владимир не желал расставаться с любимым сыном, отправляя его в далекий языческий Ростов. Борис редко бывал в своем уделе. Большую часть времени он проводил при отце, вместе со своим как раз достигшим двенадцатилетнего рубежа братом Глебом.
Перевод Ярослава и Бориса дал Владимиру повод наделить уделами и двух последних сыновей от старых браков. Младший сын Мальфрид, Мстислав, отправился в Тмутаракань. В этом дружинном граде на таманском берегу Керченского пролива едва ли имелся доселе собственный князь. Тмутаракань являлась такой же столицей разноплеменной дружинной вольницы, как Ладога на севере. Посылая Мстислава, Владимир закреплял подчинение покоренного Святославом Самкерца власти Рюриковичей. Мстислав, вероятно, был ровесником Бориса или даже несколько старше. Он излишне долго ждал удела, а теперь отец предоставлял ему почти независимость и широкий простор действий. На этом просторе и сложился характер молодого князя, которого одни называли Мстиславом Храбрым, а другие – Мстиславом Лютым, дружинного вождя, зримого подобия своего воспеваемого деда.
Выделил удел Владимир и Глебу. Земли финского племени мурома на средней Оке издавна были связаны с Русью. Неясно, платила ли когда-нибудь мурома дань Руси. По одному из преданий, вроде бы платила Рюрику. Однако в земли муромы с начала и особенно с середины X века проникали и русские варяги, и славяне. Они селились вместе с местными жителями, вступали в племенные дружины, вливались в ряды знати. К началу XI века удельный вес этого слоя стал настолько мощен, что Владимир попытался установить и над Муромом прямой контроль Руси. Поводом, видимо, стало или пресечение местного племенного княжения, или «призвание» Рюриковичей от какой-то части местных аристократов.
Но Глеб, придя под стены Мурома с киевской дружиной и священниками, встретил настоящее сопротивление. Муромцы готовы были принять князя из Киева, но не желали принимать крещение. Узнав, что Глеб явился с намерением крестить горожан, они собрали во град племенную рать и приготовились к обороне. Не желая сражаться, дружина Глеба со своим только достигшим походного возраста князем некоторое время простояла под Муромом. Ничего же не добившись от жителей, киевляне – может быть, с местными сторонниками, – отступили от Мурома в одно из окрестных укреплений. Здесь и устроили княжескую резиденцию. Со временем между Муромом и Глебом установились мирные отношения. Его признали, ему платили дань, но в стольный град киевского княжича с его священниками так и не пустили. Глеб не прибегал к силе. Он жил в своей новой обители два года, а позднее уехал в Киев к отцу, с которым и проводил впредь большую часть времени. Итогом его похода на север стали размещение под Муромом русской дружины и формальное, данническое подчинение муромы Киеву.
Гораздо больше, чем Муром, тревожил Владимира Новгород. Охлаждение новгородской знати стало, конечно, для него очевидным. Но Владимир не мог коренным образом исправить ситуацию. Он, естественно, жил по законам своего времени. Киев был стольным градом Руси – а значит, предметом главной и основной княжеской заботы. Остальные земли рассматривались как источник сил для столицы. Все реформы управления в Древней Руси преследовали целью обеспечить бесперебойное поступление в Киев дани. Все военные преобразования – защитить Киев от врага. И чем более укреплялось единое государство, тем отчетливее становилось это ощущение для других даже исконно русских, дружинных градов. По мере того как интересы Руси сосредотачивались в ее единственной теперь столице, числившийся родиной династии, Новгород все более чувствовал себя обделенным. Набег Эйрика Хаконарсона обострил эти чувства. Киев забрал у Новгорода необходимые силы, а затем поссорил словен со Швецией. Так это виделось местным боярам.
Примешивались и иные обиды, ранее не столь заметные. Стараниями Владимира на первых ролях в Новгороде оказались безродные выходцы с Юга – Добрыня с сыном Коснятином, Блуд. Добрыня уже умер, а Коснятин, похоже, неплохо прижился в среде новгородского боярства. Однако Блуд так и остался чужаком «блудного» происхождения и с не менее позорной репутацией. А между тем именно Блуд теперь, при Ярославе, становился первым лицом в Новгороде после князя – княжеский кормилец и новгородский воевода. Старая знать, потомки древних князей, словенских панов и легендарных соратников Рюрика, не могла не чувствовать себя ущемленной.
Владимир пытался как-то смягчить обстановку, наладить связи с новгородской знатью. Родовитый боярин с «княжеским» именем Остромир, много позже ставший новгородским посадником, женился на Феофано. В этой женщине с греческим дохристианским именем исследователи видят дочь Владимира и царевны Анны. О том, что Остромир состоял с Рюриковичами в свойстве, имеется прямое известие. Отметим, что этот брак был у Остромира вторым. У него подрастал сын Вышата, в 1016 году сам ставший отцом. Остромир, судя по многим косвенным признакам, являлся признанным вожаком старой новгородской знати, его семейство считалось первым в Новгороде. Владимир имел право рассчитывать на преданность новых свойственников. И добился такой преданности – для своего сына, молодого князя Ярослава. Позднее великому князю пришлось убедиться в том, что это не одно и то же.
Желая и укрепить связи с новгородской знатью и епископом Иоакимом, и показать намерение действительно править Новгородом, Ярослав переехал с Городища. Новую княжескую резиденцию, Ярославов двор, устроили близ новгородского Торга. В ту пору новому новгородскому князю было уже за двадцать. Он или был уже женат, или женился вскоре на женщине с крестильным именем Анна – возможно, близкой княжеской семье. От этого первого брака у Ярослава родился сын Илья. В одной из летописей дается следующая краткая характеристика Ярослава: «Был же хромоног, но умом совершен, и храбр на рати, и христианин – книги сам читал». Итак, Ярослав, как и Борис, обучился грамоте. И, как и Борис, он был действительно верующим христианином. Но отношения с отцом у них складывались по-разному. Владимиру Ярослав был предан не слишком. Во всяком случае, он оставался больше сыном Рогнеды, чем Владимира. И поэтому многого не мог отцу простить. Несмотря на вокняжение в Новгороде, наследником себя Ярослав не считал. Похоже, как и Святополк, он подозревал, что отец предпочитает Бориса.
Рогнеда-Анастасия, мать Изяслава и Ярослава, умерла в 1000 году. Смерть ее отмечена второй в летописных поминальных записях, о которых говорилось выше. До нее, в тот же год, по стечению обстоятельств скончалась и Мальфрид, предполагаема мать Святослава и Мстислава. Год, видимо, был печален для князя, проводившего в последний путь сразу двух былых жен.
Изяслав Полоцкий пережил свою мать всего на один год. В 1001 году умер и он. Старшему из живших тогда сыновей Владимира было всего двадцать четыре года. Наследовал престол Изяслава его сын Брячислав – конечно, еще малолетний. При Брячиславе Полоцк окончательно превратился в отчину «Рогволодовичей». Воспитанный местным боярством в ревности к Киеву и мечтах о независимости, Брячислав рос скорее кривичским племенным князем, чем представителем рода Владимира. Потомками Владимира его потомки себя и не сознавали, именуясь исключительно «Рогволодовым родом». При этом, однако, парадоксально и объяснимо жила и обида за утраченный киевский стол. Со смертью Изяслава полоцкие князья лишались всяких прав на него.
Отличался Полоцк от Киева и верою. Город крестили – но даже при княжеском дворе вольготно себя чувствовали языческие волхвы. За время малолетства Брячислава они, должно быть, окрепли – и привили князю представления о своей необходимости. Епископа в городе пока не было, и воспротивиться волхвам с использованием действительной власти никто не мог. Владимир ничего не предпринимал в отношении полоцкого удела. Может быть, переживал старую вину и боялся сотворить худшее. А может, считал, что уже предоставил Полоцк старшей ветви «Рогнедичей», так что дальше – их право выбора и их ответственность. Во всяком случае, открыто против Киева полочане не выступали, и Брячислав беспрекословно признавал верховную власть деда.
Согласно «Повести временных лет», у Изяслава имелся еще один сын – Всеслав. Этот внук Владимира умер в детстве, в 1003 году, и именно смерть его отмечена в летописи. Имя Всеслав действительно весьма распространено в полоцком княжеском роду. Это и ввело в заблуждение автора «Повести». Во всех до единого списках Начального летописного свода Всеслав назван сыном «Мстиславовым» – то есть Мстислава Тмутараканского. Если тот родился до 987 года, то в 1003 у него уже мог быть малолетний сын.
Последней в ряду кончин, постигших Русь в первом десятилетии нового века, явилась смерть митрополита Леона. Она в ранних летописях не отмечена, но, судя по всему, случилась около 1005–1007 года. Летописцы, как уже говорилось, пользовались княжеским синодиком, а имена первых святителей Руси в их трудах вообще не содержатся.
Преемником Леона, верного соратника Владимира в утверждении христианства и наряду с Анастасом Корсунянином, одного из главных его наставников в вере, стал грек Иоанн. Его более достоверные источники именуют архиепископом, а не митрополитом. Разгадка этого внезапного снижения статуса Русской церкви, как видно, в том, что резиденцией Иоанна являлся уже Киев, а не Переяславль. Скорее всего, Леон загодя готовил Иоанна в свои преемники и поставил его епископом в Киев. Возможно, что Иоанн являлся одним из тех «епископов корсунских», которым Владимир вверил Десятинную церковь. Кафедральным собором Киева стала деревянная церковь Святой Софии, возведенная еще в 952 году. Здесь не было особого противопоставления «княжеской» Десятинной под управлением Анастаса – но важное для Владимира подчеркивание самостоятельности духовной власти. Со смертью Леона Иоанн стал главой Русской церкви в архиепископском сане, с резиденцией уже в Киеве, но формального утверждения на митрополию от Константинополя не получил.
Почему? Ведь митрополичий сан предстоятеля Русской церкви был согласован еще при крещении Владимира. Но в Византии к этому времени уже дважды, и не без кризиса, сменялся патриарх, и решения Николая Хрисоверга могли показаться несправедливыми новому главе Греческой церкви, Сергию II. К тому же, похоже, в среде ромейской знати, светской и духовной, вновь нарастало разочарование Русью. После первой очевидной выгоды новых политических выигрышей от союза с Владимиром Империя не обрела. Само прекращение набегов русов уже не казалось чем-то особенным. Прежде всего, незаметно было особой помощи в ходе все длящейся Болгарской войны. Неизбежно же нараставшие по мере распространения славянской грамотности культурные, а то и церковные связи Руси с Болгарией вызывали тревогу и подозрения в Константинополе.
Общий дух византийской политики на Руси в ближайшие десятилетия можно определить однозначно – недоверие к русским князьям и даже к самому русскому христианству. Какие-то основания для такого недоверия у «Царьграда», конечно, были. И дело не только в никогда не прекращавшихся связях Киева с латинским Западом. Речь именно о религиозных делах. Русь крестилась быстро, но обращалась медленно, и любой ромей, попадавший в новую, как ожидал он, христианскую страну, с удивлением и презрением повсеместно наблюдал языческие обычаи. Киевские христиане, долго (не без вины, заметим, Византии) остававшиеся без должного духовного руководства, естественно, многое забыли. Собственные обычаи и представления, возникшие в этой среде и воспринятые при Владимире новокрещеными соплеменниками, сохранялись долго, ошибочно воспринимались как часть Священного Предания. Между тем здесь неизбежно присутствовали заимствования и из языческих традиций, и из богомильской ереси. Последняя исподволь просачивалась на Русь через болгарских проповедников, а русское низшее духовенство еще не имело достаточной образованности и навыка для борьбы с еретиками.
При всем том снижение статуса Русской церкви не имело никаких ни правовых, ни моральных оснований. Если только зарождавшаяся духовная жизнь Руси находилась под угрозой – тем большее попечение должна была оказать материнская Церковь. Так, похоже, рассуждал и Владимир. Если действительно он не смирился с недоверием ромеев и последующее охлаждение вызвано было именно церковными делами – то великий князь был совершенно прав, с любой точки зрения.
Скончавшегося митрополита Леона погребли в Десятинной церкви. Там же, подле мощей святых Климента и Фива, подле гроба почитавшейся уже киевлянами Ольги, Владимир намеревался устроить и княжескую усыпальницу. По его приказу в 1007 году останки не только Рогнеды и Мальфрид, но также Изяслава и Всеслава Мстиславича были перезахоронены в Десятинной. Так свидетельствует Начальный летописец, утверждая, что в этом году «си», то есть «эти», «помянутые выше» умершие, были перенесены к Святой Богородице. Автор «Повести временных лет», однако, вновь разошелся с предшественником. Он решил, что «си» – сокращение от «святые», и написал соответственно. Однако мощи Климента и Фива вместе с другими корсунскими обретениями находились в Десятинной со времени ее освящения.
Кончины близких, однако, не остались единственной заботой Владимира в «пустые» по летописи годы. Он продолжал свои труды по устроению Русской земли. Теперь, после объединения всей страны под прочной властью Рюриковичей, требовалось налаживать отношения с соседями. На Юге и Востоке все складывалось более или менее благополучно. С Волжской Болгарией утвердился прочный, основанный на взаимной выгоде мир. То же и с Аланией, по соседству с которой ныне княжил Мстислав, – причем здесь союз основывался теперь и на единоверии. Как бы ни смотрели на русское «варварство» в Византии, с Империей Русь связывал династический брак. Оставался Запад. После неудач в Скандинавии тем более требовалось наладить надежные, подлинно союзные связи с западными соседями. Чехию, Польшу, да и Венгрию с Русью объединяло многое – древние славянские корни, сходный внутренний строй, недавнее принятие христианства…
Как ни странно это выглядит, ранее всего сложился союз с наименее славянской Венгрией. Основанное покорившими славянские племена угорскими кочевниками мадьярами княжество к началу XI века выросло в довольно мощное государство, имевшее некий вес на международной арене. Жупан Иштван (Стефан), уже христианин по вере, сплотил под своей властью всех мадьяр, сломив сопротивление своих родичей из разветвленной династии Арпадов. Одновременно он завершил обращение мадьяр в христианство – латинского обряда. В 1000 году Иштван установил прямые связи с Римом и получил от папы королевский титул. Так на карте Европы возникло Венгерское королевство.
Мадьяры издавна присматривались к землям хорватского Закарпатья, которые теперь подчинялись Руси, будучи, однако, отделены от нее горным хребтом. Владимир, только недавно покоривший хорватов, новой войны здесь совершенно не желал. Тем более войны с королем-христианином, чьи труды столь напоминали его собственные. Иштван, в свою очередь, сознавал мощь Владимировой Руси и не хотел пока рисковать. Ему хватало забот на северных границах, где лучшего оставляли желать отношения с Польшей и Чехией. Неясно, кто выступил инициатором – но в итоге между Иштваном и Владимиром установились «мир и любовь». Новый союз скрепили браком. Двоюродный брат Иштвана, герцог Ласло Лысый, взял в жены дочь Владимира Премиславу. Этим браком достигались две цели. С одной стороны, дружба между государствами обретала надежный залог. С другой – Владимир прикрывал границу на случай разрыва. Ласло, по-славянски Владислав, правил восточными областями Венгрии, вплотную прилегавшими к границам Руси, с многочисленным еще невенгерским населением.
Заботясь о границах юго-западных, Владимир не забывал и о Скандинавии. Усилившемуся датскому и шведскому влиянию требовалось противостоять, и здесь в интересах Руси оказывалось играть на противоречиях соперников. Решение проблем легло на плечи молодого князя новгородского Ярослава. Но можно не сомневаться, что в важнейших своих шагах он поначалу согласовывался с отцом. Без его дозволения многое просто не могло происходить.
К числу таких важных действий, конечно, относилось и предоставление в Новгороде приюта очередному норвежскому беглецу, совсем еще юному «морскому конунгу» Олаву Харальдсону. Олав Толстый был сыном того самого Харальда Гренландца, который вместе со Всеволодом сватался к Сигрид Гордой и был ею убит. Родившись в год гибели отца от его тогдашней жены, он воспитывался дальним родичем из другой ветви династии Инглингов, областным конунгом Сигурдом Свиньей. Однако жизнь при скромном дворе Сигурда раздражала юного отпрыска королей. Достигнув двенадцати лет, он выпросился в викингский поход. Набранный под знамя юного «морского конунга» отряд признавал его своим вождем – хотя, конечно, до реального командования Олаву пока было далеко.
Не желая подчиняться ни датчанам, ни шведам, в которых видели кровных врагов, Олав и его соратники отправились искать приюта и подкрепления на восток, в «Хольмгард». Здесь, при дворе Ярослава, Олав нашел пристанище. Произошло это около 1007 года. Отстроившаяся Ладога предоставляла надежный оплот и место для привлечения соратников. Первые успехи Олава Толстого привлекали к нему людей, которые видели в юном вожде своеобразный талисман, ходячую «удачу». А успехи были.
Последовательность набегов Олава несколько разнится в латинской «Истории Норвегии» (каковая только и упоминает о его зимовках в Новгороде), песнях скальдов и записях саг. Но ясно, что главными врагами Олава являлись шведы, убившие его отца, и датчане, разделившие со шведами Норвегию. Доставалось, впрочем, и другим. Олав немало разбойничал по берегам Финского залива и в Восточной Прибалтике. Особенно прославил его набег на Эйсюслу – остров Сааремаа. Главная пиратская база эстов, видимо, перестала платить дань Руси после безнаказанного набега Эйрика. Так что Олав, нападая на здешних жителей, действовал не против интересов Владимира и Ярослава. Сначала эсты попытались обмануть Олава, обещав юному викингу откуп. Однако, когда Олав высадился за обещанным, враги напали. Олав, однако, явился готовым к бою, с большой дружиной, и без труда обратил противника в бегства. Затем он огнем и мечом прошел по всему острову, разоряя его.
Прославили Олава и набеги на Готланд и Эланд – богатые острова у берегов Швеции, жившие торговлей и викингскими набегами. Разгромив островитян, он вынудил их платить дань в свою пользу. Какая-то часть этой дани, несомненно, приставала к рукам рачительного Ярослава Владимировича. Так что Новгород трудами своего князя и его юного гостя возвращал себе едва ли не с прибылью те триста гривен, что ежегодно шли за море «ради мира». Олав совершил серию набегов также на земли куров (запад современной Латвии, Курляндия), доселе не плативших дань Руси. В нескольких битвах разгромив местных обитателей, он заполучил богатую добычу.
Владимир не одобрял викингские разбои. Но в нынешней обстановке Олав Толстый, как и его тезка десятилетия назад, оказывался ценным приобретением. Эсты, куры и прочие прибалтийские племена – не говоря уже о викингах из Скандинавии – сами были далеко не безгрешны. Если Олав в интересах Руси умерял их собственное пиратство, то препятствовать этому смысла не имело. Сына Харальда Гренландца сближала и с Владимиром, и с Рогнедичем Ярославом общее желание отмстить шведам за гибель Всеволода. Если месть вершилась – а Олав часто поворачивал корабли к шведским берегам и небезуспешно сходился в бою с королевской ратью, – руками норвежского «морского конунга», то так тому и следовало быть. Русь этой войны сама не вела и не навлекала на себя новых набегов. От них заслоняла и снова богатевшая, наполнявшаяся войсками за счет славы и успехов Олава Ладога.
Беспокойства, причиняемые Олавом, со временем стали осложнять жизнь и датским конунгам. Особенно когда молодой норвежец отправился по следам своего прославленного тезки в Англию, сражаться за англосаксов против датских завоевателей. Любые осложнения датчан, мешавшие им создать в северных морях единую викингскую империю, были Руси на руку. Наконец, мужавший при русском дворе честолюбивый норвежец мог стать претендентом на престол Инглингов. Это возвращало надежды на распространение в Скандинавии русского влияния.
Нейтрализовав врагов на севере, Владимир внезапно получил и возможность умиротворить печенегов. Явилась эта возможность в лице родовитого немецкого миссионера Бруно Кверфуртского. Выходец из семьи графов Кверфуртских, Бруно принадлежал к числу истинных подвижников христианства. Для него даже высокие политические интересы Западной Империи отступали перед нуждами распространения новой веры. Своим долгом Бруно считал обращение тех народов, которые пребывают еще в язычестве. Идеалом его был пражский епископ Войтех, крестивший Польшу и Венгрию, проповедовавший пруссам и убитый ими в 997 году. Бруно надеялся преуспеть больше или стяжать мученический венец. Скорее даже последнее – частое среди латинских миссионеров, хотя и кажущееся теперь необычным, стремление. Один из первых проблесков той запредельной религиозной экзальтации, мечты об одномоментном рывке к лику Господнему, которой пронизана история средневекового латинского Запада – в отличие от ровно и размеренно, каждодневно живущего во имя Господне православного Востока.
Такая-то мечта влекла Бруно на языческий восток Европы. Бывший капеллан императора Оттона III, при его преемнике Генрихе II Бруно пришелся не ко двору. Выступая против постоянной вражды императора с поляками, Бруно покинул двор. Поддержанный польским князем Болеславом, с которым сблизился, энергичный немец проповедовал христианство в новокрещеной Венгрии и в исстари враждебной гнезненским князьям Пруссии.
Осенью 1007 года Бруно, разочаровавшись в попытках добиться искреннего обращения восточных «черных мадьяр», решил заняться обращением печенегов. Первым делом он прибыл ко двору Владимира – быть может, с рекомендациями от его зятя, Ласло Лысого. По весне Бруно собирался отправиться к печенегам. Владимир, однако, не верил в возможность обращения кочевников – и был, заметим, в целом прав. Целый месяц он едва не насильно удерживал гостя от отъезда. «Не ходи, – убеждал он Бруно, – к столь безумному народу, где не обретешь новых душ, но одну только смерть, да и то постыднейшую».{ Весь эпизод описан в письме Бруно к императору Генриху от 1008 года. «Русский фрагмент» не раз переводился. Опираемся на перевод А.В. Назаренко в книге: Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 314–315.} Бруно, на взгляд князя, был еще молод – ему едва исполнилось тридцать. Однако он продолжал настаивать. Наконец Владимиру явилось некое видение, связанное с немецким проповедником, он устрашился и решил его отпустить. Князь, конечно, был тронут миссионерским усердием латинского монаха и искренне за него беспокоился. Видение же убедило Владимира, что Бруно ведом Богом – хотя он и страшился, что к мученичеству.
Двухдневный путь от Киева до Змиевых валов, защищавших Русь от печенегов, Бруно проделал в сопровождении князя и его дружины. Поднявшись на вал, князь перед вратами в частоколе «спрыгнул», по словам Бруно, с коня, и в сопровождении бояр пешком вышел следом за немцем. Бруно, держа в руках большой крест, поднялся со своими спутниками на соседний холм или вал и на прощание, призывая одновременно помощь основателя римского престола, воспел стих из Евангелия: «Петр, любишь ли Меня? Паси агнцев моих!» Князь оставался на валу у ворот. Когда отзвучали слова песнопения, один из бояр поднялся к Бруно со словами Владимира: «Я проводил тебя, здесь кончается моя земля и начинается вражеская. Именем Господа прошу тебя, не губи к моему позору своей молодой жизни, ибо знаю, что завтра до третьего часа суждено тебе без пользы, без вины вкусить горечь смерти». «Пусть Господь откроет тебе двери рая так же, как ты открыл нам дорогу к язычникам!» – пожелал Бруно князю в ответ. И продолжил путь.
Бруно направлялся к главным становищам печенегов на Правобережье, надеясь там обратиться к вождям народа. Встреча с кочевыми разъездами в планы его не входила, но на третий день пути они все же трижды натыкались на печенегов. Всякий раз в немцах видели врагов и собирались убить, но Бруно и его спутники «по чудесному знамению» все три раза избегали смерти и освобождались. Было это в пятницу, в воскресенье же Бруно добрался до основной орды. Его появление никого не обрадовало. Старшины оставили немцев на волю народного собрания. Убить их, пришедших с проповедью чужой веры из враждебной страны, казалось вернейшим решением.
Это мнение разделяла и масса народа. Когда минула неделя и кочевники собрались в главный стан, проповедников плетями погнали на их сходку. Здесь их призыв к обращению потонул в общем вопле. Над головами Бруно и его соратников взлетели «тысячи» мечей и топоров. Очевидно, Бруно не сдерживался в выражениях по поводу языческих богов и обычаев, и это еще более взбесило печенегов. Немцев не убили – однако избивали, таская по стану, до темноты. Наконец с наступлением ночи знать отняла их у разбушевавшегося народа. То немногое, что Бруно все-таки удалось донести до слушателей, убедило печенежских ханов в одном – немец не лазутчик Владимира, а просто мирный проповедник, от которого особого зла ждать не приходится. Вместе с тем он мог быть и предметом некоего торга с Русью. Так что миссионеров не только оставили в живых, но и поселили в орде. Им позволили вести разговоры о вере. Правда, без особого успеха. За пять месяцев (примерно с апреля по август 1008 года) Бруно удалось обратить лишь три десятка печенегов. Зато он обошел три из четырех печенежских орд, живших на Правобережье, и имел беседу с послами от вождей четвертой, куда его не пустили.
Главным итогом деятельности Бруно стал мир правобережных печенегов с Владимиром. Инициатива исходила от самого миссионера, но печенеги, нуждавшиеся в передышке, с радостью за мысль ухватились. «Никто, кроме тебя, не сможет это устроить, – заявили они Бруно. – Если сей мир будет прочен, то все мы, как ты учишь, охотно станем христианами. Если же государь Руси изменит уговору, нам придется думать только о войне, а не о христианстве». Бруно с радостью согласился взять на себя мирную миссию. Прибыв к Владимиру, он доложил обо всем. Радость самого князя можно себе представить. «Ради Божьего» Владимир согласился даже отдать печенегам в заложники одного из сыновей. Видимо, это был сын Анны Позвизд, который, по древним и достоверным спискам Владимировых сыновей, так и остался без удела на Руси.
Епископом печенежским стал один из спутников Бруно. Сын Владимира должен был находиться в главной орде левобережных печенегов вместе с ним. Таким образом, миссионерский пыл Бруно принес Владимиру внезапное решение, пусть неполное, важнейшей политической задачи. Но политика для Владимира отступала здесь перед иной стороной достигнутого успеха. Начавшееся обращение печенегов в христианство не могло не радовать киевского князя. Крещение и умиротворение хотя бы правобережных печенегов, – которые и угрожали Киеву непосредственно, – явилось достойным продолжением трудов по просвещению и упрочению Руси.
К несчастью, Бруно не сумел завершить только начатый труд. Тот же пыл гнал его дальше, к новым проповедническим подвигам. Начавшееся обращение «наихудших и жесточайших из всех обитающих на земле язычников» восхитило его, но не удержало на месте. Даже не удостоверившись в выполнении печенежскими ханами обещания креститься, Бруно поспешно отбыл в Польшу – поделиться новой радостью со своим другом Болеславом, а заодно отправить гневно-обличительное письмо воюющему с христианами германскому королю Генриху. Из этого письма мы прежде всего и узнаем о печенежской миссии. Но в Польше Бруно не столько искал отдыха, сколько намечал новый миссионерский маршрут. Той же осенью или в начале зимы он отправился на северо-запад, снова в пределы Руси. Здесь он проповедовал «на границе Руси и Литвы», в плативших дань Владимиру землях ятвягов.
Ятвяги платили дань Руси, но, как и другие западные данники эсты, не желали креститься. Владимир был заинтересован в миссии Бруно, верил теперь в его талант и, видимо, снова оказал ему поддержку. Но на этот раз Бруно сподобился не земного успеха, а давно искомого им мученического венца. По прибытии в страну он стал подвергаться нападкам. Но мужественно продолжал проповедовать. Тогда ятвяги схватили его и 14 февраля 1009 года обезглавили вместе с восемнадцатью спутниками. Тела бросили без погребения. Позднее их выкупил и похоронил по-христиански Болеслав Польский. Неизвестно, мстил ли за Бруно Владимир. Скорее всего, нет, иначе следы этого сохранились бы в источниках. Владимир, конечно, скорбел о гибели одаренного и искреннего проповедника христианства, к которому прикипел душою. Но он знал, какой смерти подлинно алкал Бруно. И – вопреки историческим мифам – не прибегал к силе в делах веры. Ятвягам, закосневшим в жестоковыйности, князь позволил и дальше оставаться язычниками, на суд Господень.
Хотя подлинного обращения печенегов не произошло, мир, заключенный Бруно, сохранялся. Оставались, однако, еще левобережные печенеги. Они вполне могли воспользоваться ситуацией, когда в 1009 году внезапно под стенами стольного города объявились дружины одного из русских племенных князей. Впервые против Владимира поднял мятеж один из сородичей.
Имя этого персонажа «Кальдимар» известно из единственного источника – исландской саги. Славянское звучание, стоящее за ним, воссоздается с трудом – разве что некое «Кладимер», «Кладимир»? Если имя мятежного князя попросту не забылось в чужеземном предании и не было искусственно срифмовано сказителями саги от «Вальдимар» – Владимир. Справедливой, – вероятно, справедливой, – выглядит догадка о том, что княжил Кальдимар в Чернигове, на Левобережье, в непосредственном соседстве с печенежской степью. В таком случае он был последним представителем древнего, родственного Рюриковичам княжеского рода, первые упоминания о котором относятся к началу Х века.
Мотивы выступления Кальдимара в этом случае более или менее ясны. Киевский родич не походил на своих предков. Он окончательно перестал быть «первым среди равных». Прежние «великие и светлые князья» исчезли с политической сцены Руси – все, кроме Кальдимара. Отмирало и «всякое княжье». Сыновья Владимира сидели почти во всех ключевых городах. Верная киевскому князю Церковь выстраивала свою иерархию подчинения, и в нее оказывался включен и Чернигов, как центр крупнейшей юго-восточной епархии. Помимо прочего, Чернигов по мере укрепления южных границ оказывался в плотном кольце княжеских крепостей с сильными постоянными гарнизонами. После назначения Мстислава в Тмутаракань, коей подчинялась и Белая Вежа, кольцо почти замыкалось. Владимир не воевал с «великими и светлыми князьями» своего «рода», поскольку таковых почти и не осталось. Но черниговец не мог не задумываться о своей судьбе.
Итак, выступление против Киева в 1009 году являлось почти что жестом отчаяния. Но из этого не следует, что оно было лишено амбиций. Кальдимар высказал претензии на киевский стол. Ничего нелепого в этом не было, если Владимиру припомнили происхождение и братоубийство. Мы не знаем точно степени свойства черниговского рода с Рюриковичами. Но сравнение русско-византийских договоров Х века наводит на мысль, что в середине X века именно в Чернигове правил Игорь, по матери племянник киевского тезки. Если так, то Кальдимар приходился Владимиру троюродным братом или племянником. Законно происходя из знатного рода, он имел не меньше прав на Киев, чем «робичич». По саге, он не предъявлял претензий ранее только из-за своей молодости. Возможно, в своих притязаниях он прибег к помощи враждебной Руси части печенегов – такое допущение высказывалось в науке, хотя достоверных подтверждений нет.
К чести Кальдимара, он – по крайней мере, так представляет дело сага, – не желал предавать вожделенную «отчину» Киев на поток и разграбление. Застав Владимира врасплох, он подступил к рубежам Киевщины и тут же предложил достойный выход, личный поединок с кем-нибудь из княжеской дружины. Судя по этой сцене, Кальдимар определенно принадлежал к бесшабашным «храбрам» уходящей эпохи. В свое время от такого способа завершения войны отказался даже Святослав. Кальдимар, конечно, описывается сагой как сильный и смелый молодой воитель. Собственно, сага и подтверждает нашу его характеристику, утверждая, что, «обделенный» киевским наследством, он немало промышлял грабительскими походами. Если Кальдимар действительно был малолетним при захвате Владимиром Киева, то в описываемое время ему было немногим за тридцать.
Киевский князь рисковать ни собой, ни своими воинами не хотел. Сначала он предложил Кальдимару поделиться землями, но тот наотрез отказался, желая всего или ничего. Он вновь потребовал или полновесной битвы в чистом поле – или поединка. Дружина, собранная Владимиром на совет, высказалась за битву с дерзким находником. Князей-разбойников с Киева хватило в былые времена, и потакать этой пародии на Святослава никто не собирался. Владимир, однако, не собирался и губить русских воинов с обеих сторон. Сойдясь в поле с войском Кальдимара, он теперь уже сам предложил ему поединок. Разумеется, сам князь, пусть и доселе бодрый телом, биться не желал и решил выставить на бой кого-нибудь из дружинников. Охотник сражаться с прославленным воителем Кальдимаром отыскался не сразу – недаром дружина изначально предпочла поединку сражение. Но наконец вызвался прибывший за год до того в Киев на службу исландский варяг Бьёрн. Он сошелся с Кальдимаром и после ожесточенной схватки, уже тяжело раненный сам, прикончил его. Враги, оставшись без предводителя, предпочли рассеяться согласно условиям договора. Залечив раны и получив от князя щедрые дары, Бьёрн следующей весною вернулся в родные края.
Эпизод оказался столь мимолетен и незначителен, что спустя века помнился лишь в роду исландского героя. Междоусобица, которая вполне могла открыть дорогу на Русь Дикому Полю, пресеклась, не начавшись. Но именно тогда, вероятно, пришел конец самостоятельному от киевских Рюриковичей Черниговскому княжеству. На несколько десятилетий Чернигов вообще лишился своих князей, перейдя в прямое подчинение Киеву. Видимо, как и во Владимире-Волынском, верховным правителем города считался в те годы местный епископ.
В 1011 году Владимира постигла новая утрата. Умерла великая княгиня, «цесарица Владимирова» Анна. Смерть христианской супруги, конечно, стала для князя тяжелым ударом. И его жизнь понемногу стала клониться к закату. Владимир имел достаточно оснований думать, что его долг на земле исполнен и завершен. Он лишь боялся, что не вполне искуплены грехи былого. Но уповал на очищающую силу святого крещения и милосердие Господа. Анну положили в каменном саркофаге в Десятинной церкви, посреди храма, и рядом с ней князь завещал упокоить себя.
Анна оставила Владимиру троих сыновей – Станислава, Позвизда и Судислава. Позвизд обеспечивал мир с левобережными печенегами. Он, вероятно, и умер в Степи. Станиславу Владимир в последние годы жизни выделил в качестве удела Смоленск, а Судиславу – Псков. Тем самым он обеспечивал покорность кривичских земель, упреждая возможное тяготение к ропщущему Полоцку. Оставались ли к тому времени в Смоленске и Пскове собственные «волостные» князья, мы судить не можем. Если и так, то они уступили власть сыновьям великого князя без заметного сопротивления. С назначением князей в Смоленск и Псков с племенными княжениями почти по всей Руси было покончено. Оставались только вятичи и радимичи – их Владимир полностью подчинить не успел, оставив задачу потомкам.
Со смертью Анны рвалась наиболее прочная нить, связывавшая Владимира с Византией. Одна из ромейских хроник прямо утверждает, что после кончины царевны между Русью и Империей наступило охлаждение. Причина его очевидна – понижение статуса Русской церкви, отказ Константинополя утвердить и признать киевского архиепископа Иоанна митрополитом.
Раздражение импульсивного Владимира, теперь не сдерживаемого супругой, вылилось в присвоение себе новых императорских регалий. В последние годы жизни князь предпринимает еще три серебряных монетных выпуска. На этих монетах мы видим его восседающим уже не на примитивном «столе», а на настоящем престоле, троне со спинкой, напоминающем императорский. На некоторых же монетах самого позднего выпуска Владимир носит не прежнюю свою высокую княжескую шапку, а увенчанный таким же крестом уплощенный головной убор византийских императоров. В этой императорской символике нет места уже родовому знаку Рюриковичей – и он переместился на оборотную сторону монет, заменив обычное в Византии изображение Христа Пантократора. Здесь не было кощунства – напротив, христианство изображенного на лицевой стороне князя теперь, без родового знака наравне с крестом, подчеркивалось четче. Но отказ от подражания имперским образцам лишний раз подчеркивал независимость Руси. Владимир бросал вызов за вызовом, напоминая цареградским свойственникам, кто над кем доказал превосходство.
Полного разрыва с Византией, однако, не случилось – ни политического, ни церковного. Владимир продолжал заботиться о развитии отношений с Восточной Империей. Лучшее свидетельство тому – основание русского монастыря, Росика, на Святой горе Афон. В те годы на Руси уже возникало довольно много монастырей, основывавшихся на средства князей и бояр. Как правило, это были кельи при церквах – как, например, при киевском деревянном соборе Святой Софии, возведенном еще при Ольге. Первые русские монахи оставались уединенными отшельниками, собиравшимися лишь для молитвы, и традиции монашеского общежития, прививаемые на Афоне, оставались на Руси неизвестны.
Владимир об этом, должно быть, не задумывался – иначе завел бы иные порядки в первых киевских монастырях. Создание русского монастыря на Афоне казалось ему важным для утверждения полноценности русского христианства, равноправия Руси в христианской Вселенной, вопреки недоверию греков. С другой стороны, первые русские монахи тянулись к первоисточникам веры, желали соприкоснуться с самой землей Византии и остаться там для постижения глубин христианства. Не все хотели при этом возвращаться назад. Нельзя не отметить, что многие первые монахи сталкивались с трудностями в новокрещеных землях европейского Севера, где главным долгом мужчины издревле считалось произведение потомства. Наконец, монастырь на Афоне мог стать надежным приютом для многочисленных уже русских паломников. Год основания Росика неизвестен. В 1016 году он уже существовал. Освящен монастырь был именем Пресвятой Богородицы и получил название монастыря Богородицы Ксилурга (то есть «Древодела»). Первым игуменом монастыря стал некий Герасим.
Разрыва с Византией не происходило. Но при возникшей остуде Владимир естественным образом искал поддержки на латинском Западе. Со времен Ольги это являлось правилом русской политики. И у Владимира пока не имелось оснований этому правилу изменять. Овдовев, он, пусть и в довольно пожилые годы, готов был к новому браку и желал его. Едва ли можно осуждать за это – отказавшись во Христе от былой греховности, Владимир все же не давал монашеских обетов. Более того, безбрачие для его натуры могло бы явиться излишним, действительно опасным искушением. И второй христианский брак был заключен. Не исключено, что как раз на Западе.
В немецких генеалогиях XII века говорится о том, что некая внучка императора Оттона I Великого, дочь графа Куно фон Энингена, стала женой «короля ругов». Издавна в науке принято считать, что имеется в виду не вождь славян с острова Рюген, а именно русский «король». Также принято считать, что королем этим был Владимир. Но мы уже упоминали о другой гипотезе. Высказывается мнение о том, что «король» – не Владимир, а Ярополк, и речь будто бы не о состоявшемся браке, а о невыполненном брачном договоре. Дополнительные проблемы заключаются в том, что Куно почти не известен по другим источникам. Недавно его удалось отождествить с герцогом Конрадом Швабским, но тот, кажется, не был зятем Оттона I. Ясно одно – в источнике все-таки говорится именно о браке с «королем», а ни о каком реальном браке немки с язычником и многоженцем Ярополком вопрос не стоит. Так что, если речь о Руси, то думать надо все же о Владимире. Одни исследователи полагают, что это вызывает хронологические трудности. Другие – что не вызывает. Кто бы ни была новая жена Владимира, союз с ней оказался достаточно счастливым, чтобы принести потомство. От этого последнего брака у князя родилась дочь Добронега, в крещении названная Марией.
Неясно, заключал ли Владимир брачный союз с Германией, но ближайшим западным соседям он в первые же годы по смерти Анны уделял особое внимание. Князь нуждался в надежном мире на Западе, а значит, и в дружеских связях со всеми доступными странами латинского мира. И первой на очереди стояла Польша Болеслава Мешковича.
Болеслав во многом походил на Владимира в молодые годы. Подобно ему, он не был обделен ни заслуженной любовью подданных, ни полководческими талантами, ни даром устроителя своей земли. Подобно русскому князю, он мечтал сделать свое княжение центром всего славянского мира и упорно боролся за воссоединение под своим скипетром западнославянских земель. Борьба была небезуспешна – временами Болеслав распространял свою власть даже на Чехию. В этой схожести, конечно, содержался и явный залог будущей вражды. Тем паче, что Болеслав, в отличие от Владимира, войну любил и не боялся войн между христианами. С христианами – чехами и немцами – он воевал едва ли не чаще, чем с северными язычниками. И нередко войну начинал сам.
К Руси Болеслав пока относился настороженно – помнилась война 981 года – но без явной вражды. Первые связи с ним Владимир завязал в 1008 году через посредство Бруно Кверфуртского. Покровительство, оказанное Владимиром его личному другу, не могло не расположить Болеслава на какое-то время к русскому князю. Владимир решил закрепить наметившееся потепление. В 1011 году послы Владимира прибыли ко двору Болеслава. Болеслав с готовностью согласился заключить твердый мир и союз с Русью. Договор утвердили клятвой и скрепили династическим браком. Болеслав выдал свою дочь замуж за туровского князя Святополка. Тем самым с Польшей оказывался тесно связан западный, приграничный с ней удел Руси. Владимир, по сути, позволил Болеславу сделать то, что сам сделал в отношении Венгрии немногим раньше. И здесь таился явный просчет, сказавшийся уже вскоре.
Пока, однако, Владимир пребывал с Болеславом «в мире и любви». Собственных агрессивных планов в отношении Польши он не питал. А бурную энергию польского союзника, как казалось, надежно обратил на север и на запад. С другой стороны, не желал он и поощрять его войны с христианами. В 1012 году, после восшествия на чешский престол отстаивавшего независимость своей земли от поляков князя Ольдржиха Болеславича, Владимир установил дружеские отношения и с ним. В своей борьбе Ольдржих опирался на союз с немецким королем Генрихом, так что дружба с чешским князем укрепила бы и связи Руси с Германией.
До сих пор, со времени завоевания Белой Хорватии, Русь оставалась с Чешским королевством в состоянии войны. Но претензии на Хорватию чехи, вынужденные из последних сил отстаивать саму Прагу, давно оставили. Ольдржих, конечно, с охотой пошел на заключение с Русью мирного и союзного договора. Будучи связан свойством с Болеславом, Владимир не мог позволить себе вступать в таковое и с Ольдржихом. Лицемерия молодая русская дипломатия избегала. Однако теперь при любом исходе противостояния Польши и Империи Русь оставалась в выигрыше. К тому же – что особенно было важно для ценившего мир Владимира – он мог выступить в качестве посредника между сторонами. Преуспеть и в этом ему было не суждено. Болеслав действительно начал искать мира с чехами – но уже после того, как порвал только налаженные отношения с Русью.
Тревоги последних лет
Уже все сыновья Владимира от языческих браков повзрослели. Самым старшим, Святополку и Ярославу, исполнялось в 1013 году по тридцать пять лет. Их нравы и душевные склонности полностью определились. И не могли не тревожить великого князя.
«Двуотчич» рос врагом Владимира, таковым и вырос. Туровский правитель не мог скрыть от своего приемного отца гордыню и властолюбие, ревность к братьям и жажду киевского стола. Но до поры успешно скрывал снедавшую его изнутри жажду мести. Пусть Владимир воспитал его, пусть дал княжеский стол. Все раскаяние, все искупительные труды великого князя оставались для Святополка пусты. Он жаждал отомстить – за смерть никогда не виденного отца по крови, за обиды бросившей его матери. Он чувствовал нелюбовь Владимира, подозревал его в намерении сделать наследником другого – и это добавляло гнева. Притом Святополк обладал некоторыми задатками неплохого правителя. Он был довольно деятелен и умен, рачителен в управлении княжеством, умел располагать к себе людей и завоевывать их беззаветную преданность. Разделение Руси на уделы он считал злом и полагал, что великий князь должен быть «единовластцем». Такие взгляды, да сознание собственных талантов добавляли горечи в его неприязнь к братьям.
Христианином Святополк, по сути, так и не стал. Он крестился – но не считал, что крещение смывает былые грехи. Он внешне почитал своего небесного покровителя, апостола Петра, уповал на его поддержку – но нравственные призывы Евангелия оставались для него пусты, а языческий закон крови свят. Он страшился адских мук – но убеждал себя, что иного пути, чем исполнять долг мести, не существует. Не помня язычества, не поняв Христа, Святополк остался человеком безверным, и потому самовольным, не сдерживаемым и не ограничиваемым ничем, кроме внутренних убеждений. А они сводились к стремлению занять свой по праву киевский стол и рассчитаться с родом Владимира. На этом пути и ум, и рассудительность не раз совершенно оставляли его.
Совсем иным был Ярослав. Новгородский князь заслужил уважение подданных мужеством, умом и необычной еще для князя образованностью. Правда, Ярослав был слегка скуповат, в отличие от отца, – но это ему обычно прощали. Князь, знающий счет деньгам, не менее полезен, чем щедрый. Ярослав тоже имел достаточно обид на отца. Единственный остававшийся в живых Рогнедич живо помнил то, что для Брячислава Полоцкого, скажем, было лишь смутным преданием. Память об обидах матери сплеталась с беспокойством за киевский стол. Сидя в Новгороде, Ярослав все же не считал себя утвержденным наследником, и основания у него имелись. Отца он любил мало и не доверял ему. Но при всем том до всепожирающей ненависти Святополка Ярославу было далеко. Он не питал настоящей злобы к братьям, да и к отцу тоже. Холодный и рассудительный, Ярослав делал лишь то, что отвечало его интересам и интересам его вотчины в данный момент. От отца он унаследовал вспыльчивый нрав, но срывался гораздо реже – и, как правило, тогда, когда в этом имелся смысл.
Унаследовал он и способность к раскаянию. В отличие от Святополка, веру Ярослав действительно познал – познал почти самостоятельно, через прочитанные книги. Он мог быть изощрен в средствах и суров в расправе – но редко являл подлинное коварство и ненужную жестокость. Он способен был понимать и прощать, способен к смирению и к признанию превосходства за смиренным и слабым. Гордость и властолюбие в себе он видел – и не одобрял их. В отличие от Святополка, Ярослав действительно являлся христианином. И он был мудр, не позволяя никаким чувствам – ни злым, ни добрым, – брать верх над своею мудростью.
Владимир видел и достоинства, и недостатки своих старших наследников. И то, что он видел, печалило его. Ни в одном из них он не видел действительно достойного преемника своего дела. Конечно, он не знал о глубинных намерениях Святополка, но о его властолюбии, подозрительности, неприязни к братьям осведомлен был прекрасно. Сам он небезосновательно подозревал Святополка в намерении убить Бориса во время княжения того во Владимире-Волынском. То, что даже при этом князь оставлял Святополка в Турове и даже женил его на дочери польского князя, многое говорит о Владимире. Кажущейся близорукостью князь на самом деле все еще пытался искупить былое преступление. Но оно уже и не нуждалось в искуплениях, а в мире есть болезни, которые не уврачевать лаской. Мы не знаем, чем не устраивал великого князя Святослав Древлянский. Знаем мы о нем вообще очень мало. Ясно лишь то, что человек этот был осторожен и не отличался отчаянной отвагой своего брата Мстислава Лютого.
Все трое старших сыновей имели прочные внешние связи, и Владимир не мог не задумываться об этом. Для Святополка он сам создал союз с Польшей. Ярослав сблизился с Олавом Харальдсоном и другими норманнскими вожаками, поддерживал со Скандинавией прочные контакты. Святослав посматривал в сторону Венгрии, где за герцогом Ласло замужем была сестра его Премислава. В случае начала усобицы Русь вполне могла превратиться в игралище внешних сил. Обстоятельства торопили Владимира с ясным выбором наследника. И взор его обращался к старшему из сыновей «болгарыни».
Борис уже вполне вырос. При отце он жил чаще, чем в языческом Ростове, но наезжал и туда. Ему не удалось добиться от подданных ни обращения, ни возвращения епископа Феодора – но это не удалось и Ярославу. В целом же из Бориса получился неплохой правитель. «Сей благоверный Борис, – пишет автор жития, – благого корня сын, послушен отцу был, покоряясь во всем отцу. Телом был красив, высок, лицом кругл, широкоплеч, в чреслах тонок, с очами добрыми, весел лицом. И хотя малого возраста и с младым еще усом, но светился по-цесарски, крепкий телом, всячески украшен, как цветок цветущий в юности своей, в войнах храбр, в советах мудр и разумен во всем, и благодать Божья цвела на нем». Еще во Владимире-Волынском молодой князь прославился щедростью и добротой.
Как и Ярослав, Борис обучился грамоте и сам читал христианские книги. Он был христианином. Но если Ярослав лишь познавал христианство, то Борис в нем уже вырос. И он был первым из сыновей Владимира, выращенных в христианстве. Это следует иметь в виду, когда говорим о том, насколько глубоко и страстно воспринял он учение и нравственные идеалы новой веры. Ростовский князь алкал не царствия земного. Читая жития святых, Борис не раз молился: «Владыко мой Иисусе Христе! Сподобь меня, как одного из тех святых, и даруй мне по стопам их ходить. Господи Боже мой, да не вознесется мысль моя суетою мира сего, но просвети сердце мое на разумение Твое и Твоих заповедей, и даруй мне дар, который даровал от века угодникам. Ты – Царь и Бог истинный, помиловавший и изведший нас от тьмы ко свету! Тебе же слава вовеки, аминь».
Чтение и молитвы Бориса часто слушал его младший брат Глеб, живший в основном в Киеве. Глебу к тому времени исполнилось уже самое меньшее двадцать три года. Но он совсем не походил на своих предков, «лютых» воителей. Все источники описывают его одинаково – как человека чистого душой, по-детски наивного, немного робкого и тем всех к себе располагавшего. Владимир нежно любил его, а Глеб, подобно Борису, старался подражать отцу в щедрости и милосердии, творя в Киеве обильные милостыни. От Бориса, которого слушался во всем, Глеб воспринял глубокую набожность, и сам немало времени проводил в молитвах.
Владимир любил сыновей «болгарыни» – и все более утверждался в мысли о том, что из Бориса получится хороший наследник. Князь устроил любимому сыну и брак. Сначала Борис «худо пекся» об этом, но в конечном счете бояре напомнили ему о долге послушания перед отцом. Борис послушался и женился. Глеб, кстати, так и оставался неженатым. Борис вовсе не мечтал о навязываемой ему роли. Преданный отцу и беспрекословно выполнявший его волю, он отнюдь не готовил себя к восприятию киевского наследства – что бы ни думал по этому поводу сам Владимир. Святополк, однако, не мог поверить в отсутствие честолюбия у кого-то другого – и потому особенно возненавидел именно сыновей «болгарыни».
Но не только у него расположение Владимира к братьям вызывало настороженность. В среде киевского дружинного боярства лишенные воинской гордыни, набожные Борис и Глеб казались чужими. Бранные труды на рубежах требовали решительного и хитрого князя-воителя, каковым представлялся скорее Святополк. Ярослав княжил в Новгороде и с Новгородом был тесно связан, а киевская знать не хотела пришествия новых захватчиков с Севера. Сын же Ярополка, укорененный в южнорусской почве, мог заодно и очистить боярство от безродных выскочек Владимировой эпохи. У «двуотчича» появились первые сторонники в Киеве. И он решил воспользоваться этим. Впрочем, не по собственной инициативе. Болеслав тоже с подозрением смотрел на Киев. Кое-какие основания у него были. Дружеские связи Владимира с Ольдржихом и Германией могли возбуждать в польском князе законное раздражение. Но в конечном счете он сам интенсивно искал мира на западной границе и не раз засылал послов и к саксонскому двору, и в Прагу. Так что винить Владимира, которому ни с чехами, ни с немцами делить было нечего, по справедливости не следовало бы. Но Болеслав и не искал справедливости. Он добивался реванша за поражение отца. Червенские грады оставались вожделенны для Гнезна.
В Святополке наущения Болеслава нашли благодарного адресата. Но не только в нем. В одиночку, даже при помощи отдельных киевских вельмож, Святополку не на что было рассчитывать. За своим князем шла Туровская земля. Туров, Пинск, Берестье стали надежными оплотами смуты. Причины тому касались не одного только Турова, но всей Руси. Старая племенная знать не простила Рюриковичам подчинения и длившихся не одно десятилетие унижений. Удельные князья Владимировичи, взращенные больше в окружении местных «земских» бояр, набравшие дружины из их детей, становились уже не опорами отцовской власти, а выразителями центробежных стремлений. Борис и Глеб, выросшие в Киеве при отце, являлись и здесь заметным исключением. Местные аристократы не любили дом Рюрика, понимали, что для большинства молодых князей своя земля – лишь ступень на пути к Киеву. Но разжигали их амбиции, настраивали их против отца в надежде выиграть место под солнцем для себя.
Справедливости ради нельзя не сказать и то, что свои резоны у племенной знати были. Иначе не пользовалась бы она поддержкой в своих землях. Русь Владимиром строилась все еще из Киева. И во многом для Киева. Лишь христианство князь действительно старался распространить по всей своей земле. Все остальные блага скапливались в стольном граде, отчасти – но лишь отчасти – в Новгороде. В Киев шла большая часть собираемого по землям «повоза». Даже появление удельных князей с их дружинами мало что здесь не изменило. Их доля в дани едва ли сильно превышала прежнюю долю племенного «княжья». Даже две трети новгородской дани уходило в Киев. Богатевший и разраставшийся, соперничавший уже по славе с Константинополем, Киев стягивал к себе торговые пути, ослабляя и этим другие города Руси. Владимир же, стремясь обеспечить безопасность своей столицы (по крайней мере, так воспринимали это на местах) завел еще и новый обычай – обескровливать даже самые отдаленные земли, созывая, а то и набирая для вечной службы на южном порубежье лучших воинов отовсюду.
Так что интриги Святополка и Болеслава нашли среди приближенных и подданных Святополка немало пособников. Владимир, однако, вовремя узнал о заговоре и о наущениях Болеслава. Едва ли он был сильно разочарован в «двуотчиче», который давно находился под подозрением. Но все же гнев князя оказался велик. По его приказу Святополка и его жену схватили и поместили в отдельные друг от друга узилища в Киеве. Вместе с княжеской четой схвачен был и прибывший на Русь вместе с Болеславной колобжегский епископ, немец Рейнберн. Владимир подозревал его в соучастии – скорее всего, на достоверных основаниях. Рейнберн был близок Болеславу и, конечно, не пребывал в неведении. Вскоре после ареста епископ умер в своей, тоже одиночной, темнице без исповеди и причастия. К несчастью для репутации Владимира на Западе, Рейнберн, смелый миссионер, обращавший язычников и сокрушавший идолы в Польском Поморье, пользовался заслуженной славой. Многих благожелателей его смерть от Владимира оттолкнула – в их числе и хрониста Титмара Мерзебургского, который обрушивает в этой связи на голову русского князя не одно проклятие.
С заговором Владимир, казалось, покончил. Однако киевские нити интриги выявлены не были. Доброхоты Святополка при великокняжеском дворе затаились, но были готовы к действиям в любой момент. Главным их оплотом в Киевской земле стал Вышгород, один из главных княжеских замков Руси. Местный правитель Путша (не Путята ли из предания о крещении Новгорода?) и окружавшие его вышгородские «бояричи» готовы были послужить Святополку «всем сердцем». Они ждали лишь удобного случая.
Не смирился с первым поражением и Болеслав. Арест дочери и зятя разгневал его и одновременно дал вожделенный повод к началу войны. Для начала он приложил новые усилия к заключению мира на Западе. Пограничная саксонская знать, истощенная бесконечными войнами, оказала давление на своего короля – и 24 мая 1013 года в Мерзебурге, во время празднования Троицы, мир с Болеславом был заключен. Длившаяся одиннадцать лет без перерыва польско-немецкая война завершилась. Польский князь признал себя вассалом Генриха II, поднес ему щедрые дары и был одарен сам. Но на деле война завершалась победой польского князя. Он получил от Генриха в лен земли полабских и лужицких славян. Предоставлено ему было и союзное войско для нападения на Русь – в обмен на обещание помочь королю в походе на Италию, за давно положенной ему императорской короной.
Забегая вперед, отметим, что этого обещания Болеслав выполнять не собирался. Более того, он обвинил Генриха перед папой в том, что тот, дескать, не дает ему внести «денарий апостола Петра». Единственными поляками, отправившимися по осени в Италию, были соглядатаи Болеслава. Они разведывали дела немцев, воодушевляли их врагов и настраивали против Генриха его союзников. Поход кончился удачей и официальной коронацией в Риме не благодаря Болеславу, а вопреки столь своеобразной «помощи».
Немцы же на Русь с Болеславом пошли, как и было условлено. Но не только по условиям договора. Слухи о богатствах Киева и подвластных Владимиру земель давно разжигали аппетиты германских рыцарей. Летом 1013 года польское войско, усиленное немецкими отрядами, вторглось в пределы Руси. К Болеславу присоединились и печенеги.
Отложение правобережных печенегов было вполне предсказуемо. За прошедшие пять лет кочевники успели отдохнуть от войны и заодно подготовить к ней свежие силы. Христианами они так и не стали. Добрая память о Бруно в степях, возможно, еще и сохранялась. Но Болеслав был гораздо более близким другом немецкого миссионера, чем Владимир. Немецкий епископ, оставленный Бруно в правобережной степи, поддержал бы, конечно, именно Болеслава, при дворе которого жил вместе с кверфуртцем – тем паче, что с Болеславом шли теперь и его, епископа, соотечественники. Но мнением христианских священников печенежские ханы, в любом случае, поинтересовались бы в последнюю очередь. Ими двигали совсем иные мотивы. Теперь против Владимира опять была вся печенежская степь по оба берега Днепра.
Болеслав вступил в русские земли и в отместку за заточение дочери произвел здесь страшное опустошение. Его безнаказанность, возможно, была обусловлена тайной поддержкой туровской, а то и червенской знати. Но большего польский князь не достиг. Богатая добыча возбуждала разлад в войске. В конечном счете между печенегами и поляками началась открытая распря. Болеслав велел перебить все вспомогательное печенежское войско, после чего повернул восвояси. Любопытно, что его союзу с кочевниками это не повредило – враждебность Руси для степных ханов оказалась важнее.
Владимир получил временную передышку. Но прекрасно понимал, что лишь временную. Сейчас Болеслав вернулся в Польшу, откуда ему было удобнее следить за действиями императора Генриха. Но киевский князь понимал, что поляки вернулся. Новая же война с печенегами требовала нового внимания, дополнительных сил и дополнительных средств для укрепления крепостей и валов. К несчастью, понимали это и в тех землях, откуда силы и средства Владимир изымал. Весной 1014 года пришла новая тревожная весть, отложился Новгород.
На Севере при известиях о начавшейся войне с Болеславом четко поняли – ожидается новый воинский набор. И, возможно, новые, внеурочные поборы с Новгорода. С другой стороны, заговор Святополка и нападение Болеслава создавали выгодные условия для мятежа. Новгородское боярство подталкивало своего князя к действиям. И Ярослав решился. Как уже говорилось, с Новгородской земли собиралось 3000 гривен урочной дани. 2000 шли в Киев, 1000 же новгородский правитель раздавал своим «гридням». Но этой весной Ярослав изменил обыкновению и оставил всю дань себе. Из Новгорода в Киев не пришло ни весточки, но само отсутствие дани уже являлось объявлением войны.
Владимир пришел в гнев. Отпадение северной столицы он воспринял – и справедливо – как предательство в тяжелейший момент. «Готовьте пути и мосты мостите», – приказал киевский князь. Он готов был выступить против мятежного сына немедля, пока Болеслав давал ему время. Из Ростова, где он тогда находился, был вызван Борис со своей дружиной.
Ярослав, конечно, тоже не терял времени даром. Высвободившиеся деньги он направил на наем варягов. В Новгороде – явный вызов Киеву – начался монетный чекан. На блестяще выполненных сребрениках красовалась легенда: «Ярославле сребро». Весной того же 1014 году, едва ли случайно, сблизившийся с Ярославом норвежец Олав Толстый оставил доводившие его до Англии викингские походы и отправился в отчие края воевать за королевский престол. Олаву сопутствовал успех – весной 1015 года в битве при Несьяре он наголову разбил ярла Свейна Хаконарсона и выбил его из страны. Ко двору Ярослава, привлекаемые возможной поживой, прибывали многочисленные наемники и из Норвегии, и из Швеции.
Обе стороны считали себя правыми и призывали на помощь высшие силы. На монетах Ярослава отсутствует княжеское изображение, а есть только княжеский знак и образ святого Георгия – явно в пику киевским сребреникам. Но и на тех в последние месяцы правления Владимира появилось новое посвящение: «серебро святого Василия». Что же, мы вправе считать, что молитвы были услышаны. Как отмечает в этой связи летописец, «Бог не дал дьяволу радости».
Дождавшись Бориса и собравшись уже было в поход, Владимир внезапно разболелся. На зиму он остался в княжеском имении Берестовом. По весне же пришли тревожные вести о новом нашествии печенегов. Кочевников по-прежнему подстрекал Болеслав, сам пока занятый на Западе и не имевший сил для собственного вторжения. Болезнь одолевала великого князя. Он вверил киевскую дружину и собранную против Новгорода рать Борису и послал его против печенегов.
Больной Владимир оставался в Берестовом, ожидая возвращения сына. В Киеве нарастала тревога. Сторонники Святополка подняли голову и выступали почти открыто. Перед лицом возможного нападения с севера нужда в сильном князе становилась еще более очевидной. Нового новгородского завоевания никто из горожан не хотел. Доверие Владимира к углубленному в веру Борису вызывало у какой-то части знати лишь раздражение, а для партии Святополка Борис превращался в главного врага. Тем более, что и его сторонников среди верных дружинников Владимира имелось немало. Обеспокоенный происходящим, решился бежать в свой далекий муромский удел находившийся в Киеве Глеб. Даже в землях непокорной муромы ему казалось сейчас безопаснее, чем в Киеве. Молодой князь, несмотря на мятеж, сохранял полное доверие к Ярославу и надеялся на его защиту в случае вокняжения Святополка. Ярослав же, в свою очередь, остался расположен к Глебу. Он, помимо прочего, нуждался в вестях с Юга и в надежном посреднике. Нападать на Киев сам Ярослав не собирался и готовился только к обороне.
Перед отъездом Глеб пошел в Десятинную церковь и долго, со слезами, молился там. Нестор передает эту молитву так: «Господи мой Иисусе Христе, Его же ради все стало! Как Ты есть помощник на Тебя уповающим, внемли и увидь, что хотят сотворить рабу Твоему Борису, моему брату, – Ты ведь ведаешь все. Но если и меня осудил быть убитым во граде сем, не бегу от устроения Твоего, – если же нет, будь со мною во всяком пути, не оставь меня, Господи Иисусе Христе, и не предай меня в смерть, ибо Ты Спас и Тебе слава во веки, аминь». Помолившись, Глеб подошел к иконе Богородицы, пал перед ней ниц, встав же, облобызал и с тем вышел из храма. Выйдя из храма, он с сопровождающими спустился к реке, где для него уже приготовили ладью. Глеб покинул Киев и вскоре благополучно достиг своего града. Отсюда он сослался с Ярославом, донеся до него вести о болезни Владимира.
Вполне возможно, что к этому времени вести уже запоздали. Владимиру не суждено было дождаться возвращения Бориса. Болезнь усилилась, и он почувствовал приближение конца. 15 июля 1015 года в Берестовом великий князь русский скончался. Перед смертью Владимир обратился к Богу, которому вручал свою душу, с проникновенной молитвой: «Господи Боже мой! Не познал Тебя Богом, но помиловал меня и святым крещением просветил меня. И познал Тебя, Боже всех, Святый Творец всей твари, Отче Господа нашего Иисуса Христа! Слава Тебе с Сыном и Святым Духом, Владыко Боже! Не помяни моей злобы – не познал я Тебя в поганстве, ныне же Тебя знаю и вижу. Господи Боже мой! Помилуй меня – если хочешь меня казнить и мучить за грехи мои, казни Сам меня, Господи, бесам же не предай меня». Так, в сознании былых скорбей и в чистом уповании на милосердие Господне, Владимир отошел в лучший мир. Умер он, хотя и в страхе – страхе Божьем, – но без отчаяния и мучений, «предал душу свою с миром Ангелам Господним».
Среди бурлящих потоков междоусобицы даже успение великого князя стало предметом политических интриг. Сторонники Святополка поняли, что настал их час действовать. Сразу выяснилось, что таковых при дворе немало. Они утаили смерть Владимира, не давая партии Бориса возможности опередить Святополка. Тот все еще находился в киевской темнице. В ночь на 16 июля тело князя, завернутое в ковер, спустили на вожжах в проделанную в деревянном «помосте» между двумя комнатами-«клетями» берестовского терема дыру. Снесши вниз, тело положили на сани и отвезли в Киев. Святополк немедленно был освобожден.
К утру тело князя выставили «у Святой Богородицы», в Десятинной церкви. О смерти Владимира наконец объявили. Бесчисленное множество киевлян оплакивало Владимира – «бояре как заступника земли их, а убогие, как заступника и кормильца». Тело заново спеленали и положили в мраморный саркофаг подле гроба царевны Анны, посреди величественного храма.
Владимир, не успевший назначить наследника, не мог предотвратить разгоравшуюся усобицу между сыновьями. Она началась – и стоила жизни и святым Борису и Глебу, первым мученикам Руси христианской, и Святославу Древлянскому, и самому братоубийце Святополку, заслужившему по праву прозвище Окаянный. Только спустя два десятилетия, когда в мир иной отойдет своей смертью и Мстислав Лютый, вновь появится на Руси самовластец, теперь уже подлинно неоспоримый – Ярослав Владимирович Мудрый. Последствия правления Владимира? Может быть, отчасти, – ведь усобица проистекла из тех кровавых колодезей, которые, к несчастью, так и остались со времен его языческой молодости.
Но уже для русских писателей эпохи Ярослава, его приближенных и соратников, было ясно, кому обязана Русь своим процветанием в те блестящие годы. И для Илариона, и для Иакова Мниха, и для позднейших летописцев именно Владимир был устроителем и зачинателем русского величия. К нему, «подражателю великого Константина, равно умному, равно христолюбивому, равно честному служителю Его», взывал Иларион в своем знаменитом «Слове о законе и благодати»: «Встань, о честная глава, от гроба твоего, восстань, отряси сон! Не умер ведь, но спишь до общего всем восстания. Восстань, не умерший, ведь нелепо умирать уверовавшему в Христа, Жизнь всего мира! Отряси сон, возведи очи, да увидишь, какой тебя чести Господь там сподобил, и на земле не без памяти оставил для сынов твоих! Встань, увидь чадо свое Георгия, увидь кровь свою, увидь милого своего, увидь, кого Господь извел от чресл твоих, увидь украшающего столь землю твою, и радуйся, и веселись!»
Присоединяя свой голос к плачу киевлян об умершем князе, автор величественной и трагической летописной повести «Об убиении Борисовом» провозглашает: «Сей блаженный князь Владимир – новый Константин великого Рима, который крестился сам, и людей своих крестил. Так и сей сотворил подобное ему. Если прежде и пребывал в поганстве, скверной похоти желая, то после прилежал к покаянию, как апостол вещает: “Где умножился грех, тут изобилует благодать”. Если в невежестве какие-то согрешения свершил, то после рассыпался покаянием и милостынями, как глаголется: “в чем тебя застану, в том тебя и сужу”, как и пророк глаголет: “жив Я, Адонай Господь, не хотящий смерти грешникам, но да обратятся они от пути вашего злого!” Многие ведь праведное творящие, по правде живущие, погибают, но воздастся каждому по трудам и неизреченной радостью, кою да обретут все христиане».
Для русских авторов уже XI столетия Владимир был святым. И Иаков, и Иларион немало места уделяют обоснованию этой святости. Они напоминают, что крещение очистило князя от былых нечистот. Что в крещении рождается человек новый, и о делах именно его следует вести речь. Что величайшим и прижизненным чудом являлось само обращение Владимира. Что подлинно чудесной даже для христианского правителя была его щедрость к нуждающимся. К сожалению, убеждались не все. Два столетия в спорах греческого и русского духовенства подготовлялось прославление крестившего Русь великого князя. И вот уже в XIII веке, при Александре Невском, установилось повсеместное почитание Владимира – святого и равноапостольного. Признана была довольно простая вещь. Даже если бы вся мирская жизнь Владимира состояла из политических просчетов и Русь не выиграла бы от его правления вообще ничего – он дал Руси гораздо, неизмеримо больше. Дал христианскую веру. Что же, канонизация – не звание героя, выдаваемое за государственные заслуги. Предоставляет эту честь не государство. И даже, в конечном счете, не Церковь.
Но столь ли велики были просчеты Владимира? То, что таковые имелись, сомнений не вызывает. Иначе сама история ближайших по его смерти десятилетий пошла бы иначе. Но только ближайших десятилетий. Прочные основания, возведенные Владимиром, оказались настолько надежны, что даже кровавая распря его наследников не поколебала единства страны. Напротив, она стала прелюдией к новой ступени единения. Может быть, даже избыточной – и затем сменившейся удельным распадом. Но и в этом распаде сплоченная Владимиром Русь продолжала осознавать себя единым целым – политическим, этническим и не в последнюю очередь религиозным. Так не стоит ли вместо того, чтобы уноситься мыслью на века вперед, ставить князю в вину деяния ближних и дальних наследников, просчитывать упущенные возможности – трезво посмотреть на то, что именно он сотворил и оставил в наследство?
При Владимире Русь стала богаче и стабильнее, чем при его предках. На торговых путях, шедших через страну, установился мир, который княжеская власть уверенно защищала. Выросли новые торговые и ремесленные центры. При Владимире возникли – иногда и прямо его усилиями – десятки новых городов. Именно городов, а не просто огороженных градов. Владимир начал укреплять в стране законность – на основе уже не обычного права, а княжеского, государственного суда.
Ярополк правил, по сути, землями лишь полян и древлян. Владимир же объединил под властью Киева все восточнославянские племена, многих финнов и балтов. Русь Владимира не только многократно превышала размерами владения Ярополка – такое сравнение может показаться кому-то несправедливым (хотя почему?). Она превосходила и Русь Святослава, и Русь Игоря. Даже с учетом финального отпадения Новгорода. На всем этом огромном просторе за все правление Владимира лишь дважды против него вспыхивали мятежи. Конец правления был весьма драматичен – но предшественник Владимира и вовсе не смог удержать власть, а Ярослав не решился нападать на отца. Естественно, что вместе с территорией росло и население Руси. Но росло оно и на коренных землях. Свидетельство тому – устремлявшиеся (и устремляемые князем) на окраины потоки колонистов.
Приняв крещение и крестив страну, Владимир начал прививать законы новой, христианской нравственности. Прославившее его милосердие было лишь одним из проявлений начавшегося глубинного процесса. Владимир сделал первые шаги и в заботе о распространении славянской грамотности, включавшей Русь в мир христианской культуры. Количество письменных памятников в его годы возрастает, и недаром именно к той поре относится древнейшая дошедшая до нас хотя бы фрагментарно русская книга. Основываются первые на Руси подлинные школы.
Справедливо считать Владимира отцом русской цивилизации. Введя христианство вместо разноголосицы племенных культов, он дал русской культуре сердцевину, ту высшую ценность, без которой цивилизации нет. И памятником этого возвел монументальный храм Богородицы в Киеве – нечто прежде невиданное на Руси. Распространение кириллической письменности, основание новых городов – все это труды по выстраиванию здания цивилизации. Здания, до сих пор поражающего своей великой историей и – даст Бог – не менее великим будущим.
Не менее справедливо считать Владимира и строителем – пусть не завершителем строения – Русского государства. Его трудами установилась целостная структура Русской земли с единым, централизованным в Киеве управлением. Вместо гигантского союза племен появилась та реальность, которую современная наука зовет «Киевской Русью». С принятием христианства Русь вошла в семью христианских народов. Не все было благополучно в этой семье в те годы – но границы и независимость Руси получили общее международное признание. Труды Владимира в области законодательства выглядят скромнее. Но именно он заложил ту основу, на которой позже трудился Ярослав Мудрый.
Владимир вовсе не был безупречным политиком и дипломатом. Кстати, был совсем неплохим полководцем, при всем своем миролюбии – за всю жизнь проиграл лишь одну битву. Ошибки же и проступки в его политике проистекали где от суровых нравов полуязыческой эпохи и собственной вспыльчивости, где, напротив, от простой человеческой доброты и Божьего страха. Если бы он их не совершал, то нашлись бы все равно охотники обвинять его и в мягкотелости, и в жестокости. Но то, что при всех своих правительских недостатках князь все же добился столь значимых результатов – не в его ли пользу? А может, в пользу сопутствовавшей ему высшей милости? Владимир оказался подлинным устроителем Русской земли, зиждителем русской цивилизации, первым творцом простоявшего тысячу лет величия. Слава его заслужена мирскими трудами. Но это следствия, а не причина. Славен Бог во святых Своих.
Каждый год, в день 15 июля по юлианскому календарю, звучит во всех храмах Руси на понятном каждому славянину любой эпохи языке торжественная величальная песнь в честь князя-крестителя: «Величаем, величаем тя, святый равноапостольный великий княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы поправшаго и всю Российскую землю святым крещением просветившаго». И миллионы верующих на всех языках православного мира, во всякий день взывают: «Святой Владимир, моли Бога о нас!»
Приложение
Церковный устав Владимира
Как уже говорилось, вероятность принадлежности этого памятника эпохе князя Владимира крайне мала. Тем не менее мы приводим его здесь в редакции, содержащей наименьшее количество домыслов и анахронизмов – Варсонофьевской. Варсонофьевская редакция переводится по древнейшему своему Варсонофьевскому виду, сохранившемуся в единственном списке XIV века. Стоит отметить, что это один из двух древнейших списков Церковного Устава. Всего известно 4 вида Варсонофьевской редакции, сохраненные 33 списками (все остальные XV–XVII веков). Перевод на современный русский язык выполнен автором этих строк по изданию: Древнерусские княжеские уставы. Издание подготовил Я.Н. Щапов. Ответственный редактор Л.В. Черепнин. М., 1976. С. 62–63.
А это суд церковный Владимира.
Се я, князь Владимир, поставил церковь Cвятой Богородицы в Киеве и дал церкви той десятину по всей Русской земле, во всех градах.
И потом поразмыслил с княгиней Анною и со своими детьми, что вот каких судов не подобает судить князю, ни боярам, ни судьям их, и дал те суды церквам всем, епископиям Русской земли.
А по сем не вмешиваться ни детям моим, ни внукам, ни всему роду моему до века, ни к людям церковным, ни в суд их.
То все дал по всем градам, и по погостам, и по свободам, где только есть христиане.
Развод, прелюбодеяние, уличение в нем, драка между мужем и женою до смерти, и если кто из родственников или свойственников сойдется, и ведовство, зелейничество, оскорбления, блуд, отрава, ересь, укус зубами, и если отца или мать бьет сын или дочь, братья или дети судятся за наследство, и церковный грабеж, и если мертвецов стащат, крест посекут, и если на стенах режут, и если скот, псов или птицу без великой нужды введут, или что неподобающее в церкви содеют.
Те все суды Церкви даны. Князю, боярам и судьям в те суды не вмешиваться.
То все дал по первых царей решениям, согласно Вселенским святым семи соборам великих святителей.
Если же кто нарушит наш устав, таковым прощения нет от закона Божьего, и горе они себе наследуют.
Как искони установлены и поручены святым епископиям градские и торговые мерила, и спуды, и весы, и ставила – от Бога так искони установлено епископу блюсти безупречно, ни умалить, ни умножить, – обо всем том дать ему слово в день судный, как и о душах человеческих.
Вот церковные люди: игумен, поп, дьякон и кто в клиросе, чернец, черница, попадья, проскурница,{ Просвирня.} попович, лечец,{ Лекарь } прощеник,{ Живущий у святыни или при храме на покаянии.} задушный человек;{ Крестьянин-смерд или вольноотпущенник, приписанный с землей или без господином к храму на помин его души.} монастыри, больницы, гостиницы, странноприимцы.
То люди церковные, богадельные. Митрополит или епископ ведают между ними суд, обиду, распри или наследство.
Если будет иному человеку с таким человеком речь, то обычный суд.
Комментарий
Первая статья Устава Варсонофьевской редакции, в отличие от других его редакций, четко соответствует летописному описанию дара Десятинной церкви. Точно так же, в отличие от других редакций, нет ошибочных указаний на времена патриарха Фотия. Советуется князь не с митрополитом, а с супругой и детьми. Это вполне естественно для ситуации именно крещения Руси. Церковь еще не обладает никакими властными полномочиями, и лишь только получает их добровольным и единоличным актом княжеской власти. Участие княгини Анны оправдывается ссылкой на византийские законы далее. Заповедь Владимира потомкам также соответствует тому, что известно из летописей о даре Десятинной церкви.
Интересен очерк правовой системы, существовавшей на Руси, если верить Уставу, на конец Х века. Светская судебная власть на государственном уровне принадлежит князю, в отсутствие его – боярам. Князь и бояре имеют право назначения судей, чьи приговоры равноценны их приговорам. Но спорно, следует ли относить эти сведения ко временам Владимира или все-таки к XII–XIII векам.
Сфера действия Устава ограничивается пока «градами, погостами и свободами» – то есть не захватывает сельских общин с их обычным правом. Это как будто также отражает ситуацию в новокрещеной стране, где на селе еще даже не строились церкви. Термин «свобода» (позднейшая «слобода») – не обязательно анахронизм. Так уже издавна могли именоваться торгово-ремесленные поселки, неподвластные напрямую никакому князю, – распространенное явление на Руси именно IX–XI столетий.
Список тяжб и преступлений, подлежащих церковному суду, достаточно стандартен для византийского права. С другой стороны, он лишь отчасти перекликается с Краткой редакцией Устава князя Ярослава. Это может свидетельствовать как о том, что Устав Владимира инициировал создание более поздней Пространной редакции Ярославова Устава, так и о том, что сам он создан на ее основе.
Церковной юрисдикции, по Уставу Владимира, подлежат: семейные свары, кровосмешение во всех формах, некоторые оскорбительные действия («зубоежа» – укус зубами). Интересно отметить, что наследственные споры отданы здесь на суд епископов – тогда как в конце XI – начале XII века составили немалую часть содержания княжеской Пространной Русской правды. Кажется, к авторитету Устава мог прибегать епископский суд в неких спорах со светской властью о юрисдикции. Из собственно религиозных преступлений основные – ведовство и ересь. В XVI веке бытовали легенды о борьбе с еретиками уже при Владимире, и в них при желании можно увидеть отражение действительного противостояния богомильской ереси. Что касается ведовства, то судя по Уставу Ярослава, имеются в виду исключительно ведьмы, а не волхвы-мужчины. Под зелейничеством, судя по упоминанию далее «зелия» как отравы, яда, – разумеется именно приготовление такового, опять же прерогатива ведьм. Лекарство же не только не осуждается, но «лечец» оказывается в числе защищаемых Уставом «церковных людей». Наказания за отправление языческих обрядов и исповедование язычества в Уставе нет, как и в Уставе Ярослава. Особую группу религиозных преступлений составляют кощунства и непотребства в храме – в том числе порча храмовых стен самовольными надписями-«резами», столь распространенная на Руси.
Владимир (или автор Устава на его имени) в связи с повторением запрета и «клятвы» ссылается на авторитет «первых царей» и Вселенских cоборов 325–787 годов. Под «первыми царями», соответственно, имеются в виду римские и византийские императоры, начиная с Константина Великого, поступкам которого Владимир сознательно подражал.
Вторая часть Устава – вверение епископам надзора за торговыми делами и спорами. В частности, епископ должен хранить эталоны всех необходимых мер и весов. Он является высшим арбитром во всех связанных с этим вопросах – и отвечает за них перед Богом, как и за вверенные ему людские души.
Наконец, третья часть Устава обеспечивает частичный иммунитет обширной категории «церковных людей» перед княжеским и боярским судом. Их дела между собой рассматривает епископский суд, а высшей инстанцией здесь впервые указывается митрополит. Перечень «церковных людей» весьма конкретен. Он включает всех священнослужителей, церковнослужителей и монахов, членов семьи священника (только священника). К ним в этом отношении приравниваются, отдаваясь под покровительство Церкви: лекари, просвирни, лица, живущие на покаянии. Здесь же находим первое (или одно из первых, если относить Устав к XII–XIII векам) на Руси упоминание о «задушном» вкладе богача, который может включать и зависимых от него людей. Такие люди также оказываются в ведении церковного права. Аналогичным иммунитетом обладают и целые заведения – не только монастыри, но и больницы, и открытые для паломников страннические приюты. Однако иммунитет носит, как уже сказано, частичный характер. В случае тяжбы с лицом, подлежащим княжескому «общему» суду, и «церковный человек» оказывается ему подвержен.
В целом, как видим, данная редакция Устава не содержит явных анахронизмов. Все упомянутые в ней реалии могут соответствовать и эпохе Владимира. Основан ли Устав в этом случае на достоверном церковном предании, или на несохранившихся письменных материалах – судить, вероятно, преждевременно. Однако это один из древнейших памятников русского церковного права, и он отражает сложившиеся представления о роли святого князя Владимира в истории Русского государства.
Рисунки и фото с вкладки
Златник великого князя Киевского Владимира Святославича
Серебреник великого князя Киевского Владимира Святославича
Изложение князю Владимиру своей веры болгарами. Радзивилловская летопись
Изложение князю Владимиру своей веры хазарами (иудеями). Радзивилловская летопись
Изложение греком-философом православной веры князю Владимиру. Радзивилловская летопись
Прощание князя Владимира с греком-философом. Радзивилловская летопись
Совет князя Владимира с боярами и старцами о выборе веры. Радзивилловская летопись
Отправление князем Владимиром гонцов для испытания вер. Радзивилловская летопись
Князь Владимир выслушивает ответ послов. Радзивилловская летопись
Князь Владимир отправляет послов к императорам с посланием об Анне. Посол вручает послание Владимира. Радзивилловская летопись
Болезнь (слепота) князя Владимира. Радзивилловская летопись
Крещение дружины князя Владимира в Корсуни. Радзивилловская летопись
Крещение князя Владимира в Корсуни. Радзивилловская летопись
Купель баптистерия в Епископском квартале Корсуни (справа от центра), где принял крещение князь Владимир
Постройка Десятинной церкви в Киеве. Радзивилловская летопись
В.П. Верещагин. Освобождение от язычества. Закладка Десятинной церкви в Киеве. 988 г.
Русь в IX–X вв.: схема расселения восточнославянских племен и соседних народов
Русь и окружающие ее народы в X–XI вв.
Святой равноапостольный князь Владимир. Икона. Новгород. XV в.
Святой Владимир с сыновьями. Фреска. XIX в.
Житие великого князя Владимира. Киев. XVII в.
Князь Владимир. Ниша северного портика Казанского собора
Васнецов В.М. Крещение Руси. Картон для росписи Владимирского собора в Киеве
Верещагин В.П. Великий равноапостольный князь Владимир (980—1015)




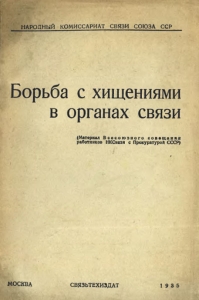

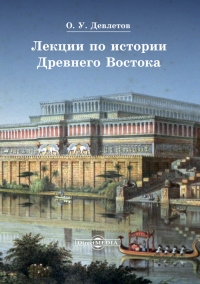
Комментарии к книге «Владимир Святой. Создатель русской цивилизации», Сергей Викторович Алексеев
Всего 0 комментариев