М. С. Неклюдова Искусство частной жизни Век Людовика XIV
Часть первая Изобретение частной жизни
Эта книга не о том, как жили люди в царствование Людовика XIV. Об условиях их существования нам известно довольно много, особенно если речь о Париже. Например, по ночам город освещался приблизительно шестью с половиной тысячами фонарей, висевших на пересечениях улиц. Их зажигали в сумерках, и фитиля хватало где-то до полуночи, затем до рассвета все погружалось во мрак. В середине 1680-х гг. Париж насчитывал 23 272 дома, из чего историки делают вывод, что численность его населения приближалась к полумиллиону, в среднем по двадцать человек на жилое здание.[1] Итого по одному фонарю на четыре дома и на их восемьдесят обитателей. Конечно, не все фонари горели и не в каждом доме жило по двадцать человек.
А еще в середине XVII в. на оживленных перекрестках Парижа были установлены почтовые ящики для обмена письмами в пределах города. Чтобы ими воспользоваться, надо было зайти во Дворец правосудия и там за одно су купить бланк, помеченный особым знаком. На нем указывали адрес и дату и использовали его в качестве конверта. В назначенный час ящики открывали и письма разносили по городу.
Откуда мы это знаем? Из разных источников. Счет домам вели городские власти, об освещении улиц с восхищением отзывались путешественники, о почтовых ящиках рассказал один из героев этой книги. На полях своего же старого письма он меланхолически приписал: «Похоже, что через несколько лет уже никто не будет знать, что такое ящик для писем», — и объяснил происхождение и суть этого изобретения. Все вместе складывается в общую картину жизни парижанина середины XVII в. Вернее, эти фрагменты информации мы превращаем в историю городского быта, не тревожась о том, что данные о домах, фонарях и почтовых ящиках получены из разнородных документов. В этом случае для нас важно, что все они заслуживают доверия.
Но для понимания механизмов развития культуры XVII в. небезразлично, какую информацию люди того времени хотели сообщить о себе последующим поколениям, а какую мы получаем помимо их воли. Так, власти Парижа вели учет городским постройкам из практических целей, прежде всего для подсчета налоговых сборов. Английский путешественник интересовался системой освещения Парижа, считая, что она может послужить примером для Лондона. Иначе обстояло дело с Полем Пелиссоном, который, комментируя собственное письмо, обращался к будущим читателям. У него было ощущение, что тривиальная деталь окружавшей его действительности может стать предметом истории.
Случай Пелиссона напоминает о том, что любой исторический документ сочетает в себе объективные данные (почтовые ящики действительно присутствовали в Париже середины XVII в.) и субъективные намерения (причины, по которым Пелиссону вздумалось о них поведать). Если вынести последние за скобки, то наши представления о повседневной жизни прошлых эпох обретают сходство с музейной экспозицией: много подлинных предметов и мало людей. Или, как в голливудских фильмах, историческая действительность становится декорацией для современных конфликтов и характеров. Один исследователь как-то заметил, что нам несложно понять образ мыслей Вольтера, ставший плотью и кровью западной культуры, однако мы с трудом можем представить себе бытовые условия жизни философа. В этом, безусловно, есть большая доля истины. Обыденный мир первой половины XVIII столетия для нас экзотичен, а его интеллектуальная составляющая — тривиальна. Скажем, борьба Вольтера за религиозную толерантность по сей день не утратила актуального звучания и потому кажется сама собой разумеющейся. В таком разобщении образа мыслей и образа жизни таится серьезная методологическая опасность. Скрупулезно восстанавливая бытовую обстановку вольтеровского времени, мы рискуем поместить в нее современного борца за права человека.
Теперь раскроем скобки: почему Пелиссон решил сделать запись о почтовых ящиках? Возможно, из хорошо понятной нам ностальгии по уходящим вещам. Хотя тут надо учитывать, что разные исторические эпохи порой по-разному оценивают одни и те же эмоции. Во французской культуре XVII в. ностальгия имела устойчивую репутацию стариковского чувства, связанного с упадком физических и умственных сил. Как писал один из современников Пелиссона, в старости «мы страстно привержены всему, что было создано в прошлом, и презираем создания своего времени <…>. В этом грустном и бессчастном возрасте мы склонны приписывать вещам недостатки, порожденные нашей тоской; а когда сладостное воспоминание обращает нашу мысль от настоящего к минувшему, то мы готовы видеть приятность в вещах, ее не имевших, просто потому, что они напоминают о юности, когда все нам было мило».[2] Таким образом, ностальгия — это не только удовольствие от воспоминаний, но и нарушение способности к здравому суждению. Под ее влиянием человек перестает видеть истинное положение вещей, что с точки зрения эпохи являлось непростительным интеллектуальным изъяном. Поэтому, даже садясь писать мемуары, человек XVII в. редко сознавался, что испытывает тоску по прошлому.
Зайдем с другой стороны и попробуем оценить замечание Пелиссона не по аналогии с нашей культурой, а в контексте его собственной. Он происходил из протестантской семьи, образование получил в университете Тулузы и, следуя фамильной традиции, начал карьеру на юридическом поприще. Так что умение в нескольких словах разъяснить устройство городской почтовой службы можно отнести на счет его профессиональной подготовки. Помимо этого университетское образование в целом прививало филологические навыки чтения и комментария текстов. Столкнувшись с устаревшим или вышедшим из употребления словом, Пелиссон мог машинально, по устоявшейся привычке, сопроводить его глоссой. Заметим, что его внимание было поглощено скорее названием, чем вещью. Он ничего не говорит о том, из чего были сделаны ящики для писем, какого они были цвета или формы. В результате мы прекрасно представляем себе принцип работы этого изобретения, но без привлечения дополнительного материала не сможем составить его зрительный образ.
Здесь мы вплотную подходим к тому, что называется историей ментальностей, — к изучению коллективных представлений, бессознательных или полуосознанных. История ментальностей помогает нам очеловечить мир аутентичных вещей и понять психологические закономерности их расположения. В частности, почему одни из них оказывались «видимыми» для современников, а другие попадали в своеобразную мертвую зону. Или почему их замечали не все. Ведь не только Пелиссону были досконально известны функции ящика для писем. И деловые хлопоты, и светское общение влекли за собой активную переписку. Скажем, к услугам почты прибегали многие известные Пелиссону дамы, которые едва ли не каждый день посылали записки друзьям, родственникам и знакомым. Тем не менее им вряд ли пришло бы в голову описывать работу почтовой службы или фиксировать значение устаревающего слова. Не потому, что такого рода задача была им не по силам. Но женское образование не предполагало изучения древних языков, и, соответственно, сопутствующие филологические навыки оставались для них чуждыми. Вместо того чтобы составлять комментарий, они с большей степенью вероятности могли бы попытаться пустить в ход какой-нибудь неологизм, блеснуть модным словечком.
Совокупность этих факторов помогает нам понять образ мыслей определенной социокультурной группы, к которой принадлежал Пелиссон. Ее численность была не столь велика, учитывая такие параметры, как университетское образование и юридическая карьера, жизнь в Париже и активное светское общение. Далее в игру вступают более трудноуловимые для нас дифференциации: к примеру, религиозные чувства нашего героя. В записях, которые приведены в этой книге, нет ни намека на его принадлежность к «так называемой реформированной церкви» (как было принято писать в официальных документах того времени), хотя в психологической важности этого факта сомневаться не приходится. Как и в том, что им была обусловлена значительная часть повседневного существования Пелиссона. Будучи протестантом, он подчинялся иному укладу, нежели его друзья-католики: не ходил к мессе, не имел исповедника, не соблюдал праздники и так далее. В середине XVII в. эти различия были достаточно рутинными и, скорее всего, считались в порядке вещей. Их вторичная актуализация произошла в 1685 г. после отмены Нантского эдикта, когда французским протестантам пришлось выбирать между переходом в католичество и каторгой: впрочем, Пелиссон, как и многие его современники, успел добровольно вернуться в лоно «истинной церкви» (еще один канцеляризм эпохи). Однако даже в самом рутинном виде эти отличия должны были оказывать влияние на образ мыслей нашего героя.
В этом состоит одна из проблем истории ментальностей. Пытаясь восстановить базовые системы представлений и мыслительных привычек, мы не всегда можем их иерархизировать и, что более существенно, угадать их взаимодействие в конкретных обстоятельствах. Нам приходится исходить из того, что все они имеют тотальный характер (скажем, что вплоть до 1660-х гг. Пелиссон всегда и во всем был протестантом и что его образ мыслей неизменно зависел от полученного образования). Можно сказать, что «ментальность» до-психологична: не случайно, что ее история лучше всего выстраивается на средневековом материале.
Возможный выход из методологического тупика подсказывают социологи и антропологи, предлагая рассматривать человеческое поведение как набор определенных ролей, где переключение эмоциональных и стилистических регистров регулируется общекультурным контекстом. Эта «аналогия с драмой», как называет ее Клиффорд Гирц, позволяет решить проблему образа действий исторического персонажа не с психологической, а с ситуативной точки зрения. Каждая культура предоставляет в распоряжение человека репертуар ролей, на основании которого он выстраивает собственное поведение. В принципе, такой выбор делается бессознательно. Однако в некоторых обстоятельствах он способен становиться предметом вполне осознанной рефлексии, и тогда на первый план выходит проблема «жизнестроительства». Ее можно трактовать как смену репертуара: актеры превращаются в драматургов и вместо того, чтобы исполнять прежние роли, начинают экспериментировать с новыми. Под эту модель, очевидно, подпадает жизнестроительство романтиков и ряд более поздних опытов.
Обновление и расширение ролевого репертуара происходило и во французской культуре XVII в. Так, Поль Пелиссон был протестантом и исполнял должность королевского секретаря (один из незначительных административных постов, связанных с процедурой утверждения официальных документов): вполне традиционное совмещение ролей, многие семейства магистратов принадлежали к реформированным церквям. Несколько более нестандартна его литературная карьера. Он начинал с обычных гуманистических упражнений: сделал вольный перевод четырех книг «Кодексов» Юстиниана, немного писал стихи то на латыни, то на французском языке. Но в 1652 г. ему пришло в голову сделаться историографом Французской академии. Чтобы вполне оценить эту идею, следует помнить, что, с одной стороны, история государственных и общественных институтов была частью французской юридической традиции, а с другой — Французская академия к тому моменту существовала менее двадцати лет, ее официальное рождение датировалось 1634 г. После смерти кардинала де Ришелье, когда она перешла под покровительство канцлера Сегье, ее дальнейшая судьба оставалась неопределенной, поскольку значительной долей престижа Академия была обязана политическому могуществу своего создателя. Хотя Сегье занимал один из высших государственных постов, эпоха Фронды положила конец его влиянию на положение дел. Вплоть до 1672 г. Академия продолжала собираться в доме канцлера, и лишь после его смерти Людовик XIV переселил ее в Лувр и взял под свое покровительство, тем самым окончательно закрепив государственный статус нового учреждения.
Иными словами, с точки зрения начала 1650-х гг. выбор Пелиссона отнюдь не был предсказуемым, как может показаться в исторической перспективе. Об этом позволяет судить восторженная реакция академиков, которые в нарушение собственного устава постановили, что автору «Истории Французской академии», увидевшей свет в 1653 г., будет предложено первое же освободившееся кресло (см. письмо госпожи де Скюдери, которое приведено в четвертой главе этой книги). Публикация истории Академии укрепляла ее институциональный статус, остававшийся небесспорным вплоть до вмешательства Людовика XIV. Что касается Пелиссона, то он, еще не имея заметных заслуг, обеспечил себе место среди сорока «бессмертных». В отличие от большинства собратьев по перу, он не закончил, а начал карьеру с официального (то есть институционального) признания. Это стало возможным благодаря тому, что Пелиссон избрал роль идеолога, не только представив в своей «Истории Французской академии» перипетии, выпавшие на долю нового института, но и обосновав необходимость его существования. Умение формулировать важнейшие идеологические концепции позднее сказалось и в его проекте «Истории Людовика XIV» (1670), где он предложил идею «похвалы без похвалы», которую затем попытались воплотить на практике королевские историографы, Жан Расин и Никола Буало:
Все должно восхвалять короля, но при этом, если можно так выразиться, восхвалять без похвал, простым изложением его дел, слов и мыслей, без очевидной пристрастности, но стараясь, чтобы повествование было живым, остроумным, возвышенным, а в выражениях не сбивалось на панегирик.[3]
Тактический просчет — в 1657 г. Пелиссон стал секретарем и доверенным лицом суперинтенданта Фуке, чей арест в 1661 г. оказался в числе самых громких событий эпохи — не позволил автору «Истории Французской академии» последовательно разрабатывать эту роль литератора-идеолога, подсказывавшего власти необходимые ей формулировки. Проведя несколько лет в Бастилии (воздаяние за верность опальному суперинтенданту), он предпринял еще одну попытку поменять роль, принял католичество и сделался активным участником кампании по обращению бывших единоверцев.
Протестант, новообращенный католик, королевский секретарь, доверенное лицо суперинтенданта (фактически — министра) финансов, литератор-идеолог — не полный репертуар жизненных ролей нашего героя. Помимо этого для целого ряда современников он был «Акантом»: так его называли в кругу госпожи де Скюдери. Само переименование в высшей степени симптоматично. Не своей этимологией, отсылающей либо к городу на берегу Халкидики, либо, что более вероятно, к растению, часто встречавшемуся в римских и ренессансных орнаментах (впрочем, здесь нельзя исключать и игру слов: латинский глагол canto — «петь» имеет форму accanto). Новое имя позволяло отрешиться от задаваемых обществом ролей и выстроить свою собственную, свободную от диктата конфессиональных и сословных разделений. «Акант» был светским поэтом и галантным кавалером, живым и остроумным собеседником. Его письма к «Сафо» (то есть к госпоже де Скюдери) почти ничем не напоминали о существовании других сторон его идентичности. Как и о том, что в 1653 г., когда завязалась их переписка, ему было двадцать девять лет, а его лицо так обезобразила оспа, что, по словам госпожи де Скюдери, он «злоупотреблял дозволенным мужчинам уродством». Или о том, что его корреспондентке в мире повседневной реальности уже исполнилось сорок шесть. Нельзя сказать, что это было не важно: современники не упускали возможности посмеяться над физическими недостатками кавалера:
Кошмарен с виду Пелиссон, Весь вид его — уродство, Но хоть и безобразен он, А харей сущий монстр, Сафо он оказался мил, Чем никого не удивил: Любовь идет от сходства.[4]Сам «Акант» не скрывал собственного безобразия и, если оно давало повод для галантной шутки, был способен описывать себя без малейшего намерения приукрасить действительность: «Маленький человечек с уродливым лицом и неловкой манерой держать себя, с больными глазами, весь расписанный оспой, с короткими волосами и скуфьей, постоянно кашляющий и сплевывающий, да и во всем прочем не слишком ухоженный».[5] Однако этот безжалостный автопортрет был набросан не просто так, а как антитеза абстрактному «высокому блондину», с которым дамам опасно слишком нежно беседовать, ибо это может нанести урон их репутации, тогда как с «маленьким человечком с уродливым лицом» им не грозят ни малейшие подозрения. Во всех прочих случаях внешность была вынесена за скобки: «Акант» переписывался с дамами не как безобразный коротышка, а как любезный кавалер и получал самые нежные ответы.
Проще всего было бы сказать, что существование «Аканта» было частью литературной игры, позволявшей Пелиссону компенсировать внешние недостатки. В этом, наверное, есть доля истины, хотя с полной уверенностью полагаться на психологические объяснения нельзя. Его сословное и финансовое положение, как и гендерная принадлежность, не требовали красоты. Тем более что в культуре XVII в. это понятие было далеко не однозначным. Литературные портреты, о которых речь пойдет ниже, показывают, что помимо правильности черт и хорошего сложения в человеке ценилась общая приятность: сегодня мы назвали бы это качество обаянием. Не меньшую роль в оценке красоты играли происхождение, воспитание, умение держать себя, богатство и «галантность» наряда. Другой герой этой книги, известный своей романтической биографией граф де Лозен, тоже был некрасивым коротышкой, однако об этом мало кто упоминает: внешние недостатки с лихвой искупались сословными достоинствами. В отличие от него, Пелиссон не носил расшитых камзолов. Протестант и магистрат, он должен был одеваться в темные цвета (хотя письмо госпожи де Скюдери, где она сравнивает «Аканта» с осами, «столь любящими сладкое и покрытыми золотом», заставляет думать, что ее друг был неравнодушен к нарядам, — а своей любви к сладостям он никогда не скрывал). Осанка выдавала в нем человека неблагородного происхождения, который посвятил юность университетским занятиям, а не искусству верховой езды и военным забавам. Строго говоря, имей он самые правильные черты лица, этот факт вряд ли удостоился бы внимания со стороны современников.
Парадокс в том, что безобразная внешность Пелиссона становилась заметной и культурно значимой лишь в момент появления «Аканта», когда он выходит за рамки традиционной роли протестанта и магистрата. Это не делало из него своеобразного «мещанина во дворянстве», хотя манеры «Аканта» не были манерами человека в скуфье (что и обеспечивало повышенное внимание к его облику). В отличие от мольеровского господина Журдена, Пелиссон не пытался узурпировать чужую социальную идентичность. Существование «Аканта» протекало в плоскости, где сословные различия отступали перед общностью культурных установок. Новые имена с их греко-латинскими ассоциациями были отсылками к знаниям и интеллектуальным привычкам, в равной мере свойственным образованным представителям третьего сословия и дворянства. При этом тот факт, что «Артениса» — это маркиза де Рамбуйе, принадлежавшая к высшей титулованной знати, а «Акант» — Поль Пелиссон, не приобретший даже личного дворянства, как бы отходил на задний план. Иными словами, перед нами яркий пример смены ролевого репертуара, когда рядом с прежними конфессиональными, сословными и профессиональными критериями возникает еще один, критерий культурной общности. Он не отменяет все предшествующие, но как бы накладывается поверх них. Нет сомнения, что в любой формальной ситуации маркиза де Рамбуйе или Пелиссон вели себя так, как того требовало их положение. Однако в других ситуациях для них было возможно превращаться в «Артенису» и «Аканта». Это не происходило спонтанно: почти всю первую половину XVII в. маркиза де Рамбуйе и ее окружение активно и вполне сознательно занимались созданием особого пространства, в котором такие превращения стали бы возможны. Его можно назвать пространством салонной культуры, хотя такое определение заметно понижает значимость феномена, о котором идет речь. Точнее будет сказать, что это — пространство частной жизни.
О частной жизни и маркизе де Рамбуйе
Одна из первых формулировок концепции частной жизни обнаруживается в тексте 1639 г., озаглавленном «Продолжение живого разговора, или О беседе римлян»:
Вы пожелали, сударыня, дабы я явил вам римлян тогда, когда они скрывались от взглядов, дабы мною были приоткрыты двери их кабинетов. Зрев их во время церемоний, вы теперь хотите увидеть их за беседой и через мое посредство узнать, могло ли сие столь праведное и возвышенное величие подчиняться обычаям обычной жизни, и от дел и высоких постов снисходить до игр и развлечений.[6]
Эти римляне, о чем-то беседующие за закрытыми дверьми своих кабинетов, мало отвечают нашим представлениям об обитателях Древнего Рима. Но недоразумение легко разрешить, если вспомнить, что в XVII в. «кабинетом» именовался самый дальний, изолированный от внешнего мира покой дворца или богатого дома. Там уединялись для чтения и письма, для разговоров с глазу на глаз; там же хранили ценности. Кабинет — наименее публичное пространство из тех, что были в распоряжении человека середины XVII столетия. Иными словами, автор предлагает своей собеседнице рассказ о частной жизни древних героев.
Процитированный отрывок взят из сочинения Геза де Бальзака, обращенного к маркизе де Рамбуйе. Возможно, что, если бы не она, автору не пришло бы в голову искать римлян за закрытыми дверьми. Катрин де Вивонн де Савелли родилась в Риме. Ее мать принадлежала к знатному римскому семейству, а отец, маркиз де Пизани, был французским посланником при Римской курии. В 1600 г. Катрин привезли во Францию и выдали замуж за маркиза де Рамбуйе. Рождение семерых детей ослабило ее здоровье, хотя вряд ли существенно его подорвало, учитывая, что маркизе предстояла долгая жизнь. Тем не менее приблизительно в 1615 г. она перестала ездить ко двору. Трудно в точности оценить, чем помимо слабого здоровья было обусловлено подобное решение. С одной стороны, нельзя исключать политическую подоплеку. После убийства Генриха IV в стране шла борьба между мятежными принцами и партией двора, в свою очередь поделенной на приближенных Марии Медичи и окружение юного Людовика XIII, который только что был объявлен совершеннолетним. Противоборство итальянской и французской части двора в итоге закончилось в 1617 г. известной расправой над фаворитом королевы-матери Кончини. Можно предположить, что вряд ли такая расстановка сил была приятна госпоже де Рамбуйе. Отказ от придворной жизни давал возможность выйти из игры, не принимая ничьей стороны. Но не исключено и несколько иное, тоже сугубо придворное объяснение. В 1615 г. был заключен брак между Людовиком XIII и Анной Австрийской. Появление молодой королевы неизбежно влекло за собой перемены в составе двора, комплектование нового штата придворных кавалеров и дам, так называемого «дома» королевы. Госпожа де Рамбуйе могла удалиться от двора, чтобы избежать назначения в штат Анны Австрийской — должности почетной, но крайне хлопотной, учитывая юный возраст коронованной особы, которой в то время было 14 лет. Или же, напротив, ее поступок был продиктован обидой на то, что такого рода должность ей не была предложена. В пользу последнего предположения свидетельствует неприязнь, которую она испытывала к Людовику XIII. Как сообщает Таллеман де Рео, «маркиза его не выносила, он был ей чрезвычайно неприятен: что бы он ни делал, она всегда видела в этом нарушение приличий».[7]
Итак, по тем или иным причинам маркиза отказалась от придворного существования. Как правило, альтернативой ему служил сельский образ жизни: для знатного семейства было естественно жить в своих владениях, следить за хозяйством, своей волей решать дела всей округи, лишь время от времени наезжая в Париж. Однако госпожа де Рамбуйе осталась жить в городе. Это был далеко не однозначный выбор, казалось обрекавший ее на затворничество. Городское пространство в значительной мере оставалось буржуазным, структурировавшимся за счет родственных и соседских отношений. Как показывают более поздние данные, в каждом квартале имелась своя специфика (скажем, квартал Маре был населен семьями магистратов) и свои центры притяжения (так, в 1650-х гг. в Маре сложился круг госпожи де Скюдери). Однако соседские структуры не включали аристократические дома, сохранявшие свою культурную и сословную автономность. Вспомним еще один поздний пример: героиня «Принцессы Клевской» (1678) большую часть времени проводит при дворе, а в городском доме принимает формальные визиты, строго регламентированные светскими приличиями. Когда она становится вдовой, то герою приходится приложить немалые усилия, чтобы добиться с ней встречи: она больше не бывает при дворе, а в городе ее можно увидеть лишь на прогулке или в доме родственников. Госпожа де Лафайет писала свою повесть уже совсем в иную эпоху, нежели та, на которую пришлась молодость госпожи де Рамбуйе. Не говоря о том, что описываемые ею события отнесены к концу царствования Генриха II, погибшего в 1559 г. Тем не менее целый ряд особенностей аристократического быта был мало подвержен изменениям. Сама госпожа де Лафайет, бывая при дворе, посещала в городе лишь близких подруг и родственников и мало кого принимала у себя (по-видимому, такой образ жизни был обусловлен как слабым здоровьем графини, так и ее слегка двусмысленным положением: она жила врозь с мужем, почти безотлучно проводившим время в своих землях). Поэтому «Принцесса Клевская» прекрасно иллюстрирует проблему, с которой пришлось столкнуться маркизе де Рамбуйе: проблему отсутствия промежуточного культурного пространства между этикетной и семейной сферой. Жизнь в городе предполагала не их компромисс, а наихудшее сочетание визитов вежливости и докучных родственников.
Однако госпожа де Рамбуйе сумела создать такое пространство, которое в равное степени отстояло от этикета и от семейной рутины. В устроенной ею «голубой комнате» (по свидетельству Таллемана де Рео, «маркиза первая придумала применять для отделки комнат не только красный или коричневый цвет»)[8] постепенно начало собираться небольшое общество, соединявшее как образованных вельмож, так и незнатных людей, примечательных своими талантами. Это не означало, что их принимали как равных: дистанция между титулованной аристократией и представителями даже верхних слоев третьего сословия была очень велика. Но в «голубой комнате» на первый план выходило не положение человека, а его «вежество» (civilité) и способность быть приятным обществу. Поэтому в кругу госпожи де Рамбуйе одну из ведущих ролей мог играть Венсан Вуатюр, сын амьенского виноторговца. Конечно, будучи наследником немалого состояния, он получил прекрасное образование в коллеже де Бонкур, где его соучениками были отпрыски знатных родов. Все это помогло ему сделать блестящую карьеру сперва в окружении Гастона Орлеанского, а затем обратить на себя внимание кардинала де Ришелье. Тем не менее в особняке Рамбуйе его принимали не вопреки происхождению и не благодаря служебным заслугам, а потому, что он был прекрасным собеседником и, безусловно, лучшим светским поэтом своего поколения. Как сказала маркиза, когда после смерти Вуатюра ей кто-то заметил, что покойный был не лишен ума: «Неужто вы полагаете, что его всюду принимали благодаря его происхождению или стройному стану?»[9]
Тут нужно уточнить: общество, собиравшееся вокруг госпожи де Рамбуйе, не было ученым или литературным. Эти функции исполняли так называемые академии, в ту эпоху еще не имевшие институционального характера. Напомним, что Французская академия получила официальный статус лишь в 1634 г., а до этого существовала в виде кружка литераторов, душой которого был Валантен Конрар — мы еще его встретим в окружении госпожи де Скюдери. Или, если взять другой пример, пользовавшаяся заслуженной известностью не только во Франции, но и за ее пределами «Путеанская академия» собиралась в библиотеке историка Жака-Огюста де Ту, хранителями которой были братья Пьер и Жак Дюпюи. Библиотека служила естественным центром притяжения для юристов и историков, которым в работе был необходим доступ как к печатным, так и к рукописным документам. Но получить его можно было лишь благодаря рекомендациям и научным заслугам, поскольку практически все библиотеки той эпохи оставались частными собраниями. Библиотека президента де Ту привлекала не только своим богатством; одним из главных ее достоинств были хранители. Без их доброй воли посетитель вряд ли мог надеяться найти все необходимые материалы: принципы каталогизации и расстановки книг были известны только им. Они же могли подсказать, к каким трудам обращаться по тем или иным вопросам и какие авторы заслуживают или не заслуживают доверия. Собственно говоря, в этом и заключалась деятельность «Путеанской академии»: ученые работали в библиотеке, советовались друг с другом, обсуждали научные вопросы и обменивались новостями о новых изданиях, находках и открытиях.
Круг госпожи де Рамбуйе был предельно далек от такого рода занятий с их ярко выраженным профессиональным уклоном. В особняке Рамбуйе читали стихи, исполняли музыкальные сочинения, порой устраивали небольшие театральные представления, однако все это было лишь частью практиковавшегося там искусства общения, или, как тогда говорили, беседы. А его первым и непреложным условием выступало освобождение от слишком жесткого сословного, профессионального и даже конфессионального детерминизма. Завсегдатаи «голубой комнаты» вели беседы не как католики с протестантами, или вельможи с буржуа, или военные с судейскими. Тем более что им приходилось считаться с присутствием дам, которые в силу своего положения в обществе и образования находились вне сферы многих мужских интересов. Скажем, детальный рассказ о военной кампании или о сложном судебном деле, равно как о достижениях в области исторической хронологии, вряд ли мог захватить внимание всего общества. Напротив, чтение стихов и поэтические импровизации, которыми славился Вуатюр, музицирование и пение, различные светские игры и театрализованные сюрпризы способствовали становлению нового типа общения. Он был обращен не к сословным и профессиональным навыкам, а в первую очередь к культуре человека, к его «вежеству», которое играло роль своеобразной нейтральной территории, где образованные люди могли вести беседы о вещах, не затрагивавших их жизненные интересы. В этом, по мнению эпохи, и заключалась суть «цивилизованного» состояния.
Когда Гез де Бальзак в 1639 г. работал над «Продолжением живого разговора, или О беседе римлян», рисуемый им образ внепубличного существования римлян был напрямую связан с культурной практикой особняка Рамбуйе. К слову, сам писатель не входил в число его завсегдатаев (по мнению некоторых историков, он вообще не переступал порога дома маркизы). С начала 1620-х гг., отчаявшись добиться у Ришелье какой-нибудь заметной государственной должности, Бальзак почти безвыездно жил в своих землях. Его основным средством сообщения с внешним миром была переписка. В частности, в Париже его ближайшим корреспондентом был поэт Жан Шаплен, игравший не последнюю роль в особняке Рамбуйе и служивший посредником между писателем и маркизой. Так что название бальзаковского опуса не следует воспринимать буквально: «живого разговора» могло и не быть. Апеллируя к образу устной беседы, Бальзак приспосабливал свое произведение к эстетике «голубой комнаты», подчеркивал его максимальную удаленность от «педантизма», то есть от профессиональной учености. При этом, как часто можно наблюдать в похвальных жанрах эпохи, его речь не только обращена к маркизе, но до некоторой степени ей посвящена. Древние римляне и посетители особняка Рамбуйе составляют два параллельных сюжета, которые писатель то накладывает один на другой, то, наоборот, десинхронизирует.
Обращаясь к римской теме, Бальзак учитывал не только ее общекультурный потенциал. Госпожа де Рамбуйе по рождению принадлежала к римским патрициям, и в этом символическом ряду древние римляне были ее предками. Соответственно, похвальная речь им была панегириком ей. Но это лишь одна сторона смысловой игры. Из бальзаковского описания древнеримского образа жизни можно было сделать вывод, что он почти во всем соответствовал той модели, которую осуществляла маркиза в особняке Рамбуйе. Такая перекличка подтверждала ее не только кровную, но духовную «римскость». Нет нужды говорить, что моральный престиж Рима во всем, что касалось устройства общественной жизни, не имел себе равных. Не случайно, что в более поздних записях другого литератора, Жана де Сегре, с которым мы еще встретимся, можно видеть шутливую попытку сделать обратное — из духовного сродства вывести кровное:
По поводу возвышенных чувств у господина Корнеля, достойных Рима, я у него спрашивал, нет ли в его семействе какого-нибудь свидетельства или традиции, что оно ведет происхождение от Корнелиев, бывших самыми славными и отважными среди римлян; ибо, говаривал я ему, уверен, что вы — их потомок.[10]
Играя на сходстве имен, Сегре предлагал неожиданную генеалогию великого драматурга: «римские» чувства должны были свидетельствовать о римском происхождении. У Бальзака, поскольку речь шла о настоящей римлянке, круг замыкался — происхождение госпожи де Рамбуйе гарантировало благородство ее чувств, которое служило еще одним признаком высокого происхождения. Она — благородная римлянка в обоих смыслах, и в символическом плане, и в действительности. Бальзак не сравнивал древних римлян с обществом особняка Рамбуйе; обе группы существовали отдельно и порознь, не отдавая себе отчета в наличии двойника. Их точка пересечения — сама маркиза, которая присутствовала сразу в двух реальностях.
Эта риторическая конструкция не позволяет нам судить, увидел ли Бальзак в «голубой комнате» особняка Рамбуйе аналог «кабинетов» древних римлян, или же кружок маркизы заставил его предположить существование такого рода практик в историческом прошлом. Иначе говоря, мы не находим ответа на вопрос, в какой мере деятельность госпожи де Рамбуйе воплощала уже сформировавшийся общественный идеал или, напротив, способствовала его возникновению.
О римлянах и кабинетах
Римляне и кабинеты фигурируют не только у Бальзака, но и в знаменитом письме Макиавелли от 10 декабря 1513 г., описывающем жизнь в деревенской ссылке:
Встаю я с солнцем и иду в лес, который распорядился вырубить; здесь в течение двух часов осматриваю, что сделано накануне, и беседую с дровосеками, у которых всегда в запасе какая-нибудь размолвка между собой или с соседями <…>
Выйдя из леса, я отправляюсь к источнику, а оттуда на птицеловный ток. Со мною книга, Данте, Петрарка или кто-нибудь из второстепенных поэтов, Тибулл, Овидий и им подобные: читая об их любовных страстях и увлечениях, я вспоминаю о своем и какое-то время наслаждаюсь этой мыслью. Затем я перебираюсь в придорожную харчевню и разговариваю с проезжающими — спрашиваю, какие новости у них дома, слушаю всякую всячину и беру на заметку всевозможные людские вкусы и причуды. Между тем наступает час обеда, и, окруженный своей командой, вкушаю ту пищу, которой меня одаривают бедное имение и скудное хозяйство. Пообедав, я возвращаюсь в харчевню, где застаю обычно в сборе хозяина, мясника, мельника и двух кирпичников. С ними я убиваю целый день, играя в трик-трак и в крикку; при этом мы без конца спорим и бранимся и порой из-за гроша поднимаем такой шум, что нас слышно в Сен-Кашано. Так, не гнушаясь этими тварями, я задаю себе встряску и даю волю своей проклятой судьбе — пусть сильнее втаптывает меня в грязь, посмотрим, не станет ли ей наконец стыдно.
С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет; у дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное царей и вельмож; так, должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности и, дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственно я рожден; здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же с присущим человеколюбием отвечают. На четыре часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не удручает бедность и не страшит смерть: я целиком переношусь к ним.[11]
Как отмечает Л. М. Баткин, эта «антитеза двух реальностей, обыденной и духовной, в которых должен жить гуманист» предвещала «скорый кризис ренессансного сознания».[12] Однако для нас показателен не только исторический смысл этого противопоставления, но и его структура. Дневная жизнь Макиавелли была поделена между исполнением обязанностей хозяина (наблюдение за работой дровосеков), члена общины (заметим, он играл в кости не с крестьянами, а с трактирщиком, мельником, мясником и прочими, то есть с теми, кто составлял элиту сельского общества) и главы дома («команда» — его домочадцы). За исключением времени, посвящаемого чтению итальянских и «второстепенных» латинских поэтов, это было сугубо публичное существование, проходившее на виду у всех и, по-видимому, вполне соответствовавшее коллективным ожиданиям. Другое дело, что сам Макиавелли чувствовал себя втоптанным в грязь, поскольку эти занятия кардинально отличались от прежней должности секретаря второй канцелярии Флорентийской республики. Политическая ссылка повлекла за собой девальвацию и сужение рамок доступного ему публичного пространства: теперь, вместо участия в делах Флоренции и европейских государств, ему приходилось разрешать споры дровосеков. И все же болезненно ощущавшийся Макиавелли переход от «высокой» к «низкой» сфере публичного существования не заставил его плохо играть предназначенную роль. «Не гнушаясь этими тварями», он не пытался устраниться и до конца исполнял требования, диктовавшиеся новым положением вещей, даже если это подразумевало игру в кости с трактирщиком.
Противовесом дневному существованию, полностью обращенному к окружающему его обществу, выступала вечерняя жизнь, когда вместо того, чтобы лечь спать вместе с солнцем, как подобало сельскому жителю, Макиавелли запирался у себя в кабинете. Его дальнейшие действия — неважно, носили ли они метафорический или буквальный характер, — в равной мере можно истолковать и как обряд жреческого очищения, и как смену роли. Действительно, если приглядеться, то описываемая Макиавелли «низкая» реальность обладала всеми чертами комического жанра в его классическом виде: тут и перебранки, и трактирные слухи и сплетни, и чревоугодие, и азартные игры, и намек на сладострастие (Овидий и компания). Меж тем как вечером, облачаясь «в платье, достойное царей и вельмож», он очевидным образом вступал в пространство высокой (добавим: политической) трагедии. Здесь, конечно, трудно не признать компенсаторный характер этой воображаемой роли собеседника великих, которую Макиавелли так и не удавалось сыграть при дневном свете. Не случайно, что возникает она именно в ситуации изгнания, когда отпадение от «высокой» сферы публичной жизни заставляет бывшего секретаря второй канцелярии сохранить ее в «низкой» действительности в качестве некоего параллельного или, если угодно, подпольного существования.
Дневные и вечерние занятия Макиавелли соответствуют характерному для гуманистической культуры противопоставлению жизни деятельной, посвященной исполнению общественного долга (negotium), и досуга (otium). По замечанию Л. М. Баткина, «otium очень близок к тому, что современные социологи называют сферой „свободного времени“, то есть не такого времени, когда человек непременно бездельничает, а когда он принадлежит лишь себе и занят тем, чем ему хочется заниматься, а не тем, чего от него требуют внешние обстоятельства».[13] Кроме этого, из письма Макиавелли видно, что otium связан со специфически личным пространством, каковым в данном случае являлся кабинет. Для человека более состоятельного это могла быть библиотека. Так, в конце XVI в. Мишель де Монтень писал о своей библиотеке:
Это — мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им и оградить его от каких бы то ни было посягательств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя в сущности номинальна и стоит немногого.[14]
Заметим, что в замке жизнь Монтеня проходила «в кругу семьи и среди многочисленных слуг и <…> посетителей»;[15] таким образом, вся домашняя территория была захвачена супружескими, семейными и общественными отношениями. В этом смысле внутреннее пространство дома так же принадлежало к публичной сфере, как и внешнее (скажем, двор или прилегающая часть улицы). Только в кабинете или в библиотеке человек мог выстраивать собственное, индивидуальное пространство. Это не значит, что там он находился в одиночестве. Монтень в своем «убежище» проводил время за чтением, размышлением и диктовкой, из чего легко заключить, что рядом с ним должен был быть секретарь. Бальзак, как мы видели, считал, что древние римляне в своих кабинетах вели разговоры, не предназначавшиеся для широкой публики. Точнее будет сказать, что личное пространство предполагало добровольно избранное, не принудительное общество, чьи состав и численность были целиком на усмотрении хозяина кабинета.
Это общество могло частично или полностью состоять из книг. В уже процитированном эссе «О трех видах общения» из третьего тома «Опытов» (1588) Монтень ставил общение с книгами в один ряд с дружеским и дамским:
Общение первого вида [дружеское] до того редко, что не может спасти от скуки; что касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет… Общение с книгами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.[16]
Как мы видели, Макиавелли тоже представлял чтение как разговор с мудрецами прошлого. Такое общение не сводилось к получению полезной информации. Оно позволяло читателю ощутить себя членом «воображаемого сообщества», где происходил не только обмен идеями, но и живое соприкосновение с личностями давно умерших писателей или их героев. О том, до какой степени был силен этот эффект присутствия, возникавший у читателя, можно судить по популярности «Дон Кихота» (первая часть романа вышла в свет в 1605 г.). Его успех побудил Шарля Сореля использовать аналогичный прием в «Экстравагантном пастухе» (1627), герой которого был добровольным пленником пасторального жанра. Или если изменить угол зрения, то этот же эффект общности культурного пространства угадывался в большом количестве научных подделок и мистификаций, которые не обязательно имели злостный характер, но подчас оказывались плодами чрезмерного вживания в чужую эпоху.[17]
Личное пространство кабинета или библиотеки служило своеобразным полигоном для создания иной сферы, по-своему не менее публичной, нежели современная Макиавелли или Монтеню действительность. Чтение античных авторов создавало новое реферативное поле, делавшее возможным объединение людей не по сословному, конфессиональному или даже профессиональному принципу. Это новое «воображаемое сообщество» состояло из единомышленников — отнюдь не потому, что его члены думали одинаково или об одном и том же, но в силу того, что их мысль была пропущена через один и тот же культурный материал. Можно сказать, что костяк этого «воображаемого сообщества» в не меньшей (а поначалу едва ли не в большей) мере составляли римские классики, а потому оно с легкостью игнорировало временные различия. Как писал в начале XV в. Пьер Паоло Верджерио:
Какой образ жизни может быть приятнее и, без сомнения, полезнее, чем постоянно читать либо писать и познавать вновь открытые деяния древности, нынешние же дела сообщать потомкам и таким образом делать нашим любое время — и прошлое, и будущее?[18]
В сущности, из этого создаваемого чтением и письмом единства прошлого, будущего и настоящего к началу XVII в. и возникает Республика словесности, утверждавшая равенство между живыми и мертвыми, между теми, кто окончательно стал книгой, и теми, кто еще способен взять ее в руки. Но для нас сейчас важна фаза, предшествовавшая даже этой относительной институтализации. Республика словесности не признавала сословных и конфессиональных различий, но ее гражданами были люди, профессионально владевшие книжным знанием, будь то науки, искусства, педагогика и прочее.[19] Меж тем как «воображаемое сообщество», о котором идет речь, включало принципиальных противников профессионализации знания, к которым, скажем, принадлежал Монтень. Так, в эссе «Об искусстве беседы» он указывал на опасность институтализации знания, когда ученость становится корпоративной привилегией и из внутреннего свойства превращается во внешнее:
Сбрось он [магистр] с себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самыми чистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а пожалуй и хуже.[20]
На первый взгляд может показаться, что перед нами французский дворянин, из сословных предрассудков отвергающий ученость. Хотя сословные соображения здесь нельзя полностью сбрасывать со счетов, дело не вполне в них. Для Монтеня, как и для целого ряда его современников, было малоприемлемо признание интеллектуальной деятельности в качестве основной жизненной роли. Это означало, что вместо «воображаемого сообщества» собеседников Цицерона возникал еще один общественный институт, чье появление не обогащало, а обедняло ролевой репертуар культуры. Человек, профессионально занимавшийся Цицероном, лишал себя возможности обретения альтернативной жизненной роли.
Кабинетные занятия Макиавелли и библиотечные досуги Монтеня позволяют увидеть непосредственную связь между появлением нового, индивидуализированного пространства, в котором человек играл выбранную им самим роль, и ренессансным открытием античной культуры. Вернемся к «Продолжению живого разговора», где Гез де Бальзак обещал маркизе де Рамбуйе приоткрыть двери кабинетов и показать римлян за беседой. Мы рассматривали эту ситуацию как попытку найти историческое обоснование новой культурной практики («частной жизни») или, напротив, как опыт актуализации исторического прецедента. Но теперь очевидно, что Бальзак следовал по пути, уже проложенному гуманистами. Для них кабинет был естественным местонахождением римлян: когда в 1513 г. Макиавелли входил в свой, то заставал там мужей древности, охотно с ним беседовавших. Другое дело, что беседа в этом случае выступала метафорой чтения и что речь на самом деле шла о книгах. Бальзаку же приходилось открывать дверь не собственного кабинета, а кабинета римлян, которые, судя по всему, совершенно не желали такого присутствия и пытались от него укрыться. Эта метафорика фиксирует иной уровень знания чужой культуры (со времени Макиавелли ставший более углубленным), когда объектом интереса оказывалась «умалчиваемая» ею информация. Кроме того, она свидетельствовала об ином состоянии общества, в котором люди, в разной степени нечуждые античному наследию, образовывали достаточно широкий круг, чтобы беседовать друг с другом, а не с умершими мудрецами.
О французском и итальянском вежестве
Судя по свидетельству Таллемана де Рео, немалую роль в отказе госпожи де Рамбуйе от придворной жизни сыграло ее итальянское воспитание. Ее мать «нарочно говорила с дочерью по-итальянски, дабы та одинаково владела и этим языком, и французским». Что касается дворцовых приемов, то маркиза уже в молодости «говорила, что не видит ничего привлекательного в том, чтобы наблюдать, как люди толпятся у дверей, стремясь туда попасть, и ей случалось иной раз уходить в дальнюю комнату, дабы посмеяться над дурными порядками, существующими на этот счет во Франции».[21]
Сделаем небольшое историческое отступление. В XVI — начале XVII в. невежество французской знати было одним из общих мест эпохи. Так, в 1528 г. Бальдассаре Кастильоне писал:
Кроме добродетельности главным и истинным украшением души каждого, я полагаю, является образованность. Хотя французы благородным признают одно лишь военное дело, все же прочие занятия не ставят ни во что. Поэтому они не только не ценят науки, но, напротив, гнушаются ими, а всех образованных считают людьми низкими.[22]
Эти слова можно было бы отнести на счет национальных стереотипов, когда бы в «Комической истории Франсиона» (1623) им столетие спустя не вторил парижанин Шарль Сорель. По его наблюдениям, французские придворные, «будучи крайне невежественными», «не только питали отвращение к наукам, но и не могли видеть ни одной бумажонки, которая бы им не претила и не побуждала их к насмешкам».[23] Образованность несла на себе отпечаток профессионализма, то есть буржуазности. Она была необходима тем, кто был связан с административным управлением, а также юристам, финансистам, коммерсантам и части духовенства. Занятием благородного человека была война.
Конечно, не все было столь однозначно. Франциск I покровительствовал наукам и искусствам и в пику Сорбонне основал Коллеж де Франс (1530), призванный стать моделью нового, более светского типа образования. Как напоминает в «Принцессе Клевской» госпожа де Лафайет, по-своему утонченным был двор его сына, Генриха II. Но религиозные войны второй половины XVI в. положили конец культурной политике дома Валуа; потребовалось почти столетие, чтобы королевский двор снова начал играть роль законодателя вкуса. Этим, кстати, объясняется сходство отзывов Кастильоне и Сореля: один еще не успел оценить подъем французской придворной культуры, другой констатировал ее (временный) упадок.
Сословные предрассудки сами по себе не способны объяснить презрение к учености: итальянцы кичились знатностью не меньше французов, тем не менее для них в XVI в. хорошее образование стало одним из желательных и даже необходимых атрибутов благородства. В терминах «аналогии с драмой» можно сказать, что в Италии того времени уже произошло расширение ролевого репертуара, в то время как во Франции превалировало еще средневековое представление об общественных функциях человека. Как показал Дюби, эпоха раннего Средневековья знала деление на мирян и духовенство, на воинов и мирных людей. Эти категории были открытыми и взаимопроникающими. Но к IX–X вв. под влиянием целого ряда причин, в том числе из-за ослабления королевской власти, в Европе постепенно сформировалась новая система взаимоподчинения. Будучи основана на силе, она стирала разницу между свободными крестьянами и рабами, равно подчиняя их хозяину замка. И углубляла различие между носившими и не носившими оружие, которое все чаще обращалось не против внешнего врага, а против окрестных жителей. Так складывалось сословие рыцарей, лишь номинально подчинявшееся королевской власти. Тогда же была сформулирована концепция трех порядков, или трех сословий (первое составляли молящиеся, второе — сражающиеся, третье — пашущие), призванная освятить иерархическую структуру мирского общества (мирская иерархия отражала небесную, ибо равенство не мыслилось и между ангелами). Такой взгляд на устройство социума исповедовали епископы, стремившиеся поддержать светское государство, меж тем как идеология рыцарства скорее сближала его с монашеством. По мнению адептов трехчастного деления общества, спасение души состояло в том, чтобы каждый оставался на месте, определенном ему Господом, и хорошо исполнял свой долг, не пытаясь присвоить себе чужие добродетели.[24] Не случайно, что средневековая культура не знала драматического театра, а лишь мистериальный. Ей осталась чужда театральность, связанная с исполнением человеком не своей роли, с нарушением заведенного порядка.
Когда французское дворянство с презрением отвергало ученость, то в этом можно усмотреть нежелание присваивать чужие добродетели и в каком-то смысле смешивать разные жизненные роли. Вплоть до начала XVII в. оно действительно оставалось военным сословием. Этому способствовала слабость королевской власти и, соответственно, неэффективность двора, который из места пребывания короля еще не превратился в политический институт. Иначе обстояло дело в Италии, разбитой на небольшие государства, отношения между которыми варьировались от прямой вражды до скрытого соперничества. И без того непростое положение вещей усложняли территориальные притязания Испании и Франции. Такая политическая ситуация требовала не только военной силы, но и искусной дипломатии. Здесь стоит вспомнить (печально) знаменитый пассаж из «Государя», где Макиавелли советовал властителю сочетать в себе качества льва и лисы: «…надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана».[25] Заметим, речь не о том, что лисе надо прикидываться львом, или наоборот, а о соединении в человеке двух равноправных сущностей. В зависимости от обстоятельств властитель должен будить в себе то льва, то лису:
Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым — и быть таким в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимым.[26]
Это двуличие — не притворство; Макиавелли намеренно подчеркивает реальность как положительных, так и отрицательных качеств. Перед нами предельно жесткое соединение двух ролей, причем переход от одной к другой чисто ситуативен и не подразумевает психологических (тем более моральных) обоснований.
Двойственность государя — а Макиавелли не устает напоминать, что в первую очередь имеет в виду новых правителей, недавно пришедших к власти, — соответствует функциональной гибкости всего правящего сословия. Ярким тому свидетельством может служить биография уже упомянутого графа Бальдассаре Кастильоне, который, как подобало дворянину, был военным, однако не меньше сил отдал дипломатическому поприщу. Ему же принадлежит известный трактат «Придворный», написанный в 1507–1516 гг. и впервые опубликованный в 1528 г. В сущности, книги Макиавелли и Кастильоне образуют своеобразный диптих. Но если бывшего секретаря второй канцелярии больше волновали глобальные политические проблемы и в конечном счете объединение Италии, то дипломат был озабочен взаимоотношениями государя и его непосредственного окружения. Как подчеркивает Карло Оссола, Кастильоне стремился сформировать придворного, который был бы способен сформировать государя.[27]
С точки зрения Кастильоне, для придворного прежде всего важно происхождение, поскольку благородная кровь дает дополнительный символический капитал в виде известного имени и репутации. Человек незнатный может обладать самыми высокими качествами, но ему придется потратить больше сил, чтобы их обнаружить, и общество в целом отнесется к нему с меньшим доверием, чем к дворянину, несущему двойную ответственность перед своими предками и потомками. Иными словами, благородное происхождение служит залогом относительной предсказуемости образа действий придворного, тогда как отсутствие благородства дает ту степень свободы, которая в первую очередь опасна для властителя.
Кроме того, придворный должен быть наделен физической силой и ловкостью, умением владеть разными видами оружия, ибо его основное призвание — война. В этом Кастильоне единодушен с Макиавелли, который полагал, что «государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки».[28] Однако если у государя приверженность военному делу обусловлена политической необходимостью, то у придворного она имеет двойное обоснование: благородный человек обязан быть воином и в силу происхождения, и в соответствии с потребностями государства. В этом смысле государь заинтересован в том, чтобы его окружали люди благородные, для которых война — естественное занятие.
Но воинское призвание придворного не должно проявляться во всех его действиях, которым следует быть свободными от аффектации:
Насколько привлекательнее и уважаемее дворянин, что носит оружие, но при этом прост, скромен в речах и не кичлив, нежели другой, который только и знает хвалить себя да, изрыгая угрозы и ругательства, делать вид, что бросает вызов всему миру![29]
Нельзя не заметить, что похвальба, ругательства и показная воинственность — типичные черты маски Капитана из комедии дель арте. Вот как ее описывает в своей комедии «Ярмарка» (1618) Микеланджело Буонаротти Младший:
…Смотрите, Как Капитан Кордон стоит заносчив. Нога вперед; как черные усища Закручены свирепо — Знак кровожадности и бессердечья; Он руку левую на портупее Все держит наготове, чтобы правой Извлечь свой меч и горы Перерубить, проникнуть в преисподню. Рога Плутону срезать и, схвативши Его за хвост и обмакнув, как в луже, В болоте Стикса, тут же Живого и сырым сглотнуть…[30]Помимо гипертрофированной демонстрации отваги поведение Капитана отличается неуместностью. Он хвастается перед теми, кто для него не представляет угрозы, и избегает ситуаций, которые могли бы закончиться поединком. Аналогичным образом кичливый придворный у Кастильоне не соизмеряет свое вербальное поведение с конкретными обстоятельствами:
Мы не желаем <…>, чтобы он [Придворный] держал себя надменно, все время бравируя словами вроде «броня — моя жена» и бросая вызывающе дерзкие взгляды, которые, как мы видели не раз, способен изобразить [шут] Берто. К подобным людям вполне подходят слова, остроумно адресованные одной достойной дамой в благородном обществе некоему сеньору <…>: оказывая ему честь, она его пригласила танцевать, но он отказался от этого, а также от предложения послушать музыку и от многих других развлечений и все повторял, что такие безделицы — не его занятие; дама наконец не выдержала:
— Какое же занятие ваше?
Он ответил:
— Война.
Дама сразу нашлась что сказать:
— Поскольку, я полагаю, нынче вы не на войне и не собираетесь сражаться, то было бы прекрасно, если бы вы велели хорошо себя смазать и вместе со всеми вашими воинскими доспехами упрятать в чулан до той поры, пока в вас не будет нужды, дабы не покрыться ржавыми пятнами еще сильнее, чем сейчас.[31]
Остроумный ответ дамы подчеркивает отсутствие ролевой гибкости у ее собеседника. Он не в силах выйти за пределы своей прямой функции, которая здесь превращается в театральную маску. Подобно марионетке, вояка должен быть убран в чулан вместе с доспехами вплоть до того момента, когда сюжетные перипетии — война — потребуют его присутствия.
Кичливому воину недостает того, что Макиавелли назвал внутренней готовностью проявлять диаметрально противоположные качества. Именно поэтому он оказывается похож на маску комедии дель арте, чей характер остается неизменным в любых обстоятельствах. Говоря современным языком, ему недостает психологической глубины — способности быть не только воином, но и человеком. Это очевидное противопоставление социальной функции и общечеловеческих ценностей само по себе является признаком расширения репертуара жизненных ролей. Причем не исключено, что в сильной позиции здесь находятся не общечеловеческие качества (в первую очередь перед нами человек, а уже затем воин, дипломат и пр.), а наоборот. Быть воином — не только сословная, но и духовная обязанность дворянина, его религиозный долг. Становясь придворным, он не отказывается от воинского призвания, которое по-прежнему остается его высшим предназначением. Однако ему приходится затушевывать, маскировать внешние признаки своей истинной функции. Таким образом, для благородного человека придворная жизнь в буквальном смысле слова связана с самоотречением, с необходимостью стать кем-то другим.
Здесь стоит обратить внимание на развлечения, которые дама предлагала своему несговорчивому собеседнику. В первую очередь это танцы и музыка. Действительно, по мнению Кастильоне, придворный должен уметь танцевать, петь и играть на нескольких инструментах. Такого рода навыки были традиционно связаны с женским воспитанием, чем объясняется нежелание воина заниматься подобными «безделицами». Однако по своей природе двор — потенциально женское пространство, хотя бы потому, что его ядром является «дом» правителя (а внутренний домашний уклад обычно ассоциируется с женской сферой деятельности, тогда как жизнь за стенами дома — с мужской). Вступая в пространство двора, придворный вынужденно преображается в андрогинное существо, соединяющее в себе качества мужчины и женщины, того, кто умеет сражаться, и той, что умеет угождать. Не случайно, что в портрете Кастильоне, написанном Рафаэлем в 1515–1516 гг., были подчеркнуты именно андрогинные черты. Ведь, как думали современники и как признавал сам дипломат, образцом для идеального придворного служил он сам: «…говорят, что я хотел изобразить себя самого, и <…> что все свойства, которыми я наделяю Придворного, заключены во мне».[32] Портрет Рафаэля указывал на эту двойственность, где сквозь конкретные черты проглядывал идеальный тип со всей его идеологической двусмысленностью.
Естественно, что самоотречение придворного имеет ярко выраженный политический смысл: тем самым он показывает правителю свою готовность подчиниться. Как отмечает Карло Оссола, с этой точки зрения трактат Кастильоне написан отнюдь не ради выгоды придворного. Овладевая арсеналом «женской» социабельности, где важную роль играли музыка, танцы и светские игры, придворный «цивилизовался», однако оборотной стороной этого процесса была его «феминизация». Напротив, для женского окружения правителя жизнь при дворе предоставляла возможность большего приобщения к сферам «мужской» компетенции. Как известно, сюжетной канвой для «Придворного» служит светская игра, в которой участвуют приближенные герцога урбинского Гвидобальдо Монтефельтро и придворные дамы его супруги, Елизаветы Гонзага. Они перебирают разные темы для разговора — достоинства и недостатки любимой особы, зачатки одержимости в каждом человеке, удовольствие от любовных ссор и их причины — и в конце концов решают составить портрет совершенного придворного. Список отвергнутых предложений позволяет нам лучше понять, почему Кастильоне именовал это занятие игрой. Очевидно, что по сути это — риторическое упражнение, апеллирующее к навыкам публичной речи, прививаемым мужским образованием. Однако, в отличие от настоящих диспутов, его предметом служат не насущные проблемы политической или духовной жизни, а психологические тонкости отношений. Это занятие можно уподобить популярным в ту эпоху «каруселям» — парадным турнирам, чьи участники показывали свою ловкость в обращении с оружием и верховой езде, но не вступали в настоящие поединки. Совершенство техники при отсутствии практических целей — таково определение светской игры.
Вернемся к кичливому воину. Его поведение построено на отказе от игры (которая, напомним, есть самоотречение). Парадоксальным образом именно это превращает его в театральный персонаж, тогда как образ действий придворного скорее анти-театрален. Воин гордо демонстрирует свою суть, придворный ее затушевывает. В связи с этим Кастильоне вводит понятие раскованности (sprezzatura), обозначая им умение скрывать усилия, потраченные на приобретение того или иного мастерства. Все в придворном должно отличаться «безыскусной и чарующей простотой», [33] которая выступает в качестве своеобразного защитного покрова, наброшенного поверх более чем реального искусства. Чем совершеннее придворный, тем меньше в нем приметных качеств и тем труднее его опознать. Именно поэтому он нуждается в описании. В отличие от воина, исполняющего свое предназначение, его поступки не могут считаться образцовыми без дополнительного объяснения. Не случайно Кастильоне поднимает вопрос, может ли придворный хвалить самого себя, и отвечает на него положительно, поскольку в противном случае его герою грозит опасность быть не оцененным «невежами». Однако он советует делать это не напрямую, а путем создания таких речевых ситуаций, когда похвала покажется объективной, идущей от сути вещей, а не от рассказа о них. Несколько утрируя, можно сказать, что структурируемый им новый культурный тип «придворного» по своей природе не театрален, а в буквальном смысле литературен, поскольку является толчком к созданию нарратива.
Сделаем еще один шаг назад. С точки зрения литературной генеалогии «Придворный» продолжал традицию ренессансного диалога, возникшую как подражание диалогу античному. Все его персонажи — реальные исторические лица, действительно присутствовавшие при дворе герцога урбинского в марте 1507 г. Они не только обсуждают качества идеального придворного, но каждый из них по-своему является его моделью. В этой собирательности образа и состоит его совершенство: Кастильоне, конечно, не мог удержаться и не вспомнить легенду о живописце Зевксисе, который, чтобы изобразить идеальную красоту, заимствовал черты пяти разных красавиц.[34] Диалогическая форма позволила автору «Придворного» запечатлеть процесс коллективного творчества, который одновременно являлся процессом саморефлексии. Почему, собственно говоря, участники беседы отдают предпочтение обсуждению совершенного придворного, а не удовольствия от любовных ссор? По-видимому, этот выбор привлекателен для них тем, что напрямую связан с осознанием себя как особого рода сообщества. Через «собирание» образа придворного они утверждают собственную групповую идентичность, которая неизбежно становится политическим фактором. Один придворный не может сформировать властителя, однако это по силам придворному сообществу, объединенному вокруг общего идеала.
Эта вполне реальная политическая и культурная общность формируется в процессе самоописания, сперва устного (беседы при урбинском дворе), затем письменного («Придворный»). Его основой служат не общие воспоминания — кстати, когда Кастильоне публикует свой труд, вспоминать об этих урбинских вечерах уже практически некому, — а общий вымысел. Грубо говоря, участники разговора не конструируют историю, а сочиняют коллективный роман. Они не рассказывают о деяниях своего героя, поскольку жизнь при дворе означает относительную бездеятельность. Их интересуют его «нравы» в широком понимании этого слова, или, если угодно, его психология. Здесь опять-таки будет уместно вспомнить «Принцессу Клевскую» госпожи де Лафайет, справедливо считающуюся одним из первых психологических романов. Не случайно, что его действие почти полностью сосредоточено в пространстве двора, которое в силу своих особенностей побуждает героев к интерпретации поступков окружающих и к самопониманию.
Таким образом, если ученые собеседники Цицерона, о которых шла речь выше, конструировали особый тип «воображаемого сообщества» из книг и их читателей, то участники урбинских бесед создавали новую социокультурную общность, нарративизируя собственное существование. В обоих случаях расширение ролевого репертуара происходило через посредство литературы. Именно этого элемента олитературивания социальных отношений госпожа де Рамбуйе не могла найти при французском дворе.
Придворное общество французского образца
В XVI — первой половине XVII в. французский двор не имел постоянного состава и не был связан с определенным образом жизни. Как пишет историк Жан-Мари Констан, пребывание при дворе было обязательным для нескольких групп людей: во-первых, для членов королевской семьи, включая ее боковые ветви. Во время правления Людовика XIII отсутствие при дворе его брата, Гастона Орлеанского, было признаком неповиновения, возможно, мятежа. Во-вторых, при дворе собирались «друзья» короля, то есть те, кто поддерживал королевскую власть в ее борьбе с непокорной аристократией. Генрих III первым начал приближать к себе не представителей высшей знати, а дворян, пользовавшихся уважением и весом в своих провинциях, на верность которых он мог рассчитывать. Из них, в сущности, складывалась верхушка управленческого аппарата. Так, гасконец д’Эпернон, пользовавшийся полным доверием короля, практически исполнял обязанности первого министра. Возвышение кардинала де Ришелье происходило по такой же схеме: сначала ему удалось завоевать доверие королевы-матери, затем стать посредником между ней и сыном — и в итоге доказать свою безусловную верность Людовику XIII. В-третьих, при дворе должны были находиться кавалеры и дамы, исполнявшие придворные должности.[35]
Религиозные и политические смуты конца XVI в., усугубленные династическим вопросом, поставили королевскую власть перед необходимостью ослабить военную и правовую мощь крупного дворянства, во многом сохранявшего средневековую независимость. Как подчеркивал Норберт Элиас, узаконив практику продажи должностей, Генрих IV сделал важный шаг к усилению позиций богатых слоев третьего сословия.[36] Из его рядов начало формироваться так называемое «дворянство мантии»: целый ряд судейских, муниципальных и финансовых должностей был сопряжен с получением личного дворянства. А поскольку они зачастую передавались от отца к сыну, то в пределах двух поколений и такое дворянство становилось наследственным. Уже во второй половине XVI в. этот финансово благополучный и хорошо образованный слой, воспитанный на изучении римского права, показал себя сторонником укрепления государственной власти. Неудивительно, что французские короли искали в нем союзника в борьбе с еще не слишком покорным родовым дворянством. Наиболее последовательно эту политику проводил Людовик XIV, следивший за тем, чтобы ключевые посты в государстве занимали люди незнатного происхождения, которые, в отличие от аристократии, были влиятельны не сами по себе, а благодаря полученной должности и милостям короля.
Продвижение «дворянства мантии» помогло королевской власти создать новый аппарат управления, постепенно монополизировать фискальные функции и утвердить свое исключительное право на законное насилие. Однако, ограничивая сферу компетенции «дворянства шпаги», государство ни в коем случае не стремилось к его сословному умалению. Оно было необходимо и в качестве военной силы, и в качестве естественного противовеса амбициям «дворянства мантии». Что касается королевского двора, то он брал на себя функции арбитра между двумя противоборствующими группами, на самом деле искусно ими манипулируя. Эту специфическую политическую конфигурацию Норберт Элиас назвал «придворным обществом». Такое определение имеет двоякий смысл: с одной стороны, придворный круг являлся самостоятельным социокультурным явлением и мог быть рассмотрен как сообщество особого рода. С другой — речь шла о таком типе общества в целом, чьей отличительной чертой являлось наличие двора (чтобы избежать путаницы, назовем его «обществом двора»). Иными словами, по отношению к Франции XVII в. мы вправе говорить об «обществе двора», точно так же, как по отношению к современности мы говорим об «обществе потребления».
В политическом отношении «общество двора» можно считать одной из предпосылок успешного существования абсолютистского государства. Соперничество между двумя частями высшего сословия не позволяло им контролировать королевскую власть (как, скажем, это происходило в Англии). Напротив, чем сильнее было напряжение между ними, тем самодержавнее становился монарх, превращаясь в подлинное средоточие власти. Степень могущества подданного определялась уже не его собственными качествами (родовитостью, богатством и пр.), а близостью к королю. Эта центростремительная конструкция власти служила своеобразной ловушкой для придворных. Как уже было сказано, французские короли, и в особенности Людовик XIV, предпочитали не доверять важные государственные посты родовитому дворянству. Но отлучение аристократии от высоких должностей было чревато мятежами знати, еще в первой половине XVII в. представлявшими серьезную опасность для королевского могущества. Поэтому Людовик XIV стремился удержать ее при дворе, где она представляла несравненно меньшую угрозу, нежели в своих землях, где каждый влиятельный род располагал разветвленной системой местной поддержки. В качестве приманки здесь выступала возможность «естественной» близости к власти, обусловленной сословным принципом, согласно которому король являлся первым дворянином, то есть природным предводителем и членом дворянского сообщества. Однако Людовик XIV, не оспаривая желание аристократии видеть в нем «первого среди равных», всячески подчеркивал и усиливал не единство дворянского сословия, а его сложную иерархическую структуру. Для этого ему был необходим этикет, делавший зримым различие среди титулованных особ. К примеру, как писал в своих мемуарах герцог де Сен-Симон:
Перед дамами он [король] сразу же снимал шляпу, но только на большем или меньшем расстоянии; перед титулованными особами приподнимал ее на несколько секунд; с простыми дворянами, кем бы они ни были, довольствовался тем, что подносил руку к ней; при встрече с принцами крови он снимал ее…[37]
Жест короля точно соответствовал месту придворного во внутрисословной иерархии (или нахождению за ее пределами, поскольку Людовик снимал шляпу перед всеми женщинами без разбора). И хотя герцог не переставал быть герцогом и вне двора, только здесь он мог получить символическое признание собственного статуса, своими глазами увидеть — и показать окружающим, — как велика дистанция, отделяющая его от всех прочих.
Иными словами, этикет позволял королю использовать аристократический принцип в качестве оружия против аристократии. С одной стороны, он как будто отвечал объективному положению вещей: король приподнимал шляпу перед герцогом вне зависимости от личных симпатий или антипатий. С другой — эта объективность была мнимой и полностью зависела от воли короля. При Людовике XIII, тем более при Генрихе IV, этикета как такового не было, и большая часть заведенных при дворе порядков имела недавнее происхождение. Если бы Людовик XIV вдруг принялся приветствовать всех одинаково, то это, скорее всего, не привело бы к бунту титулованной знати, но лишило бы ее дополнительного стимула находиться в присутствии короля.
Параллельно с этой системой псевдообъективных различий существовала еще одна, открыто зависевшая от личных предпочтений короля. Благодаря жесткой структуре этикета любой знак монаршей благосклонности немедленно превращался в знак отличия. По словам все того же Сен-Симона,
частые празднества, прогулки по Версалю в узком кругу, поездки давали королю средство отличить или унизить, поскольку он каждый раз называл тех, кто должен в них участвовать, а также вынуждали каждого постоянно и усердно угождать ему. Он понимал, что располагает не таким уж большим количеством милостей, чтобы, одаривая ими, неизменно воздействовать на придворных. Поэтому действительные милости он подменил воображаемыми, возбуждающими зависть, мелкими преимуществами, которые со свойственным ему величайшим искусством придумывал ежедневно и, даже можно сказать, ежеминутно.[38]
Эти символические привилегии имели не сословную, а индивидуальную адресацию. Однако по своему характеру обе категории различались незначительно, поскольку и та и другая были связаны с возможностью максимального приближения к королю. Здесь и крылась ловушка: право находиться подле короля отнюдь не давало автоматического приобщения к власти, несмотря на известное утверждение Людовика «Государство — это я». Эта формула абсолютистского правления не столь однозначна, как кажется на первый взгляд. В частности, она отсылает к средневековому представлению о двойной сущности короля, который одновременно обладает физическим и мистическим телом; последнее и представляет собой государство.[39] В рамках этой традиции Людовик мог с полным правом видеть в себе воплощение государства, при всем том не забывая, что он — не только государство, но и человек. Его политика в отношении аристократии использовала эти своеобразные смысловые «ножницы». Приближая к себе титулованную знать, он допускал ее только до своей смертной оболочки, тогда как та все еще надеялась получить возможность распоряжаться его государственным телом. Выразительным тому примером может служить изменение института фаворитизма, еще в начале XVII столетия неразрывно связанного со структурой государственного управления: так, уже упоминавшийся герцог д’Эпернон был сперва фаворитом, а затем уже министром Генриха III. В случае Людовика XIV, его личная благосклонность к герцогу де Лозену или герцогу де Ларошфуко (сыну автора «Максим») давала им статус фаворитов, не обеспечивая их заметным политическим влиянием. Напротив, министры Людовика, в основном рекрутировавшиеся им из рядов крупной буржуазии и делавшие блистательную карьеру, имели политическое влияние, не будучи фаворитами.
Как указывает Элиас, французское дворянство «ясно осознавало укрепление двора как выражение сознательной политики усмирения».[40] Этот репрессивный характер придворного существования подогревал идеологический антагонизм между «дворянством шпаги» и «дворянством мантии». Постепенно утрачивая свои прямые функции — дворянскому ополчению короли все больше предпочитали регулярные части и наемные войска, — «дворянство шпаги» пыталось сохранить признаки символического отличия. В их число, несомненно, входило подчеркнутое отвращение к учености (атрибуту «дворянства мантии»). А еще право на дуэль, то есть на внесудебное решение внутрисословных конфликтов. Дуэль нарушала монополию государства на законное насилие, и с ней на протяжении XVII в. ожесточенно боролись все французские монархи. Тем не менее в первой половине столетия Людовик XIII, подписывая очередной указ о запрещении дуэлей (он это делал в феврале 1626 и в мае 1634 г.), «сам же потешался над теми, кто не дерется на поединках».[41] Эту непоследовательность можно истолковать как свидетельство устойчивости сословного этоса, который легко брал верх над государственными соображениями даже в сознании короля. Но не исключено и обратное. По словам того же мемуариста, Людовик XIII «был немного жесток» и, в частности, любил передразнивать гримасы умирающих.[42] Подписывая указ, он наносил смертельный удар по сословному этосу. Дворянин, пренебрегший запретом на дуэли, мог поплатиться головой: так, в 1627 г. был арестован и казнен Франсуа де Монморанси, граф де Бутвиль. Дворянин, повиновавшийся запрету, в глазах общества утрачивал честь. А как говорит один из героев трагедии Пьера Корнеля «Сид» (1636), «…мы не вправе жить, когда погибла честь» (1, 5).[43] Потеря чести означала утрату идентичности. Возможно, что смех короля был вызван жестоким выбором, перед которым было поставлено «дворянство шпаги»: сохранить верность себе и умереть — или остаться жить, перестав быть собой.
Пьеса Корнеля здесь вспоминается отнюдь не случайно. Любимый драматург поколения Фронды — тех, кто был рожден в 1610 — 1620-х гг. и успел принять участие в политической смуте середины века, — он сформулировал основные идеологические проблемы, стоявшие перед «дворянством шпаги». Заметим, что между центральными персонажами «Сида», чье столкновение служит завязкой действия, нет расхождения в понимании чести; взгляды Дона Дьего, Графа и Родриго полностью совпадают. В каком-то смысле это единый герой, явленный сразу в трех возрастах: почтенный старец, воин в расцвете сил и юноша. Как замечает Дон Дьего, обращаясь к Графу,
Скажу без лишних слов и мыслей не тая: Теперь вы стали тем, чем был когда-то я. Но в этом случае, как видите вы сами, Монарх различие проводит между нами (I, 3).Показательно, что первоначальный разлад между разновозрастными воплощениями этого триединого героя вносит король. Назначив наставником инфанта Дона Дьего (а не Графа), он приводит в действие механизм соперничества, потенциально чреватый гибелью обоих родов. Исследователи неоднократно замечали, что в «Сиде» король играет преимущественно пассивную роль: ему мало кто повинуется, и он оказывается бессилен предотвратить трагический исход столкновения двух семей. Однако с политической точки зрения его невмешательство и есть государственная мудрость. Бросая яблоко раздора между сильными и в значительной степени независимыми дворянскими родами, он уменьшает исходящую от них опасность. Не случайно гибель Графа, который ставит свою честь выше воли короля и верит, что «когда погибну я, погибнет вся держава» (II, 1), в итоге оказывается выгодна государству, поскольку его место занимает более лояльный Дон Родриго.
Корнелевский героический идеал связан с утверждением перманентности личности. Как говорит Эмилия в «Цинне»,
Пусть Цезарь добрым стал — не изменюсь душою. Я та же, что была, и буду впредь такою (I, 2).[44]Это не исключает моментов внутреннего разлада, когда герой колеблется перед принятием решения (классическим примером тому являются стансы Родриго из «Сида»). Или, в случае комедии, разлада внешнего, если герой оказывается не способен на деле подтвердить то, что уже им сделано на словах. По замечанию Жана Старобинского, «когда Корнель пытается насмешить, то источником комического неизменно оказывается разрыв между словом и делом».[45] Однако в «Сиде» это несоответствие слова делу свойственно персонажу отнюдь не комическому. Химена, дочь убитого Графа, отказывается подчиняться логике, которую диктует ей сословный этос. Она заявляет о желании отомстить, но не соглашается сделать это собственными руками. Когда Родриго является к ней, чтобы она смогла исполнить дочерний долг, ответом ему служит апелляция к закону:
Я обвинитель твой, но я не твой палач. Ты клонишь голову, но мне ль ее касаться? Я обличать должна, ты должен защищаться; Я казни требую, убийцу я виню, Но я с тобой сужусь, а не сама казню (III, 4).Иначе говоря, Химена пытается снять с себя часть возложенной на нее ответственности и передать решение судьбы Родриго в руки монарха, который (как она знает) может его помиловать. Из-за этого ей приходится играть роль, на словах изображая мстительницу, тогда как наедине с собой (и с Родриго) она признается в противоположных чувствах. В этом ее жизненный проигрыш: ведь в конечном счете решение короля не способно перечеркнуть тот факт, что ее возлюбленный убил ее отца. В отличие от Родриго и многих других корнелевских героев, Химена не может утверждать «я та же, что была, и буду впредь такою». Она выбирает компромисс.[46]
Случай Родриго и Химены носит вполне теоретический характер, однако их поведение соответствует идеологическим моделям, существовавшим внутри благородного сословия. Как мы увидим, многие исторические персонажи, включая кардинала де Реца, мадмуазель де Монпансье и маркизу де Севинье, объяснялись стихами из пьес Корнеля. Для них это были прецеденты, причем не менее надежные, нежели реальные факты. В этом смысле эффект корнелевской драматургии вполне сравним с воздействием «Придворного» Кастильоне, поскольку в обоих случаях для современников они функционировали как жизненные образцы. Тем заметнее различие между ними. Речь, конечно, не о жанровых и языковых особенностях, которые мы выносим за скобки. Идеальный придворный Кастильоне был способен отрешиться от самого себя и добровольно принять новую роль. Напротив, в лице Родриго корнелевский герой преодолевал наметившуюся раздвоенность и оставался самим собой. Для французского «дворянства шпаги» проявление гибкости и готовность к компромиссу казались утратой идентичности, отпадением от героического идеала. Поэтому если Кастильоне ставил перед собой цель образовать придворного, который образует государя, то насильственно (и вполне сознательно со стороны королевской власти) удерживаемое в ловушке французского двора «дворянство шпаги» могло лишь приспосабливаться к новой политической ситуации. В лице Химены мы видим, что попытки примирить между собой сословный этос и государственную идеологию неизбежно вели к экзистенциальному тупику. Этот конфликт должен был закончиться победой государственности и появлением нового культурного типа — но не придворного (для Франции оставшегося фигурой сугубо отрицательной), а «человека достойного».
От придворного к «человеку достойному»
В 1630-х гг. в Париже произошел случай, запомнившийся современникам. По приказу Луи де Бурбона, графа де Суассон, был избит палками Даниель де Беллюжон, барон де Коппе (или Купе — написание варьируется). Конфликт произошел из-за дамы, бывшей тогда возлюбленной графа. Незадачливый барон повстречал ее вечером в Тюильри и стал нашептывать непристойности. Дама обиделась и пожаловалась графу, а тот послал своих людей наказать обидчика. Эти палочные удары вызвали большой скандал и стали причиной дуэли между бароном и одним из подчиненных графа, руководившим расправой. Вызвать на поединок принца крови, представителя младшей ветви Бурбонов, Коппе, конечно, не мог. Меж тем неудовольствие поступком графа высказал сам король. Дело в том, что, обрекая барона на палочные удары, граф де Суассон ставил под сомнение его дворянский статус. Дворянство Коппе действительно насчитывало немного лет. Его отец, как тогда говорили, был «облагорожен» королем за административные заслуги. Но сын избрал военную карьеру и командовал конным отрядом: это важная деталь, поскольку сословные границы все еще оставались открытыми, и одним из значимых признаков благородства считался образ жизни. Поколотив Коппе, граф задел короля:
Господин Граф оправдывался тем, что это был не дворянин; покойный король этого сильно не одобрял, говоря: «Хотелось бы мне знать, разве я не могу сделать человека дворянином, и ежели отец Купе был облагорожен французским королем, то разве он не должен считаться человеком благородным?»[47]
Надо сказать, что у Людовика XIII были и другие причины для недовольства родичем, который показал себя яростным противником кардинала де Ришелье и неоднократно участвовал в заговорах против министра. Его обращение с Коппе было одним из проявлений более общей проблемы — аристократического бунта против укрепления централизованной власти, против права короля решать, кто находится на какой ступеньке иерархической лестницы. Вполне закономерно, что жизненный путь графа завершился вооруженным восстанием против Ришелье, в ходе которого он был убит случайной пулей.
Но поведение графа в случае с Коппе было неприемлемо и для общества в целом. Если отец барона безусловно принадлежал к «дворянству мантии», обладал профессиональной (наверняка юридической) выучкой и тем резко отличался от «подлинных» дворян, то, избрав военное поприще, он сам уже перешел в ряды «дворянства шпаги». Подвергая сомнению его благородство, граф ставил под угрозу весь механизм сословного продвижения, служивший мощным стимулом для значительной части общества. Этот механизм был основан на постоянной дифференциации социального пространства, отделявшего родовую аристократию от буржуазии. Там, где человек знатный видел непреодолимый разрыв между наделенными и обделенными благородством, человек незнатный усматривал множество промежуточных состояний, позволявших его преодолеть. Их существование зависело от общественного согласия, если угодно, от кооперации между людьми, находившимися на разных этапах сословного продвижения. Его конечным пунктом была не знатность — никому не было дано стать аристократом в первом поколении, — а двор. Благодаря специфической структуре придворное общество одновременно подтверждало значимость внутрисословной иерархии (аристократический принцип) и нивелировало ее, поскольку дистанция, отделявшая абсолютного монарха даже от высшей аристократии, была столь непреодолима, что скрадывала все прочие различия. Этому уравнению позиций естественно противилась знать, и к нему стремились остальные социокультурные группы, не входившие в ее число, — мелкое и среднее «дворянство шпаги», «дворянство мантии», крупная буржуазия.
Когда граф де Суассон обращался с Коппе так, как будто тот был простолюдином, он отказывался признавать законность промежуточных дифференциаций, благодаря которым между ним и этим выходцем из буржуазии могло быть установлено относительное равенство. Но эту альтернативу — непреодолимое различие или условное равенство посредством мелкого дифференцирования — нельзя признать безоговорочной. Вернее сказать, ее невозможно локализовать в той или иной части внутрисословного спектра. Конечно, родовая аристократия была склонна видеть пропасть между собой и новым дворянством, однако последнее, едва успев получить первый титул, было готово, с одной стороны, считать себя не ниже старой знати (уравнительный импульс), а с другой — выступать ярым поборником аристократического принципа (разграничительный импульс). Иначе говоря, ему была свойственна своеобразная двойная оптика. Глядя на верхнюю часть иерархической лестницы, оно видело сходство, а глядя вниз — различие.
С этим двойным взглядом связана специфика идеологии общества двора. Согласно предложенной Норбертом Элиасом схеме циркуляции культурных моделей, этот процесс имел сложный рисунок, поскольку буржуазия стремилась имитировать манеры дворянства, а то в свой черед было вынуждено постоянно их изменять, чтобы сохранить собственное отличие. Однако, как мне кажется, здесь следует сделать дополнительную оговорку, иначе придется признать, что в обществе двора в качестве единственного производителя смыслов выступало дворянство (что легко опровергнуть, сославшись хотя бы на происхождение его основных идеологов). Борьба культурных моделей шла в средней части внутрисословного спектра, на переходе от буржуазии к дворянству. Ведь мимикрия крупной буржуазии под дворянство представляла опасность не для родовой аристократии, а для тех, кто сам только что покинул ряды третьего сословия. Ими и осуществлялась выработка системы отличий, которые позволили бы сделать зримой грань, отделявшую их от недавних собратьев. Но — что мне представляется существенным — их же следует считать ответственными за производство внутрисословных идеологических моделей, подтверждавших, что они принадлежали к «подлинному» дворянству. То есть некоторые идеалы не спускались, а, наоборот, продвигались вверх по иерархической лестнице. Ярким примером тому может служить идеал «человека достойного».
Одним из первых теоретиков этого идеала был Никола Фаре (1600–1646), посвятивший ему трактат «Достойный человек, или Искусство нравиться при Дворе» (1630), самое влиятельное сочинение по вопросам вежества первой половины XVII в. О степени его популярности свидетельствует уже тот факт, что с 1630 по 1640 г. книга выдержала не менее шести переизданий и была почти сразу переведена на английский язык. По мнению Фаре, «человек достойный» должен был обладать благородным (хотя необязательно знатным) происхождением, служить королю своим оружием (но избегать дуэлей), не чуждаться образованности и быть добрым христианином. Все это более или менее повторяет предписания «Придворного»: Фаре хорошо знал итальянскую словесность, переводил Марино и Саннадзаро, и для него было естественно ориентироваться на труд Кастильоне, к тому времени уже ставший классическим. Попутно заметим, что во Франции «Придворный» был известен с XVI в. Так, его первый перевод на французский язык появился в 1537 г. и, по-видимому, был напрямую инспирирован королем Франциском I. Как пишет современный исследователь, среди французской знати «Придворный» пользовался большим почетом, будучи воспринят как наставление о правильном поведении при дворе.[48] Однако в 1585 г., то есть в царствование Генриха III, когда вышел новый перевод Кастильоне, его автор чувствовал себя вправе заметить, что оказал «Придворному» услугу, «вновь представив его нашим французам, которые ранее не слишком его почитали».[49] По всей видимости, влияние книги оставалось локальным, по своему направлению совпадая скорее с королевской политикой, нежели с потребностями дворянства.
Когда Фаре писал своего «Достойного человека», французский двор находился в процессе политической и сословной консолидации. В отличие от Кастильоне — но в согласии с более поздним и тоже весьма влиятельным трактатом Джованни Делла Каза «Галатео, или Об обычаях» (1558), — он предполагал приспосабливаться к уже существовавшим обстоятельствам. Отсюда парадоксальное сочетание в его тексте апологии монархии и осуждения придворного образа жизни:
Не подлежит сомнению, что существует бесчисленное множество причин, способных отдалить от Двора любого, кому знакомы связанные с ним несчастья, и что многим лучше было бы существовать незаметно и добродетельно, чем вести жизнь блестящую и опасную. Каждый видит царящую там всеобщую развращенность, добрые дела вершатся там случайно, а злые — словно бы по призванию.[50]
По мнению Фаре, такое положение вещей отнюдь не ставило благородного человека перед моральной дилеммой; жизнь при дворе являлась его долгом. Напротив, свобода выбора была уделом людей незнатных, для которых придворное существование представляло тем большую опасность, что было сопряжено с желанием сословного продвижения. Не случайно, что герой книги — «человек достойный» — оказывался как бы между этими двумя крайностями. Он дворянин, но находящийся на нижних ступенях внутрисословной иерархии, поэтому ему необходимо не только служить королю, но и угождать вельможам, обзаводиться покровителями, включая влиятельных дам. Все это Фаре считал вполне допустимым, при условии что его герой имел бы перед собой определенную цель:
Несмотря на все резоны, несмотря на все сложности, мудрец даже среди пороков и разврата может сохранить добродетель чистой и незапятнанной. Вся суть в правильном замысле, и, хотя дорога в ад сплошь вымощена благими намерениями, путь придворного, чьи устремления законны и умеренны, не сопряжен с тяготами, которые нельзя было бы перенести. Среди всех ослеплений души нет более опасного, чем то, что мешает видеть назначенную цель: именно от знания и мудрого выбора верной цели зависит осуществление и успех наших предприятий. Вот почему для желающих жить при Дворе самую полезную науку составляет знание того, какой должна быть цель, достойная столь опасного занятия.[51]
Как мы видим, Фаре совмещает две изначально разнородные ситуации: с одной стороны, вынужденный характер пребывания при дворе, с другой — идею внутрисословного продвижения, которая становится спасительной целью для придворного. Цель эта подчеркнуто лишена героических черт, столь дорогих аристократическому идеалу Вернее, героизм здесь имеет иную природу, будучи связан с необходимостью удержаться в рамках законности и умеренности. В этом стоицизме есть сходство с самоотречением придворного Кастильоне. Однако оно не должно вводить нас в заблуждение: если последний добровольно приносил часть своего «я» в жертву интересам государства, то герой Фаре сообразовывается с интересами своего сообщества, уже находящегося в подчиненном положении. Одним словом, придворный Кастильоне прежде всего обладал политической волей, меж тем как французский придворный — повышенным ощущением собственного социума.
Тут мы вплотную подходим к идеалу «человека достойного», который у Фаре заменяет фигуру идеального придворного. Собственно говоря, автор трактата сперва перечисляет читателю все тяготы и опасности придворной жизни, дает советы, как с ними лучше справиться, а уж затем приступает к апологии «человека достойного». Его основной характеристикой является абсолютная социабельность. Он и ему подобные всегда обращены вовне, к окружающим, во всем героически сохраняя нейтралитет:
Ибо они приучили свои вкусы не отвергать то, что им неприятно. И поскольку им известно бесконечное разнообразие форм, которые способен принимать человеческий разум, нет таких нелепых или противных им мнений, которые бы их задевали; равно как нет и таких, которые казались бы им достаточно разумными, достойными того, чтобы ими увлечься и упрямо поддерживать.[52]
Конформизм, или, если угодно, убежденный релятивизм, оказывается в числе необходимых добродетелей «человека достойного» (за что Фаре будут критиковать писатели-моралисты конца XVII столетия). Он умеет подстроиться под любой нрав, сохраняя при этом независимость суждений, но не высказывая их вслух, дабы не задевать собеседника. Заметим, что таково же первое моральное правило Декарта, представленное им в «Рассуждении о методе» (1637): пользоваться «мнениями наиболее умеренными, чуждыми крайностей и общепринятыми среди наиболее благоразумных людей, в кругу которых мне приходится жить».[53] Естественно, что этот принцип не распространяется на требования религиозной морали, остающиеся неизменными. Во всем прочем «человек достойный» видит высшую цель не в утверждении собственных взглядов, а в сохранении мирного сосуществования. Поэтому среди его социальных навыков важную роль играет умение правильно оценить ситуацию и все делать кстати. Так, он предпочтет «за весь день не проронить ни слова, чем не к месту пускаться в прекраснейшие речи».[54] В обществе, где представление о престиже было непосредственно связано с возможностью выставить себя на всеобщее восхищенное обозрение, «человек достойный» обречен на роль наперсника, выслушивающего монологи главного героя (ситуация, обыгранная в мольеровском «Мизантропе» (1666), где «достойным человеком» является не негодующий Альцест, а Филинт, напоминающий ему: «Вращаясь в обществе, мы данники приличий, / Которых требуют и нравы и обычай»).[55]
Идеал «человека достойного» очевидным образом зарождается на идеологическом стыке, о котором шла речь. Сам Фаре по происхождению и по привычкам принадлежал к третьему сословию: профессиональный литератор, член Французской академии со дня ее основания, он находился за пределами придворного общества, но в достаточной близости от него, чтобы претендовать на положение незаинтересованного наблюдателя. Своего героя он поместил на пару ступеней выше, уже по ту сторону водораздела между буржуазией и дворянством. Однако не столь далеко, чтобы этот водораздел не ощущался. В «человеке достойном» преобладают буржуазные добродетели — миролюбие, стремление избегать физического насилия (дуэли), а в случае конфликта прибегать к словесным поединкам (традиция судебного красноречия). Кстати, Фаре в качестве средства борьбы с дуэлями предлагал создать «род науки, чтобы они [поединки] стали более утонченными. Большинство из тех, кто впадает в это грубое неистовство, обычно боятся сделать недостаточно, пребывая в неведении и неуверенности, необходимо ли в их ситуации бросаться в эту крайность или нет».[56] Введение различий, изучение возможных ситуаций и оттенков — все это означало вербализацию конфликта и его дифференциацию, обсуждение возможных выходов из него (вспомним случай Химены). Кроме того, конформизм «человека достойного» был основан на его способности войти в положение другого и хотя бы внешне принять чужую точку зрения. Из-за этого нам трудно до конца уловить его суть, поскольку «человек достойный», как зеркальное стекло, всегда демонстрирует миру лишь отражение собеседника, не позволяя заглянуть внутрь себя. В отличие от героического (корнелевского) идеала, его невозможно представить в одиночестве. Можно сказать, что «достойный человек» — функция, а не состояние, поэтому его нельзя описать в качестве самостоятельной роли: он всегда имеет производный характер.
Таким образом, «человека достойного» можно расценивать как проекцию буржуазных добродетелей на благородное сословие, как своеобразную попытку культурной колонизации пространства чужих возможностей. В этом отношении «человек достойный» представлял собой идеалистическую буржуазную фантазию на тему «если бы я был дворянином». Фантазию легко укоренившуюся и принятую новым дворянством, поскольку она в точности соответствовала его самоощущению. Интересно другое: к середине века этот идеал был усвоен и высшей знатью. Если в 1630-е гг. о свойствах «человека достойного» рассуждал безродный Фаре, то в 1660-е гг. на эту тему размышляли граф де Бюсси-Рабютен, герцог де Ларошфуко, не говоря уж о не столь родовитом, но очень влиятельном шевалье де Мере. Очевидным образом, сословный престиж идеи неуклонно возрастал. Тем более важно понять, в какой степени Фаре фиксировал уже существовавшее положение вещей. Его литературные модели нам известны, как и то, что местами он повторял их почти слово в слово. Однако немедленная популярность «Искусства нравиться при Дворе» показывает, что ему удалось добиться успеха, не выпадавшего на долю ни одного переводчика или подражателя Бальдассаре Кастильоне, Джованни Делла Каза или Стефано Гваццо. По всей видимости, к тому времени, когда Фаре берется за перо, культурный тип «человека достойного» вполне сформирован, хотя его существование еще не получило достаточного идеологического обоснования.
Вернемся к названию трактата Фаре: «Достойный человек, или Искусство нравиться при Дворе». Из него можно заключить, что «достойный человек» есть максимально желательный (и эффективный) способ существования в придворном обществе. При этом, как уже говорилось, в самой структуре сочинения Фаре присутствует некоторая двусмысленность, легко ощутимая при взгляде на перечень его основных разделов: «Картина Двора», «О рождении», «О телесном расположении», «О качествах ума», «Об украшениях души», «О жизни при Дворе», «О делении жизни», «О речах», «О беседах с государем», «Общие максимы беседы», «Похвала достойным людям» и т. д. Причем вплоть до раздела «О жизни при Дворе» Фаре в основном говорит просто о дворянине. Когда же в фокусе внимания наконец оказывается «человек достойный», то контрастом ему служат жадные и честолюбивые придворные. Возникает ощущение, что двор не является естественной средой обитания «достойного человека», который формируется где-то за его пределами и лишь затем попадает в это опасное пространство. Об этом косвенно свидетельствует дальнейшая эволюция этого идеала. Когда в 1660-е гг. его в своих «Беседах» (1668) описывает шевалье де Мере, то в качестве основной характеристики называет способность завоевывать уважение и вызывать симпатию окружающих, не преследуя при этом никаких утилитарных целей. Можно сказать, что социабельность «человека достойного» из практического навыка превращается в искусство ради искусства. Такая логика развития позволяет рассматривать даже «законные и умеренные» устремления героя Фаре как отклонение от изначально заданного курса. Тем более что все прочие свойства «человека достойного» указывают на полное отсутствие в нем соревновательности и желания превзойти окружающих, без которых немыслима жизнь при дворе. По всей видимости, Фаре действительно нашел свой идеал вне двора, а затем попытался приспособить его к придворной реальности.
Итак, пример Фаре показывает, что уроки Кастильоне и других итальянских наставников, не закрепившись при французском дворе, где шла борьба аристократических идеалов и новых принципов государственности, были усвоены за его пределами и лишь потом в преломленном виде достигли придворного общества. Учитывая временные рамки (в 1585 г. французы «не слишком почитают» «Придворного», а в 1630 г. с восторгом читают «Достойного человека, или Искусство нравиться при Дворе»), можно предположить, что значительную роль в процессе формирования нового культурного идеала сыграли госпожа де Рамбуйе и ее «голубая комната». Здесь стоит провести различие между побудительными мотивами маркизы и конечным результатом ее усилий. Не исключено, что, когда молодая женщина отказалась бывать при дворе, это был поступок, продиктованный аристократической гордостью. Как с некоторым раздражением писал восхищавшийся ею Таллеман де Рео, маркиза была «подчас слишком уверена, дабы не сказать резче, в том, будто род Савелли — самый древний род в мире».[57] Бурбоны, да еще породнившиеся с Медичи, могли казаться ей выскочками. Вероятно, у нее было намерение воссоздать двор у себя, но не по французскому образцу, с его шумом и толчеей, а по итальянскому, хорошо ей известному по воспоминаниям юности и по книгам. Это должен был быть небольшой круг избранных, где, как в «Придворном», общение предполагало бы отказ от привычных сословных ролей. Входя в «голубую комнату», люди знатные на время смиряли родовую гордость, а выходцы из третьего сословия — интеллектуальную заносчивость. Полагаю, что известная максима Ларошфуко «Человек истинно достойный ни на что не претендует», [58] как и аналогичное требование Мере, согласно которому «человек достойный» должен стараться скрывать свои знания, были в первую очередь обращены именно к последним. От каждой из сторон требовалась жертва, благодаря чему возникало иллюзорное ощущение равенства. Его плодом был идеал «человека достойного», не случайно предстающий перед нами в качестве «человека без свойств». Это было самоограничение, на которое круг госпожи де Рамбуйе был согласен не ради политической карьеры, но ради утверждения собственной независимости. В конечном счете это был вызов двору, впрочем обращенный тем в свою пользу.
Когда Фаре предложил своего «человека достойного» в качестве идеального придворного, то снабдил власть готовой формулой гомогенизации придворного общества. С ее помощью можно было решить проблему окончательного усмирения знати и одновременно установить естественный предел честолюбию нового дворянства. Замкнув две конкурирующие элиты друг на друге и переведя их энергию в русло социабельности, государство получало возможность значительно ослабить внутреннее политическое напряжение. Однако это отнюдь не отменяло первоначального протестного импульса, содержащегося в идеале «человека достойного». В сущности, без него вряд ли столетие спустя смог бы сформироваться феномен общественного мнения, во многом определивший интеллектуальный и политический климат XVIII в.
Частная жизнь
Идеал «человека достойного» возвращает нас к проблеме организации новой культурной сферы, условно обозначенной как пространство «частной жизни». Условно, поскольку ее границы не совпадают с современным пониманием частной жизни. На языке XVII в. слово «частный» имело слегка негативные коннотации. Прежде всего, оно обозначало отсутствие публичности (и потому могло иметь смысловой оттенок тайны, секрета). Как свидетельствует Фюретьер, жизнь человека считалась частной, если он «жил затворником, сам по себе, без должности, без занятий, не вмешиваясь в дела».[59] Когда такое удаление от мира не объяснялось религиозными соображениями, оно вызывало недоумение и осуждение современников, особенно если человек принадлежал к высшему сословию, чей долг — служить королю и государству. В этом смысле частный человек оказывался тем, кто лишен публичных функций: здесь понятие «частный» смыкалось со своим полным омонимом «лишенный». Не случайно, что вышедший в 1680 г. словарь Ришле даже не делал между ними различия, хотя происходят они от разных латинских корней.
Иными словами, «частное» — это то, что находится за пределами публичной сферы. Но она, в свой черед, тоже имела иную конфигурацию, не совпадавшую с современной. Как мы видели на примере замка Монтеня, домашнее пространство дворянской семьи во многом оставалось публичным, хотя бы потому, что подразумевало существование под одной крышей господ и слуг, а также не подпадавших под эти категории нахлебников и домочадцев. Максимально обращенным к публичной сфере был и крестьянский быт, практически не знавший частного пространства. Только в среде городских обитателей среднего достатка — тех, кого именуют буржуазией, — потребность к уединению, к выходу из публичного пространства выражалась в появлении кабинетов и более явном отделении спальни от прочих помещений.[60] Последнее означало изменение представлений об интимности; случай с кабинетом более сложен. Как мы видели, он мог становиться прибежищем нового типа публичности (вспомним Макиавелли и того же Монтеня). Именно этот способ существования сознательно конструировался современниками как альтернатива традиционной публичности, в то время как сфера быта воспринималась как идеологически нейтральное или негативное пространство.
Устройство двора не подразумевало различения публичной и частной сферы. Поскольку король являлся воплощением государства, его физическое тело было столь же публично, как и политическое. Этикет не видел разницы между самыми интимными (с точки зрения более поздней культуры) телесными функциями и публичными жестами: и те и другие помогали поддерживать общественную структуру. Хотя по крайней мере один современный исследователь склонен считать это трагедией жизни Людовика XIV, который будто бы «на протяжении двадцати лет искал частной жизни», [61] такая точка зрения вряд ли справедлива. В зрелые годы и особенно в старости Людовик стремился ограничивать доступ к собственной персоне, однако никакая сила не была способна сделать пространство вокруг него частным. Даже наедине с собой он находился в публичной сфере, центром которой являлся.
В той мере, в какой аристократический дом представлял уменьшенную копию королевского дворца, его существование было подчинено тем же принципам.[62] Это сходство имело исторические корни, уходившие в эпоху политического могущества аристократии, когда каждый крупный владелец замка имел собственный двор. Иными словами, в нем был элемент соперничества с королевской властью. Не случайно, что в своем рассказе о госпоже де Рамбуйе Таллеман де Рео поставил в один ряд ее решение оставить двор и перестройку особняка Рамбуйе. Хотя, судя по всему, он путал последовательность событий (маркиза начала строиться где-то после 1604 г., а у Таллемана получается, что это происходило в 1613–1615 гг.), само их соположение в высшей степени показательно. Воздвигая особняк Рамбуйе, причем по усовершенствованному ею самой плану, маркиза могла бросать вызов все еще не достроенному и славившемуся своим неудобством Лувру. Замечание Таллемана, что при строительстве Люксембургского дворца Мария Медичи велела архитекторам ознакомиться с особняком Рамбуйе, можно считать свидетельством ее успеха.[63] Реальность подобного соперничества подтверждает история падения суперинтенданта Фуке, арестованного в 1661 г. после известного праздника в замке Во, который, по мнению многих, показался Людовику XIV слишком роскошным для не принадлежащей к королевскому дому особы. Конечно, не это определило судьбу Фуке, чья опала была предрешена заранее, но непозволительное великолепие его дома пополнило общий список политических прегрешений суперинтенданта.
С этой точки зрения в строительстве Версаля (силами тех же художников и архитекторов, что потрудились над преображением Во) можно увидеть желание Людовика XIV лишить аристократию тех символических преимуществ, которыми она пользовалась в собственных особняках и замках. Хорошо известно, что король не любил свою столицу. Герцог де Сен-Симон свидетельствовал:
Многие причины привели к перенесению навсегда двора из Парижа и к непрерывному пребыванию его вне города. Смуты, ареной которых был Париж в дни детства короля, внушили ему неприязнь к столице, уверенность, что пребывание в ней опасно, меж тем как перенесение двора в другое место сделает крамолы, замышляемые в Париже, не столь успешными благодаря удаленности, как бы невелика она ни была, и в то же время их будет труднее скрывать, поскольку отсутствие замешанных в них придворных можно будет легко заметить.[64]
Отрывая знать от города, Людовик лишал ее возможной поддержки жителей Парижа в целом, а также многочисленных домочадцев и слуг, заполнявших ее особняки. Не менее важной была и связанная с этим переездом разница в самоощущении. Логика престижа заставляла дворян вымаливать у короля комнаты в версальском дворце, обладание которыми служило наглядным подтверждением близости к власти. Однако теснота и неудобство этих помещений, где невозможно было разместить собственный обширный штат прислуги, заставляли в полной мере ощутить ничтожество любой знати по сравнению с королем. Поэтому проживание в Версале становилось еще одним способом укрощения аристократии и превращения ее в придворную знать. Не случайно, что панорама версальских садов с ее линейной перспективой была рассчитана на взгляд из окна королевской спальни: все остальные точки зрения оказывались неполными и несовершенными по сравнению с ней. Точно так же жизнь в версальском дворце предполагала подчинение распорядку дня одного человека, постоянное пребывание в его пространстве, где ни у кого более не могло быть ничего своего.
Несколько перефразируя последнюю мысль, можно сказать, что структура абсолютной власти предполагала существование только одной публичной фигуры — короля и, соответственно, единственного публичного пространства — двора. Все, что находилось за его пределами, уже не было по-настоящему публичным. Тем самым формирование государства нового типа способствовало артикуляции сферы частной жизни, [65] ставшей вместилищем для различных форм внегосударственного существования. Еще раз подчеркнем: речь идет об идеологической расстановке сил, а не о всей совокупности культурных процессов. Аристократический или крестьянский быт не сделался вдруг более замкнутым, менее открытым для любопытствующих взглядов. Но с идеологической точки зрения традиционные способы публичного существования превратились теперь в частное дело вовлеченных в него лиц. Точнее, огосударствление публичной сферы породило особый род «частной публичности», отчасти сопротивлявшейся навязываемой дихотомии, отчасти двигавшейся ей навстречу. Как показывает пример салона госпожи де Рамбуйе, добровольный уход из пространства двора мог быть проявлением аристократической оппозиции, еще уверенной в своем публичном статусе, а потому свободно экспериментировавшей с другими формами общественного самовыражения. В этом смысле примечательна реплика принца де Конде, заметившего по поводу бесцеремонного поведения Вуатюра: «Принадлежи Вуатюр к нашему кругу, он был бы невыносим».[66] Действительно, поэт позволял себе в присутствии титулованных дам снимать калоши и в высшей степени фамильярно обращался с теми, кто намного превосходил его по рождению и сословному положению. Первый принц крови не мог одобрять такого поведения, но он не видел в нем угрозы собственному статусу. Меж тем образ действия Вуатюра подчеркивал непубличный характер окружавшей его обстановки. Во дворцах аристократии он вел себя так же, как в любом частном доме, отбрасывая в сторону церемонии (кстати, в словарях этой эпохи фамильярность фигурирует среди смысловых оттенков слова «частный»). Можно сказать, что если для Конде опыт частного общения с Вуатюром, скорее всего, преломлялся через призму шутовства (поэт развлекал общество особняка Рамбуйе, от него ждали экстравагантных выходок), то для Вуатюра это был способ подчеркнуть иррелевантность сословных предрассудков в частном пространстве, уравнивавшем людей определенного уровня достатка. «Частная публичность» была результатом аристократических экспериментов с альтернативными формами публичности и буржуазного тяготения к частному, более закрытому существованию (которое, впрочем, органически сочеталось с желанием добиться аристократической публичности).
Уравнительный импульс, ощущавшийся в подчеркнуто неконвенциональном (а потому чрезвычайно знаковом) поведении Вуатюра, был одной из важнейших характеристик частной жизни. Мы уже говорили о стратегии самоограничения, обеспечивавшей иллюзорное равенство между посетителями особняка де Рамбуйе. Помимо политического в ней был несомненный духовный смысл. После религиозных войн и разделения церквей европейское благочестие во многом утратило сословную специфику: доктринальный раскол побудил и католических, и протестантских богословов подчеркивать внутреннее единство своих конгрегаций. Конечно, мысль о равенстве всех людей перед лицом Господа и в их общей смертной доле являлась неотъемлемой частью христианского учения с начала его существования. Но если средневековый епископат в своей борьбе против монашеского уравнительства поддерживал идею иерархических различий (концепция трех «порядков», или сословий), то после Тридентского собора католическая церковь нуждалась в укреплении объединительного принципа. В этой перспективе различие жребиев оказывалось игрой случайностей (отсюда частые апелляции к судьбе, или, как ее называли на римский манер, Фортуне) на фоне вечного, единого для всех закона. Как восклицал в своей знаменитой речи Боссюэ, «какими бы гордыми отличиями ни льстили себе люди, их исток един, и этот исток мал». Как мы видели, аналогичная динамика уравнения и различия присутствовала в государственной идеологии Людовика XIV, где под видом сохранения иерархического принципа утверждалось специфическое равенство — равенство в общем ничтожестве — подданных перед королем. Сходство и возможное смешение этих двух систем всерьез беспокоило современников, замечавших, что в ущерб христианской вере поклонение королю становится государственной религией. По словам Лабрюйера, в придворной церкви можно было наблюдать наглядное тому подтверждение:
Вельможи становятся широким кругом у подножия алтаря и поворачиваются спиною к жрецу, а лицом к королю, который преклоняет колена на особом возвышении и, по-видимому, приковывает к себе души и сердца всех присутствующих. Этот обычай следует понимать как своего рода субординацию: народ поклоняется государю, а государь — Богу.[67]
Эта кощунственная сцена была продиктована не личными качествами придворных, а логикой их положения по отношению к власти. Все, что делал король, носило публичный, но отнюдь не коллективный характер. Его трапезы, пробуждение и отход ко сну были зрелищем для многочисленных свидетелей, которые, за некоторыми исключениями, не имели права синхронизировать свои занятия с распорядком жизни государя. Неудивительно, что их богослужение состояло в созерцании молящегося короля.
Но посмотрим на оборотную сторону медали. Культ государства в лице монарха способствовал тому, чтобы личное благочестие находило выражение в сфере частной жизни (что, конечно, представляло собой один из многих элементов сложного процесса индивидуализации и углубления религиозного чувства, имевшего место в ту эпоху).[68] Именно частная жизнь переняла христианское ощущение общечеловеческого сродства, заложенного в природе плоти. В этой конфигурации публичное пространство оказывалось источником различия, меж тем как частное — объединяющим фактором. Причем последнее не обязательно имело положительный смысл, по крайней мере вплоть до эпохи реабилитации плоти. Примеры такой отрицательной общности можно найти у Лабрюйера:
И при Дворе, и в народе — одни и те же страсти, слабости, низости, заблуждения, семейные и родственные раздоры, зависть и недоброжелательство; всюду есть невестки и свекрови, мужья и жены, всюду люди разводятся, ссорятся и на время мирятся; везде мы находим недовольство, гнев, предвзятость, пересуды и, как говорится, злопыхательство. Умеющий видеть легко обнаружит, что какая-нибудь улица Сен-Дени в маленьком городке — это те же В[ерсаль] или Ф[онтенбло]; только там ненавидят с большей заносчивостью, надменностью и, пожалуй, с большим достоинством, вредят друг другу более ловко и хитро, предаются гневу более красноречиво и наносят обиды в более учтивых и пристойных выражениях, оскорбляя человека и черня его имя, но щадя чистоту языка.[69]
Примечательно, что, по наблюдению Лабрюйера, сущностное сходство всего человеческого рода прежде всего касается семейных структур и порождаемых ими отношений. Это делало семью средоточием частной жизни, вернее, ее негативным полюсом. С одной стороны, по мере своего укрепления государство ограничивало сферу правовой ответственности семьи, перенимая ряд ее функций (надзор за соблюдением правил общежития, наказание провинившихся и многое другое). С другой — принципы ее организации были по-прежнему ориентированы на поддержание общей социальной структуры, а не на внутренние эмоциональные потребности индивидуума (чем объясняется появление утопических проектов по переустройству семейных отношений, ассоциирующихся с прециозной культурой, о которой речь ниже). В такой ситуации семья, в особенности аристократическая, оказывалась под знаком тройной негативности — плотской, общественной (утрата реальной власти) и личной (эмоциональная неудовлетворенность).
Напротив, в качестве положительного полюса выступало культурное пространство, верхней границей которого служило государство, а нижней — семья. В нем и для него разрабатывались принципы новой социабельности. В его пределах человек мог ненадолго отрешиться от своей публичной роли, не опускаясь до быта. Конечно, это разграничение было условным и, как показывает вызывающее поведение Вуатюра, во многом утопическим. Так, пропуском в дом госпожи де Рамбуйе этому сыну амьенского виноторговца служили его ум, образование, незаурядный поэтический дар и талант рассказчика. Входя в «голубую комнату», он мог оставить за порогом все этикетные требования, диктуемые иерархической структурой общества, то есть постоянное сознание пропасти, отделявшей его от высокорожденных. Но в обмен от него ждали и отказа от буржуазных, слишком вольных, слишком бытовых манер. Как и в случае идеала «человека достойного», эта сфера частного существования парадоксально сочетала в себе освобождение от одних конвенций ради внедрения других, менее очевидных, но от этого еще более строгих.
Возьмем еще один эпизод, связанный с внутрисемейными отношениями госпожи де Рамбуйе. Среди его персонажей — старшая дочь маркизы, Жюли д’Анженн, в замужестве герцогиня де Монтозье; одна из младших дочерей, Луиза-Изабель д’Анженн, мадмуазель д’Аркене, и старший сын, Леон-Помпей д’Анженн, маркиз де Пизани:
Госпожа де Рамбуйе, женщина утонченного ума, говорила, что нет ничего нелепее мужчины в постели и что ночной колпак — весьма дурацкий головной убор. У госпожи де Монтозье было еще большее отвращение к ночным колпакам; но самой ярой противницей этих злосчастных колпаков была мадмуазель д’Аркене, ныне аббатиса монастыря Святого Стефана в Реймсе. Однажды брат попросил ее зайти в его комнату. Едва она переступила порог, как он запер дверь на задвижку, и тотчас же из кабинета выходят не то пять, не то шесть мужчин в ночных колпаках, правда, с белоснежными подкладками, ибо ночные колпаки без оных могли бы напугать ее и до смерти. Она вскрикнула и хотела убежать. «Боже мой, сестрица, — говорит он ей, — неужто вы думаете, что я затруднил вас понапрасну? Нет, нет, пожалуйста, отведайте угощения». И что бы она ни делала и ни говорила, пришлось ей сесть за стол и отведать угощения, которое им подавали эти мужчины в ночных колпаках.[70]
С легкой руки Таллемана де Рео эта история часто цитируется как пример специфически «прециозной» чувствительности, доведенной до абсурда. Но для нас показательно то, что антипатия мадмуазель д’Аркене как раз обозначает границу между бытом и частной жизнью. Ночной колпак — вещь из повседневного обихода, отсылающая к интимным, супружеским отношениям, безусловно наделенная сексуальными коннотациями, тем более чувствительными для будущей аббатисы (трем младшим дочерям госпожи де Рамбуйе был предуготован монастырь). Любопытно, что Таллеман де Рео особо подчеркивает белизну изнанки этой детали мужского туалета.[71] Чистая подкладка указывала на то, что колпак был ненадеванным (что усиливало его знаковый, не практический характер). Одновременно с этим упоминание подкладки усиливало и сексуальные коннотации, поскольку соответствующим термином обозначались и женские головные уборы. Согласно Фюретьеру, в языке конца XVII в. существовало выражение, которое можно перевести и как «уныло, словно ночной колпак без подкладки», и как «уныло, словно ночной колпак без чепца».
Помимо зрелища ночных колпаков маркиз де Пизани предложил сестре угощение: обычно так назывались лакомства, подававшиеся между дневной и вечерней трапезой. Нередко их устраивали кавалеры, ухаживая за дамами (госпожа де Скюдери в своей беседе «О разговоре» упоминает о том, что недостаточная щедрость угощения могла не только бросить тень на репутацию кавалера, но и заставить усомниться в красоте дамы), однако в большинстве случаев небольшие праздники такого рода были проявлением гостеприимства, симпатии — всего того, что обозначалось словом «галантность». Иными словами, розыгрыш маркиза де Пизани строился на совмещении двух смысловых рядов: низкой жизни плоти, представленной ночными колпаками, и светской общительности, образчиком которой не случайно оказывается «угощение». В отличие от регулярных трапез, оно не было связано с прагматикой телесного существования, и именно этот избыточный, необязательный характер превращал его в один из инструментов социабельности. Принимая приглашение брата, мадмуазель д’Аркене могла ожидать какого-нибудь сюрприза. Все семейство отличалось вкусом к розыгрышам: госпожа де Рамбуйе любила удивлять своих гостей то явлением нимф в парке загородного дома, то неожиданной пристройкой к городскому особняку, сделанной втайне от многочисленных посетителей «голубой комнаты». Поэтому, даже подозревая подвох, мадмуазель д’Аркене, скорее всего, ожидала от брата какой-нибудь галантной шутки. Между тем он сыграл на бытовой близости их отношений (живя под одной крышей, они вполне могли видеть друг друга в спальных уборах). В запертой комнате, среди мужчин в ночных колпаках, мадмуазель д’Аркене оказывается в своеобразной жизненной ловушке, ожидавшей любую женщину, за исключением тех, кто, как она, выбирал монастырь.
Выходка маркиза де Пизани напоминает еще об одном существенном нюансе: в отличие от салона — основного пространства «частной публичности», где царила галантность и кавалеры во всем подчинялись воле дам, во внутренних покоях, где разворачивались собственно семейные отношения, женщины повиновались мужчинам. Что бы ни делала и ни говорила мадмуазель д’Аркене, брат вынуждал ее поступать так, как угодно ему. Конечно, не имеет смысла излишне драматизировать эту ситуацию, тем не менее она весьма показательна. Салонная культура во многом была делом рук женщин, стремившихся вырваться за пределы семейного круга. Можно сказать, что если мужчины обращались к идеалу частной жизни из-за того, что их не устраивали изменения в публичной сфере, то женщинами двигало желание избежать ловушки исключительно частного существования. В этом смысле идеал «частной публичности» помогал уйти от слишком жесткого разграничения возможностей гендерных ролей.
Прециозность, или Частная жизнь женщины
Здесь необходимо вернуться к проблеме «прециозности». Как подчеркивают многие современные исследователи, границы этого явления весьма неопределенны, вследствие чего одни идентифицируют его с салонной культурой в целом, а другие считают выдумкой Мольера, превратившейся в своеобразный культурный миф. По всей видимости, до «Смешных жеманниц» (1659) — буквально «Смешных прециозниц» — определение «прециозный» (в прямом значении слова — «драгоценный») порой прилагалось к дамам высшего сословия, отличавшимся умом и образованностью (то есть, если развернуть эту метафору, к тем, кто своими незаурядными качествами блистал на общем фоне, подобно драгоценным камням). После Мольера слово приобрело иронический и негативный оттенок, став обозначением излишней вычурности поведения, манеры держать себя и в особенности речи. Подобно «человеку достойному», прециозница представляла собой идеальный тип, соединявший в себе комплекс черт, которые в жизни встречались лишь по отдельности. Поэтому ни одну даму XVII столетия невозможно охарактеризовать как прециозницу, не сделав при этом дополнительных оговорок. Так, близка к этому идеалу была старшая дочь госпожи де Рамбуйе, Жюли д’Анженн, в честь которой в 1633–1641 гг. была собрана знаменитая «Гирлянда Юлии» — шестьдесят два мадригала, написанные лучшими поэтами эпохи. Как можно догадаться по ее неприязни к ночным колпакам, она скептически относилась к браку и согласилась выйти замуж за герцога де Монтозье лишь после четырнадцати лет его упорных ухаживаний. Однако, став герцогиней де Монтозье, окунулась в придворные дрязги и занялась карьерой мужа, бывшего не только губернатором двух провинций, но и воспитателем дофина. При дворе прециозница превратилась в интриганку.
Негативное отношение к браку — характерная черта прециозности. Как говорит в мольеровской пьесе одна из героинь, которую отец собирается выдать замуж за человека, представленного ей впервые, «пристало ли чуть не с первой встречи вступать в брачный союз, сочетать любовь с заключением брачного договора, роман начинать с конца?». На что получает ответ: «Или вы без всяких разговоров пойдете под венец, или, черт возьми, я вас упрячу в монастырь».[72] Действительно, жизненный выбор женщины нередко сводился к этим двум возможностям. Обе зависели от уровня семейного благосостояния: не только супружество, но и уход в монастырь предполагали уплату «приданого», которое в последнем случае вносилось в монастырскую казну в качестве вступительного взноса (как писал Лабрюйер, «сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, набожных, готовых посвятить себя Богу, но недостаточно богатых, чтобы принести обет бедности в богатом монастыре!»).[73] После Тридентского собора в католической Европе увеличилось количество женских монастырей, что было связано с заботой о духовном воспитании этой части общества. Не следует забывать, что жизнь в монастыре не обязательно означала постриг. В монастырских школах получали образование девочки из состоятельных семей, в монастырских общинах находили приют женщины, скрывавшиеся от семейных притеснений и не желавшие при этом потерять репутацию. Так, когда племянница кардинала Мазарини, Мария Манчини, сбежала от своего мужа, Людовик XIV позволил ей находиться во Франции при условии, что она будет жить в монастыре.[74] Кроме того, как показывает концовка «Принцессы Клевской» госпожи де Лафайет, для вдов жизнь в обители могла служить альтернативой повторному браку, авторитет церкви защищал женщину от возможного давления со стороны родственников и друзей. Заметим, что героиня романа, деля время между монастырем и своим поместьем, где она проводила время «в уединении и в занятиях более благочестивых, чем те, которым предаются в монастырях с самым строгим уставом»,[75] тем не менее не принимает постриг. По всей видимости, она все же не ощущала себя душевно свободной от мирских помыслов. Во второй половине XVII в. считалось, что для принесения обета следовало иметь внутреннее призвание, в отсутствие которого монашеское состояние было способно обернуться большим грехом, нежели жизнь в миру. По словам Лабрюйера,
Мать, которая отдает свою дочь в монастырь не потому, что таково призвание и твердая воля девушки, а по собственному почину, отвечает перед Богом уже не только за свою душу, но и за душу дочери, служа как бы порукой за нее. Такая мать избежит вечной погибели, только если спасется дочь.[76]
Конечно, на всякое правило находятся исключения. В знатных семьях, имевших церковные бенефиции, младших детей было принято предназначать для духовной карьеры. Это касалось не только мальчиков (обычное решение проблемы майората), но и девочек, которые становились преемницами своих теток или двоюродных бабок, наследуя посты аббатис или настоятельниц монастырей. Как мы видели на примере младшей дочери госпожи де Рамбуйе, подобное положение вещей могло соответствовать личным предпочтениям девушки — надо учитывать, что к такому шагу ее готовили с детства, — хотя опасность принуждения здесь была выше, нежели в других случаях.
Заключение брака, в особенности для отпрысков знатных или влиятельных семей, было вопросом родовой стратегии. Современные исследования показывают, что наперекор мнению современников в обществе XVII в. неравные браки оставались сравнительной редкостью.[77] Принимая решение, глава семьи обычно руководствовался соображениями богатства, престижа, профессиональной карьеры (если речь шла о «дворянстве мантии»), однако последнее слово все-таки оставалось за личными симпатиями и антипатиями. Насильно женить молодого человека было можно, если речь шла о королевском семействе, и то в исключительных случаях. По свидетельству Сен-Симона, именно так Людовик XIV в 1692 г. женил своего племянника Филиппа, будущего герцога Орлеанского (которому в междуцарствие предстояло стать регентом), на своей же незаконнорожденной дочери, носившей имя мадмуазель де Блуа. Филиппу в момент свадьбы было восемнадцать лет, он не имел смелости противостоять королю, тем более что на то была воля и его отца.[78] В такого рода ситуациях возраст играл не последнюю роль — двумя десятилетиями ранее по поводу своего предполагаемого брака кузина короля, Старшая Мадмуазель, заметила: «В мои годы не выдают замуж против воли».[79] Действительно, ей тогда было сорок три года, и даже Людовик XIV был не способен навязать ей нежеланный брак, хотя, как мы увидим, в его силах оказалось запретить желанный. Но, оставляя в стороне королевских отпрысков и принцев крови, мало какой глава семьи был в силах женить молодого человека, если тот выказывал отвращение к предлагаемой партии. Даже с девушками, как правило, родители предпочитали действовать путем увещеваний. Как следует из «Мемуаров» Сен-Симона, когда к совсем юной сестре его жены посватался герцог де Лозен, который был старше избранницы на сорок восемь лет, то ее уговорили дать согласие, соблазняя титулом и скорым вдовством (отличавшийся несговорчивым нравом де Лозен прожил после этого более двадцати лет и скончался на девяносто первом году жизни).[80]
Отсутствие активной неприязни не предполагало взаимной симпатии. В этом смысле характерна реакция героини «Принцессы Клевской», когда к ней сватается ее будущий муж, страстно в нее влюбленный. Отдавая должное его достоинствам, она признается матери, что «брак с ним даже был бы для нее менее неприятен, чем с кем-либо другим, но что никакой особой склонности к нему она не чувствует».[81] Аналогичные ситуации можно было наблюдать не только на страницах романов. По свидетельству Таллемана де Рео, Жюли д’Анженн согласилась выйти за герцога де Монтозье, не испытывая к нему ничего, кроме дружеских чувств, в основном из нежелания огорчать госпожу де Рамбуйе, которая хотела этого брака. Диспропорция чувств — влюбленность со стороны кавалера и холодность дамы — соответствовала традиционной модели взаимодействия полов. Однако в обоих случаях обращает на себя внимание еще одна деталь: будущие супруги имели время друг друга узнать и отдать себе отчет в собственных эмоциях. Между тем это отнюдь не было устоявшимся обычаем. Так, из «Мемуаров» герцога де Сен-Симона следует, что при выборе жены он сперва определил для себя, с каким семейством хотел бы породниться, затем пригляделся к будущему тестю, после этого — к его супруге («я нашел в ней все, что мог бы предложить в качестве примера поведения молодой женщине, которую хотел бы видеть при Дворе»), [82] и лишь в последнюю очередь принял решение, к которой из дочерей ему стоит посвататься: младшая «была брюнетка с прекрасными глазами, старшая же — блондинка, великолепно сложенная, с приятными чертами и дивным цветом лица… Именно она, когда я увидел их обеих, несравненно больше понравилась мне, и с нею я надеялся обрести счастье в жизни, каковое она единственная и дала мне всецело».[83] По всей видимости, последний момент выбора, когда Сен-Симону предъявили обеих потенциальных невест, чтобы он определил, какая ему больше по вкусу, фактически заменял собой знакомство. Жених, конечно, руководствовался не только эстетическими предпочтениями: по обычаю, старшая дочь получала большее приданое и, как и старший сын, находилась в привилегированном положении. Матримониальная стратегия герцога была сугубо рациональна, вплоть до того, что поведение матери он рассматривал как залог будущего образа действий дочери. Мы не знаем, что при этом думала невеста и каковы были резоны, побудившие ее согласиться на это замужество (любимица отца, она явно имела право голоса). Из рассказа Сен-Симона можно заключить, что не последнюю роль тут сыграло желание выйти из-под власти матери, которая предпочла бы видеть ее монахиней, надеясь тем самым обеспечить блестящий брак для младшей, своей любимицы. Иначе говоря, помимо соображений сословного и финансового характера жених и невеста сделали свой выбор на основании отношений с другими людьми, но не друг с другом. Их личное знакомство началось одновременно с браком, который, заметим, действительно оказался счастливым.
Парадоксальным образом, рассмотренные нами варианты отношений будущих супругов — диспропорция чувств или эмоциональный нейтралитет — предполагали большую рациональность поведения со стороны невесты, нежели со стороны жениха. Последний имел право сделать эмоциональный выбор, не обращая внимание на свои чувства. О браке Жюли д’Анженн и герцога де Монтозье уже довольно сказано. Возьмем более сложный случай несостоявшегося брака графа де Лозена с Мадмуазель, кузиной Людовика XIV. Отрывки из ее «Мемуаров», приводимые в пятой главе этой книги, свидетельствуют о желании автора снизить эмоциональную составляющую ее решения выйти замуж и выдвинуть на первый план рациональные соображения. Все, что не поддается рефлексии (зарождение чувства), Мадмуазель относит на счет Провидения и описывает как объективный процесс, дающий определенные симптомы (беседы с Лозеном приносят ей радость, а в его отсутствие она скучает и томится). Как только она отдает себе отчет в том, что скрывается за этой симптоматикой, начинаются попытки рационализации и контроля эмоции: сперва герцогиня пробует подавить чувство, затем — найти ему разумные оправдания. По-видимому, такая тактика не обманула современников, которые были склонны осуждать решение Мадмуазель как эмоциональную выходку недостойную ее ранга.
Нам трудно судить, в какой степени прециозницы предполагали реформировать реально существовавшие брачные стратегии: документы, освещающие этот вопрос, в основном представляют собой сатирические или иронические описания их взглядов. Так, знаменитое предложение ограничить действие брачного договора рождением первого ребенка, после чего обе стороны считались бы выполнившими свой долг и свободными от дальнейших обязательств, скорее всего, следует считать враждебным измышлением, призванным бросить тень на прециозниц. Здесь стоит напомнить, что во Франции XVII в. для признания брака законным требовалось соблюдение трех условий: подписания брачного договора, венчания и исполнения супружеских обязанностей. Отсутствие одного из них могло послужить поводом для объявления брака недействительным. При этом обряд венчания отнюдь не считался более важным, нежели все остальное. Госпожа де Ла Гетт, в 1635 г. вышедшая замуж без согласия отца, потом вспоминала, как, втайне обвенчавшись, они с мужем пребывали в полной уверенности, что теперь их узы нерасторжимы, пока их не разубедил более опытный друг, посоветовавший им позаботиться о более наглядных доказательствах своего союза.[84] В отсутствие брачного договора и согласия главы семьи брак можно было объявить недействительным по формальным признакам. Однако не всякая семья решилась бы на такой шаг, если молодая уже ждала ребенка. А вот расторгнуть заключенный по всем правилам союз было очень трудно, так как это требовало санкции Святого престола (нет нужды напоминать, что в католической Франции развод появился только в эпоху Революции). В случае полной несовместимости характеров или некоторых отягощающих обстоятельств (жестокого обращения, безудержного мотовства или распутства, безумия) один из супругов мог потребовать официального разъезда, раздела имущества и учреждения опеки для защиты интересов несовершеннолетних детей. Но даже разъехавшись, супруги не переставали считаться мужем и женой. Предлагаемые от имени прециозниц юридические модификации были возможны лишь при условии превращения брака в чисто гражданский институт. Для XVII в. такого рода идея должна была звучать в высшей степени цинично: Церковь являлась хранительницей моральных устоев, и даже с точки зрения такого вольнодумца, как Сент-Эвремон, налагаемые ею ограничения отличались благодетельной суровостью, хотя бы отчасти препятствуя неистовству страстей.[85] Прециозницы были максимально далеки от проповеди свободной любви, что и заставляет подозревать подвох в этих действительно революционных предложениях по поводу брачного договора.
Тем не менее идея расторжения брачного договора после рождения первого ребенка имеет непосредственное отношение к взглядам прециозниц. Судя по всему, их действительно заботила проблема физической несвободы замужней женщины, которая из-за частых беременностей оказывалась прикована к дому, тогда как ее супруг был волен жить так, как ему заблагорассудится. Чтобы немного сгладить это неравенство, прециозницы предлагали максимально продлить период ухаживания, во время которого законы вежества заставляли кавалера подчиняться прихотям дамы. О том, сколь велик бывал контраст между относительной девической свободой и супружеской несвободой, свидетельствуют многие документы эпохи, в частности мемуары другой племянницы Мазарини, Гортензии Манчини. Она была выдана замуж за блестящего вельможу, который, женившись на красавице, попытался ограничить не только ее светскую жизнь, но даже общение с родственниками. В итоге она сбежала из-за невыносимой домашней обстановки и была вынуждена скрываться от преследования мужа по всей Европе.
Долгий период ухаживания был призван установить между будущими супругами отношения, порой описываемые как «нежная дружба». Их главным теоретиком выступала госпожа де Скюдери, о чем еще пойдет речь в четвертой главе.[86] Будучи одной из упрощенных разновидностей неоплатонической любви, концепция «нежной дружбы» фиксировала изменение чувствительности образованного общества, еще не готового к реабилитации плоти, но уже болезненно ощущавшего разрыв между традиционной структурой семейных отношений и новыми эмоциональными потребностями европейского человека. В отличие от любви, слишком тесно связанной со страстями и плотской, «нежная дружба» — чувство рациональное и контролируемое. Знаменитая «Карта страны Нежности», включенная в первый том «Клелии» госпожи де Скюдери, предлагала три варианта подобных отношений: согласно ей, «нежная дружба» могла быть основана на взаимной склонности, на уважении и на признательности. Из перечисленных вариантов лишь первый зависел от безотчетной симпатии, остальные — от сознательного конструирования отношений. Пускаясь в путь по стране Нежности, и кавалер, и дама должны были принять решение, какого маршрута придерживаться и какая стратегия поведения в большей мере устроит их партнера. При этом, как подчеркивала госпожа де Скюдери, речь шла исключительно о дружбе, а все то, что располагается за ее пределами, считалось «неведомыми землями».
Мы располагаем несколькими примерами того, как могла развиваться «нежная дружба». Было бы соблазнительно начать этот список с герцога де Монтозье, который добился руки Жюли д’Анженн, долгим служением завоевав ее признательность. Однако тут следует учитывать, что поведение будущих супругов не только соответствовало новой модели отношений, разрабатывавшейся в особняке Рамбуйе, но, в свою очередь, послужило образцом для прециозниц второго поколения, сформировавшегося к 1650-1660-м гг. Поэтому неизбежно возникает вопрос, в какой мере идеал длительного ухаживания был вдохновлен конкретным примером четы де Монтозье, а в какой — общей идеологической установкой. Но так или иначе отношения, сложившиеся за четырнадцать лет дружеского общения, выдержали испытание браком: после свадьбы герцог не перестал уважать чувства жены и «всегда спал [с ней]… без ночного колпака, хотя она даже просила надевать его».[87] Иными словами, даже в интимном пространстве он был готов соблюдать правила вежества, обычно предназначавшиеся для «частного публичного» пространства.
Другим примером «нежной дружбы» должны, по-видимому, служить отношения между «Сафо» и «Акантом», тем более что идея «Карты страны Нежности» возникла в их разговорах и переписке. О них мы будем подробно говорить в четвертой главе, здесь же заметим, что Пелиссон не был единственным «нежным другом» госпожи де Скюдери, хотя, безусловно, занимал важное место среди ее душевных симпатий. Это отнюдь не бросало тень на репутацию писательницы, поскольку «нежная дружба» в равной мере могла соединять супругов, влюбленных и друзей. У госпожи де Скюдери, признанной королевы страны Нежности, был небольшой круг приближенных «нежных друзей» обоего пола, ревниво относившихся к тем, кто пытался проникнуть в их ряды. Быстрое превращение Пелиссона из обычного знакомого в «нежного друга» вызвало раскол в этом маленьком государстве, причем главными противниками возвышения «Аканта» оказались дамы. Эти смуты в стране Нежности показывают, что окружение «Сафо» уже не воспринимало статус «нежного друга» как свидетельство ее личных симпатий и требовало коллективного решения по поводу того, кто может быть допущен в число посвященных, а кто — нет. Писательнице пришлось напомнить, что речь все же шла о ее персональном выборе. При этом, обращаясь к бунтовщикам, она заметила:
Никогда не думала, о мои нежные друзья, что мне придется оправдываться перед вами за свое поведение, напротив, я всегда полагала, что вы будете его оправдывать перед теми, кто захочет его осудить.[88]
Упрек госпожи де Скюдери напоминает о том, что сплоченный круг друзей был для нее важен не только в эмоциональном, но и в практическом плане. Незамужняя женщина, избравшая свой собственный, независимый образ жизни, она была особенно уязвима и нуждалась в поддержке. Так, Таллеман де Рео, рассказывая о мадмуазель Поле, которая тоже отличалась самостоятельностью и, несмотря на множество поклонников, не вышла замуж, предпочитая жить сама по себе, дает понять, сколь важны бывали в таких случаях дружеские отношения. Если бы не дружеское участие нескольких замужних дам с безупречной репутацией, мадмуазель Поле ожидала бы полная изоляция. Благодаря им она смогла стать завсегдатаем особняка Рамбуйе и занять заметное место в парижском обществе.[89] В этом смысле «Сафо» тоже зависела от своих «нежных друзей», чье одобрение служило общественной гарантией ее поведения. Нет сомнения, что за пределами избранного круга ее отношения с «Акантом» могли истолковываться как любовные, и, как мы видели, современники вовсю потешались над внешней непривлекательностью пары. Но до тех пор, пока поведение ее ближайших друзей оставалось неизменным, общество могло быть уверенным в отсутствии настоящего скандала, и злословие не наносило серьезного урона репутации дамы.
Итак, «нежная дружба» могла описывать отношения как между полами, так и внутри одного пола. К примеру, в 1665 г. Эспри Флешье, которому предстояло стать известным проповедником и епископом Нимским, использовал это выражение, чтобы показать различие между светской вежливостью и дружеской непринужденностью. Однажды на прогулке Флешье встретился знакомый, который попросил разрешения к нему присоединиться:
Я отвечал на его комплимент со всей возможной любезностью, заверив, что я от его общества лишь выиграю, а он от моего останется внакладе, что в моем распоряжении лишь те прекрасные мысли, которые мне внушит его беседа, и что ничто меня так не обязывает, как его доброе мнение обо мне и честь, которую он мне оказывает, пожелав присоединиться к моей прогулке. После этих начальных любезностей, которыми обмениваются, испытывая друг к другу уважение, но еще не имея привычки, даваемой нежной дружбой, мы разговорились об общих новостях…[90]
Заметим, что Флешье бывал в особняке Рамбуйе и взлетом своей карьеры во многом был обязан герцогу де Монтозье. Упоминание «нежной дружбы» четко указывает на круг общения молодого аббата, на его причастность к салонной культуре. Он, кстати, был не единственным духовным лицом, говорившим на языке прециозниц. Еще одним постоянным посетителем «голубой комнаты» был Антуан Годо, за малый рост и поклонение Жюли д’Анженн прозванный «карликом Жюли». В 1636 г. кардинал де Ришелье, высоко ценивший его духовную поэзию, сделал Годо епископом Грасским. Истово исполняя свои обязанности, епископ в минуты досуга переписывался с «Сафо», которая именовала его «Сидонским магом» и пеняла на его занятость:
Вы вините меня в том, что я отдаю должное людям, лишь когда с ними вижусь; поверьте, даже не видя вас, я остаюсь верен долгу, и мое сердце хранит память о превосходной Сафо, поэтому ей не стоит опасаться, что я способен ее позабыть или испытывать к ней менее нежное почтение, чем когда мы в одиночестве прогуливались по аллеям Исси. Не знаю, делает ли она, столь похваляющаяся своей нежностью, хоть половину этого и есть ли мне место среди стольких героев, героинь, принцев, смельчаков, галантных кавалеров и дам, которыми наполнено ее воображение.[91]
Как мы видим, язык «нежности» использовался, с одной стороны, в качестве нейтральной территории, где даже духовное лицо могло на время отрешиться от своей основной жизненной роли; с другой — как обозначение близости, прежде всего душевного и духовного характера. В пользу такой «чисто духовной галантности»[92] высказывался и известный христианский моралист отец Лемуан — что, впрочем, не удивительно, учитывая его принадлежность к иезуитскому ордену, искавшему компромисс между мирской реальностью и требованиями религиозной жизни. Годо по своим взглядам был близок к янсенистам, яростным противникам иезуитов, однако в этом вопросе он солидарен с последними. В прециозности, или, по его собственному выражению, в «сафонизме» (слово «прециозность» еще не вошло в оборот), он видел особую систему духовных и философских убеждений. Так, в феврале 1654 г. он писал госпоже де Скюдери:
Вижу, что быть вам оракулом галантности для всего света; и как раньше рассуждали о «платонизме» или «перипатетизме», не говоря уж о «янсенизме» и «молинизме», поскольку это материи слишком серьезные, то о самой утонченной галантности будут теперь говорить «сафонизм».[93]
В научной литературе до сих пор можно встретить меткое, хотя и не вполне справедливое замечание, что прециозницы были «янсенистками в любви». Если оставить за скобками некоторую доктринальную суровость, между этими направлениями трудно найти что-нибудь общее. За исключением участников: как показывает пример Годо, янсенизм и прециозность легко совмещались в личном плане. Еще более знаменит случай герцогини де Лонгвиль. Сестра принца де Конде и возлюбленная герцога де Ларошфуко, она была одной из вдохновительниц Фронды и яростной противницей политики королевского двора. Когда после наступления мира ей было разрешено вернуться во Францию, ее светское существование оказалось связано с салонной культурой, а духовное — с янсенизмом. Но, как мне представляется, здесь важен не столько факт совместимости прециозности и янсенизма, сколько направление духовных исканий. Если для условно «мужской» модели частной жизни первостепенную роль играл опыт античности (и в плане гражданского устройства общества, и в плане литературного образца), то толчком к формированию «женской» модели должен был служить опыт религиозный. Хотя бы в силу того, что женское образование оставалось почти безраздельно религиозным. Не будем забывать: XVII столетие нередко именуют «веком святых», и, что показательно, среди этих святых было немало женщин. Участие в духовной жизни, активные занятия благотворительностью давали им возможности самореализации, не предполагавшиеся традиционным выбором жизненного пути. Во Франции рядом с неутомимым проповедником святым Франсуа де Саль (канонизирован в 1665 г.) трудилась Жанна-Франсуаза де Шанталь (канонизирована в 1767 г.), бабушка госпожи де Севинье, основавшая орден Визитации. В обязанности монахинь этого ордена входило посещение немощных и слабых, оказание помощи больным. А рядом с заступником обездоленных святым Венсаном де Полем (канонизирован в 1737 г.) была Луиза де Марийак (канонизирована в 1934 г.), основавшая конгрегацию дочерей Милосердия, чьим долгом была забота о беспомощных — подкидышах, нищих, безумцах. Ее члены не приносили монашеского обета, давая лишь временное обещание следовать взятому на себя служению. Заметим, что и Жанна де Шанталь, и Луиза де Марийак не были монахинями. У обеих на руках были дети, заботы о семье, но истинное свое призвание они видели в действенной благотворительности. Что касается собственно монашеского состояния, то история уже не раз упоминавшегося янсенизма была бы совершенно другой, если бы идеи Янсения через посредство аббата де Сен-Сиран не проникли в цистерцианский монастырь Пор-Рояль, незадолго до того реформированный усилиями матери Анжелики (в миру Жаклин Арно). Несмотря на прямую критику Святого престола и преследование со стороны светских властей, монахини Пор-Рояля твердо отстаивали свои убеждения и отказывались подчиниться насилию. И, как известно, пользовались большой поддержкой в миру — не только Паскаля, герцогов де Лианкура и де Люин, но и уже упоминавшейся герцогини де Лонгвиль, принцессы де Гимене, маркизы де Сабле и отчасти госпожи де Севинье.
Еще один знаменитый пример женских духовных исканий — история госпожи де Гийон, которую порой именуют основательницей квиетизма. Ее родители принадлежали к провинциальному дворянству и могли позаботиться об образовании дочери: с одиннадцати до шестнадцати лет она жила в различных монастырях, где познакомилась с книгами святого Франсуа де Саля и прочитала жизнеописание Жанны де Шанталь. В шестнадцать ее выдали замуж, к двадцати четырем она родила пятерых детей, потеряла мужа и заключила мистический союз с младенцем Иисусом. С этого момента начались ее скитания и духовные искания, неортодоксальность которых неизбежно приводила к конфликтам с церковью. Вокруг нее постепенно складывался круг почитателей и последователей. Как отзывался о ней скупой на похвалы Сен-Симон, «это была воистину великая душа, ее почитал сам епископ Камбрейский, коему только смирение и разница пола препятствовали… приблизить ее к себе».[94] Действительно, Фенелон (епископ Камбрейский) испытал сильное влияние ее взглядов и, когда госпожа де Гийон стала подвергаться гонениям, выступил в ее защиту с «Объяснениями максим святых, касающихся внутренней жизни» (1696), пытаясь оправдать пропагандировавшуюся ею доктрину «чистой любви» — мистического состояния, в котором душа не должна помышлять о рае или об аде, о воздаянии или о наказании, о смерти или о вечности, во всем полагаясь на Бога и сохраняя абсолютную пассивность. Среди близких последовательниц госпожи де Гийон были герцогини де Бетюн-Шаро, де Бовилье и де Шеврез.
Как мы видим, духовные искания разного рода были весьма важным элементом жизни женской части образованного общества XVII в. В конце столетия Сент-Эвремон с неудовольствием замечал по этому поводу: «Нелепо видеть, как за то, что должно оставаться таинством, берутся даже женщины, хотя наша истинная обязанность — покорность и повиновение».[95] А Лабрюйер разоблачал получивший широкое распространение в ту эпоху институт духовного наставничества:
Женщиной нетрудно руководить — стоит лишь этого пожелать. Один мужчина руководит подчас даже несколькими женщинами одновременно. Он развивает их ум и память; поддерживает и укрепляет их благочестие; более того — он старается направлять их чувства; лишь прочитав одобрение на его лице и в глазах, они осмеливаются согласиться или отвергнуть, произнести похвалу или осудить. Он — поверенный их радостей и печалей, желаний и ревнивых подозрений, ненависти и любви; он заставляет их порывать с любовниками, ссорит и мирит с мужьями и ловко пользуется временем междуцарствий. Он занимается их делами, ведет их тяжбы, вступает в переговоры с судьей, посылает к ним своего врача, поставщика, своих рабочих, сам покупает им дома, обставляет апартаменты, заказывает экипажи.[96]
Нередко подобные наставники не имели духовного звания, их влияние целиком зависело от личного благочестия и, по словам Лабрюйера, готовности «проявить немного ума и потерять много времени» (попутно заметим, что мольеровский Тартюф — пародия на духовного наставника). Как и исповедники, они посвящали себя внутреннему миру женщины, занимаясь не только ее действиями, но и мыслями, чувствами, желаниями. К сожалению, трудно оценить, сколь велико было влияние такого рода людей на женскую эмоциональную жизнь; в основном отзывы о них принадлежат поборникам традиционного благочестия (каким был и Лабрюйер), недоверчиво относившимся к новому институту. Но можно предположить, что последний сыграл не меньшую роль в формировании прециозного идеала, нежели сохранившаяся в рыцарских романах модель куртуазного служения даме. Платонизм подобных отношений, их сугубо интеллектуальный (даже Лабрюйер соглашался, что они развивают «ум и память») и психологический характер, побуждавший к постоянному самоанализу, резко контрастировали с теми, которые складывались между супругами, в особенности в аристократических семьях. Так, Мария Манчини, выданная замуж за Лоренцо Колонна, великого коннетабля Неаполитанского королевства, была окружена вниманием и заботами супруга, пока, после рождения трех наследников, не отказалась исполнять супружеские обязанности, боясь не вынести еще одной беременности.[97] С этого момента муж утратил к ней интерес и перестал считаться с ее желаниями (заметим в скобках, что изменять он ей начал еще до этого). Вполне очевидно, что для него смысл брака заключался именно в производстве потомства. Меж тем как Мария, по-видимому, рассчитывала на более куртуазное поведение и на то, что эмоциональная связь между ними останется прежней, надеясь своей «жестокостью» заставить его опомниться. В итоге она не смогла смириться с ситуацией и, бросив все, уехала во Францию вместе с сестрой и братом, к которым была очень привязана.
Иными словами, когда мы говорим о прециозности, необходимо учитывать особую организацию мира образованной женщины XVII столетия, где эмоциональные и духовные потребности нередко шли вразрез с тем образом жизни, который диктовался обществом. С этой точки зрения «нежная дружба» представляла собой секуляризованный аналог тех духовных чаяний, развитию которых способствовало общее обострение религиозных чувств после Тридентского собора. Она могла сопровождаться браком (чета де Монтозье), или выступать в качестве его альтернативы (госпожа де Скюдери и ее «нежные друзья»), или существовать параллельно с ним (госпожа де Лафайет и герцог де Ларошфуко). Ее неизменной чертой оставалось пристальное внимание к внутреннему миру, в особенности ко всему, что выходило за рамки конвенциональных мыслей и чувств. Отсюда свойственная прециозницам аффектация и пренебрежительное отношение к повседневной действительности, выражавшееся прежде всего лингвистически. Современники опознавали их по необычным речевым оборотам: Мольер в «Смешных жеманницах» в полную меру использовал эту особенность, заставляя своих героинь именовать зеркало «наперсником Граций», а кресло — «удобством собеседования». Последнее, видимо, является преувеличением, однако прециозницы действительно любили метафоры, и некоторые из них вошли во французский язык в качестве устойчивых оборотов. Например, «быть тугодумом» (avoir lʼintelligence épaisse), «утратить серьезность» (perdre son sérieux), «на расстоянии голоса» (à la portée de la voix) и целый ряд других. Наиболее важным в подобном словотворчестве было желание вырваться за пределы бытовой реальности (ночных колпаков, кресел и прочих предметов) и посредством языка создать для себя новую идентичность и новую действительность, населенную «Артенисами», «Сафо», «Акантами», «Сидонскими магами», где было место лишь для высоких переживаний, а чувства дамы и кавалера подвергались тщательному анализу и обсуждению.
Образ жизни и образ литературы
Прециозность возвращает нас к проблеме, вскользь затронутой в начале, когда речь шла о «Продолжении живого разговора, или О беседе римлян» Геза де Бальзака. Разрабатывавшийся в рамках салонной культуры идеал частной жизни был до такой степени связан с литературной деятельностью, что нам трудно определить, где кончается один и начинается другая. Отчасти это обусловлено тем, что источником наших представлений о частной жизни служат письменные документы, многие из которых к тому же отображают вымышленную реальность (то, что мы обычно называем «художественной литературой»). Однако не стоит считать, что перед нами замкнутый круг. Специфика французского XVII в. состоит в том, что процесс обособления публичной и частной сферы действительно имел непосредственное отношение к появлению «литературы» — важнейшего фактора в формировании «частной публичности», о которой уже говорилось ранее.
Как подчеркивает в ряде работ Марк Фюмароли, французская культура XVII в. еще не знала единого литературного поля. В XVI столетии оно существовало в двух видах: с одной стороны, ученая словесность, по-прежнему объяснявшаяся на латыни, с другой — куртуазная традиция, предназначавшаяся для развлечения дам и кавалеров.[98] Эта двойственность продолжала ощущаться в XVII в., хотя по мере перехода ученой словесности на национальный язык и популяризации античных культурных моделей (в частности, идеала «оратора») между ними возник диалог. Одной из его промежуточных форм, по-видимому, следует считать французский театр эпохи барокко, причудливо совмещавший в себе черты подражания древним с остатками средневековой религиозной традиции и куртуазных «игр». Начальный импульс к институтализации литературных занятий безусловно исходил от ученого сословия, уже ощущавшего себя частью «Республики словесности». Первым шагом в этом направлении явилась организация «академий». Как уже упоминалось, приблизительно к 1632 г. подобный кружок сложился вокруг Валантена Конрара. В него входил целый ряд наших знакомцев — Шаплен, Годо, Фаре, а также Буаробер, Демаре и некоторые другие. Собрания имели определенную цель: реформирование и очищение французского языка. Когда слухи о новой академии дошли до кардинала де Ришелье, он взял начинание под свое покровительство и придал ему официальный статус. Согласно уставу Академии, ее компетенцией было определение правил французского языка, которые должны были быть зафиксированы в виде толкового словаря, грамматики, риторики и поэтики. Как известно, работа над словарем заняла у Академии более полувека, его первое издание увидело свет только в 1694 г.
В первоначальном составе Академии заметное место занимали ученые и магистраты, историки и духовные лица: к примеру, из сорока «бессмертных» только шестнадцать были поэтами (включая «драматических поэтов», которых мы сегодня отнесли бы к отдельной категории). Такая конфигурация непосредственно отражала существовавшее тогда представление о границах словесности. К ее владениям причисляли духовное и светское (судебное) красноречие, поэзию, историю и филологические дисциплины. Иными словами, критерием отбора служила профессиональная работа с языком, причем разница между устными и письменными формами во внимание не принималась. Отчасти это свидетельствовало о том, что процесс институтализации был ориентирован на литературную деятельность, а не на ее конечный результат. Поэтому бессменным секретарем Академии мог оставаться Конрар, за свою жизнь написавший три предисловия, два предуведомления и одно посвящение. Кроме того, не стоит упускать из виду, что задумывалось новое учреждение как своеобразная «рабочая группа», собранная для осуществления конкретного проекта. Сами академики были склонны об этом забывать, из-за чего в 1660-х гг. Кольберу пришлось ввести отдельную систему поощрений тем, кто участвовал в работе над словарем.
Присутствие в рядах Академии магистратов и духовных лиц напоминает нам о практическом и политическом значении искусства владения словом. Существовавшая во Франции традиция публичной речи носила двойной характер: с одной стороны, это было церковное красноречие, с другой — парламентское. С XIV в. парламенты играли важную роль в управлении королевскими владениями: там велись судебные прения, обсуждались и уточнялись юридические нормы и утверждались законы. Учредив продажу должностей, Генрих IV значительно уменьшил политический потенциал французской парламентской системы, в последний раз попытавшейся отстоять собственную автономию во время событий Фронды. С 1648–1652 гг., по-видимому, связан и последний взлет парламентского красноречия, образчики которого можно найти в мемуарах кардинала де Реца.[99] Упадок Парламента означал закат ораторского искусства, утратившего свое практическое назначение. В этом смысле создание Академии давало людям, воспитанным в традиции публичной речи, новое поле деятельности, где они могли упражняться в своем искусстве, не смешивая его с другими занятиями (заметим, что даже в вопросах словесности академики имели право высказываться только по поводу сочинений своих собратьев или тех авторов, которые добровольно представляли свою продукцию на их суд). Таким образом, согласно тезису Элен Мерлен, процесс обособления и институтализации словесности можно рассматривать как компромисс между властью, принимавшей на себя все публичные функции, и прежними видами организации общества, которые постепенно вытеснялись в частное пространство.[100] Существенную роль тут должен был играть переход от устных к письменным формам, в большей степени соответствовавшим ситуации «частной публичности», ставшей уделом собственно литературы.
Но мы проследили лишь одно направление развития словесности. Как уже говорилось, другое было связано с традицией куртуазной культуры и, в отличие от ораторского искусства, не претендовало на институциональный статус. Из-за этого очертить его границы гораздо сложнее. Если попавшие под эгиду Академии виды литературной деятельности тем самым обрели автономию, то условно «куртуазная» словесность по-прежнему была тесно переплетена с соответствующим образом жизни. В ее сферу входили рыцарский (пасторальный, героический) роман, эпистолярные жанры, искусство разговора и малые поэтические формы. Не случайно, что теоретики эпохи (в большинстве своем сторонники «академической» литературы) подозревали роман в опасной способности подменять собой реальность и «заражать» ее своими вымыслами. Отнюдь не в силу его «жизнеподобия» — рыцарские или пасторальные романы были максимально далеки от реальности, — а за счет общей нерасчлененности литературных занятий такого рода и других видов деятельности. Об этом, в частности, свидетельствует «Карта Двора» (1663) Габриэля Гере, где прочерчен путь, который должен пройти благородный юноша перед тем, как стать достойным членом придворного общества. Его отправной пункт — провинция Благородства, затем он попадает в город Латыни, переправляется через реку Знаний, посещает провинцию Упражнений и город Академии (в данном случае имеются в виду учебные заведения, где преподавали искусство езды на лошади, — они тоже назывались академиями) и после нескольких остановок оказывается в долине Романов, которая «являет собой подобие драгоценного сплава веселых куплетов, нежных любовных писем, неожиданных приключений, выражения прекрасных чувств, благородства языка, богатства вымысла и сплетения интриг».[101] Метафора путешествия скрадывает несомненную двусмысленность ситуации. Нам остается гадать, идет ли речь о том, что благородный юноша должен ознакомиться с романами (то есть стать их читателем), или же ему необходимо ими «овладеть» (то есть выступить в роли сочинителя)? Так, умение сочинять куплеты и любовные записки явно относится к разряду практических навыков, высокие чувства и благородство языка являются образцами для подражания, а любовь к приключениям, богатство вымысла и сплетение интриг скорее принадлежат к повествовательной технике, хотя могут сойти и за характеристики придворной жизни.
Эту двусмысленность следует считать неотъемлемой чертой салонной и, до некоторой степени, придворной культуры XVII в. «Частное публичное» пространство моделировалось по образцу рыцарских и пасторальных романов, а затем оказывалось предметом изображения в романах героических. К примеру, известно, что госпожа де Рамбуйе очень любила «Амадиса Галльского» (1508), и, как рассказывает Таллеман де Рео, когда она пристроила к своему дому кабинет («сюрприз», устроенный маркизой для своих друзей), то он был назван «Лоджией Зифреи» в честь одной из героинь романа. Когда же ее сосед, герцог де Шеврез, в свой черед решил сделать пристройку, которая загородила окна кабинета госпожи де Рамбуйе, то этот не вполне галантный поступок тоже был осознан в терминах рыцарского романа:
Можно ли было поверить <…>, что найдется рыцарь, да к тому же рыцарь, ведущий свой род от одного из девяти храбрейших паладинов (Готфрида Бульонского), который без всякого почтения к королеве Арженнской и великой Артенисе лишит этот кабинет, <…> названный «Лоджией Зифреи», одной из самых больших его прелестей?[102]
Комический контраст между рыцарским происхождением герцога де Шевреза, принадлежавшего к знатнейшему Лотарингскому дому, и его бытовой мелочностью (пресловутая пристройка — гардеробная: герцогу некуда девать одежду, хотя в его доме Таллеман насчитывает сорок комнат) подчеркивает расстояние, отделявшее усилия госпожи де Рамбуйе по созданию особого эстетического пространства частной жизни, от повседневной реальности ее времени.
Приведем другой пример. Если госпожа де Рамбуйе сознательно переносила в жизнь ситуации, заимствованные со страниц рыцарских романов, то для некоторых ее современников совпадение реального и вымышленного мира происходило стихийно. Так, в 1649 г., в самом начале Фронды, один из друзей будущего кардинала де Реца смотрел на происходящие события через призму знаменитого пасторального романа Оноре д’Юрфе «Астрея» (1607–1627):
Это смешение голубых перевязей, дам, доспехов, музыкантов, бывших в зале, барабанщиков, стоявших на площади, являло собой зрелище, какое чаще можно встретить в романах, нежели в жизни. Нуармутье, большой поклонник «Астреи», сказал мне: «Мне чудится, будто мы осаждены в Марсилье». «Вы правы, — отозвался я. — Герцогиня де Лонгвиль прекрасна, как Галатея, однако Марсийак (герцог де Ларошфуко-отец был тогда еще жив) не столь благороден, как Линдамор».[103]
Реплика кардинала де Реца, которая, по его собственному мнению, положила начало вражде между ним и будущим автором «Максим», имеет снижающий эффект. Там, где Нуармутье видит великолепную картину, напоминающую ему любимый роман, Рец отмечает внутреннее несоответствие идеала и действительности. Герцогиня де Лонгвиль была возлюбленной герцога де Ларошфуко (еще носившего имя Марсийака) и через пару недель после описываемой сцены родила ему сына. Об этой связи все знали, однако высокий ранг принцессы крови (герцогиня де Лонгвиль была родной сестрой принца де Конде и принадлежала к младшей ветви Бурбонов) заставлял сквозь пальцы смотреть на подобный скандал (заметим, что любовные отношения между замужней женщиной и женатым мужчиной воспринимались как двойной адюльтер и, как правило, вызывали более резкое осуждение, нежели те связи, где один из партнеров был свободен). Рец, по-видимому, намекает на то, что по-настоящему благородный человек должен больше заботиться о репутации дамы и не награждать ее ребенком, когда она давно в неладах с мужем.
Насколько можно судить, отношения с госпожой де Лонгвиль и последующий разрыв с ней оказали немаловажное влияние на взгляды будущего моралиста. Однако было бы сомнительно искать их отражение в «Максимах», где личный опыт лишь косвенно причастен к выведению общих принципов. Это не значит, что романтические приключения госпожи де Лонгвиль, из-за которой еще в 1644 г. граф де Колиньи был убит на дуэли герцогом де Гизом, не попали на страницы романов. Часть их была описана в «Артамене, или Великом Кире» (1649–1653) Жоржа и Мадлен де Скюдери, где прототипом главного героя являлся принц де Конде. А история дуэли Колиньи, поводом к которой послужило обнародование писем, якобы писанных к нему госпожой де Лонгвиль, нашла свое отражение в «Принцессе Клевской» госпожи де Лафайет. Ее подробности писательница могла узнать из разговоров с Ларошфуко или из его мемуаров, где это трагическое происшествие описано во всех подробностях.[104]
Когда вышел «Артамен, или Великий Кир», то госпожа де Лонгвиль, тогда находившаяся в изгнании, послала авторам свой портрет в бриллиантовой оправе. Таллеман де Рео объясняет это тем, что у опальной герцогини под рукой не было ничего лучшего.[105] Но не исключено, что этот жест имел символический характер. Сам по себе обычай одаривать портретами приближенных (не будем забывать про королевскую кровь герцогини) и возлюбленных (в «Принцессе Клевской» герой крадет портрет героини, не надеясь получить такой дар из ее собственных рук) был достаточно распространенным. Однако эта посылка портрета была не просто наградой за труд, а своеобразным обменом. Вместо словесного изображения, представленного в «Великом Кире», писатели получили живописное, служившее залогом того, что герцогиня не только узнала себя в одной из героинь, но и согласилась с их интерпретацией своего характера и судьбы. Как мы увидим в третьей главе, где речь пойдет о портретах, такое согласие между автором и его моделью отнюдь не было само собой разумеющимся. Оно означало, что романисты сумели запечатлеть тот идеал, сквозь призму которого герцогиня воспринимала собственное существование.
Иными словами, условно «куртуазное» направление словесности, представленное пасторальным и героическим романом, развивалось при прямом взаимодействии авторов и их героев. Здесь стоит сделать еще одно отступление. Как показывают современные исследователи, институтализация словесности была связана с отмиранием отношений клиентелы, когда сочинитель принадлежал к «дому» того или иного вельможи и работал если не по прямому заказу, то в его интересах. К примеру, уже упоминавшийся Жан Шаплен, автор многократно осмеянной современниками поэмы «Девственница» (1656), получал пенсион от герцога де Лонгвиль, потомка графа де Дюнуа, одного из сподвижников Жанны д’Арк.[106] Другой формой поощрения словесности было меценатство, обычно принимавшее форму разовых вознаграждений. Когда автор посвящал свое произведение вельможе и подносил ему экземпляр, он ожидал ответного подарка, чья ценность зависела как от щедрости адресата посвящения, так и от репутации дарителя. С основанием Академии кардинал де Ришелье практически создал новую систему финансовой поддержки словесности. В 1663 г. Людовик XIV и Кольбер расширили ее, распространив за пределы Академии и даже за пределы Франции. По приказу Кольбера все тот же Жан Шаплен составил список лучших авторов своего времени, которым от имени короля выплачивались регулярные пенсионы. Естественно, что такое поощрение словесности предполагало определенную отдачу со стороны сочинителей, плативших ответную дань панегириками королю. Типологически это мало отличалось от ситуации клиентелы, однако идеологическая разница была огромной. Король воплощал собой государство, и потому зависимость от него не имела столь ярко выраженного личного характера.
Вернемся к портрету, который герцогиня де Лонгвиль послала авторам «Великого Кира». На первый взгляд логика этого жеста вполне соответствует модели меценатства. Но есть существенное различие: госпожа де Скюдери, которой в основном предназначался этот подарок, не провоцировала его обычными способами, тем более что роман публиковался под именем ее брата. Сопоставив факты, легко обнаружить, что брат и сестра были связаны с семейством Лонгвилей — Конде отношениями клиентелы. Не зря прототипом главного героя в «Великом Кире» послужил принц де Конде, а «Клелия», по-видимому целиком принадлежавшая перу госпожи де Скюдери, была посвящена мадмуазель де Лонгвиль (дочери герцога от первого брака: нашей герцогине де Лонгвиль она приходилась падчерицей). Показательно и то, что по окончании Фронды Жорж де Скюдери, открыто поддержавший Конде, покинул Париж, опасаясь преследований, и скрывался в Нормандии. Губернатором этой провинции был герцог де Лонгвиль, что, по-видимому, обеспечивало сочинителю относительную безопасность.
Если мы посмотрим на тех завсегдатаев парижских салонов, которые профессионально владели пером, то окажется, что многие из них существовали за счет клиентелы. Друг госпожи де Скюдери поэт Жан-Франсуа Саразен, выведенный в «Великом Кире» под именем Амилькара, сперва был секретарем у кардинала де Реца (тогда парижского коадъютора), затем перешел к принцу де Конти, младшему брату Конде и герцогини де Лонгвиль. Когда на одном из поворотов Фронды принц де Конти оказался в лагере противников коадъютора, Саразен сочинил против своего бывшего покровителя памфлет, который сам Рец великодушно назвал «превосходным».[107] Однако литературная репутация Саразена связана не с политическими сочинениями, которые были частью его служебных обязанностей, а с салонной поэзией — сонетами, балладами, бурлескными поэмами, ходившими по рукам в рукописном виде. Другой пример: Жан Реньо, сьер де Сегре, на протяжении девятнадцати лет был секретарем мадмуазель де Монпансье. В этом качестве он издал задуманное ею собрание «Различных портретов» (1659), о котором пойдет речь в третьей главе. В начале 1670-х гг. он перешел на службу к госпоже де Лафайет, чей роман «Заида» (1670–1671) появился под его именем: по мнению исследователей, в этом была немалая доля справедливости, поскольку он приложил руку к его созданию. Сам он был известен и как буколический поэт, и как автор «Французских повестей» (1656).
Даже по этому беглому очерку карьеры Саразена и Сегре легко заметить, что отношения клиентелы способствовали своеобразному «раздвоению личности», когда сочинитель выступал то от лица своего покровителя, то от собственного. Причем одно легко переходило в другое. Так, Гез де Бальзак был в молодости связан с семейством д’Эпернон и от лица герцога вел переписку с королевским двором. Позднее он включил эти письма в собрание своих сочинений, совершенно не смущаясь тем, что формально их автором считался герцог. Напротив, Сегре под своим именем печатал сочинения, преимущественно принадлежавшие перу его покровителей, тем самым выступая в качестве подставного лица. Эта игра не вводила в заблуждение современников, как правило, хорошо осведомленных, кому на самом деле принадлежало то или иное сочинение. Для нас интересно другое: отношения клиентелы поощряли искусство перевоплощения, когда авторы говорили не от своего лица, а от имени не менее реальных людей совершенно иного сословного статуса. В каком-то смысле это способствовало театрализации действительности, когда автор и его покровитель оказывались в положении драматурга и персонажа. У Сент-Эвремона есть показательное рассуждение по поводу Корнеля, славившегося своим неумением поддерживать светскую беседу:
…Корнель, будучи вынужден говорить от своего лица, становится зауряден. Отважно мысля за грека или римлянина, он утрачивает часть уверенности, изъясняясь за испанца или француза, и полностью ее теряет, держа речь от собственного имени.[108]
Эта способность мыслить и говорить за кого-то другого не являлась исключительной особенностью клиентелистских сочинений, однако в их случае она способствовала размыванию границ между правдой и иллюзией, литературой и действительностью. Героический роман в том виде, в каком его практиковали Жорж и Мадлен де Скюдери, подпадал под эту категорию текстов. Связь с родом Лонгвилей — Конде давала им дополнительное право представлять своих персонажей и их устами говорить о тех идеалах, которые, по всей видимости, были общими для обеих заинтересованных сторон.
Теперь посмотрим на другую составляющую этой конфигурации. Нетрудно предположить, что эта передоверенная речь в основном носила панегирический характер. Так, в своем «Новом трактате о вежестве» Антуан де Куртэн особо оговаривал, что для человека невысокого звания допустимо вмешаться в разговор вельможи, если тот выказывает желание, «чтобы мы рассказали нечто для него лестное, что самому ему сказать неловко». Однако, за исключением максимально идиллических взаимоотношений автора и покровителя, здесь крылась своеобразная ловушка. Стороннее изображение, даже вполне соответствовавшее идеалу, могло восприниматься как сковывающее и ограничивающее индивидуальность изображаемого. К примеру в начале XVII столетия Маргарита де Валуа, первая жена Генриха IV, принялась за написание мемуаров (опубликованных в 1628 г.), прочитав «Жизнеописания знаменитых женщин» Брантома, одно из которых было посвящено ей самой. Пьер де Бурдей, сьер де Брантом, чье искусство рассказчика было сформировано при дворе Маргариты Наваррской, любимой сестры короля Франциска I и автора «Гептамерона» (то есть двоюродной бабки нашей Маргариты), обычно не слишком стеснялся в выражениях. Однако по отношению к королеве он был столь галантен, что это вызвало у нее возражения:
Я бы воздала большую хвалу вашему труду, если бы он менее восхвалял меня, ибо не хочу, чтобы мои похвалы были отнесены на счет филафтии [любви к самой себе], нежели истины, и чтобы не думали, что я, подобно Фемистоклу, почитаю искусным того, кто более других меня возносит. Это порок всех женщин — любить похвалы, пусть даже и незаслуженные. Тут я осуждаю свой пол и не хотела бы поддерживать эту слабость. В то же время я горда, что столь благородный человек, как вы, захотел изобразить меня своей прекрасной кистью. В этом портрете красота изображения намного превосходит совершенства той фигуры, которую вы решились избрать своим предметом. Если я и обладала долей тех красот, что вы мне приписали, то заботы, стершие их с лица, изгладили их образ из памяти. Так что, видя свое отражение в вашей речи, я охотно поступлю как старая госпожа де Рандан, которая со смерти мужа не гляделась в зеркало и, как-то случайно заметив свое отражение, спросила, кто это.[109]
Деликатная нюансировка похвал не должна затемнять сути: Маргарита отказывалась узнавать себя в зеркале, подносимом ей Брантомом, которое, несмотря на всю лестность, ее не устраивало. «Жизнеописания» не принимали во внимание то, что существование их героев исторично не только в смысле принадлежности к Истории с большой буквы (жизнь особ королевской крови и есть История), но и в самом буквальном значении этого слова. Брантом рисовал Маргариту в расцвете красоты, тогда как к моменту написания текста ее облик давно стал неузнаваем. Таллеман де Рео свидетельствует:
Со временем она ужасно растолстела и при этом заставляла себе делать лиф и юбки гораздо шире, чем следовало, а по ним и рукава. Мерка ее была на полфута больше, чем у других. Она носила белокурый шиньон цвета отбеленного льна с желтоватым оттенком, ибо рано облысела. Посему на висках у нее были большие букли, тоже белокурые, которые ей время от времени подстригали. В кармане она всегда носила про запас волосы того же цвета, опасаясь, что в нужную минуту их не окажется под рукою; дабы придать себе большую статность, она вставляла себе в платье по бокам жестяные планки, расширявшие лиф. Через некоторые двери она не могла пройти.[110]
Этот безжалостный портрет заставляет оценить смелость Маргариты, сравнившей себя с развалинами Рима, чья былая красота превратилась в воспоминание (по этому поводу она цитирует строки из стихотворения Дю Белле «Древности Рима»: «Пришелец в Риме не увидит Рима, / И тщетно Рим искал бы в Риме он»).[111] Конечно, ее возражения Брантому не сводятся к чисто внешним, однако этот отказ узнать себя в идеализированном образе чрезвычайно показателен. Даже самый благожелательный взгляд со стороны мог послужить толчком к тому, чтобы субъект разглядывания пожелал высказаться своими словами и представить собственную перспективу. Или побудить других наблюдателей сформулировать свое мнение: так происходит в третьей главе этой книги, где показано, как идеализированный портрет госпожи де Севинье вызвал ответную реакцию, породив как более психологически нюансированные, так и откровенно сатирические вариации.
Подводя итог, можно сказать, что условно «куртуазное» направление словесности было тесно связано с определенным образом жизни, и это делало его максимально чувствительным ко всем изменениям внутри сообщества, ради которого оно существовало. Поэтому нам трудно отделить светские практики от литературных штампов. Скажем, если взять «Любовную историю галлов» Бюсси-Рабютена, то первое, что обращает на себя внимание современного читателя, это количество писем, которые персонажи пишут друг другу и которые автор считает необходимым цитировать. Мы знаем, что за событиями, изображенными в этой скандальной хронике, стоят подлинные происшествия, хорошо известные современникам. При этом нет никаких свидетельств того, что переписка госпожи д’Олонн, выведенной под именем Арделизы, ходила по рукам. Бюсси тут следовал распространенной историографической практике эпохи, правдоподобными предположениями восполняя недостающие звенья повествования. Возможно, он был осведомлен о переписке госпожи д’Олонн с ее возлюбленными, но, скорее всего, исходил из простого умозаключения, что в подобных случаях принято переписываться. Знание обычаев своего круга заменяло ему реальную информацию обо всех перипетиях взаимоотношений героев. Таким образом, в его тексте мы имеем дело по крайней мере с двумя уровнями исторической подлинности: описываемые им события действительно имели место (сугубо индивидуализированная реальность), а их развитие соответствовало существовавшим моделям взаимоотношений (социокультурная реальность). То же самое можно сказать и об анонимной повести «Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель», где точно воспроизведены многие повороты отношений между герцогиней де Монпансье и ее возлюбленным, однако конкретные формы их выражения находятся на совести автора. Его граф де Лозен объясняется с кузиной короля так, как это подобало воздыхателю знатной дамы в любом пасторальном или героическом романе. Все, что нам известно о характере настоящего Лозена, склонного к раздражительности, вспышкам гнева и внезапной грубости, этому противоречит. Тем не менее неизвестный сочинитель «Попугая» мог быть ближе к истине, чем кажется на первый взгляд. В сложной ситуации человек придворной и салонной культуры XVII в. действительно был склонен избирать наиболее конвенциональный — и потому слегка литературно-анахронистический — тип поведения. Сама Мадмуазель в своих мемуарах неоднократно подчеркивает, что до поры до времени Лозен держался безупречно и казался ей совершенным воплощением идеала «человека достойного».
В этом смысле не стоит искать в сочинениях, принадлежавших к условно «куртуазному» направлению словесности, — а это все публикуемые ниже тексты, за исключением двух последних, — надежные свидетельства того, как жили люди XVII столетия. В большинстве случаев мы не сможем с полной определенностью сказать, имеем ли мы дело с литературной конвенцией, то есть со сложным переплетением литературной традиции и ментальных структур соответствующего периода, или с «реальностью». Само по себе такое противопоставление сомнительно: для их авторов и персонажей эти тексты непосредственно являлись «образом жизни» как в прямом, так и в переносном смысле. И те из их современников, которые не читали рыцарских (героических, пасторальных) романов, не владели искусством разговора, не умели кстати сочинить рондо или сонет, сделать остроумное замечание, написать изящное письмо, рассказать о виденном и услышанном, — а таких, естественно, было большинство, — были не просто чужды литературе, но вели иной образ жизни. Исследователи часто подчеркивают, что салонные круги XVII в. отличались исключительной степенью саморефлексии.[112] Другими словами, им было свойственно повышенное ощущение групповой идентичности. Эта идентичность формировалась посредством словесности, путем повседневного смешения прозаической и поэтической речи, восприятия светских бесед как готовых текстов (так, в эссе «О разговоре» госпожи де Скюдери одна из ее героинь говорит о только что услышанном разговоре, что «совместное сочинение этих пятнадцати или двадцати женщин было бы самой плохой книгой на свете»). И эту же идентичность, уже в сформированном виде, фиксировали и идеализировали тексты иного порядка, претендовавшие на статус метаописаний, — романы, мемуары, хроники.
Итак, эта книга не о том, как жили некоторые современники Людовика XIV, а о том, как посредством текстов они конструировали определенный образ жизни, одновременно становившийся и образом литературы. Поэтому открывают ее тексты нормативные и прагматические, взятые из учебников хороших манер и из сочинений теоретиков светского общения. Их предмет один — искусство беседы, краеугольный камень культуры «частной публичности», основа как условно «куртуазной», так и институтализированной словесности. Без знания правил вежества нам не заметить всех значимых отклонений от них, которые встречаются в последующих документах. Ярким примером такого отклонения служит «Любовная история галлов» Бюсси-Рабютена, в которой куртуазная и типично романная форма изложения резко контрастирует с крайне приземленным содержанием, тем самым предлагая еще одну вариацию на любимую тему эпохи — разницу между видимостью и сутью. И здесь же мы встречаем первое столкновение двух интерпретаций характера подлинного исторического лица, когда вместо прямолинейной откровенности Бюсси его приятель Сент-Эвремон избирает тактику недоговоренностей и полунамеков, которая позволяет ему высказать госпоже д’Олонн немало горьких истин, не доводя дело до разрыва. Тогда как в следующей главе мы видим, что карьерная и литературная тактика Бюсси едва не стоила ему отношений с его кузиной, госпожой де Севинье, чей нелицеприятный портрет был включен им в «Любовную историю галлов». Такое сведение счетов побудило госпожу де Севинье письменно ответить на нападки и представить свое понимание конфликта. В сущности, именно критический потенциал текстов, включенных в три первые главы книги и в разной степени пытавшихся словом исправить действительность, и составляет «сквозной сюжет», их объединяющий.
Четвертая, пятая и шестая главы предлагают несколько иной поворот темы. Их лейтмотив — разножанровое восприятие одного события. В первом случае таким «событием» становится изобретение «Карты страны Нежности», которая сперва возникает в беседе между завсегдатаями салона госпожи де Скюдери, затем перекочевывает в ее переписку с Полем Пелиссоном и, наконец, входит в нарративную структуру романа «Клелия». Во втором — история несостоявшегося замужества мадмуазель де Монпансье, изложенная ею самой в виде мемуаров, неизвестным современником — в виде галантной повести и, наконец, двумя непосредственными наблюдателями (госпожа де Севинье фиксировала развитие событий в письмах, а Оливье д’Ормессон делал то же самое, но в дневнике). В третьем — внезапная смерть герцогини Орлеанской, описанная двумя очевидцами, госпожой де Лафайет — в форме документальной хроники, а Боссюэ — в виде «Надгробного слова». Эти способы «публикации» последнего события переводили его в категорию общественного достояния и делали одним из факторов формирования «частной публичности». Но, проходя через фильтр разных литературных жанров, оно отнюдь не приобретало столь ценимую нами «стереоскопичность» и не открывалось с новых сторон. Напротив, его структура схематизировалась и закреплялась, что помогало ему стать частью общего фонда культурной памяти. Этот процесс фиксируют тексты госпожи де Лафайет и Боссюэ, которые, в отличие от всех предыдущих, находятся на зыбкой грани между институтализированными и неинститутализированными формами существования словесности. Их почти официальный характер особенно очевиден при сравнении с соответствующим описанием смерти Мадам из мемуаров мадмуазель де Монпансье. В этом смысле они выступают в качестве предела, отделяющего сферу единой (государственной, религиозной) идеологии от той (сравнительной) множественности жанровых и жизненных точек зрения, которую мы именуем «частной жизнью».
Часть вторая Образы частной жизни
Глава первая Искусство беседы
Во французском языке XVII в. слово «беседа» (la conversation) обозначало непринужденный разговор (в отличие от синонимичного понятия «l’entretien», которое обычно употреблялось по отношению к разговорам на заданную тему) или постоянный круг общения (заметим в скобках, что оба этих смысла присутствуют и в русском слове «беседа», которым, согласно Далю, можно назвать как «взаимный разговор», так и «собрание, общество, кружок»). Эта двойственность говорит о том, что «беседа» как особый тип вербальной коммуникации еще не мыслилась отдельно от участников, оставаясь специфической принадлежностью определенной социокультурной группы. По словам Фюретьера, одну категорию составляла «беседа дам», оттачивавшая ум, другую — «беседа ученых».[113] Причем различие между ними не ограничивалось содержательным уровнем. Вернее будет сказать, что содержание было неразрывно связано с манерами. Беседа предполагала точное соответствие между вербальным и телесным жестом. Ученые вели беседы в кабинетах или в библиотеке, часто апеллируя к книгам. Дамы — в альковах или на прогулках. Как правило, хозяйка дома принимала визиты полулежа или сидя на парадной постели, которая стояла на постаменте посреди комнаты. В пространстве между собственно ложем и бортиками постамента размещались табуреты, на которых рассаживались визитеры. Так выглядел салон XVII в., по крайней мере в своем классическом виде.
Неразрывную связь риторических привычек и манер подтверждают многочисленные трактаты о том, как следует вести беседу. Отчасти это была компетенция учебников хороших манер, в которых обычно присутствовал раздел, посвященный умению вести разговор. Таков случай «Нового трактата о вежестве» Антуана де Куртэна, о котором речь пойдет ниже. Однако их рекомендации, как правило, ограничивались речевым этикетом (как следует к кому обращаться) и, если можно так выразиться, протоколом общения (как вступить в беседу, как из нее выйти, какие жесты и действия необходимо произвести). Содержание и построение беседы — предмет отдельных сочинений, которые не столько давали конкретные советы, сколько представляли читателям готовые образцы для подражания. Именно так поступает аббат де Бельгард в своих «Образцах разговоров для учтивых людей». Более сложную позицию занимает госпожа де Скюдери. Ее «Беседы на разные темы» сочетали в себе прямые рекомендации и образцы для подражания: во многих случаях предметом разговора ее героев оказывалась сама беседа или материи, с ней связанные.
Как легко заметить, обе категории текстов (с одной стороны, учебники хороших манер, с другой — сборники риторических упражнений) соответствуют двойному пониманию беседы как общения в целом и как разговора в частности. Но различие между ними обусловлено не только этим. Правила хорошего тона были ориентированы на уже существовавшие в обществе нормы, которые быстро менялись. Когда мольеровский мещанин во дворянстве пытался обучиться хорошим манерам, то помимо услуг учителей он явно прибегал к письмовникам или сборникам комплиментов. На это указывает его витиеватый комплимент маркизе: «Сударыня! Это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье, и вы были так добры, что сделали мне милость…» (III, 19).[114] Стилистически это высказывание напоминает образцы приветствий из «Совершенного придворного»: «Монсеньор, почитая великой милостью удостоиться возможности вас приветствовать…» Однако между анонимным «Совершенным придворным» (1640) и «Мещанином во дворянстве» Мольера (1670) — тридцать лет. Потуги господина Журдена на «благородную» учтивость были смешны не только потому, что не соответствовали его общественному положению и привычкам, но еще и в силу того, что использовавшиеся им формулировки безнадежно устарели. Иначе говоря, учебники хороших манер часто отражали вчерашние нормы: пока книга была отпечатана, продана и доходила до читателя, ее советы оказывались устаревшими.
Напротив, тексты, посвященные содержательной стороне беседы, представляли своим читателям идеальные модели, которые были связаны не столько с существовавшими нормами, сколько с социальным утопизмом. Это могло сказываться в попытках некоторых авторов (к примеру, аббата де Бельгарда) напомнить, что в конечном счете религиозные идеалы выше общественных. Или, как в «Беседах» госпожи де Скюдери, показать возможность общения, непохожего на то, что было принято в свете. Хотя эти модели неизбежно вбирали в себя черты реальных практик, будучи ориентированы на вневременные (с их точки зрения) идеалы, они в меньшей степени были подвержены анахронизму. Парадоксальным образом, их можно назвать более «практичными», нежели учебники хороших манер, поскольку они сохраняли актуальность вплоть до того момента, когда происходила кардинальная смена ценностей.
Вопрос практического применения для всей этой литературы был крайне чувствителен. Как писал Жан-Батист Дюамель, который в 1666 г. заново перевел на французский язык известный трактат Джованни Делла Каза «Галатео, или Об обычаях» (1558),
Я знаю, что наука светскости постигается не по книгам, и, чтобы научиться нравиться, одних предписаний мало; я также знаю, что человек — недостаточно искусный художник, чтобы знать все пропорции и цвета, что он — не слишком хороший музыкант или лютнист, чтобы помнить все тональности, ноты, аккорды и такты. Все эти вещи зависят от навыка, поэтому следует не только знать правила, но и упражняться, чтобы приобрести легкость исполнения, в которой и заключается приятность. Точно так же, если человек будет знать все предписания «Галатео», «Придворного» и «Достойного человека» господина Фаре, но не будет иметь дела с миром, то правила эти окажутся для него бесполезны, не только из-за отсутствия надобности, но и потому, что, не имея навыка, он не научится их с легкостью применять. Они не лишат его скованности и неловкости, налета провинциальности или кабинетности, который свойствен тем, кто живет в одиночестве и ни с кем не видится. Но эти правила могут быть в высшей мере полезны для тех, кто сочетает их с практикой, ибо час чтения способен навести на размышления, к которым опыт приводит через десяток лет. Кроме того, есть ошибки столь грубые, что их опасно узнавать лишь после того, как они были совершены; один такой промах способен погубить человека и сделать его предметом насмешек до конца дней. Поэтому можно сказать, что если правилам нужна практика, то и они ей отнюдь не бесполезны.[115]
Дюамель отчетливо формулирует мысль, которую на разные лады повторяли до него: в искусстве беседы практика доминирует над теорией. А потому авторам, фиксировавшим его правила, приходилось иметь дело с подспудным ощущением собственной неполноценности, неизбежно сопровождавшим это занятие. По-настоящему светский человек не нуждался в таких наставлениях; само качество «светскости» утрачивало свою ценность, будучи доступно слишком большому количеству людей. Так что широкое распространение хороших манер, то есть в буквальном смысле слова их вульгаризация, было отнюдь не в интересах светского общества. Как показал в своем исследовании придворной культуры Норберт Элиас, именно поэтому механизм вульгаризации манер не сводился к их простому перениманию, когда модели «правильного» поведения постепенно спускались по иерархической лестнице, захватывая все более широкие слои общества. Как только они переставали быть исключительным достоянием узкого круга, элита изобретала новую систему отличий и реформировала свое поведение, чтобы избежать смешения с теми, кто стремился войти в ее ряды. Скажем, если при дворе Людовика XIII признаком хорошего тона была вычурность и усложненность речи, которая у нас сейчас ассоциируется с барочной эстетикой — примером тому «Совершенный придворный», — то при дворе молодого Людовика XIV в моде была не столько простота, сколько грубость манер, о чем, как мы увидим, писал Бюсси-Рабютен.
В такой ситуации печатное слово, будучи одним из эффективных способов вульгаризации, представлялось менее желательным, нежели устное. Книга о хороших манерах была доступна любому грамотному и сравнительно обеспеченному человеку, который мог ее купить и прочитать. Меж тем как для того, чтобы проникнуть в хорошее общество и перенять его манеры, требовалось непропорционально большее количество усилий и, что важно, согласие самого общества. С этой своеобразной аристократичностью устного слова был связан комплекс представлений, противопоставлявших обучение по книгам свободному познанию «книги мира».[116] Как писал аббат де Бельгард, «мир — огромная книга, из которой достойные люди узнают все, что им следует знать». Следовательно, печатная продукция — удел тех, кого нельзя назвать «достойными людьми». С этим, конечно, напрямую не согласился бы ни один автор (на то он и автор), однако престиж устного слова довлел над сочинителями подобных руководств и заставлял обращаться к псевдоустным жанрам. Тот же аббат де Бельгард говорил, что «мир — огромная книга», не от своего лица: в противном случае получилось бы, что он дискредитировал собственный труд. Эту сентенцию произносит один из участников его воображаемой беседы. Похвала устному слову звучит в якобы устной речи, случайно запечатленной на бумаге. Таким образом, когда авторы этих частных риторик имитировали разговорные формы, они не только создавали идеальную модель беседы, но преодолевали компрометировавший их разрыв между теорией и практикой (который, заметим, полностью исчезает, когда перед нами, как в случае госпожи де Скюдери, «беседа о беседе»).
Совершенный придворный
(1640)
Эта небольшая книга увидела свет в 1640 г. в Амстердаме. Собрание разнородных материалов — от образцовых разговоров и писем до анекдотов и галантных стихов, — она должна была служить шпаргалкой для тех, кто не слишком искушен в тонкостях светской жизни. Судя по некоторым деталям, анонимный автор обращался к преимущественно буржуазной (и провинциальной) аудитории. Так, участники диалога «Как пригласить друга на обед» названы не фамильными, а крестильными именами, что говорит об их незнатном происхождении. А в диалоге «Как обратиться к девушке хорошего происхождения» дворянская приставка «де» есть только у кавалера, но не у дамы. Показательны и фамильные имена персонажей этого диалога. Кавалер, судя по всему, гасконец. В XVI столетии прославился маршал де Монлюк, герой итальянских кампаний, оставивший после себя книгу воспоминаний «Комментарии» (1592). Что касается мадмуазель Флери, то эту фамилию носило влиятельное руанское семейство, из которого чуть позже вышел известный католический историк Клод Флери. Трудно сказать, до какой степени намеренным со стороны автора был выбор имен, тем не менее перед нами не только сватовство дворянина к девушке из буржуазной семьи, но и разговор людей, рожденных в разных концах Франции. Это могло быть дополнительной причиной их взаимной отчужденности: язык и привычки Верхней Нормандии в эту эпоху еще отличались от гасконских, хотя во второй половине века региональные особенности будут все больше исчезать под влиянием централизаторской политики Людовика XIV. В силу этого паре был тем более необходим четкий «протокол общения», помогавший преодолеть культурные различия.
А вот сословное различие между кавалером и дамой могло быть не столь велико, несмотря на разницу происхождения. Согласно расхожему представлению того времени, гасконцы отличались бедностью, а также хвастливостью, хитростью и одновременно простодушием (эти качества они, впрочем, делили со своими ближайшими соседями — испанцами). Для бедного гасконского дворянина женитьба на богатой невесте из буржуазной семьи давала возможность не только поправить состояние, но и обзавестись полезными родственными связями (скажем, руанские Флери были крупными магистратами). И хотя теоретически дворянин всегда был выше буржуа, в реальности влиятельный и состоятельный выходец из третьего сословия, в придачу занимавший какую-нибудь заметную административную должность, был в шаге от приобретения личного дворянства, и его вес в обществе мог быть более значительным, нежели у дворянина средней руки.
Допустим, что наши предположения верны и что небогатый гасконский дворянин господин де Монлюк желает породниться с семейством мадмуазель Флери. Этот диалог — их первая беседа (мадмуазель Флери говорит господину де Монлюку, что не имеет чести его знать), но нет сомнения, что кавалер уже получил согласие родителей невесты. В первом явлении «Смешных жеманниц» (1659) Мольера представлена сходная ситуация, когда Лагранж и Дюкруази, уже достигнув взаимопонимания с Горжибюсом, приходят знакомиться с Мадлон и Като, его дочерью и племянницей. Их встречает дурной прием:
Лагранж: Как это они еще догадались предложить нам кресла! И позволительно ли в нашем присутствии все время перешептываться, зевать, потирать глаза, поминутно спрашивать: «А который теперь час?» И на все вопросы ответ один: «да» или «нет»! (I. I)[117]
Неучтивое обращение Мадлон и Като свидетельствует не только об их «жеманстве» (они воспроизводят образцы «модного» поведения, не соответствующего их положению в обществе), но и о нежелании вступать в брак с предложенными кавалерами. Как следует из «Нового трактата» Куртэна, своими действиями они обозначают скуку и незаинтересованность в собеседнике, нарушая элементарные правила приличия: «Когда говорят другие, следует стараться не дремать, не потягиваться и не зевать…» Напротив, мадмуазель Флери, на словах отвергая ухаживания господина де Монлюка, дает понять, что ничего не имеет против брака. Ее сопротивление носит ритуальный характер, как, собственно, и само ухаживание. Поэтому на комплименты красоте она отвечает с подобающей скромностью, а объяснение в любви встречает заверением в собственной добропорядочности. Последнее, по-видимому, входило в традиционную тактику ухаживания: в несколько измененном виде эта тема присутствует и в беседах мадмуазель де Монпансье и графа де Лозена. Так, на вопрос дамы, не приходилось ли ему думать о браке, граф отвечал, что «побудить его к этому может лишь добродетель суженой», тем самым давая собеседнице возможность должным образом отреагировать на его заявление. Из этого следует, что добропорядочность женщины — величина абсолютная, меж тем как добропорядочность мужчины проявлялась в женитьбе на добродетельной женщине. Лозен, стоявший ниже мадмуазель де Монпансье на сословной лестнице, не мог требовать от нее отчета в добродетели, поэтому ему приходилось настаивать на собственной добропорядочности. Мадмуазель Флери, заявляя о своей добродетели, побуждает господина де Монлюка недвусмысленно высказаться о своих намерениях. Как только он это делает, ей в качестве ответного жеста приходится снова подчеркивать свою незаинтересованность в его ухаживаниях: «Вы всегда найдете дверь этого дома открытой, как и все те, кто с вами сходен».
Эта оборонительная тактика женского поведения восходит, конечно, к куртуазной культуре, где дама нередко сравнивалась с замком, который можно взять внезапным нападением или длительной осадой. Однако в XVII столетии военная метафорика распространялась не только на отношения между полами, но и на человеческие отношения в целом. Эта схема прослеживается и в диалоге «Как пригласить друга на обед». Вначале Жюльен засыпает Себастьена комплиментарными просьбами разделить с ним обед, а тот их отклоняет. Затем, когда приглашение принято, Жюльен начинает разрабатывать новую тему: он недостоин оказанной ему чести, и теперь уже Себастьену приходится заверять друга в полном довольстве предложенным угощением. Это тактика поединка: сперва один нападает, другой защищается, потом первый уходит в оборону, вынуждая противника занять более активную позицию.
Сравнение разговора с поединком — одно из общих мест французской воспитательной литературы начала XVII в., когда огромное количество дуэлей заставило искать альтернативные пути решения конфликтов, скажем, пытаться перевести агрессию в более мирное русло риторики. Диалоги из «Совершенного придворного» показывают, что в это время даже самый нейтральный или благожелательный разговор естественно принимал форму спора.
Тираж «Совершенного придворного», вероятно, был невелик, поскольку до нашего времени дошло всего лишь несколько экземпляров. Поэтому трудно судить, каково было влияние этой книги и имелось ли оно вообще. В ней представлен тип вежества, который к середине XVII в. уже вышел из употребления при дворе и воспринимался как устаревший. И это еще один довод в пользу того, что «Совершенный придворный» предназначался не аристократическому, но буржуазному, возможно — провинциальному читателю.
Совершенный придворный[118]
Как засвидетельствовать свое почтение вельможе
Монсеньор, почитая великой милостью удостоиться возможности вас приветствовать и засвидетельствовать почтение Вашей Светлости, я буду мнить себя счастливцем, когда вы позволите мне пребывать отныне вашим нижайшим и покорнейшим слугой.
Вариант
Монсеньор, место, занимаемое Вашей Светлостью среди грандов, и ваши бесчисленные прекраснейшие качества побуждают меня предложить вам ту малость, которой я располагаю, дабы всегда и везде иметь возможность покорнейше вам служить.
Как пригласить друга на обед
Жюльен — Себастьену. Сударь, когда бы вы согласились оказать мне услугу, то почтили бы меня своим посещением, чтобы разделить мой скромный обед.
Себастьен. Сударь, благодарю вас от всего сердца. Я не заслужил такого внимания и на сей раз прошу меня извинить.
Жюльен. Но почему, сударь? Сделайте одолжение, и, исполненный благодарности, я буду счастлив служить вам во всем, на что вы пожелаете меня употребить.
Себастьен. Сударь, вы слишком добры и красноречивы, чтобы было можно вам отказать, но я боюсь вас стеснить.
Жюльен. Сударь, вы не можете меня стеснить и окажете мне больше чести, нежели я заслуживаю.
Себастьен. Тогда, сударь, прошу считать меня вашим покорным слугой и отбросить всяческие церемонии.
Жюльен. Я знаю, что не в моих силах предложить то, ради чего вам стоило бы остаться до обеда, поэтому из-за меня вы окажетесь в убытке, ибо дома вас угостили бы лучше. Но с этим ничего не поделать, и я прошу у вас немного дружеского снисхождения.
Себастьен. Когда бы всем постящимся предлагали такое угощение, пост показался бы им легким и приятным. Вы мне оказываете слишком большую милость и должны извинить мою докучливость.
Жюльен. Там нет нужды в прощении, где нет обиды. В ответ скажу, что вы не можете докучать своим слугам и тем, кому вы дороже жизни. Скорее я должен просить прощения за то, что задержал вас у себя ради столь скудного угощения, однако оно — от чистого сердца. Я и вправду краснел бы от стыда, когда бы не был уверен в вашей дружбе. Сожалею лишь о причиненном вам неудобстве.
Себастьен. Сударь, вы оказали мне слишком много чести; моя благодарность всегда и повсюду будет стремиться явить, что, ежели мои возможности окажутся равны моей доброй воле, я не пожалею ни собственных сил, ни сил друзей, дабы вам услужить.
Как обратиться к девушке хорошего происхождения, имея намерение на ней жениться, и предложить ей свои услуги
Господин де Монлюк и мадмуазель Флери.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, не сомневаюсь, что вы сочтете меня не столько смелым, сколько дерзким, но из снисхождения к моему смирению, умоляю вас извинить смелость и простить дерзость, заставившие меня решиться покорнейше вам предложить мной располагать.
Мадмуазель Флери. Сударь, я крайне сожалею, что не имею чести вас знать, и поражена, что вы предлагаете свои услуги особе, их недостойной.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, к таким речам вас побуждает природная доброта.
Мадмуазель Флери. Простите, сударь, но моими устами говорит чистая правда.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, непомерная скромность, естественно звучащая в ваших словах, позволяет мне надеяться, что мои намеренья окажутся вам приятны и со временем я смогу заслужить вашу благосклонность.
Мадмуазель Флери. Когда бы во мне было нечто благое, то оно, сударь, склонилось бы к вам, но это не так, и потому вам не на что надеяться.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, вы исполнены прелести, но я не почитаю себя довольно счастливым, чтобы надеяться на благосклонность и ею обладать: воистину, я смогу подняться в собственном мнении, лишь если вы будете ко мне милостивы и полюбите меня так, как я люблю вас.
Мадмуазель Флери. Когда бы я и пожелала вас полюбить, этой любви был бы положен строгий предел, и она вовек не вышла бы за границы порядочности и скромности.
Господин де Монлюк. И это, мадмуазель, заставляет меня еще более вас ценить и делает вас еще более привлекательной. Поэтому умоляю вас поверить в неизменную святость моих намерений и что стремлюсь я к честной цели. Как, неужто вы меня принимаете за кого-то другого, полагая во мне помыслы, противные вашему счастью? Когда бы это было так, то лучше мне вовсе не родиться на свет, а потому я твердо намерен навеки оставаться вашим вернейшим и покорнейшим слугой, исполняющим все, что вам заблагорассудится мне повелеть.
Мадмуазель Флери. Я вас благодарю, сударь, за эту привязанность и за труды, которые вы взяли на себя ради не заслуживающей того особы. Ваша покорная служанка.
Господин де Монлюк. Это я, мадмуазель, обязан вам до такой степени, что мне не по средствам вернуть этот долг, и потому умоляю и заклинаю вас пользоваться моими услугами во всем, в чем вы сочтете меня способным услужить. Теперь с бесконечным почтением решаюсь проститься с вами и оставляю вам сердце в залог преданности и постоянства.
Мадмуазель Флери. Прощайте, сударь, от всего сердца благодарю вас за визит.
Господин де Монлюк. Я надеюсь снова вас увидеть, и, по возможности, скоро.
Мадмуазель Флери. Сударь, если ваши намерения добры, а цели законны, вы всегда найдете дверь этого дома открытой, как и все те, кто с вами сходен; все будут приняты наилучшим образом, и потому вы можете приходить, когда вам заблагорассудится.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, хочу вас заверить, что я сейчас расстаюсь с сиянием дня, дабы погрузиться в пучину самого ужасного мрака, который только может повстречаться, ибо, поверьте, без вас для меня нет ни дня, ни света, и время сей печальной разлуки мне столь тягостно, что минуты кажутся часами, часы — целыми днями, а дни — веками. Меня утешит лишь надежда на вашу благосклонность, тогда я смогу терпеть.
Мадмуазель Флери. Бог велит нам надеяться. Но, возможно, вы не столь одержимы страстью, как делаете вид. Прощайте, сударь, увидимся в другой раз.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, вы недооцениваете свою красоту и постоянство моей любви. Но я надеюсь, что со временем вы увидите, каков я; сейчас же, хотя необходимость вынуждает меня расстаться с вами, я никогда не расстанусь с той привязанностью, которую ваши прекрасные очи заронили в мою душу. Прощайте, мадмуазель, до следующего раза, который я, по возможности, постараюсь приблизить.
При следующей встрече:
Господин де Монлюк. Поверьте, мадмуазель, я никогда не думал, что боль разлуки с тем, кого любишь, столь пронзительна, ибо готов поклясться вашими прекрасными глазами, путеводными звездами моей судьбы, что умирал от нетерпения вас снова видеть.
Мадмуазель Флери. Возможно ли, сударь? Не могу поверить.
Господин де Монлюк. Умоляю, мадмуазель, поверьте, ибо клянусь, что мне не по силам переносить тоску, которой страдал, видя себя на столь долгий срок удаленным от предмета моего счастья и всего, что любо моей душе.
Мадмуазель Флери. Сударь, быть может, это и так, ибо по вашим поступкам вы кажетесь объятым страстью.
Господин де Монлюк. Мадмуазель, уверяю вас, что мне нет довольства ни в чем, кроме того, что укрепляет мою любовь, — вашего расположения и вашей поразительной красоты.
Мадмуазель Флери. Сударь, вы так говорите, чтобы посмеяться надо мной, как будто во мне есть хоть крупица подобной красоты.
Господин де Монлюк. Как, мадмуазель, неужели вы меня принимаете за такого человека? Уверяю вас, что говорю от души и был бы достоин презрения, ежели бы думал не то, что говорю. Знайте, мадмуазель, что вы видите человека, который полностью принадлежит вам и желает жить лишь ради вас и ради служения вам. И более всего меня огорчает необходимость покинуть вас на несколько дней, дабы уладить неотложное дело. Я прошу вас поверить, что, куда бы я ни отправился, в моей душе вечно будет пребывать живой образ ваших совершенств и я буду жить лишь мыслью о вашей красоте, с полной решимостью во всем вам повиноваться. Прощайте, мадмуазель, до следующего раза и извините, что не могу дольше составить вам компанию.
Мадмуазель Флери. Я бесконечно вам признательна, сударь; до следующего раза.
Антуан де Куртэн
Новый трактат о вежестве, принятом во Франции среди добропорядочных людей
(1671)
Антуан де Куртэн (1622–1685) начал карьеру на военном поприще, много служил за пределами Франции, в частности у знаменитой Кристины Шведской, которая пожаловала ему дворянство. Но его призванием стала дипломатия. Он представлял интересы шведской короны при французском дворе, затем, перейдя на французскую службу, — интересы Франции при скандинавских дворах. Выйдя в отставку, занялся литературой; о характере его интересов говорит тот факт, что он перевел на французский язык знаменитый трактат Гроция «О военном и мирном праве». Кроме того, ему принадлежат «Трактат о ревности» (1674), «Трактат о лености» (1674) и «Трактат о вопросах чести» (1675).[119]
В «Новом трактате о вежестве, принятом во Франции среди добропорядочных людей» тоже сказался дипломатический опыт Куртэна. В отличие от соотечественников, он вживе мог наблюдать постепенный рост общеевропейского влияния Франции и французской культуры. Поэтому для него важно было не поведение как таковое — как входить, где садиться, — но чисто французские обычаи и вопросы речевого этикета. Многие его рекомендации явно предназначались людям, свободно говорившим по-французски, но для которых этот язык не был родным (отсюда запрет говорить в обществе на языке, непонятном большинству присутствующих): тем, кто не очень чувствовал разницу между различными формами и оттенками общения.
Как и многие авторы, писавшие о правильном поведении в обществе, Куртэн стремился примирить требования христианской морали с реальностями человеческого общежития. В отличие от Никола Фаре, чей знаменитый трактат «Достойный человек, или Искусство нравиться при Дворе» (1630) представлял довольно пессимистический взгляд на существовавшее тогда положение вещей, Куртэн был не склонен его драматизировать. По сравнению с другими теоретиками, у него менее ощутим конфликт между внешней формой и внутренним содержанием, или, говоря языком эпохи, между «видимостью» и «сущностью». Его концепция вежества требовала от каждого члена общества четкого и объективного понимания собственного положения. Никто не имел права узурпировать чужие привилегии, но не следовало допускать и ущемления собственных интересов. В этом смысле весьма характерно замечание по поводу рассаживания во время церемоний: «Что до приглашенных, то, будучи в их числе, не следует самому занимать место, если есть церемониймейстер, их распределяющий <…>». Церемониймейстер — это тот, кто гармонизирует общество, кто твердо знает положение каждого в сословной и придворной иерархии и отводит всем подобающее место. Его отсутствие ставит людей перед дилеммой: нравственный императив требовал скромности и самоуничижения, а светская мораль — уважения к собственному положению в обществе и в государстве. Поэтому Куртэн советовал поступать, исходя из интересов должности или сана, но не забывая о другой — христианской — системе координат.
Многие из практических рекомендаций Куртэна вполне традиционны. Как Эразм Роттердамский за полтора века до него, он стремился к установлению единых норм поведения, своеобразной «золотой середины», и осуждал различные формы отклонения от нее. Ему претят чрезмерная порывистость и эмоциональность; он считает, что индивидуальное не должно превалировать над общественным (и отнюдь не случайно предпочитает безличные грамматические формы). Но не менее показательно и то, что его собирательный «герой», несмотря на этикетные промахи, более образован, нежели окружающие его вельможи. Те могут забыть название битвы, в которой Цезарь разбил Помпея, или перепутать Александра Великого с Дарием, что для человека книжной культуры было немыслимо. Так у Куртэна намечается проблема, которая будет обсуждаться аббатом де Бельгардом и его современниками: как соотносятся интеллектуальное превосходство и высокий сословный статус? В отличие от людей XVIII столетия, которые безоговорочно решили этот спор в пользу ума (в «Женитьбе Фигаро» (1781) Бомарше скажет, что «рожденье — это случай, // Все решает ум один»), [120] Куртэн, как и Декарт, и многие другие, был готов пожертвовать умом во имя поддержания установленного порядка.
«Новый трактат» Куртэна — одно из самых популярных в XVII в. сочинений воспитательного жанра. С момента выхода в свет и до 1730 г. оно выдержало как минимум пятнадцать переизданий.
Новый трактат о вежестве, принятом во Франции среди добропорядочных людей[121]
Глава седьмая
О том, что касается беседы в обществе
Как входить в комнату
С нахальством врываться туда, где находится общество, — признак легкомыслия или тщеславия; когда дозволено войти (за исключением тех случаев, когда речь идет о важном деле, не терпящем отлагательств, или же когда это невозможно сделать незаметно), то, еще не подойдя к собранию, начинать вопить во всю глотку тем, кто нам более всего знаком: «Сударь или сударыня, ваш слуга, желаю доброго дня» и тому подобное свойственно лишь тем, у кого в голове ветер. Напротив, надо подойти потихоньку и поздороваться, будучи совсем рядом и самым скромным тоном.
Также весьма невежливо тянуть за мантию или за плащ благородную особу, с которой вы хотели бы поговорить.
Следует подождать, пока она вас заметит, и если она в то время тихо беседует с кем-то другим, то отойти и дождаться, пока она закончит разговор. Если же вам надо сообщить ей нечто срочное, особенно если это касается ее собственных интересов, то следует покрутиться там, где она вас может увидеть, затем со всем уважением приблизиться и громко или тихо сообщить, что следует, в подходящей для того манере.
Надо следить за тем, чтобы походка была скромной, слишком сильно не топать по полу или по земле, не волочить ноги, не идти, словно танцуя, не размахивать в такт руками или головой, но сдерживаться и ступать тихо, не глазея по сторонам.
Если вы подходите к собравшимся и вас вежливо приветствуют или даже поднимаются из любви к вам, то следует воздержаться от того, чтобы усесться на чье-то место; надо сесть на незанятом, даже если оно последнее. Тут нужно помнить, что в высшей степени невежливо садиться, когда вокруг стоят люди, к которым мы обязаны проявлять уважение; сесть можно лишь после того, как сядут они, или по их приказанию.
Как говорить
Тем более нельзя спрашивать, о чем шел разговор, или, если он продолжается, прерывать его неучтивым вопросом: «А кто это сделал или сказал?» — особенно если замечаешь, что все говорится иносказательно.
Присоединясь к беседе, будет невежливо говорить с кем-то из присутствующих или, если случится, со слугой на языке, другим неизвестном.
Также невежливо шептать кому-нибудь на ухо; еще грубее затем начинать смеяться: многих это оскорбляет.
Нет нужды повторять здесь то, что и так всякий день твердят детям: не должно отвечать «да» или «нет», следует всегда добавлять «сударь, сударыня» — «да, сударь», «да, сударыня». Известно также, что когда приходится говорить «нет» и противоречить знатной особе, то никогда не стоит делать это грубо, лучше прибегнуть к околичностям, говоря: «Вы мне простите, сударь» или «Я прошу у вас извинения, сударыня, но позвольте мне сказать, что кокетство — не лучший способ нравиться». Все знают и то, что добавлять «сударь» или «сударыня» к словам, которые могут произвести двусмысленное действие, есть деревенская шутка и признак неотесанности — «Книга переплетена в кожу, сударь-то мой, телка», или «Хороша, сударыня, кобылица», или «У него под седлом, сударь мой, осел».
В целом надо следовать предписанию святого Павла: «Слово ваше да будет всегда с приветливостью приправлено солью, чтобы знать вам, как должно отвечать каждому» (Послание к колоссянам, 4:6).
Еще весьма недостойно сравнивать кого-то с собеседником, желая указать на изъян или на неловкость, например: «Я знаю этого человека, я был там, когда он напился. Он, сударь, вашего роста, у него тоже длинные волосы». Или, обращаясь к даме: «У этой особы не слишком хорошая репутация, я ее неплохо знал. Это полная высокая брюнетка, как вы, сударыня». Или осуждать кого-то перед человеком, имеющим те же недостатки, — скажем, говорить в присутствии курносой дамы: «Эта дама имела глупость считать себя красавицей, и это при ее курносом носе!» Или перед хромой: «Смешно, что хромоножка нашла что раскритиковать в сарабанде». Лучше всего ни тем, ни другим манером не отзываться дурно о людях и не оговаривать их, кем бы они ни были; оговор — не только отступление от добропорядочного поведения, но и признак низкой души. Надо нерушимо следовать правилу: никогда не говорить хорошо о себе и плохо о других.
Также невежливо добавлять к обращению имя или звание человека, когда с ним разговариваешь; например: «Да, господин Сисервиль» или «Да, господин маркиз»; следует говорить просто: «Да, сударь».
Неуважением будет (как это часто случается) отвечать тому, кто нам говорит что-то лестное или отклоняет наши изъявления почтения: «Шутить изволите, сударь». Этим выражением пользоваться не след, лучше сказать по-другому, к примеру: «Сударь, вы меня смущаете, это же мой долг» или «Сударь, я не позволю себе до такой степени забыться».
Также оскорбительно, если, рассказывая о каком-то происшествии, в особенности нелицеприятном, вы прямо приписываете его тому, с кем беседуете, и вместо того чтобы воспользоваться общими выражениями: «И тут конец терпению, посыпались оскорбления, удар пришелся по уху», — твердите: «И тут вы вышли из себя, принялись сыпать оскорблениями, получили по уху».
Рассказывая о чем-то достойном, не следует хвалить самого себя, а если в событиях принимал участие вельможа, еще и излагать все во множественном числе: «Мы отправились туда-то, мы сделали то-то». В таких случаях полагается говорить лишь о вельможе, не упоминая себя: «Господин N отправился туда, он сделал то-то, он предстал перед королем».
Точно так же, когда низший рассказывает об обращенных к нему действиях вельможи, то нельзя говорить напрямую: «Господин N мне сказал то-то, послал меня ко двору», следует выражаться более окольным путем: «Господин N оказал мне честь сказать мне то-то, послать меня ко двору». А если ваша речь обращена к самому вельможе, то говорить надо так: «Вы были столь добры оказать мне милость замолвить за меня слово, вы взяли на себя труд» и т. д.
Тут следует предупредить, что все слова должны подходить друг другу, например: «Вы были столь добры оказать мне милость» — милость, но не услугу, так как «услуга» и «дружба» подобают лишь между равными или когда высший обращается к низшим. «Сударь, я вас прошу о любезности оказать мне эту услугу», — весьма невежливо, правильно сказать — «эту милость, это одолжение».
Еще в обращении следует избегать приказных выражений; надо приобрести привычку говорить обиняками или использовать неопределенные конструкции и вместо: «Идите, подойдите, сделайте то, скажите это», — изъясняться так: «Хорошо бы, чтобы вы пошли; не кажется ли вам уместным подойти; мне кажется, что стоило бы сделать то-то». И фразу «Вы, верно, шутить изволите», которая весьма оскорбительна, следует перевести в пассивную форму: «Было бы дурной шуткой говорить» и пр.
Человеку, который претендует на светскость, нельзя, как простаку, болтать о своей жене, детях и близких, расхваливая их перед обществом, в котором есть люди благородные; говорить о них можно, но только к слову и без преувеличений. И если приходится заводить об этом речь, то отзываться о них нужно достойно, отмалчиваться тоже не следует, ибо это может вызвать подозрение в ревности или в недостатке расположения.
Не следует проявлять слишком много довольства расточаемым им похвалам или же называть супругу ее именем, титулом или шутливым прозвищем, как президент, который, желая упомянуть свою супругу, говорил: «Госпожа президентша, сердечко, дитятко, самая лучшая в том-то или в сем-то», вместо того чтобы просто сказать «моя жена».
Что касается женщины, то она, говоря о своем муже перед людьми невысокого звания, может называть его по имени, добавляя к этому «господин», если только он сам не низкого звания; однако перед людьми более высокого звания ей следует просто говорить «мой муж».
Смешон муж, у всех на глазах расточающий жене ласки.
Женщина же должна воздерживаться от того, чтобы, говоря о муже, именовать его просто «господин»: это очень частая ошибка, особенно среди горожанок.
Также неучтиво слишком подробно расспрашивать мужа о жене, если только не после ее долгого отсутствия, длительного путешествия или болезни; и вовсе не следует задавать вопросов, если муж — персона, которую вам следует почитать.
Если же такой вопрос уместен, то следует выражаться не так, как сказал бы сам муж; для того чтобы спросить разумно, не должно говорить: «Сколько лет вашей жене?», — но, спрашивая о жене, воспользоваться именем или званием мужа: «Сколько лет госпоже президентше? Желаю госпоже маршальше совершенного здоровья», — или, говоря с господином де Босежур: «Я рад, что госпожа де Босежур благополучно разрешилась».
Насмешки вызывает тот, кто говорит или пишет «господин мой отец» и «госпожа моя мать».[122] Это пристало только принцам; надо говорить просто «мой отец», «моя мать». Такие обозначения подходят куда лучше и более других отвечают нашему уважению и естественному благочестию.{1} Некрасиво, когда взрослые дети говорят «папа, мама», особенно теперь, когда эти наименования полностью изгнаны из хорошего общества. Дети людей высших рангов, говоря о своем отце, могут называть его «господин герцог» или «господин граф».
Неучтиво, говоря о титулованном человеке в его присутствии, один раз назвать его, а затем просто говорить «он»; к примеру, если, беседуя с господином Александром о господине графе д’Аркуре в его присутствии, я скажу: «Господин граф вершил чудеса в Касале», [123] — и господин Александр меня спросит: «Так это господин граф оборонил город?», и я отвечу: «Да, он самый», — это будет недостатком почтения к господину графу д’Аркуру, который, возможно, слышит этот разговор; поэтому следует отвечать: «Да, его оборонил господин граф».
Также оскорбительно указывать пальцем на того, о ком говоришь или о ком говорят, если он находится тут же.
Также не следует передавать советы или поклоны знакомому через человека, который выше его по званию и которого тот обязан чтить.
Недостатком уважения будет вмешиваться в беседу, которую человек высшего звания ведет с кем-то другим: не следует говорить, пока он не задаст нам вопроса или не пригласит нас принять участие в разговоре, например, призвав нас в свидетели или желая, чтобы мы рассказали нечто для него лестное, что самому ему сказать неловко.
Неучтиво первым отвечать на вопрос знатной персоны, если он задан в присутствии тех, кто выше нас по званию, даже если речь идет о вещах самых тривиальных. К примеру, если она спрашивает: «Который час?» или «Какой нынче день?», — следует дать возможность ответить тем, кто это может сделать лучше, если только вопрос не задан прямо нам.
Невежливо под предлогом помощи обрывать того, кому мы хотим выказать почтение, когда он колеблется, подбирая слова, например, если он говорит: «Цезарь разбил Помпея в битве под… под…», — не надо добавлять «Фарсалами», но следует подождать, пока нас не спросят.
Точно так же не следует поправлять, даже если такой человек ошибается, поскольку это равнозначно обличению во лжи: так, если, путая Александра с Дарием, он скажет: «Это знак природной доброты Дария, что он зарыдал, увидев Александра мертвым», — нужно подождать, пока он сам поправится или даст вам возможность тоже порассуждать на эту тему, и вывести его из заблуждения, что следует сделать без аффектации, дабы его не унизить.
Неучтиво в разговоре обращаться к такому человеку: «Вы меня понимаете; вы меня слушаете? Не знаю, хорошо ли я объясняю». Таких выражений надо избегать и просто продолжать говорить. Если вы замечаете, что вас не понимают, следует в нескольких словах повторить или разъяснить уже сказанное.
Глупо, рассказывая историю, после каждого слова повторять «он сказал» или «она сказала».
Следует избегать произносить вещи, способные вызвать отвращение, или вспоминать случаи, которые служат не к чести ваших собеседников, или что-то способное огорчить; например, говорить кому-нибудь: «Бог мой, как вы плохо выглядите»; или, обращаясь к молодящейся даме, рассуждать о давности знакомства.
Если кто-то ведет рассказ, то не следует его прерывать, чтобы рассказать то же самое получше, поскольку это признак тщеславия, всех шокирующий.
Другое дело, если речь идет об обстоятельстве, которое следует в чьих-либо интересах прояснить или засвидетельствовать.
Невежливо, выслушав рассказ, говорить: «Если все, что вы поведали, — правда, то плохи дела» или «Если этот господин говорит правду, то не удивительно…» и тому подобное. Это прямое обвинение во лжи; никогда не следует показывать, что сомневаешься в словах человека достойного. Тут надо выразиться так: «Судя по тому, что вы говорите, дела плохи» или «То, что вы говорите, сударь, показывает…» и т. д.
Когда говорят другие, следует стараться не дремать, не потягиваться и не зевать; это в высшей степени нелюбезно, поскольку тем самым мы выказываем скуку. Еще более неучтиво, зевая, издавать громкие восклицания; даже если скучаешь, следует избегать, чтобы это было заметно другим, и не впадать в бессмыслицу, как те, что беспрерывно вопрошают: «Который час?»
Чрезмерная веселость, фамильярность, невнимание к тому, что происходит
Если дрема и тупость в обществе весьма неприятны, так же неприятна и их противоположность: чрезмерная веселость отдает школярством; не следует, играючи, шлепать друг друга руками и резвиться, это может закончиться неприятностями, если не всем вокруг по душе такие игры.
Благородному человеку, когда он в обществе дам, не следует хвататься руками то за одно, то за другое, внезапно срывать у них поцелуй, головной убор, платок, браслет, ленту, именуя это милостью и изображая галантного и страстного кавалера; забирать себе письма дамы или ее книги, заглядывать в ее таблички. Для этого надо быть на очень короткой ноге, иначе такие поступки неприличны и оскорбительны и возбуждают ненависть к тому, кто их совершает.
Также неуважительно браться за зуб ногтем большого пальца, это выражает презрение, словно бы вы говорите: «Меня это тревожит не более этого», — и проводить ногтем большого пальца по кончику зуба. То же самое, если сморкаются в пальцы и т. д.
Весьма неприлично в обществе дам, да и в любом серьезном обществе скидывать накидку, парик или камзол, стричь ногти, грызть их или чистить, чесаться где бы то ни было, поправлять подвязку, туфлю, если она натирает, надевать домашний шлафрок и тапочки, чтобы, как говорится, чувствовать себя свободно. Это почти то же самое, как если бы кавалерийский офицер явился в лагерь и предстал перед своим генералом не в сапогах, а в туфлях.
Еще весьма неудобно и неприятно, находясь в обществе, вечно выслушивать чьи-то жалобы на неприятности или болезни: в этом обычно видят недостаток ума, притворство или следствие чрезмерного самолюбия, считая, что такой пустой и навязчивый способ призван замаскировать отсутствие таланта к разговору или желание казаться выше других.
Когда кто-нибудь в обществе показывает драгоценность или что-нибудь в этом роде, весьма нелюбезно хвататься за нее, чтобы взглянуть первым: следует поумерить любопытство и подождать, пока она по рукам дойдет до вас. Когда наступит ваш черед, негоже слишком громко восхищаться и рассыпаться в похвалах, как это порой делают некоторые, тем самым расписываясь в низкой лести или в том, что ничего не видели и не понимают в подобных вещах. С другой стороны, нельзя выказывать безразличие и холодно оценивать действительно ценное: это свидетельствует либо о глупом тщеславии, либо о зависти, которая никому не идет, а тем более благородному человеку; следует выказывать скромность и справедливость.
Рука и перчатка
Здесь необходимо сказать, что всегда следует снимать перчатку и целовать руку, принимая то, что нам передают, отдавая назад или просто что-нибудь давая; однако если у нас попросят эту вещь, то следует, чтобы не заставлять ждать, сперва передать ее, и уж потом поцеловать руку. И, говоря тут о руке, мы имеем в виду правую.
Еще следует знать, что невежливо протягивать руку перед лицом знатной особы, чтобы что-то передать или взять; это следует делать у нее за спиной.
Любопытство — род неучтивости
Но возвращаясь к драгоценности, бумаге или какой-нибудь другой диковине: если ее спрятали до того, как она добралась до нас, то следует подавить в себе любопытство на нее поглядеть; однако отметим, что со стороны тех, кто ее показывает, неучтиво показать лишь части присутствующих, а не всем.
Весьма нескромно заглядывать через плечо тому, кто пишет или читает, или из любопытства смотреть или перебирать лежащие на столе бумаги.
Также не следует слишком близко подходить к тем, кто пересчитывает деньги, или к открытой шкатулке, или к кабинету, в котором ищут драгоценность или еще что-нибудь, {2} даже если вы вдвоем в кабинете с хозяином дома, и если ему по какому-то делу надо выйти, то вам следует выйти вместе с ним и ждать за порогом кабинета, когда он вернется.
Невежливо читать перед людьми знатными какие-нибудь бумаги или письмо, которое нам только что вручили, если только они, имея в том свой интерес, нам это прямо не прикажут.
Также неучтиво рассматривать книги, принадлежащие человеку, которого мы должны почитать, если только это происходит не в его библиотеке, где он сочтет это знаком уважения.
Подниматься с места
Если кто-то приходит или если один из присутствующих поднимается, намереваясь уйти или желая оказать честь вновь прибывшему, то из вежливости тоже следует встать, даже если входящий ниже нас по званию.
Если входишь или покидаешь место, где находятся знатные особы, то всегда следует стараться обойти их с тыла.
Если кто-то хочет с нами поговорить, даже если это лакей, чьего господина мы обязаны почитать, надо подняться с места и принять его стоя и с непокрытой головой.
Лакеи и служанки
Кстати о лакеях: следует иметь в виду, что, разговаривая со знатной особой, имеющей выездных лакеев, будет в высшей степени неучтиво сказать: «Один из ваших лакеев сказал мне, сударь (или сударыня), что вы хотите меня видеть». Следует говорить: «Один из ваших выездных лакеев» и т. д. Вы оказываете честь не лакею, но господину.
То же самое касается служанок. О служанке дамы говорится: «Ваша девушка, ваша камеристка сказала, сударыня» и т. д., но никак не «ваша служанка».
Не прерывать никого
Не следует присоединяться к людям, которые ведут частную беседу, даже если мы их знаем, причем достаточно близко; об этом можно догадаться, если они отошли в сторону, или разговаривают тихо, или, когда мы к ним приближаемся, меняют тему разговора; заметив это, надо потихоньку отойти, чтобы их не прервать.
Как высказывать свое мнение
Если мы попадаем в общество, где следует высказать свое мнение по тому или иному вопросу или представить то или иное дело, то когда подойдет наш черед, надо снять шляпу и приветствовать самую знатную из присутствующих персон и остальное собрание, а затем сказать свое мнение. Если же в этом собрании присутствует особа высшего ранга, стоящая намного выше остальных, то следует обращать речь к ней и пользоваться местоимениями единственного числа, например: «Монсеньор, после того, что уже было сказано этими господами, бесполезно пускаться в длинные изъяснения, чтобы убедить вас в той же истине». Если же собрание состоит из людей более или менее равных, нужно говорить «господа» или «судари».
Как следует себя вести по отношению к разным людям во время церемоний и различных зрелищ
Что касается собраний в честь какой-либо церемонии, тут надо помнить, что во время торжеств следует оказывать честь двум категориям людей: их устроителям и тем, кто на них приглашен.
Устроителям, когда дело касается торжественных церемоний, следует всегда уступать место, даже если они — наши низшие. Например, если это свадьба, то следует оказывать уважение невесте и жениху, их родным и служителям церкви, даже если они намного нас ниже.
Если это крещение, то первые места должны быть отданы крестным отцам и матерям, младенцу и тем, кто участвует в церемонии. Если это похороны, то первые, почетные места должны быть отданы родственникам умершего. Если дело происходит в церкви и это процессия или приношение, то первыми должны идти церковные старосты и чины церкви.
Что до приглашенных, то, будучи в их числе, не следует самому занимать место, если есть церемониймейстер, их распределяющий; если же его нет и все вольны сами выбирать себе место, то первые места разумно оставить для персон более знатных, ежели только твой чин или звание не обязывают тебя, как положено в свете, оказать себе честь и сесть на видном месте, не из себялюбия, но из уважения к сообществу, членом которого являешься, или к государю, которому служишь министром, и т. д.
В ложах театра, когда они примыкают к сцене, худшие места находятся в первом ряду, а лучшие — те, что совсем сзади; в удаленных от сцены ложах все наоборот.
Тут следует попутно заметить, что тот грешит против хороших манер, кто во время любого зрелища, находясь неподалеку от человека знатного, восхищается и восклицает в каждом удачном месте, до того как эта знатная особа высказала свое суждение: такая демонстрация ума совершенно неуместна и неуважительна. Следует подождать, пока те, кто знает лучше, восхитятся и похвалят или обругают и осудят, а уж затем рукоплескать — если только у нас прямо не спросят наше мнение, тогда следует его высказать без проволочек и преувеличений.
В целом, по отношению ко всем присутствующим людям, воспитанность должна измеряться тем, кто ты таков и каковы окружающие тебя. Так, похвально и вежливо уступать место людям церкви из-за возложенного на них сана; и нередко умудренные жизнью люди осуждают тех вельмож и судей, которые обращаются с прелатами и кюре как со слугами. По правде сказать, иные из них по недостатку достоинств и надоедливости не заслуживают особой чести; однако, каковы бы они ни были, к их сану следует относиться с уважением.
Следует также почитать магистратов, на которых падает величественный отблеск Закона, чьими хранителями они, от имени властителя, являются; тех, кто исполняет публичные должности; тех, кто славен своим рождением; дамам и старым людям, а также тем, кто обладает талантом, их отличающим и приносящим славу.
Аббат де Бельгард
Образцы разговоров для учтивых людей
(1697)
Жан-Батист Морван де Бельгард (1648–1734), обычно именуемый аббатом де Бельгардом, прожил долгую жизнь и был известен как плодовитый переводчик и компилятор. Опубликованные им сочинения исчисляются десятками томов. Отдавая много сил переводу духовной литературы — в частности, издав по-французски письма Василия Великого, — он не чуждался и языческих авторов от Эпиктета до Овидия. Может показаться странным, что человек столь серьезных занятий взялся переводить «Метаморфозы», но, по-видимому, помимо религиозных и моральных размышлений аббата де Бельгарда привлекали рассказы о необычном. Не зря он перевел на французский язык один из трудов знаменитого отца Лас Касаса, посвященный истории испанского завоевания Америки, а в конце жизни занимался составлением «Краткой истории морских путешествий».
Интересы аббата де Бельгарда носили не только личный характер. Он был учеником иезуита Доменика Бугура (1628–1702), пользовавшегося огромным влиянием в 1670-е и 1680-е гг. На протяжении семнадцати лет его жизнь была связана с Обществом Иисусовым. А педагогика, вопросы светской морали и миссионерская деятельность были традиционными сферами компетенции иезуитского ордена. Как и Бугур, аббат де Бельгард уделял значительное внимание проблемам языкового поведения. Им он посвятил не только «Образцы разговоров», но и более ранние «Размышления о том, что способно нравиться или не нравиться в светском общении» (1688), «Размышления о том, что вызывает насмешки и как их избежать» (1696). В конце жизни он по не вполне ясным причинам покинул орден: возможно, поводом к тому послужила его приверженность к картезианству.
Как можно ожидать, по сравнению с «Совершенным придворным» и с «Новым трактатом» Куртэна, книга аббата де Бельгарда носит более ученый и в каком-то смысле более теоретический характер. Его диалог напоминает о высоко ценимом иезуитами искусстве диспута. Три его участника — Арсен, Арист и Тимант — отстаивают слегка расходящиеся точки зрения, хотя различие их позиций скрадывает общий дух вежества и отсутствие агрессии. Как сказано в предуведомлении, умение вести беседу — навык, необходимый людям праздным, не имеющим занятий. Для аббата де Бельгарда, взиравшего на светское общество с точки зрения человека духовного звания, разговор не обладал тем сущностным значением, какое ему придавали труды светских теоретиков. И хотя автор был не склонен критиковать существовавшее положение вещей, еще менее он соглашался его возвеличивать. Скорее, он поступал так, как обычно поступали иезуиты, трезво оценивая ситуацию и пытаясь постепенно изменить ее изнутри. Коль скоро беседа оказалась одним из центральных элементов светского существования, значит, это искусство стоило совершенствовать, хотя по шкале истинных ценностей его достоинства были близки к нулю.
В общем и целом «Образцы разговоров» посвящены отвлеченным материям. Однако перечень затрагиваемых ими тем дает некоторое представление о сферах интересов, которые могли становиться предметом беседы: «О сумятице страстей», «О морали», «О вопросах политики», «О героических добродетелях», «Об общении с женщинами», «О чтении романов», «Об интересах государей», «О политике», «Об исторических фактах», «О церковных материях». Мораль и политика — два сквозных сюжета, проходящие через все рассуждения аббата де Бельгарда, где под «моралью» следует понимать всю совокупность человеческих нравов, а под «политикой» — способность управлять ходом событий, как на личном, так и на государственном уровне.
В диалоге «Почему не самые просвещенные особы порой кажутся более умными, нежели люди знающие» речь тоже идет о морали и о политике. Люди ученые — дурные политики, ибо не умеют вести себя ни в обществе (не участвуют в светском разговоре), ни на бумаге (пишут плохо, то есть скучно), ни в практической жизни (не умеют добиваться милостей). Но все эти малопростительные жизненные промахи ничего не значат с точки зрения истинной морали, которая оказывается на стороне ученых. Аббат де Бельгард здесь прибегает к двойной оптике: на протяжении почти всей беседы ученые осуждаются и высмеиваются как люди ограниченного ума, и лишь в конце выясняется, что последнее слово остается не за светскими представлениями, а за духовной моралью, основанной на более высокой системе ценностей.
Критика ученых или, говоря языком того времени, педантов, — одна из традиционных тем моралистической литературы XVII в. Светская культура того времени была ориентирована на ренессансный идеал человека гармонического, равно чуждого как невежеству, так и слишком большой увлеченности знанием. По словам герцога де Ларошфуко, «человек истинно достойный ни на что не претендует», [124] в том числе и на ученость. Поэтому когда Куртэн рекомендовал не выказывать излишних знаний и не поправлять вельможу, перепутавшего Александра с Дарием, за этим стояли соображения не только иерархического порядка (низший не должен поправлять высшего), но и собственной репутации (только педант немедленно бросался исправлять оговорку).
Но позиция аббата де Бельгарда не сводится к демонстрации (и конечному опровержению) аристократического принципа. Сравнивая ученых и людей не столь просвещенных, он противопоставлял две формы знания, книжную и устную. Здесь стоит вспомнить, что автор «Образцов разговоров» был вынужден покинуть орден иезуитов из-за чрезмерной приверженности картезианской философии. В автобиографическом вступлении к «Рассуждению о методе» Декарт, сам бывший ученик иезуитского коллежа, писал о разочаровании, которое принесло ему это превосходное по меркам того времени образование:
Как только возраст позволил мне выйти из подчинения наставникам, я совершенно покинул изучение наук и решился не искать иной науки, кроме той, которую мог бы обрести и в себе самом, и в великой книге мира… Ибо мне казалось, что я мог встретить гораздо больше истины в рассуждениях, которые каждый делает о делах, непосредственно его касающихся <…>, чем в кабинетных рассуждениях ученого по поводу бесполезных спекуляций…[125]
Книжное знание, отрывочное и узкое, было в итоге оставлено им ради самостоятельного познания мира силами собственного разума. Это противопоставление живого и книжного знания у аббата де Бельгарда облекается в метафору «мир как книга»: «Можно сказать, мир — огромная книга, из которой достойные люди узнают все, что им следует знать».
Таким образом, в диалоге сопоставляются два типа светской морали («книжный» и «благородный»), причем преимущество оказывается на стороне второго, а затем оба они подвергаются испытанию религиозной моралью, из которого, напротив, победителем выходит книжное знание. В конце концов, переводчик и издатель, аббат де Бельгард не мог не чувствовать солидарности с «благородными душою» людьми книжной культуры.
«Образцы разговоров для учтивых людей» выдержали по крайней мере семь переизданий и, судя по всему, пользовались авторитетом вплоть до середины XVIII в.
Образцы разговоров для учтивых людей[126]
Предуведомление
Люди созданы для общества: дела, приличия, требования коммерции обязывают их часто видеться и разговаривать. Большинство благородных людей, зачастую достаточно беззаботных и не имеющих занятий, проводит время, отдавая или принимая визиты; для них очень важно быть осведомленными обо всем, что может способствовать их репутации. О человеке судят по тому, как он преуспевает в разговоре: редко кто берется по-настоящему разбираться в его хороших или дурных качествах, о нем судят по тому впечатлению, какое производит его особа в светском общении.
Разговор, если его употребить к делу, немало способствует приятности общества и делает жизнь более отрадной; нет наслаждения более изысканного и утонченного, чем то, которое вкушаешь, общаясь с людьми приятными, здравомыслящими и разумными; но, к несчастью, мир полон людей скучных, безвкусных, ничтожных, наглых и тщеславных, которые, будучи докучны, считают себя приятными и желанными в любом обществе. Они заставляют сожалеть об одиночестве; их речи низки, тривиальны и ребячливы, они не придают им ни малейшей приятности, произносят их грубо и резко, вечно болтают, но не производят ничего, кроме шума. Стоит ли удивляться, что большинство разговоров вгоняет в скуку людей рассудительных?
Что кажется непонятным, так это то, почему некоторые люди, наделенные немалым умом, знанием света и даже лоском, тоже наводят скуку, и стоит их визиту немного затянуться, утомляют своим видом: то ли они не берут на себя труд поддерживать беседу то ли не обладают достаточной ловкостью, чтобы исполниться вкусом и гением тех людей, с которыми находятся в общении. Величайший секрет разговора — умение подлаживаться под характер тех, кто является его завсегдатаями; необходимо оценить уровень и меру их ума, чтобы в зависимости от обстоятельств до них опуститься или возвыситься и беседовать с ними о том, что им подходит.
Не стоит заучивать наизусть все, что полагается сказать, ибо разговор не требует ничего искусственного и принужденного; случай, обстоятельства, состояние умов тех, из кого состоит круг собеседников, должны давать темы для обсуждения. Посему эти образцы разговоров отнюдь не предполагают, что человек обязан говорить два часа подряд на одну тему, пока не охрипнет, — это было бы странно и утомительно; они всего лишь показывают, что мораль, история, политика и различные жизненные происшествия представляют собой неиссякаемый источник беседы для людей воспитанных, не лишенных некоторых литературных знаний.
Хотя приводимые здесь исторические черты имеют друг с другом мало общего, мы постарались сблизить их и соединить вместе так, чтобы они подходили друг к другу, и составить из них связный и продолжительный разговор, в котором одно наблюдение незаметно ведет к другому, скрадывая разницу материала. Возможно, что это разнообразие будет не лишено приятности. Много читавшие не без удовольствия найдут в этих Разговорах род собрания, которое побудит их припомнить прочитанное. Другие узнают ранее им неведомое; кроме того, эти Разговоры помогут им понять, на что надо обращать внимание в книгах — на черты истории и морали, которые способны помочь отшлифовать их ум, упорядочить нравы и научить людей, как следует себя вести.
Беседа VII
Почему не самые просвещенные особы порой кажутся более умными, нежели люди знающие
— Все разумные люди уважают учение, — сказал Арсен, — как прекраснейшее и благороднейшее из человеческих занятий; как упражнение чисто духовное, в котором тело участвует меньше, нежели ум. Стать знающим человеком можно лишь с помощью учения, которое отшлифовывает наш ум; только через его посредство мы узнаем лучшее из того, что думали до нас великие гении, и учимся рассуждать здраво. Ибо хотя мы рождаемся разумными и всякий человек наделен умом, следует признать, что учение совершенствует природу. Невозделанный ум напоминает землю, оставленную в залежь, на которой растут одни сорняки, не приносящие никакой пользы.
— Ваша максима верна, — отвечал Тимант, — но опыт показывает, что те, кто больше других учился и лучше знает латынь и греческий, блистают менее людей неученых, вооруженных одним здравым смыслом. Хотя последние меньше знают, однако порой проявляют больше ума. — И я часто отмечал сказанное вами, — подхватил Арсен, — но мне трудно понять причину, ибо, нет сомнения, науки укрепляют и шлифуют ум, доводя до совершенства то, что природа оставила в наброске. Вследствие этого люди, возделывающие свой ум долгими занятиями, должны казаться остроумней других; тут должна быть та же разница, как между завершенной картиной и простым наброском.
— Однако опыт свидетельствует об обратном, — сказал Арист. — Есть люди, которые всю жизнь проводят за чтением писаний, оставшихся нам от древних и новых авторов, и все же слывут посредственными умами в сравнении с теми, кто порой едва умеет читать.
— Есть три случая, — продолжал Тимант, — требующие тренировки ума и проявления способностей: во-первых, это разговор; во-вторых, представляемые на суд публики сочинения; и, в-третьих, образ действий, способный упрочить нашу фортуну. Ум человека познается из его речей, из его сочинений и из тех шагов, которые он предпринимает, дабы из ничтожества возвыситься до важного положения и суметь удержать его, невзирая на происки завистников. Во всех этих случаях мы видим, что люди неученые нередко превосходят всех прочих.
— Я полагаю, — подхватил Арсен, — что когда люди неученые выказывают более ума, то это потому, что им достался больший его запас и они с рождения обладают необычайным талантом. Ибо с умом все обстоит так же, как с прочими благами, распределенными меж нами неравномерно: одни наделены высшим гением, другие едва полуосмысленны; одни рождаются во дворце, другие — в хижине. Иным гениям присуща такая живость и проницательность, что прочим, несмотря на всю ученость и искусство, остается недоступно то, что они делают безо всякого труда. — По-видимому, можно сказать, — прервал его Арист, — что умы чем-то напоминают различные почвы, из которых одни, даже когда их не возделывают, приносят плоды, которых от других можно добиться лишь долгими трудами и заботами. — Ваше сравнение верно, — отвечал Арсен, — но какова бы ни была причина сего неравенства, большое преимущество от рождения обладать талантами, возможностями, проницательностью, которых другие с трудом достигают тяжкими и упорными занятиями.
— Мне приходилось часто иметь сношения, — продолжал Тимант, — с людьми, сведущими во многих науках, которые отнюдь не блистали в повседневном общении, хотя имели огромные запасы ума; я даже убежден, что именно глубина их знаний и возвышенность их гения были тому причиной. — Мне кажется, — отвечал Арист, — что ваше утверждение представляет собой парадокс, ибо добрый запас ума, возделанный обучением, — это именно то, что необходимо для успеха в общении с разумными людьми.
— Говорите что хотите, — продолжал Тимант, — но уверяю вас, что мое утверждение совершенно верно и люди, у которых много ума, не всегда берут на себя труд его показывать, нередко из лености или по небрежению упуская случай представить себя с лучшей стороны; чем больше знаний, тем меньше внимания к тысяче мелочей, которые производят впечатление на окружающих и считаются признаками ума. Напротив, обладатели талантов посредственных не упускают возможности их показать и заставить ценить, дабы сойти за людей смышленых: они чувствуют собственную слабость и гораздо больше заботятся о том, чтобы скрыть недостатки и выставить напоказ лишь самое лучшее; этим они похожи на тех, кто, расстроив свои дела, ничего не жалеет ради поддержания прежней репутации богачей, дабы сохранить свой кредит в свете.
— Что касается меня, — подхватил Арсен, — то я знал несметное число людей, которым учение испортило ум, и если труды, которые они выносят на публику, имеют столь малый успех, то виной тому чрезмерная ученость: если засевать землю плодами, ей не свойственными, то они порой заглушают те, что произрастали там от природы. То же самое и с иными умами, которые весьма рассудительны, если пользуются своим природным пониманием, но сбиваются с пути, если пускаются за чужими светочами. Не всякая снедь хороша для всякого желудка; тяжелая пища опасна для тех, у кого не хватает сил ее переварить. Нет ничего прекрасней производимого природой; совершенство искусства в том, чтобы идеально ей подражать. Учась, люди не всегда избирают ту отрасль, к которой испытывают природную склонность, и потому труды, на которые они себя обрекают, бесполезны, и знания, которыми они заполняют голову, делают их менее рассудительными, поскольку их разум утрачивает часть естественной свободы и производит лишь надуманное.
— Разве вам не приходилось частенько замечать, — подхватил Арист, — что темперамент того, кто прилежен к наукам, отнюдь не принадлежит к тем, что добавляют огня и заставляют блистать остроумием. Один — сдержанный и солидный, другой — горячий и кипучий: те, в ком много живости, не любят сидячий образ жизни и мало привязаны к книгам. Огонь, горячащий ум, часто воздействует на сердце, вдыхая в него любовь или честолюбие — страсти, противные уединенной жизни, и для одержимого ими книги и наука — пустой звук.
— Считаете ли вы, — спросил Тимант, — что в разговоре блистают именно ученые? — Мне кажется, — отвечал Арист, — что не тратившие время на учение успевают в том более других, ибо их единственное дело — поддерживать беседу: это их профессия, их единственное занятие, они проводят в светском общении все то время, что другие тратят на учение. — Правда, — продолжал Арсен, — беседовать в обществе — искусство, требующее практики и навыка; грубой ошибкой было бы думать, что в нем можно преуспеть, лишь справляясь со своими книгами. Слушая других, учишься говорить, как они, и лишь общение дает привычку изъясняться легко и учтиво. Редко бывающие в обществе объясняются с трудом; воображение не подсказывает им нужных слов, а потому они все время колеблются и, заикаясь, излагают то, что другие объясняют кратко, точно и удивительно быстро. — Такое ощущение, — сказал Арист, — что память ученых хранит знания в столь тайных уголках, что им трудно извлечь их на свет: вот почему они так долго ищут, что хотят сказать, и говорят это без приятности. Напротив, человек, привыкший к обществу и благодаря беседам приобретший привычку говорить, легко объясняется по любому поводу и, хотя его память не обременена ученостью, не дает себе особенного труда подыскивать, что он хочет сказать.
— Существует множество присяжных ученых, — сказал Тимант, — которые презирают беседу как развлечение, их недостойное; с жалостью внимают они всему, что говорится, и не снисходят до ответа, считая унижением и уроном их ученой репутации очеловечиться до того, чтобы отвечать на всякие пустяки, из которых состоят обычные разговоры. Видеть и принимать друзей им докука; время, проведенное вне кабинета, они мнят потерянным: для них это единственное место, где они вкушают самые утонченные удовольствия, и все, что их от этого отвлекает, им немило и в тягость. — Люди с таким характером, — сказал Арист, — присутствуют при разговоре, в нем не участвуя, не обращая внимание на то, что вокруг говорится или делается; они едва отвечают, когда с ними говорят, столько в них презрения к тому, что они слышат; если же они открывают рот, то лишь затем, чтобы осудить или раскритиковать вырвавшееся у кого-нибудь слово, которое пришлось им не по вкусу. Порой они рассуждают о вещах столь возвышенных и утонченных, что их никто не понимает, и этот великий показ учености, которым они стремятся ослепить, делает их надоедливыми педантами в глазах других.
— Что до меня, — подхватил Арсен, — то я охотно оставляю им эту глубокую эрудицию; люди созданы для того, чтобы жить вместе, поэтому главнее всех наук та, что учит жизни, а ученые мне как раз не нравятся тем, что они не всегда самые учтивые люди в мире.
— Им от природы присуща неумеренная страсть выставлять себя напоказ и затмевать всех вокруг, — продолжил Тимант. — Слишком уверенные в том, что знания возносят их над обычными людьми, они пойдут на все, лишь бы в них видели непостижимых гениев; они подыскивают мысли, которые соответствовали бы их высокому мнению о самих себе; но, пока они раздумывают над выбором, подходящий случай высказаться проходит, и им приходится хранить молчание. Такая незадача придает им унылый вид, они негодуют, слушая людей, которых считают намного ниже себя, с легкостью беседующих обо всем, что становится предметом разговора; уходят они раздраженными и неудовлетворенными, оставляя общество не слишком довольным их беседой.
— Есть ученые, которые в беседе говорят слишком много, — подхватил Арист. — Чтобы внушить высокое мнение о своих способностях, они часто цитируют авторов, которых читали, и в обычной беседе перед дамами приводят целые пассажи по-латыни или на греческом; это мало кого способно повеселить, а людям разумным крайне не по душе такая аффектация: столь возвышенные и утонченные речи утомляют, все предпочитают что-нибудь более естественное и менее напыщенное.
— Верите ли вы, — отвечал Тимант, — что есть люди, никогда не учившиеся, но знающие больше иных, что проводят жизнь в кабинете? Я говорю о тех, кто, от природы обладая большим запасом ума, культивирует его общением с умными людьми, узнавая бесчисленное множество вещей. Моим словам довольно одного доказательства — знания языков: какое прилежание требуется, чтобы в совершенстве выучиться языкам, когда рассчитываешь только на учение! Меж тем мы всякий день видим людей, которые выучивают самые сложные языки без грамматики, без словаря и без всяких правил, единственно из разговора. Разве то же самое не приложимо к морали, политике, красноречию и другим наукам, если общаешься с теми, кто в них сведущ и умеет их хорошо объяснять? Разве доказательством тому не служат дамы и придворные? Они никогда не сверяются с книгами, меж тем говорят обо всем с приятностью, которой лишены присяжные ученые. Разве самые изощренные в изучении политических трудов могут с ними состязаться? Разве они лучше рассуждают о предметах морали? Или их речи более красноречивы?
— Я знал одного человека, — подхватил Арсен, — который никогда не учился, но произносил прекраснейшие речи по любому поводу, стоило лишь ему их предложить, и все в них было верно, естественно, прекрасно и изобиловало всяческими украшениями. Его доводы вытекали один из другого, хоть он и не был обучен правилам логики, его описания украшали прекраснейшие фигуры речи, которые он использовал естественно и безо всякого искусства. Бесчисленное множество мнящих себя на то способными никогда в жизни не смогли бы сочинить подобные речи.
— Из сказанного вами, — продолжил Тимант, — следует заключить, что общение с достойными людьми — прекрасная школа и что их беседы могут заменить учение: так, без книг, без наставника и без докуки, узнается то, что из книг можно узнать лишь с непомерным трудом; кроме того, здесь есть еще одно преимущество, ибо мы узнаем не только вещи, но и то, как о них следует говорить.
Можно сказать, мир — огромная книга, из которой достойные люди узнают все, что им следует знать, и те, кто постиг эту науку, обретают лоск учтивости, которого присяжные ученые почти никогда не имеют и которого с одними книгами не добьешься.
— Я желал бы знать, — продолжал Арист, — отчего те, кто посвятил себя учению, в сочинениях своих проявляют меньше ума, нежели ничему не учившиеся? — Это не всегда так, — отвечал Арсен, — ибо человек ученый должен быть совсем беден умом, если он пишет хуже невежи; однако следует признать, что талант писать хорошо не всегда выпадает на долю тех, кто более сведущ в науках. Порой можно видеть людей с живым воображением, легко все ухватывающих и верно рассуждающих по самым разным поводам, которые вызывают лишь сожаление, когда берутся писать. То ли они избирают неподходящие предметы, то ли у них действительно не хватает таланта и дара изъяснять свои мысли или же они выбирают не те жанры: возможно, что у них неплохо вышла бы проза, а они хотят сочинять стихи. Тому, у кого может получиться серьезная речь, не добиться успеха в шутливой манере. Тот, кто способен сочинить приятную сказку или прелестное письмо, вряд ли будет хорош, когда надо составить публичную речь. Каждому надо знать свой гений и свои таланты. Нет ничего прекрасней творений, к которым нас побуждает природа; напротив, нет ничего более вымученного и неприятного, чем достигаемое искусством, наперекор собственной природе.
— Недостаточно, — отвечал Тимант, — иметь талант к письму и применять его к вещам, к которым мы имеем некоторую склонность; еще следует выбрать время, когда ощущаешь в себе предрасположенность к письму. У нашего ума бывают свои моменты разочарования, когда он не способен произвести ничего путного: эта максима справедлива в первую очередь по отношению к умам пламенным, пишущим лишь по наитию: когда их огонь угасает, они не в состоянии произвести ничего толкового. Более других таким настроениям и странностям подвержены поэты: они следуют за воображением, которое разгорается или, наоборот, остывает, и им не стоит понуждать себя писать, когда их дух находится не в той тарелке.
— Не кажется ли вам, — подхватил Арист, — что ученые несколько слишком предрасположены к Древним: они считают их более умелыми, нежели Новые авторы, и возможно, что из-за этой предрасположенности их сочинения не стоят тех, что пишутся людьми менее образованными.[127] Ученые стремятся, чтобы все ими написанное имело ореол древности, и они никак не решатся хотя бы слегка отступить от мира Древних, полагая, что все удаляющееся от этих прекрасных образцов неприемлемо. Из-за этого плохо понятого принципа они всеми силами стремятся подражать Древним, но насилие, которое они над собой совершают, лишает их речи естественности. Из-за этого мелочного и рабского подражания их считают умами бесплодными, не способными ничего породить самостоятельно, которым остается лишь заимствовать идеи у Древних и рядиться в их обноски. Желание во всем подражать Древним часто делает их сочинения непонятными, подходящими не столько к нравам и обычаям нашего века, сколько к тем временам. При всем том они не желают отказываться от этой путаной манеры, затемняющей смысл их произведений, и называют невеждами тех, кто решается их в том упрекнуть.
— Надо признать — продолжал Арсен, — что многие произведения Древних — шедевры, исполненные красот, которых более нигде не найти, тем не менее не думаю, что им следует подражать во всем и рабски следовать их идеям. Знатоки живописи более ценят оригиналы, нежели копии. Как бы ни старались подражатели Древним, нам всегда будут милее образцы, по которым они работают, поэтому им стоит попытаться создать нечто оригинальное, нежели продолжать идти проторенным путем.
— Если я не ошибаюсь, — сказал Арист, — то из всего, что не дает ученым участвовать и блистать в разговоре, главное — слишком большая начитанность: они привыкли к красивым вещам и приобрели такую утонченность, что все говорящееся кажется им низким по сравнению с теми мыслями, на которых они взращены; этим они похожи на человека, привыкшего к пирам и более не находящего снеди по вкусу. Поэтому ученые не решаются говорить, из опасения сказать что-то недостаточно примечательное.
— Более всего я сочувствую в положении ученых тому, — отвечал Тимант, — что редко приходится видеть, чтобы они хорошо управлялись со своими делами и делали большое состояние. А ведь именно в этом должен более всего проявляться ум способного человека, ибо хотя немалую роль тут играет случай и счастье или несчастье и хотя порой мы видим, как люди неспособные и недостойные добиваются успеха и высоких постов, тем не менее, чтобы их достичь, требуется ум, и одного случая недостаточно, чтобы, поднявшись на большую высоту, там удержаться. Для этого необходимо завязать множество интриг и умело их вести, подавить артиллерию противника и уничтожить клики, противостоящие вашим намерениям, и я не понимаю, в силу какого рока люди ученые к этому менее способны, нежели ничего не знающие, но усваивающие рутину, которая надежно приводит к цели.
— Требуется много стараний, чтобы добиться успеха в свете, - отвечал Арсен. — Следует запечатлеть у себя в уме желание достичь фортуны и подчинить ему все, не упуская ни одной подходящей возможности. Ученые слишком любят свои книги, они предпочитают свой кабинет прихожей вельможи, к которому надо обращаться с прошениями; они не могут решиться предпринять совершенно необходимые шаги: им надоедает ходить на поклон к министру, и они пренебрегают разными мелкими средствами, которыми с успехом пользуются другие. — Еще мне кажется, — сказал Арист, — что те, кто предается наукам, не имеют большого честолюбия и удовлетворяются малым, предпочитая приобретать новые знания, а не наследства. — Однако лучший из всех доводов, — продолжил Тимант, — тот, что ученые слишком исполнены чести и порядочности, чтобы составить себе состояние: честными путями этого не достигнуть, надо идти обходными, свернув с дороги добродетели. На что только не приходится решаться, чтобы нажить богатство! На какие низости, подлости, уловки, взятки, ростовщичество и жестокости! А у тех, кто склонен к наукам, обычно слишком добродетельная душа, чтобы идти на такие преступления. В этом им часто не воздают по заслугам, полагая, что раз они не имеют состояния, значит, лишены гения и способностей, и те, кто разбогател, взирают на них с презрением и сожалением, считая, что самый большой признак ума — возвыситься над всеми остальными: о достоинстве человека они судят лишь по его состоянию. Но любящий науку далек от подобных мнений, оставляя их на долю черни; ему же довольно свидетельства собственной совести, милости фортуны для него лишь помеха: он презирает то, чему поклоняется свет, и находит счастье в умеренности; ведь, быть может, те, кто достигает богатства, на самом деле — нищие посреди изобилия и своих сокровищ.
Мадлен де Скюдери
Беседы на разные темы (1680)
Мадлен де Скюдери (1607–1701) можно назвать одной из первых французских писательниц в полном смысле этого слова: в отличие от многих современниц, которые не чуждались литературных занятий, но отдавали им часы досуга, она сделала их своим призванием. Ее положение в обществе было напрямую обусловлено литературной карьерой — как ее собственной, так и ее старшего брата Жоржа де Скюдери (1601–1667). Брат и сестра не могли похвастаться ни высоким происхождением (их отец был морским капитаном), ни богатством. Рано осиротев, оба получили хорошее образование в доме состоятельных родственников. Затем Жорж де Скюдери посвятил несколько лет военному поприщу, на котором не преуспел. С 1630 г. брат с сестрой обосновались в Париже, где Жорж де Скюдери, решив заняться литературой, опробовал несколько «формул успеха», позволявших быстро добиться известности. Имя его получило несколько скандальную огласку.
Неудачи и, в меньшей степени, удачи Жоржа де Скюдери позволяют проследить довольно типичный «мужской» рисунок литературной карьеры. Сперва он пробовал себя в поэзии и драматургии. Не добившись признания, взялся за литературную критику и уличил Корнеля в несоблюдении трех единств, хотя ранее сам писал «неправильные» пьесы. Огрехи «Сида» показались ему столь значительными, что он обратился с письмом к только что созданной Академии (что в той или иной мере означало апелляцию к ее создателю и покровителю, кардиналу де Ришелье), которое послужило толчком к знаменитому спору вокруг этой пьесы.
По всей видимости, для Жоржа де Скюдери был чрезвычайно важен институциональный характер литературных занятий. Этим объясняется его предпочтение признанных литературных родов (поэзии и драматургии) и готовность прибегнуть к посредничеству Академии, которая, по сути, еще не имела самостоятельного авторитета и чьи функции оставались неясными. Иначе говоря, он добивался признания не только со стороны публики, но и со стороны власти.
Случай Мадлен де Скюдери совсем иной. Ее литературная карьера проходила вне официально признанных институтов; более того, с формальной точки зрения никакой карьеры не было: сочинения госпожи де Скюдери печатались под именем брата. Но современники были уверены, что все знаменитые романы вышли из-под пера сестры. Правда, исследователи настроены менее категорично и считают, что ранние произведения — «Ибрагим, или Великолепный Басса» (1641) и «Артамен, или Великий Кир» (1649–1653) — действительно были написаны совместно с Жоржем (хотя бы потому, что в них много батальных сцен). В случае «Клелии» (1654–1660), «Амальгиды, или Королевы-рабыни» (1660–1663), «Матильды д’Аквилар» (1667) и «Клеаниры, или Версальской прогулки» (1669) ее авторство не подлежит сомнению. Тем не менее убежденность современников в том, что не Жорж писал романы, сама по себе показательна. Дело было не только в недостатке у него таланта — его эпопея «Аларик, или Побежденный Рим» (1654) прославилась лишь своим объемом в одиннадцать тысяч стихов, — но и в том, что роман оставался «беззаконным» жанром. Лишь в начале XVIII в. теоретики признали за ним право на существование.
Когда брат и сестра приехали в Париж, то Жорж, а за ним и Мадлен стали завсегдатаями литературных салонов той эпохи. Главное место среди них, конечно, принадлежало «голубой комнате» маркизы де Рамбуйе. Для начинающего литератора Жоржа де Скюдери это была возможность присоединиться к той или иной литературной группировке и приобрести могущественных покровителей. Его целью было членство в Академии, и в 1650 г. он достиг желаемого. Для его сестры жизненной целью стал сам салон. Когда в эпоху Фронды круг маркизы де Рамбуйе распался, Мадлен де Скюдери начала собирать друзей у себя. К 1653 г. ее «Субботы» приобрели известность (она принимала по субботам с двух до пяти). По-видимому, успех салона был одной из причин ее разногласий с братом, который ревниво относился к светским и литературным достижениям сестры.
Оставляя в стороне личные трения, можно сказать, что размолвки между Жоржем и Мадлен де Скюдери были связаны с различным пониманием места литературы в обществе: для брата идеальной моделью была Академия, для сестры — салон. Поэтому романы госпожи де Скюдери не только наполнены разговорами (а разговор — основное салонное занятие), но и написаны в форме беседы. Ни одно событие из жизни их героев не проходит без детального обсуждения всех его нюансов. А последние ее произведения, посвященные вопросам морали, прямо именуются «разговорами» или «беседами»: «Беседы на разные темы» (1680), «Новые беседы» (1684), «Беседы о морали» (1686), «Новые беседы о морали» (1688), «Разговоры о морали» (1692).
«Беседы на разные темы» — первая книга из этой серии, и проблемы, которые поднимает в ней Мадлен де Скюдери, прежде всего имеют отношение к светской морали. В отличие от Куртэна и даже от аббата де Бельгарда, она не ставит перед собой утилитарных задач. Для нее умение вести беседу является не средством к достижению конкретных целей, но искусством в чистом виде. Отчасти это объясняется тем, что у госпожи де Скюдери разговор предполагает смешанную аудиторию, где явно преобладают дамы. Но тут светское общество подстерегает другая опасность — бездумная женская болтовня о нарядах, кавалерах, праздниках и т. д. Искусство общения как раз состоит в умении балансировать между «мужским» прагматизмом и «женским» бесцельным шумом речи.
Как и многие писатели-моралисты, госпожа де Скюдери описывает не идеал, а разнообразные отклонения от него. Предложенная одной из участниц беседы задача — каждому вспомнить самый занудный разговор — дает повод для серии зарисовок, которые объединены общим состоянием скуки. Похожий прием был использован Мольером в его комедии «Докучные» (1661), где главный герой постоянно оказывался в ловушке светских приличий, не позволявших ему отделаться от докучных знакомых и просителей: один мешает ему смотреть театральное представление, другой требует восхищаться только что придуманным танцем, третий просит быть секундантом, четвертый надоедает рассказом о карточном проигрыше, пятый — описанием охоты и т. д. Однако мольеровские персонажи не столько скучны, сколько назойливы; их вмешательство лишает героя свободы действий. Ситуации, которые представляет госпожа де Скюдери, отмечены именно скукой: бесконечное вранье о нарядах, перечисление никому не известных родословных, детальные истории продажи и покупки домов. Эта трансформация докуки в скуку отнюдь не случайна и обусловлена не только разницей жанров (театральное произведение по определению может лишь обозначать скуку, но не давать ее почувствовать зрителям). Как отмечал известный знаток XVII столетия Жорж Монгредьен, именно на 1680-е гг. приходился перелом, после которого основной характеристикой придворной жизни стал этикет и, соответственно, скука.[128] Эстетика и этика скуки — неотъемлемый элемент культурной атмосферы последних лет царствования Людовика XIV.
Однако понятие «скуки» для госпожи де Скюдери не ограничивается неинтересными разговорами о чьих-то родословных или об имущественных приобретениях. Под него подпадают любые модели поведения, отмеченные автоматизмом и превращенные в своеобразный культурный «тик». Таков случай веселого общества, о котором рассказывает Амилькар, собиравшегося лишь для того, чтобы непрерывно хохотать. Или той дамы — любительницы страшных историй, о которой говорит Валери. Скука в первую очередь связана с однообразием. Конечно, смешно, когда человек постоянно перескакивает с одного предмета на другой, но в светском кругу такая речевая стратегия была более приемлема, нежели упрямое желание развивать единственную тему.
Другой пример нежелательного однообразия, порождающего скуку, — чисто женское общество. Как показывает госпожа де Скюдери, и самым остроумным дамам нужен своеобразный «свидетель» их ума — представитель противоположного пола, чье пускай даже молчаливое присутствие оживляет разговор. Дело здесь не только и не столько в обычном кокетстве и желании понравиться — писательница о них не упоминает. Скорее речь идет об особом понимании частной сферы, символом и воплощением которого является искусство разговора. Практикуя его, мужчины должны были отказаться от своего публичного «я»: как мы помним, это требование сформулировано уже в «Придворном» Кастильоне, где дама высмеивала кавалера, который во время танцев мог беседовать с ней лишь о военном ремесле. А женщины должны были отрешиться от быта и связанных с ним забот, которые во многом структурировали их существование. Именно поэтому неприлично говорить о детях, домах, нарядах и прочих повседневных делах. Присутствие дам делает мужской разговор менее серьезным, присутствие мужчин лишает женскую болтовню излишней приземленности. Оба пола сходятся на нейтральной территории, где их общение имеет максимально «общечеловеческий» (а не профессиональный, сословный или сугубо гендерный) характер.
Такое идеальное «общество разговора» рисует госпожа де Скюдери. Его члены были знакомы ее читателям и почитателям по романам «Артамен, или Великий Кир» и «Клелия». Собственно говоря, большая часть беседы «О разговоре» была непосредственно извлечена из «Великого Кира».[129] Но это не просто литературные персонажи: за римскими и псевдоримскими именами угадывались портреты современников. Так, Валери — одна из двойников самой госпожи де Скюдери (другое ее alter ego — Сафо), а Амилькар — поэт Саразен, ко времени публикации «Бесед на разные темы» уже давно покойный. Воскрешая его в своем диалоге, госпожа де Скюдери не только отдавала дань прошлому и ностальгически воссоздавала его атмосферу. Портретное сходство позволяло определить характер персонажей и помогало читателю ориентироваться среди разнообразия человеческих свойств. Характерной чертой Саразена была веселость (считается, что, будучи мастером бурлескной поэзии, именно он придумал слово «бурлеск»). Поэтому его можно было считать одним из возможных воплощений общечеловеческого типа «весельчака». Точнее, Амилькар — весельчак вроде Саразена: портретное сходство указывало, какую именно из разновидностей этого типа надлежит вообразить читателю. В данном случае отсылки к реальности играют роль мнемонического приема.
Можно сказать по-другому: сквозь неповторимые, индивидуальные черты своих друзей и знакомых госпожа де Скюдери видела идеальные типы, которые описывала в своих романах и трактатах. Поэтому в обществе «бесед на разные темы» оказывались как давно умершие, так и еще здравствовавшие. Здесь срабатывал тот же механизм отрешения от жизненного прагматизма, от изначальной детерминированности, благодаря которому создавалось внеделовое и внебытовое пространство разговора. Для идеальной беседы не важны биографические детали, и смерть — не исключение.
«Беседы на разные темы» неоднократно переиздавались, хотя в XVIII и отчасти в XIX в. репутация госпожи де Скюдери оказалась скомпрометированной насмешками Буало, чьи суждения стали мерилом хорошего вкуса не столько для современников, сколько для потомков. Однако, несмотря на язвительность критиков, ее книги продолжали читать по крайней мере до начала XIX в., когда вновь пробудился интерес к ней как к исторической фигуре. Одно из свидетельств тому — новелла Гофмана «Мадмуазель де Скюдери», где писательница выступает в качестве одного из центральных персонажей. С такой ролью она сама, по-видимому, охотно бы согласилась.
Беседы на разные темы[130]
О разговоре
— Беседа образует общественную связь меж людьми, служит величайшим удовольствием для людей достойных и является самым доступным из мирских путей приобщения не только к вежеству, но и к чистейшей морали, любви к славе и добродетели, поэтому мне кажется, что полезней и приятней всего нам будет побеседовать о том, что именуется «беседой», — сказала Силени. — Ибо когда люди говорят лишь из деловой необходимости, название это не подходит. — Правда, — сказал Амилькар, — когда сутяга толкует с судьей о своем процессе, торговец заключает сделку с другим торговцем, генерал армии отдает приказы, а король в своем Совете говорит о политике — то это не стоит называть беседой. Все эти люди могут прекрасно рассуждать о своих делах и интересах и не иметь приятного таланта к беседе, этой утехе нашей жизни, который встречается гораздо реже, нежели принято думать. — Не сомневаюсь, — подхватила Силени, — но мне кажется, что перед тем, как выяснять, в чем ее главная прелесть и красота, каждому из нас стоит вспомнить самый скучный разговор, которым нам когда-либо докучали. — Вы правы, — сказала Серент, — заметив, что на нас наводит скуку, можно лучше понять, что нас развлекает. К примеру, — добавила она, — вчера я нанесла семейный визит, который мне был столь в тягость, что я боялась умереть со скуки. Представьте, я оказалась в обществе десяти или двенадцати женщин, которые болтали лишь о своих мелких домашних заботах, о недостатках рабов, о достоинствах или о пороках своих детей, а одна из них более часа слово в слово пересказывала первый лепет своего сына, которому три года. Как вы можете судить, я провела время самым жалким образом. — Уверяю вас, — отвечал ей Никанор, — что потратил его не лучше вашего, ибо наперекор собственной воле оказался в обществе женщин (вы можете легко догадаться, кто там был), которые весь день напролет хвалили или ругали свои наряды, все время привирая об их цене. Как мне шепнула наименее сумасбродная, одни из тщеславия утверждали, что заплатили гораздо больше, нежели в действительности, другие, желая показать свою рачительность, наоборот, занижали цену. Так что мне пришлось целый день слушать болтовню об одних низких материях, в которой было так мало ума, что я до сих пор не в духе. — Что касается меня, — подхватила прекрасная Атис, — пару недель назад я оказалась вместе с дамами, которые, будучи не лишены ума, до странности были мне в тягость. Сказать по правде, это завзятые кокетки, и у каждой по крайней мере по одной интрижке, которая так их занимает, что ни о чем другом они думать не могут. И когда персона, к этим интригам не причастная, оказывается в их компании, то это затруднительно и для них, и для нее. Действительно, будучи в обществе этих дам, я слушала, как они меж собой говорят, ничего в их речах не понимая. Ибо сидевшая справа от меня говорила соседке, что из надежного источника ей стало известно, что такой-то порвал с такой-то и что такая-то вновь связалась с тем-то. Другая, слева от меня, с чувством беседовала с подругой, изрекая при этом сплошные безумства. «В конце концов, — говорила она раздраженно, — известной вам особе не стоит похваляться, что увела у меня поклонника, ибо она думает, что отняла его у меня, а на самом деле он достался ей лишь потому, что был мною прогнан. Стоит мне захотеть, я снова кликну, и только она его и видела». В стороне кто-то живописал угощение, на котором побывал, всячески давая понять, что оно оказалось неважным, как будто стремясь преуменьшить красоту дамы, в честь которой оно было устроено, уличив ее возлюбленного в недостатке щедрости. Признаюсь, что в жизни не испытывала такого нетерпения, как в тот день. — Будь я на вашем месте, — отвечала Силени, — я бы нашла способ развлечься за счет тех, кто мне докучает; однако три дня назад мне не удалось избежать скуки, беседуя с мужем и женой, которые всегда говорят о генеалогии митиленских домов и о семейных состояниях. Ибо, за исключением редких случев, велика ли забава весь день слушать: Ксенократ был сыном Трифона, Клидена породил Ксенофан, Ксенофант происходит от Тиртеи, и так далее? Велика ли забава выслушивать, что такой-то дом, до которого вам нет дела, где вы никогда не бывали и в жизни не окажетесь, был построен одним, куплен другим, затем обменен и теперь принадлежит человеку, вам неведомому? — Это не слишком приятно, — отвечал Алсэ, — но это не так неудобно, как оказаться вместе с людьми, имеющими на руках какое-нибудь докучное дело, которые не могут говорить ни о чем другом. Некоторое время назад я очутился в компании с морским капитаном, считавшим, что Питтакус обязан вознаградить его за корабль. На протяжении трех часов он излагал не только свои резоны, но и то, что ему могли ответить и как бы он на это возразил, а чтобы я лучше уяснил себе убыток, который ему хотят причинить, он мне подробно разъяснил, во сколько ему обошлось это судно. Для этого он перечислил имена тех, кто его строил, и все части корабля, одну за другой, дабы (безо всякой на то нужды) убедить меня, что все было самым лучшим и дорогим и что с ним хотят обойтись несправедливо. — Правда, — сказал Амитон, — что сталкиваться с такими людьми — наказание. Но, сказать по правде, разговор важный и серьезный, не терпящий ни малейшей шутки, тоже бывает столь тягостен, что у меня всякий раз разбаливается голова. Он ведется на одном тоне, не слышно смеха, и все сосредоточенны, как в храме. — Я согласна с вами, — отвечала Атис, — но, к стыду нашего пола, должна заметить, что мужчины превосходят нас в искусстве разговора. И в качестве доказательства тому послушайте, что я вам расскажу. Я отправилась к Лизидис и нашла ее в покоях матери, где было столько женщин, что мне с трудом отыскалось место, но ни одного мужчины. Не знаю, почему в тот день эти дамы оказались в таком настроении ума, обычно некоторые из них бывали весьма остроумны. Однако беседа шла не слишком интересно, поскольку речь велась об одних скучных мелочах: в жизни не слышала, чтобы говорили так много и было сказано так мало. Оказавшись рядом с Лизидис, я легко заметила ее недовольство. Правда, для меня это обернулось развлечением, ибо у нее вырывалось множество забавных словечек. Эта шумная беседа, столь противоположная ее склонностям, наводила на нее отчаянную скуку, когда вошел ее родственник. Примечательно, что это отнюдь не был высокий ум, который встречается столь редко, но просто человек достойный; и разговор сразу переменился, стал более упорядоченным, более остроумным и приятным, хотя компания мало изменилась, за исключением того, что к ней присоединился мужчина, который и говорил-то немного. Не могу вам этого объяснить, но все заговорили на другую тему и куда лучше, чем раньше, и те, кто ранее нагонял на нас с Лизидис тоску, теперь меня великолепно развлекали. Меж тем все разошлись, и я осталась один на один с Лизидис. Как только она почувствовала себя свободной, то оставила свое недовольство ради веселого настроения. «Ну, Атис, — сказала мне она, — вы все еще осуждаете меня за то, что я предпочитаю мужскую беседу женской? Вы не можете не признать, что совместное сочинение этих пятнадцати или двадцати женщин было бы самой плохой книгой на свете». — «Согласна, — рассмеялась я, — если по порядку записать все, что я сегодня слышала, вышла бы весьма причудливая речь». — «Что касается меня, — сказала она, — то порой меня до такой степени возмущает наш пол, что мне досадно к нему принадлежать, особенно когда я оказываюсь участницей одного из таких разговоров, в которых нет ничего, кроме нарядов, обстановки, украшений и тому подобного. Не то чтобы я хотела, чтобы об этом не говорили вовсе, — добавила она. — Ведь иногда я хорошо причесана, и мне приятно, когда об этом говорят, а если мой наряд красив и хорошо сшит, мне нравится, что его хвалят. Но мне хотелось бы, чтобы о такого рода вещах говорили поменьше, и говорили галантно, как бы мимоходом, без особенных усилий и прилежания — не так, как иные знакомые мне женщины, у которых в мыслях такая неопределенность, что они, верно, до конца своих дней не могут решить, идет ли им алый или синий и что им больше к лицу — желтый или зеленый». Признаюсь, речь Лизидис меня рассмешила. Она мне показалась тем более забавной, что мне знакома одна дама, которая на такие вещи тратит весь свой ум и говорит только о них; она превозносит лишь то, что ее окружает, — украшения своего дворца, роскошь обстановки, красоту своих нарядов и богатство драгоценных уборов. Но, посмеявшись над замечанием Лизидис, я решила защитить интересы женщин и сказала, что наверняка существует не меньше мужчин, чей разговор не слишком приятен. «Без сомнения, — отвечала она, — встречаются такие, беседовать с которыми невыносимо. Но и здесь есть преимущество: от них легче избавиться и с ними мы не обязаны сохранять безукоризненную вежливость. Однако, Атис, речь не о том. Я утверждаю, что самые приятные в мире женщины, когда собираются слишком большим числом и без мужчин, почти не говорят ничего стоящего и скучают сильней, чем в одиночестве. У мужчин, если это люди достойные, все не так. Конечно, в отсутствие дам их разговор менее весел, чем в их присутствии. Но хотя он более серьезен, это не лишает его рассудительности: таким образом, они легче обходятся без нас, нежели мы без них. Мне это так обидно, что нет слов». «Что до меня, — отвечала я, — то мне кажется, что я смогла бы жить без скуки, видя одних подруг, если бы все они были похожи на Лизидис». «В ответ на вашу любезность, — отозвалась она, — скажу, что я бы тоже ни в малейшей мере не скучала, если бы все мои приятельницы были похожи на вас. Но к этому следует добавить: при условии, что мы беседовали бы вдвоем или двумя — в крайнем случае, тремя — парами, но когда полдюжины болтают с таким же числом, я предпочла бы совсем никого не видеть. Да, — продолжала она с забавной грустью, — будь в мире дюжина Атис, я не хотела бы видеть их вместе каждый день без двух-трех мужчин. Ибо хотя вы никогда не говорите невпопад, я уверена, что будь вас двенадцать, то обязательно сказали бы или, по крайней мере, подобно другим изрекали бы ничего не значащие вещи, из-за которых разговор становится томительным и скучным. Наконец, — заключила она, — что вы хотите от меня услышать? Ведь если вы не завзятая притворщица, вам придется признать, что есть некое сама-не-знаю-что, обаяние, которого я не умею выразить, благодаря чему один достойный человек веселит и развлекает женское общество куда более самой приятной женщины. Скажу даже: когда две женщины оказываются вместе, то, если между ними нет дружбы, им будет гораздо менее весело, чем если бы каждая из них беседовала с умным мужчиной, ранее ей незнакомым. Судите, имею ли я основания ворчать на свой пол». — Такие разговоры, без сомнения, причиняют неудобство, — подхватил Амилькар. — Однако есть еще один вид, до крайности докучный. Как-то раз в Сиракузах я оказался в компании пяти или шести женщин и двух или трех мужчин, которые вбили себе в голову, что приятность разговора требует постоянного смеха. Поэтому стоило им сойтись вместе, как они принимались хохотать над всем, что говорили друг другу, хотя в этом не было ничего смешного. Они производили столько шума, что часто друг друга не слыхали и смеялись лишь потому, что все вокруг беспричинно хохотали. И делали это от всего сердца, как будто у них и вправду был резон. Но что удивительно, в их смехе было нечто заразительное, из-за чего трудно было удержаться и не подхватить эту болезнь. Однажды я оказался вместе с этими смешливыми дамами, которые так вдохновили меня своим хохотом, что я смеялся почти до слез, сам не зная над чем. Сказать по правде, четверть часа спустя мне сделалось стыдно, и от радости я разом перешел к печали. — Хотя в смехе без причины есть доля безумия, — подхватила Валери, — такие люди меня стесняют менее, чем те, чей разговор полон бесконечных ужасных историй, до крайности скучных. Я знавала одну женщину, которая была осведомлена обо всех трагических происшествиях и проводила целые дни, сетуя на беды сей юдоли, печальным и томным голосом рассказывая о плачевных вещах, как будто ее наняли оплакивать все несчастья мира. — Не стоит, — сказала Плотин, — так быстро оставлять в стороне такой недостаток, как слишком длинные рассказы. Мне кажется, следует остерегаться привыкать постоянно что-то рассказывать, как делают иные из моих знакомых, которые всегда говорят лишь о прошедшем и, повествуя о том, что видели, ничего не говорят о том, что у них перед глазами. — Правда, — подхватил Амилькар, — стоит опасаться этих вечных рассказчиков. Одни излагают слишком путано, другие — слишком длинно, третьи столь раздражительны, что их нельзя прерывать, четвертые, напротив, все время прерывают сами себя и в конце уже не знают, о чем говорят и что хотели сказать. Но из всех рассказчиков более всего докучны те, что рассказывают о вещах, никому не интересных, в которых нет ничего привлекательного. — Я знаю один дом, — подхватила Серинт, — где беседа всегда утомительна, ибо речь неизменно идет о мелких новостях квартала, и когда там случайно оказываются придворные, то не знают, куда им деваться, ибо ничего в них не смыслят: могу сказать о себе, что, слушая обсуждение сотни незначительных интриг, до которых мне не было дела и слух о которых не выходил за пределы улицы, их породившей, я страшно скучала, ведь в них не было ничего интересного. — Еще одно мучение, — подхватил Никанор, — оказаться в большой компании, где у каждого свой секрет, особенно если у тебя его нет, и остается только слушать шелест чужих разговоров шепотом. Когда бы это были настоящие тайны, — добавил он, — я бы запасся терпением. Но очень часто вещи, изрекаемые с такой таинственностью, на деле — сущие пустяки. — Мне хорошо известны и другие, — добавил Алсэ, — которые в чем-то кажутся докучными, а в чем-то не лишены приятности. Ибо у них в голове такая любовь к новостям, что говорят они лишь тогда, когда идут сражения, осажден какой-нибудь крупный город или в мире происходят важные изменения: слушая их, можно подумать, что боги меняют лицо вселенной лишь для того, чтоб дать им тему для беседы. Ибо за исключением больших и важных событий они не говорят вовсе и не выносят никаких разговоров. Так что, не умея всерьез рассуждать о политике и не зная досконально истории, с ними не о чем говорить. — Правда, — подхватил Никанор, — это не всегда приятно. Но еще более неудобны люди, которым нет дела до событий мира и которые, как только что говорилось, хотят знать лишь частные новости. Они вечно заняты, словно у них на руках множество дел, хотя в действительности лишь выведывают чужие дела и разносят их из дома в дом, словно публичные соглядатаи, которые служат то одному, то другому, пересказывая ему новости первого просто потому, что представилась такая возможность, и не извлекая из того ни малейшей выгоды. Они стремятся узнавать не ради знания, а чтобы пересказать. — Еще один недостаток, — сказала Серинт, — стремиться во всем выказывать свой ум. Я знала одного человека, который при первых визитах в дом, где он хотел понравиться, беспрестанно перескакивал с одной темы на другую, ни во что не углубляясь, и, без всяких преувеличений, за час умудрился поговорить обо всем, пересказав происходившее не только при дворе, но и в городе. Затем он перечислил, что сделал за сегодняшний день и о чем шел разговор в местах, которые он посетил, и спросил Арпази, чем занималась она. Затем принялся подшучивать над молчанием Мелинты и заговорил о музыке и живописи. Он предлагал различные прогулки и говорил о вещах столь несхожих, что один из присутствующих заметил это и привлек внимание других, желая его похвалить. «Ибо, — сказал он, — нет ничего скучнее, чем говорить с людьми, которые вцепляются в первую же тему и так в нее зарываются, что предмет разговора весь вечер не меняется». Но если от беседы требуется свобода и естественность, то собеседники вправе в любой момент изменить ее ход так, как пожелают, ибо неприятно иметь дело с упрямцами, которые ничего не оставляют недосказанным и, сколько бы их ни пытались прервать, все время возвращаются к одному предмету. — Что касается меня, — сказала Силени, — то, слушая ваши речи, я прихожу в затруднение. Ибо если нехорошо, подобно Дамофилу, всегда рассуждать о науках, если скучно беседовать о мелких семейных заботах, если неуместно часто говорить о нарядах, если неразумно болтать о любовных интригах и неинтересно постоянно углубляться в генеалогию, если низко упоминать о проданных или обмененных землях и запрещено распространяться о собственных делах, если чрезмерная серьезность разговора не веселит, а смеяться часто и без причины — безумие, если рассказы об ужасных и необычных событиях не по вкусу, а мелкие новости соседей скучны тем, кто не живет рядом с ними, если разговор о пустяках, о которых говорят лишь на ухо друг другу, докучает, а рассуждающие о громких новостях не правы, меж тем как вечные собиратели кабинетных новостей неразумны, — то о чем же следует говорить? Из чего должен состоять разговор, чтобы быть красивым и разумным? — Для этого требуется все, что мы осудили, — с улыбкой отвечала Валери, — но вести его следует разумно. Ибо хотя все, о ком шла речь, докучливы, однако я беру на себя смелость утверждать, что говорить можно лишь о том, о чем говорят они, и говорить приятно, хотя им это не удается. — Я думаю, что слова Валери справедливы, — отвечал Амилькар, — хотя сперва так не кажется. Ибо я в полной мере уверен, что в разговоре могут быть кстати любые предметы, без единого исключения. — Действительно, — добавила Валери, — не следует думать, что существуют вещи, которые нельзя туда вместить. Правда, в иных случаях уместно сказать то, что в других покажется смешно. — Что до меня, — сказал Амитон, — я бы предпочел, чтобы беседа, как это свойственно многим искусствам, имела свои законы. — Главное правило, — подхватила Валери, — не говорить ничего, что оскорбляет разум. — Но, — добавил Никанор, мне все же хотелось бы точнее знать ваше мнение о том, каков должен быть разговор. — Я считаю, — отвечала она, — что в общем и целом в беседе следует придерживаться вещей обычных и галантных, нежели великих. Но вместе с тем туда может входить что угодно, лишь бы она оставалась свободной и разнообразной, соответствовала времени, месту и участникам; весь секрет в том, чтобы с достоинством говорить о низком, просто — о возвышенном, галантно о галантном, без лишнего напора и позерства. Поэтому, хотя ей в равной степени необходимы естественность и разумность, в иных случаях милостивого приема могут удостоиться науки, да и приятные сумасбродства окажутся к месту, когда они изобретательны, скромны и галантны. Так что, рассуждая здраво, не будет криводушием сказать, что нет того, о чем нельзя было бы упомянуть в разговоре, если человек умен, рассудителен и хорошо понимает, где находится, с кем говорит и кто он сам. Ибо хотя рассудительность абсолютно необходима, чтобы не говорить невпопад, тем не менее беседа должна казаться непринужденной, как будто мы не отказываемся ни от одной мысли и говорим все, что приходит в голову, не выказывая предпочтения той или иной теме. Ибо нет ничего смешнее людей, которые на одни темы ведут замечательные беседы, а помимо них изрекают глупости. Поэтому мне хотелось бы, чтобы никто не знал, что именно следует сказать, но всегда отдавал себе отчет, что говорит. Если бы все поступали так, то женщины не кичились бы не к месту ученостью, с лихвой выдавая свое невежество; всякий говорил бы лишь то, что следует сказать, дабы разговор был приятен. Но что совершенно необходимо для его приятности и привлекательности, так это дух вежества, изгоняющий обидные шутки и все, что в малейшей мере оскорбляет нравственность. Мне хотелось бы, чтобы все так владели искусством оборачивать слова, что это позволяло бы галантно ухаживать за самой суровой дамой в мире, с приятностью занимать пустяками людей важных и серьезных, и, коли случится, к месту беседовать о науках с невежами; в общем, чтобы можно было менять свой ум в соответствии с тем, что говоришь и с кем. Но помимо уже сказанного, чтобы во всем царил дух веселости, непохожий на безумие этих смешливых дам, которые устраивают столько шума из-за пустяков, — дух веселости, который бы вдохнул в сердца присутствующих склонность находить развлечение во всем и ничем не скучать: я хочу, чтобы беседа шла то о важном, то о пустяках, но с условием, что все говорили бы хорошо и без всякого стороннего принуждения никогда не заводили речь о том, о чем говорить не следует. — Наконец, — добавил Амилькар, — чтобы избавить вас от труда и дальше рассуждать о разговоре и устанавливать его законы, довольно будет восхищаться вашей беседой и делать так же, как вы, чтобы заслужить восторги целого света. Ибо уверен, что меня никто не осудит, если я скажу, что от вас мы всегда слышим одни приятные, галантные и разумные вещи и что никто до такой степени не владеет искусством нравиться, очаровывать и развлекать. — Мне бы очень хотелось, — отвечала она, покраснев, — чтобы ваши слова были правдой и чтобы я могла верить вам больше, чем себе. И чтобы вам доказать, как часто мне доводится ошибаться, я откровенно признаюсь, что слишком много говорю: вместо того чтобы излагать свое представление о беседе, мне стоило отнести на счет собравшихся только что сказанные вами слова. Тут все по очереди принялись возражать против скромности Валери и до такой степени засыпали ее похвалами, что она почти разгневалась, а затем повели галантный и веселый разговор, который продолжался почти до самого вечера, когда участники этого прекрасного общества простились друг с другом.
Глава вторая Галантные хроники
Идеал искусства общения подразумевал не только умение говорить и держать себя, но и целый ряд свойств, позволявших быть приятным окружающему обществу. Их совокупность нередко характеризовалась как «галантность». В текстах эпохи можно встретить выражения «галантный кавалер», «галантный праздник», «галантный вид», «галантный наряд», «галантная записка» и т. п. Определить точное значение этого слова довольно сложно: и в словаре Фюретьера (1690), и в первом издании «Словаря Академии» (1694) ему посвящена целая страница. Но, пожалуй, стоит начать не с них, а с Клода Фавра де Вожла (1585–1650), автора «Заметок о французском языке» (1647). Завсегдатай особняка Рамбуйе, он в значительной мере ориентировался на те языковые нормы, которые были приняты в кругу маркизы. Согласно ему, определение «галантный» являлось сложносоставным понятием, «содержащим сам-не-знаю-что, то есть обходительность, дух двора, остроумие, верность суждения, вежество, куртуазность, веселость, — и все это без малейшей принужденности, позерства или порока».[131] Такое сугубо позитивное понимание галантности отражено и в более поздних словарях. Практически все, что приносило удовольствие окружающим, не нарушая при этом общественных конвенций и не обладая практической пользой, могло быть названо галантным. Именно поэтому Антуан Годо в уже цитировавшемся письме от 1654 г. именовал госпожу де Скюдери «оракулом галантности», явно подразумевая тот пучок смыслов, которые описал Вожла.
Но у галантности была своя оборотная сторона. Как отмечали и Фюретьер, и «Словарь Академии», этим же словом обозначалась предрасположенность к любовным утехам, простительная в кавалерах, но не всегда простительная в дамах. «Галантами» звались кавалеры, соблазнявшие замужних женщин или девушек, с которыми они не собирались вступать в брак (последняя ситуация нередко бывала связана с выдачей письменного обещания жениться позже: так, небезызвестная в светских и литературных кругах мадмуазель Дежарден много лет пыталась доказать свое право именоваться госпожой де Вильдье, — обещавший на ней жениться капитан де Вильдье оказался уже связан другим обязательством). Что касается галантных дам, то одно из самых суровых рассуждений на эту тему принадлежит Лабрюйеру:
Галантная женщина хочет, чтобы ее любили; кокетке достаточно нравиться и слыть красивой. Одна стремится вступить в связь с мужчиной, другая — казаться ему привлекательной. Первая переходит от одной связи к другой, вторая заводит несколько интрижек сразу. Одной владеет страсть и жажда наслаждения, другой — тщеславие и легкомыслие. Галантность — это изъян сердца или, быть может, натуры; кокетство — порок души. Галантная женщина внушает страх, кокетка — ненависть. Если оба эти свойства объединяются в одной женщине, получается характер, наигнуснейший из возможных.[132]
Различие между галантной дамой и кокеткой в том, что первая удовлетворяет свои природные инстинкты (и потому пугает — чрезвычайно редкое для XVII в. признание), вторая — социальные. Для кокетки важно быть центром всеобщего восхищения, ее заботит лишь ритуал ухаживания. Если вспомнить героиню «Мизантропа» (1666) Мольера, то ее главный недостаток — желание постоянно быть окруженной поклонниками. Разоблачение тактик, с помощью которых она этого добивается, наносит удар ее репутации, но не бросает тень на ее добродетель. Меж тем как галантная дама всегда развратница, причем не ведающая никакого удержу. В образе Арделизы из «Любовной истории галлов», о которой речь пойдет ниже, преобладают черты развратницы — типа, не часто встречающегося в литературе XVII в.: Бюсси представил его не в чистом виде, наделив свою героиню некоторыми чертами кокетки.
Между сугубо положительным и резко отрицательным полюсом «галантности» располагался широкий спектр нейтральных оттенков. Галантное ухаживание не требовало истинного чувства, но не подразумевало и греховных намерений. В этой модели отношений было сильно социально-игровое начало. Молодым кавалерам полагалось иметь дам сердца, и даже автор «Любовной истории галлов» признавал, что последние в этом были не виноваты. Из его же «Мемуаров» мы знаем, что такого рода выбор мог совершаться вполне произвольно. Так, будучи в юности увлечен одной провинциальной дамой, он сам уговорил друга начать ухаживать за красоткой из того же города, к которой тот был равнодушен. Бюсси объяснял этот поступок желанием «найти ему [другу] занятие, сходное с моим, из страха, чтобы он не осудил мою слабость».[133] Похожее представление о галантности как о своеобразной «игре в любовь», направленной на поддержание светских связей, можно найти в пресловутой «Карте страны Нежности» госпожи де Скюдери, где проводится различие между галантными записками и любовными посланиями (см. четвертую главу): первые, в отличие от вторых, не подразумевали серьезного чувства.
Существование галантных записок напоминает о том, что галантность как общая манера поведения имела своим продолжением конкретные «галантности» — устраивавшиеся в честь дамы праздники, подарки, развлечения, стихи. Последние могли быть галантны как по своему содержанию, так и по способу их использования. Эти две характеристики не обязательно совпадали: скажем, галантное стихотворение могло быть прозаически послано по почте (примеры тому мы увидим в переписке госпожи де Скюдери и Пелиссона), и напротив, деловое письмо со всей галантностью — поднесено адресату. Помнить об этом различии полезно, когда речь идет о галантной литературе в целом. Значительную часть ее составляли сочинения, галантные и по своему содержанию, и по способу их использования. К примеру, все тот же Бюсси-Рабютен был автором «Любовных максим», которые пользовались большой популярностью и были анонимно опубликованы в 1658 г. В 1664 г. Бюсси преподнес это сугубо куртуазное сочинение Людовику XIV, который хотел прочитать его вместе с госпожой де Лавальер (прекрасный пример галантного использования текста). Не исключено, что и «Любовная история галлов» была задумана как галантный сюрприз, которым автор хотел удивить узкий круг друзей. Однако по своему содержанию она не укладывалась в рамки галантной литературы в строгом понимании слова. Как позднее признавал сам Бюсси, правильней всего было бы ее назвать «сатирическим романом».[134] Впрочем, это признание не лишено лукавства: автор пытался уверить власти, что изображенные им события были вымышленными, поэтому охарактеризовал свое произведение как «роман» (термин «история» указывал на правдивость повествования). Иначе говоря, он хотел представить свое сочинение как сатиру на нравы, а не на лица. Мы знаем, что Бюсси кривил душой и что сюжетом ему послужили подлинные события, тем не менее его слова заслуживают внимания. Действительно, в «Любовной истории галлов» есть элемент сатиры на нравы, поскольку там показано, с какой легкостью позитивные черты галантности (вежество, куртуазность, любовь к веселью) оборачиваются своей темной стороной — развратом, отсутствием каких-либо моральных сомнений, пренебрежением устоями общества.
Переводя свое сочинение из разряда «истории» в разряд «романа», Бюсси затемнял и его литературную генеалогию. Во французской словесности была традиция составления скандальных хроник, из которых наибольшей известностью по сей день пользуются «Галантные дамы» Брантома. Скорее всего, Бюсси был знаком с этим текстом, однако полной уверенности тут нет, поскольку сочинения Брантома попали в печать лишь в 1665 г. (не исключено, что дорогу «Галантным дамам» открыл успех «Любовной истории галлов»). Имелись и другие, хронологически более близкие прецеденты. За несколько лет до того, как Бюсси взялся за свою сатиру, парижский магистрат и протестант Жедеон Таллеман де Рео, усердный посетитель особняка Рамбуйе, уже работал над «Занимательными историями» — уникальным собранием слухов, анекдотов и воспоминаний, в основном посвященных тому, что нельзя было «почерпнуть в опубликованных исторических сочинениях и мемуарах».[135] Значительное место среди этих материалов занимали рассказы о галантных похождениях различных исторических лиц, включая самого автора. К сожалению, мало что известно о циркуляции «Занимательных историй»: впервые они были найдены и опубликованы лишь в начале XIX в. и до этого вряд ли много ходили по рукам, иначе бы сохранилось заметное число списков. Но независимо от того, читал ли Бюсси сочинение парижского буржуа, «Занимательные истории» важны для понимания генезиса «Любовной истории галлов». Они служат зримым свидетельством существования устной скандальной хроники, свободно циркулировавшей между разными слоями общества и непрерывно пополнявшейся новыми деталями. Как мы увидим в пятой и шестой главах, такого рода традиция устных повествований имела решающее значение для формирования французской исторической и псевдоисторической прозы. Поэтому когда Бюсси, оправдываясь перед властями, утверждал, что при создании «Любовной истории галлов» им двигало желание заслужить всеобщее восхищение своим умением «хорошо писать», ему, как ни странно, можно поверить. Как и в случае истории любви Мадмуазель или трагической кончины Мадам, современников интересовала не канва событий, и так бывшая всеобщим достоянием, а умение рассказчика обернуть их неожиданной стороной и изложить приятным слогом.
«Любовная история галлов» стала образцом для следующего поколения галантной литературы и, по всей видимости, оказала непосредственное влияние на понимание «галантности» как таковой. После широкого распространения этого сочинения и многочисленных ему подражаний «галантность» стала чаще ассоциироваться с незаконной любовью, нежели с особой утонченностью манер.
Роже де Бюсси-Рабютен
Любовная история галлов
(1663)
Роже де Рабютен, граф де Бюсси (1618–1693) принадлежал к старинному дворянскому роду. До появления «Любовной истории галлов» его карьера мало чем отличалась от карьеры людей его круга. С девяти лет он обучался в иезуитском коллеже, в шестнадцать прошел первую военную кампанию, в двадцать пять женился. С середины 1640-х гг. служил под началом принца де Конде и вслед за ним оказался вовлечен в события Фронды: сперва поддерживал партию двора, затем, после ареста принцев де Конде, де Конти и герцога де Лонгвиля, присоединился к фрондерам. Как он позднее утверждал, наперекор собственному желанию, ибо всегда стремился сохранять верность королю. Однако он не мог нарушить и обязательств перед принцем де Конде, который был его покровителем и командующим.
Эти обязательства вскоре утратили актуальность: вернув себе свободу, Конде потребовал у Бюсси подать в отставку; Бюсси снова примкнул к партии двора и продолжил военную карьеру. В апреле 1659 г., после получившего широкую огласку дебоша в замке Руасси, он на год с небольшим был сослан в свои земли. По-видимому, во время пребывания в деревне он начал набрасывать «Любовную историю галлов», которая в 1662 г. уже ходила по рукам в рукописном виде. В 1664 г. об этой сатире узнал король, заподозривший, что в ней высмеивались не только придворные дамы и кавалеры, но и члены его семейства. Поначалу Бюсси удалось оправдаться, и Людовик XIV даже согласился утвердить его избрание в Академию. Однако в апреле 1665 г. Бюсси был арестован и препровожден в Бастилию. Ему предстояло провести там целый год. Затем последовала ссылка, завершившаяся лишь в 1682 г., когда Бюсси получил дозволение вернуться ко двору.
Как и в первый раз, опала подтолкнула его к литературным занятиям, теперь в высшей степени почтенным. Помимо переводов латинских поэтов он принялся работать над своими мемуарами и над историей царствования Людовика XIV, надеясь тем самым заслужить одобрение короля. Но эта попытка реабилитировать себя в глазах власти не имела успеха: даже после возвращения из ссылки Бюсси оставался в полуопале вплоть до последних лет жизни.
Крах карьеры Бюсси свидетельствует о том, сколь опасным считалось — и было — печатное слово. Хотя «Любовная история галлов» была опубликована уже после ареста ее автора (первое издание вышло в конце 1665 г. в городе Льеже), слухи о некоем голландском издании циркулировали в обществе задолго до этого. По существу, «Любовная история галлов» — скандальная хроника, живописующая похождения нескольких галантных дам и придворных кавалеров, имевшие место в 1650-е гг. Нет сомнения, она компрометировала и задевала ряд довольно знатных и влиятельных семей, однако, за единственным исключением, Бюсси тщательно избегал намеков, которые могли оскорбить особ королевской крови. Поэтому постигшее его наказание представлялось неоправданно суровым и ему самому, и последующим историкам, которые пытались найти вразумительные объяснения этой суровости. Вот некоторые из них.
Прежде всего, поведение Бюсси вызывало нарекания и до появления «Любовной истории галлов». Его первое пребывание в Бастилии датируется 1641 г., когда, увлекшись галантным приключением, он бросил свой полк без присмотра и в его отсутствие солдаты принялись бесчинствовать и грабить местное население. В 1648 г. он похитил богатую вдову, намереваясь на ней жениться без согласия ее родных. Как потом выяснилось, он не озаботился заручиться и ее согласием (похищение по обоюдной договоренности считалось простительным — оно позволяло будущим супругам обойтись без санкции обоих семейств, — но отсутствие оной означало акт прямого насилия, которое жестоко каралось), и только покровительство Конде, в начале Фронды пользовавшегося огромным влиянием, избавило Бюсси от неприятных последствий этого опрометчивого поступка. В 1659 г. Бюсси в компании герцога де Вивон, аббата Ле Камю, племянника кардинала Филиппа Манчини, графа де Гиша и еще нескольких отчаянных голов на Страстной неделе устроил дебош в замке Руасси. По разным сведениям, приятели окрестили поросенка рыбой, захватили в плен проезжавшего мимо путника и сочинили непристойные куплеты о первых лицах королевства: там были помянуты и король, и королева-мать, и многие другие. История получила широкую огласку, и Бюсси был отправлен в ссылку Позже рассказ об этой оргии, равно как и куплеты с припевом «Аллилуйя», вошли в «Любовную историю галлов».
Поведение Бюсси характеризовало его как «либертина» — человека, который «дает себе слишком много воли, не исполняет прилежно свой долг <…>, позволяет себе вольности в вопросах религии, либо утверждая, что не верит в то, во что следует верить, либо осуждая благочестивые обычаи и отказываясь исполнять заветы Господа, Церкви и вышестоящих…».[136] Хотя двор молодого Людовика XIV не отличался строгостью нравов, отношение к либертинажу оставалось суровым, поскольку за ним стояло не просто распутство, но пренебрежение авторитетом духовных и светских властей. Бюсси мог быть наказан как либертин, но дело было не только в его поступках — опала его собутыльников, отличившихся в Руасси куда больше него, оказалась менее продолжительной. Включив рассказ о дебоше в «Любовную историю галлов», Бюсси выступил как апологет либертинажа. Не случайно, что после этого молва приписывала ему все соблазнительные сочинения, независимо от их реального авторства. Наказывая Бюсси, королевская власть выносила приговор идеологическому вольнодумству.
Но есть и другое объяснение. Как указывают исследователи, вплоть до появления первых пиратских изданий «Любовной истории галлов», многие, включая короля, знали о ней лишь понаслышке. Меж тем рукопись начала ходить по рукам как раз в то время, когда при дворе разыгралась серия скандалов, в которые оказались замешаны члены королевской семьи. В 1664 г. Генриетта Английская стала жертвой шантажа со стороны маркиза де Варда, у которого в руках оказались письма влюбленного в нее графа де Гиша. Она обратилась за помощью к Людовику XIV, рассказав ему, что оба кавалера были причастны к составлению так называемого «испанского письма» — анонимного доноса, за пару лет до этого подброшенного королеве, в котором были изложены подробности связи Людовика и мадмуазель де Лавальер.[137] Король был не только страшно разгневан, но и обеспокоен возможной оглаской. Он подозревал, что в сатире Бюсси описаны именно эти события (насколько можно судить, как раз о них Бюсси осведомлен не был). Опровергнуть такие подозрения было трудно: рукописное существование текста позволяло делать в него вставки, добавлять продолжение или выдавать за «Любовную историю галлов» сочинения, не имевшие к ней ни малейшего отношения. Не исключено, что Бюсси пострадал не столько за свою скандальную хронику, сколько за ее репутацию и за все те сатирические тексты, которыми она постепенно обрастала. Один из них, «Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель», частично приведен ниже, в пятой главе.
Доля ответственности за длительную опалу Бюсси, по-видимому, должна быть возложена и на герцога де Ларошфуко, сына автора «Максим». Сильно задетый насмешками «Любовной истории галлов», он не давал королю, всегда ему благоволившему, забыть об этой обиде. Да и сам Людовик XIV не любил насмешников и остроумцев. Случай Бюсси должен был быть ему тем более неприятен, что речь шла не о профессиональном памфлетисте, продававшем свое перо за деньги, не о каком-нибудь наемном писателе, готовом на любой скандал ради финансового успеха издания, но о человеке благородного происхождения, чье имя имело вес. В глазах Людовика это была измена, и кара соответствовала преступлению. Аналогичным образом, Сент-Эвремон, неудачно пошутивший насчет заключения Пиренейского мира, в 1661 г. был вынужден бежать в Голландию, а затем в Англию. Вернуться ему было разрешено только двадцать семь лет спустя, в 1688 г., — его опала почти вдвое превысила опалу Бюсси, — но, в отличие от автора «Любовной истории галлов», он предпочел остаться политическим изгнанником.
«Любовная история галлов» неоднократно переиздавалась на протяжении XVII в. — конечно, в Голландии, как и большинство запрещенных во Франции книг. Хотя почти все псевдонимы персонажей были понятны современникам, недогадливые и плохо осведомленные читатели снабжались «ключом» — указателем подлинных имен героев скандальной хроники. В ряде изданий псевдонимы были заменены подлинными именами прямо в тексте: в этих случаях сочинение Бюсси обычно переименовывалось в «Любовную историю Франции».
Любовная история галлов[138]
В царствование Теодата война, продолжавшаяся уже двадцать лет, не препятствовала тому, чтобы некоторое время было отдано любви.[139] Но так как старые придворные кавалеры были уже бесчувственны, а молодые рождены под бряцание мечей и в силу своего призвания слишком грубы, то многие дамы несколько поумерили былую скромность, видя, что им придется изнывать в праздности, если самим не сделать первого шага, или, по крайней мере, не быть менее жестокими: многих это сделало снисходительными, а иных — бесстыдными.
К последним принадлежала Арделиза.[140] У нее было округлое лицо, точеный нос, маленький рот, блестящие лукавые глаза и тонкие черты лица. Но смех, всех красящий, производил в ней противное действие. У нее были светло-каштановые волосы, восхитительный цвет кожи, прекрасные шея и руки. Она была дурно сложена, и, если бы не лицо, ей никогда не простили бы ее наружности. Когда она только начала появляться в свете, льстецы твердили, что ее тело, без сомнения, прекрасно, как это принято говорить о женщинах, когда хотят извинить их избыточную полноту. Однако она была слишком откровенна для того, чтобы дать продлиться заблуждению: любой мог удостовериться в обратном, и если она не разубедила весь свет, то не по своей вине. Арделиза обладала живым и веселым умом, когда бывала свободна. Она также была неискренна, переменчива, легкомысленна и беззлобна. Любовь к наслаждениям доводила ее до прямого разврата, и в самых незначительных ее развлечениях сказывалась чрезмерная горячность.
Ее красота и состояние, впрочем незначительное, побудили Леникса просить ее руки; сватовство его оказалось скорым.[141] Человек благородный и состоятельный, он был благосклонно принят матерью Арделизы и не долго взыхал по прелестям, которые на протяжении двух лет были предметом желаний всего двора. По заключении брака поклонники, которые хотели жениться, уступили место тем, кто желал одной любви.
Одним из первых на этом поприще был Ороондат, [142] которому соседство позволяло видеться с Арделизой без особых помех, поэтому их связь долго оставалась незамеченной, и я полагаю, что их любовь по-прежнему была бы тайной, когда бы у Ороондата не нашлось соперников. Но стоило Кандолю[143] увлечься Арделизой, он быстро обнаружил то, что пребывало скрытым за отсутствием заинтересованных глаз. Нельзя сказать, что Леникс не любил жену, однако мужья приручаются, а любовники — никогда, и ревность последних делает их куда более зоркими. Вот почему Кандоль заметил то, что Леникс не замечал и не заметит до скончания времен, ибо по сей день не знает, что Ороондат был влюблен в его жену.
У Ороондата были черные глаза, хорошо очерченный нос, маленький рот, удлиненное лицо и длинные густые иссиня-черные волосы. Он был хорошо сложен и достаточно умен. Не принадлежа к тем, кто блистает в светской беседе, он обладал здравым смыслом и был человеком чести, хотя всегда испытывал отвращение к военному делу. И вот, увлекшись Арделизой, он стал искать способ открыть ей свои чувства. Соседство их домов в Париже неоднократно давало ему возможность сделать это, но ее легкомыслие, которое появлялось во всем, заставляло его колебаться. Наконец, оказавшись в один прекрасный день с ней с глазу на глаз, он сказал: «Сударыня, если бы я стремился только к тому, чтобы вы узнали о моей любви, о моих чувствах достаточно поведали бы мои взгляды и моя преданность, но, поскольку необходимо, чтобы вы, сударыня, когда-нибудь ответили на мою страсть, я должен открыть ее вам и уверить вас, что я решился любить вас всю жизнь, независимо от того, будете ли вы меня любить или нет».
Когда Ороондат закончил говорить, Арделиза отвечала: «Я вам признаюсь, сударь, что уже давно знаю о вашей любви, и, хотя вы мне о ней не говорили ранее, я всегда замечала, что вы делали ради меня с самого дня нашего знакомства, и это должно послужить мне оправданием в ваших глазах, когда я признаюсь, что люблю вас. Пусть это не лишит меня вашего уважения, ибо я столько времени ведала, что вы вздыхаете по мне, и если меня можно осудить за недостаточный отпор, то это должно отнести скорее на счет ваших заслуг, нежели на счет моей уступчивости».
После этого нетрудно догадаться, что кавалер вскоре получил безусловное доказательство благосклонности дамы, и четыре или пять месяцев с обеих сторон все шло тихо и без задоринки. Однако красота Арделизы слишком гремела в свете, а обладание ею обещало слишком много славы тому, кто его добьется, чтобы Ороондат наслаждался покоем: и Кандоль, один из самых видных придворных кавалеров, решил, что это украсит его репутацию. И вот, увидев ее через три месяца после завершения кампании, он тут же принял это решение, а страсть, которой он затем к ней воспылал, показала, что любовь не всегда бывает делом случая или рождается по велению неба.
У Кандоля были красивые голубые глаза, неправильные черты лица и большой, неприятный рот, но при этом прекрасные зубы и густые золотистые волосы. Он был восхитительно сложен и превосходно одевался, самые утонченные люди стремились ему подражать. Благородство облика сочеталось в нем с одним из высших рангов королевства: как сказали бы теперь, он был герцогом и пэром. Он был правителем жерговинцев и, совместно со своим отцом, Бернаром Английским, бургундцев, а кроме того, полковником инфантерии.[144] Его гений был посредствен, но в начале своих любовных похождений он был связан с одной весьма умной дамой, и, поскольку их привязанность была сильна, она столько трудилась над тем, чтобы его образовать, а он так стремился угодить красавице, что искусство взяло верх над природой и он сделался более воспитанным человеком, нежели сотни более умных людей.
Так вот, вернувшись от испанских пределов, где он командовал армией под началом принца как близкий родственник короля, он начал с неусыпным рвением выказывать свои чувства к Арделизе, считая, что она еще никого не любила; но убедившись, что его страсть остается безответной, он решился открыто объясниться, чтобы она не могла укрываться за мнимым непониманием. Однако, относясь к женщинам с уважением, граничившим с застенчивостью, он предпочел объясниться с Арделизой письменно, а не в разговоре. Вот что он ей написал.
Письмо
Сударыня, меня приводит в отчаяние, что все объяснения в любви схожи друг с другом, тогда как чувства столь различны. Я чувствую, что люблю вас более, чем свойственно любить, и не могу говорить об этом так же, как многие о том твердят. А по сему пусть вас не занимают слова, они слабы и могут быть обманчивы, подумайте о том, как я стремлюсь вести себя по отношению к вам, и когда мои поступки свидетельствуют, что так может вести себя лишь сраженный вами, то доверьтесь этому свидетельству и поверьте, что, любя вас столь сильно, даже не будучи любимым, когда я получу повод для признательности, то буду вас боготворить.
Получив это письмо, Арделиза незамедлительно ответила.
Письмо
Если что-то не позволяет мне довериться вашим любовным признаниям, то это отнюдь не их нежелательность, а ваше красноречие. Истинная страсть изъясняется более невнятно, вы же — как умный человек, отнюдь не влюбленный, но стремящийся уверить, что любит. Судите сами, коли так кажется мне, которая умирает от желания, чтобы ваши слова оказались правдой, то что скажут равнодушные? Они безусловно сочтут, что вы хотите надо мной посмеяться. Но я не люблю делать слишком поспешные выводы и потому принимаю ваше предложение и буду судить о ваших чувствах по вашему поведению.
Это письмо, которое знатоки сочли бы весьма нежным, Кандолю таковым не показалось. Будучи крайне тщеславен, он ожидал более откровенных нежностей. А посему действовал менее настойчиво, чем того желала Арделиза, и, наперекор ей, хранил ее добродетель. Это могло продолжаться довольно долго, если бы, отбросив скромность, красавица не пошла ему навстречу столь решительно, что он, ничем не рискуя, мог себе позволить с ней все, что угодно.
Достигнув цели, Кандоль вскоре заметил ее отношения с Ороондатом: поклонник обычно смотрит лишь перед собой, но счастливый любовник начинает озираться по сторонам, и ему не требуется много времени, чтобы обнаружить соперника. Кандоль возроптал. Возлюбленная назвала его тираном и сумасшедшим и повела себя так, что он просил прощения и почел за счастье ее умилостивить. Но мир оказался непродолжительным. Упреки Ороондата были столь же безуспешны, но, видя, что от соперника не избавиться, он втайне предупредил Леникса, который запретил Арделизе принимать Кандоля, тем самым лишь усилив их чувство, и любовники, чье желание видеться удвоилось вследствие запрета, нашли более удобные способы для свиданий.
Меж тем поле битвы осталось за Ороондатом, и Кандоль возобновил жалобы, вновь попытавшись добиться его изгнания, но тщетно. Арделиза отвечала, что он думает только о себе, что он хочет ее погубить, ибо если она откажет от дома Ороондату, то ее муж и весь свет решат, что им пожертвовали ради другого. Хотя Кандоль был милее Арделизе, чем Ороондат, она не хотела его потерять не только потому, что один плюс один будет два, но, как всякая кокетка, она считала, что немного ревности крепче привязывает возлюбленного, нежели спокойствие.
В скором времени Криспен, [145] человек уже немолодой и низкого происхождения, но весьма богатый, увлекся Арделизой и, узнав, что она неравнодушна к игре, счел, что деньги заменят ему прочие достоинства, понадеявшись на успех той суммы, которую он решил ей предложить. Он был достаточно вхож в дом, чтобы взять на себя смелость прямо объясниться, но не решился обратить к ней речь, последствия которой в случае дурного приема могли быть для него весьма неприглядны. Тогда он задумал ей написать следующее письмо.
Письмо
Сударыня, за свою жизнь я любил многих, но никого так сильно, как вас. В этом меня убеждает то, что я никогда не предлагал своим возлюбленным, чтобы добиться их благосклонности, больше ста пистолей, а за вашу заплатил бы две тысячи. Я умоляю вас подумать об этом и о том, что деньги нынче редки.
Это письмо вручила Арделизе горничная Кинетта, имевшая полное ее доверие. И красавица незамедлительно отвечала.
Письмо
Беседы с вами уже давно заставили меня отметить ваш ум, но я не знала, что вы еще и превосходно пишете. Мне не приходилось видеть столь прекрасных писем, как ваше, и я буду счастлива часто получать подобные. А покамест буду рада видеть вас сегодня вечером в шесть.
Криспен не замедлил явиться на свидание в подобающем случаю наряде и во всеоружии. Кинетта провела его в кабинет своей госпожи и оставила их одних. «Вот, сударыня, — обратился он к ней, указав на свою ношу, — это нынче не часто найдешь: не желаете ли получить?» — «О да, — отвечала Арделиза, — это нас позабавит». И вот, пересчитав две тысячи пистолей, [146] о которых меж ними было договорено, она заперла их в шкатулке и, расположившись рядом с ним на кушетке, сказала: «Никто в Галлии, сударь, не пишет так, как вы; и я говорю это не для того, чтобы блеснуть остроумием; мне известно мало людей, которые на это способны. Обычно нам твердят одни глупости, а когда решают написать любовное послание, то считают необходимым уверять в своем обожании и что не станут жить, если их любовь останется безответной, если же мы смилостивимся над ними, то они будут служить нам всю жизнь (как будто кому-то нужно их служение)». — «Я счастлив, сударыня, — отвечал Криспен, — что мои письма вам по нраву Тут нечего церемониться, письма мне ничего не стоят». — «А вот в это трудно поверить, — прервала она его, — или же ваши капиталы неисчерпаемы».
После подобных речей, дважды или трижды прерванных любовью, они условились о следующей встрече, а затем — еще об одной, так что две тысячи пистолей обеспечили Криспену три свидания. Но на четвертый раз Арделиза, желая завладеть и любовью, и состоянием почтенного горожанина, попросила его снова начать посылать ей галантные письма, подобные первому. Поняв, каковы будут для него последствия, Криспен обрушил на нее град тщетных упреков, но смог добиться только обещания, что ему не откажут от дома и что по ее приглашению он сможет приходить, когда у нее будут играть. Арделиза считала, что возможность видеть ее не даст остыть его желаниям и, быть может, он окажется столь безумен, чтобы стремиться удовлетворить их любой ценой. Однако он был довольно влюблен, чтобы продолжать ее видеть, но не довольно для того, чтобы так дорого платить за ее благосклонность.
Вот как обстояли дела, и то ли обида сделала Криспена болтливым, то ли его частые визиты и те суммы, которые проигрывала Арделиза, заставили Кандоля задуматься, но, отправляясь к испанским пределам, он просил возлюбленную не принимать более Криспена, чьи визиты вредили ее репутации. Она дала обещание и не сдержала его, тогда Кандоль, осведомленный теми, кто сообщал ему парижские новости, что посещения Криспена сделались еще более частыми, написал Арделизе следующее письмо.
Письмо
Сударыня, при нашем расставании я просил вас более не принимать этого каналью Криспена. Вы обещали, однако он продолжает торчать у вас. Не совестно ль вам заставлять меня опасаться презренного горожанина, который может внушать страх только тем, что вы его ободряете? Если вы этого не стыдитесь, я стыжусь за вас и за себя и, не желая навлечь на себя тот позор, которым вы хотите меня покрыть, я превозмогу свою любовь и буду видеть в вас лишь бесчестную женщину.
Арделиза была немало удивлена столь резким письмом, но, поскольку упреки ее совести были куда более суровыми, чем упреки возлюбленного, она не стала искать оправданий и ответила следующим образом.
Письмо
Мое поведение в прошлом было столь нелепо, что я отчаялась бы вернуть вашу любовь, если бы не могла спасти будущее, обещая вам, что отныне оно будет более достойным. Но я клянусь самым дорогим, что у меня есть, — вами, что ноги Криспена больше не будет в моем доме и что Ороондат, принимать которого меня заставляет муж, будет являться столь редко, что вы поймете, что вы для меня — все.
Это письмо совершенно успокоило Кандоля. Он решил, что не будет подозревать возлюбленную, ведь видимость бывает обманчивой. Ударившись в другую крайность, он вполне положился на нее и одобрял все, чтобы она ни делала на протяжении шести месяцев кокетства и измен, продолжая принимать Криспена и дарить благосклонность Ороондату, о чем Кандолю писали со всех сторон, однако он полагал это происками отца и его друзей, желавших отвадить его от этой любви, ибо они считали, что эта страсть мешает ему подумать о браке.
Итак, он вернулся из армии еще более влюбленным. И Арделиза, которой Кандоль после столь долгого отсутствия казался новым возлюбленным, на глазах всего двора удвоила свой пыл. Влюбленный же видел в сумасшедших выходках, на которые она пускалась, чтобы с ним встретиться, свидетельство страсти, с которой она не в силах справляться, хотя они свидетельствовали лишь о присущем ей расстройстве рассудка. Когда ради него она совершала очередную глупость и та получала огласку, он уверялся в глубине ее чувства, меж тем как это было обычное безумие. Он до такой степени был убежден в ее страсти, что, умирая от любви, боялся, что недостаточно ее любит.
Как легко догадаться, поведение любовников имело большую огласку. У обоих были недоброжелатели, его положение и ее красота наплодили немало завистников. Даже если бы все вокруг были расположены им помогать, этому воспрепятствовала бы необдуманность их поступков, а все, напротив, хотели им навредить. Они назначали друг другу свидания где угодно, ни с кем о том не договариваясь. Иногда они встречались в одном доме, снятом Кандолем от имени некоей дамы, жившей в деревне, которую Арделиза якобы время от времени навещала. Чаще же всего они виделись по ночам у Арделизы. Но у коварной хватало времени не только на эти свидания. Расставшись с Кандолем, она отправлялась завоевывать новых поклонников или, на худой конец, из страха, что не сможет удержать Кандоля, тысячью ласк успокаивала Ороондата.
Так пролетела зима, и Кандоль даже не подозревал, какие дурные шутки с ним играет Арделиза. Он простился с ней и вернулся в армию, будучи совершенно ею доволен. Однако не прошло и двух месяцев, как его радости были омрачены полученными вестями. Ближайшие друзья, примечавшие поведение его возлюбленной, не решались с ним об этом заговорить, столь велико было его увлечение этой изменницей. Но так как со времени его отъезда произошло нечто из ряда вон выходящее, к тому же им не приходилось более опасаться, что один ее вид разрушит все подозрения, они договорились разом — но так, чтобы это единогласие не выглядело намеренным, — известить его о ее проделках.
И вот каждый из них по отдельности написал Кандолю, что Кастийант[147] оказывает много внимания Арделизе, и что его ухаживания заставляют предположить не только намерение, но полный успех, и что, даже если Арделиза невинна, у него есть все основания быть недовольным, видя ее окруженной подозрениями. Пока эти вести идут, чтобы пробудить исступление в душе Кандоля, будет уместно рассказать о начале, развитии и завершении страсти Кастийанта.
Кастийант был хорошо сложен, имел приятное лицо, опрятную наружность и ничтожный ум, а рождением и родом занятий был сходен с Криспеном и столь же богат. Он был достаточно ладен, и когда бы носил шпагу, то можно было бы предположить, что успехом у женщин он обязан только своим достоинствам, однако род его занятий и богатства вызывали подозрение, что все любимые им женщины были корыстны; поэтому, когда стала очевидна его любовь к Арделизе, никто не сомневался, что ответное чувство вызвано его деньгами.
Король, проводивший все лето у наших рубежей, зимой обычно возвращался в Париж, где его ум поочередно занимали разные светские увеселения: то бильярд, то игра в мяч, то охота, то комедии или танцы. В тот момент речь шла о лотереях, которые были до того в моде, что их устраивали все — одни денежные, другие из драгоценностей и предметов обстановки. Арделиза хотела устроить лотерею последнего рода, но если в подобных случаях сперва собирали деньги, а затем жребий решал долю каждого, то из десяти тысяч экю, [148] вложенных в эту лотерею, было распределено только пять, причем по выбору Арделизы.
Когда она в первый раз заговорила об устройстве лотереи, среди присутствовавших был Кастийант, и, спросив у каждого, кто сколько может дать, предложила ему внести тысячу франков; он ей ответил, что охотно это сделает и, более того, обещает собрать со своих друзей до девяти тысяч ливров. Некоторое время спустя все разошлись, за исключением Кастийанта. «Не знаю, сударыня, — сказал он ей, — все ли еще вам неведома моя страсть, ибо я давно вас люблю и уже делал крупные авансы, но, вручая себя вам, я прошу вас подтвердить наш договор; заверьте его для меня, умоляю, и заметьте, что в придачу к тысяче франков, которые вы с меня взыскали, я даю еще девять, чтобы заслужить вашу благосклонность; ибо о друзьях я сказал лишь затем, чтобы обмануть присутствовавших». — «Признаюсь, сударь, — отвечала она, — вплоть до сегодняшнего дня я не считала вас влюбленным. Не то чтобы я не замечала некоторые ваши выражения, которые наводили меня на подозрения, но мне столь неприятны все эти гримасы, а вздохи и томность, на мой вкус, столь жалкий товар и столь несущественные знаки любви, что, когда бы ваше поведение со мной не стало более достойным, все ваши старания были бы попусту. Что до благодарности, то теперь могу вас уверить, что весьма недалек от любви тот, кто имеет твердые доказательства любви к себе».
Кастийанту этого было довольно, и он вообразил, что настал его час. Он бросился к ногам Арделизы, но когда попытался воспользоваться этой смиренной позой для более решительных поползновений — «О нет, — сказала она, — так не пойдет. Разве слыхано, чтобы женщины сами делали авансы? Вот представьте мне подлинные свидетельства вашей страсти, и я не буду неблагодарна». Кастийант понял, что у нее товар не выдается без денег, и сказал, что у него с собой двести пистолей, которые, если ей будет угодно, внесет в счет обещанного. Они были приняты. «Если вы соблаговолите, — сказал он, — даровать мне часть вашей благосклонности на этот взнос, я буду вам безмерно благодарен, если же вам угодно сперва получить всю сумму, то позвольте мне расписку на то, что только что было вам вручено». Она предпочла поцелуй расписке, и мгновение спустя Кастийант ушел, заверив ее, что завтра доставит остаток.
Что он и сделал. Как только деньги были пересчитаны, она сдержала данное слово, настолько честно, насколько это возможно при таком соглашении. Хотя Кастийант вошел через ту же дверь, что и Криспен, с ним она обходилась лучше, то ли надеясь извлечь большие выгоды, то ли потому, что он обладал некими скрытыми достоинствами, с лихвой заменявшими щедрость. Она не требовала от него новых доказательств любви перед тем, как оказать новые милости; десять тысяч ливров обеспечили ему три месяца любви, то есть такого обращения, как если бы он был любим.
Меж тем Кандоль получил письма, в которых ему сообщали о новых проделках его возлюбленной, и написал ей.
Письмо
Когда бы вы могли оправдаться передо мной во всем том, в чем вас обвиняют, я все равно более не решился бы вас любить. Даже если вы просто несчастны, вы слишком тому поспособствовали, чтобы мне не отречься от любви к вам. Обычно влюбленные рады слышать имена своих возлюбленных; я же, слыша или читая ваше имя, трепещу. Мне мнится, что сейчас мне поведают о вас еще более худшую историю, нежели предыдущая. Меж тем, чтобы вас презирать, мне больше ничего не нужно знать. Вы ничего не можете добавить к вашему позору. Будьте уверены во всех выражениях вражды, которых заслуживает бесчестная женщина от человека чести, сильно ее любившего. Я не буду входить с вами в подробности, ибо не ищу ваших оправданий, вы передо мной изобличены, и мне теперь вовек не вернуться к прежним чувствам.
Кандоль написал это перед тем, как отправиться ко двору. Он только что проиграл сражение, что усилило горечь его письма. Он не мог вынести поражения на всех фронтах: в военных несчастьях его утешило бы счастье в любви. Он пустился в путь в страшной печали. В другое время он путешествовал бы на почтовых, но как будто предчувствуя злую судьбу, он ехал очень медленно. В дороге Кандоль почувствовал себя нездоровым. Во Вьене ему стало плохо, тем не менее, находясь всего в одном дне пути от Лиона, он хотел туда добраться, зная, что там за ним будут лучше ухаживать. Тяготы военной кампании его подкосили, а досада добила, и ни молодость, ни помощь лекарей не смогли спасти ему жизнь.
Но даже среди тяжких страданий он не мог забыть о неверности Арделизы и накануне кончины написал ей письмо.
Письмо
Когда бы, умирая, я мог сохранить уважение к вам, мне было бы горько умирать, но, более его не имея, мне не жаль жизни. Я любил ее, когда мог тихо проводить дни рядом с вами. Раз мои скромные заслуги и величайшая в мире страсть не позволили мне достичь этой цели, у меня больше нет привязанностей и я знаю, что смерть избавит меня от многих страданий. Когда бы вам не была чужда чувствительность, вы бы не могли видеть мое состояние, не задохнувшись от боли. Но, слава Богу, природа обо всем позаботилась, и раз вы были способны каждодневно повергать в отчаяние человека, любившего вас больше всего на свете, вы сможете остаться равнодушной при виде моей смерти.
Предшествующее письмо, которое Кандоль написал Арделизе по поводу Кастийанта, заставило ее до смерти страшиться его возвращения, и мне думается, что она желала никогда более его не видеть. Меж тем слух о том, что он при смерти, поверг ее в отчаяние, а весть о его кончине, принесенная Фезик, [149] с ней дружившей, едва ее не убила. Она некоторое время оставалась без чувств и пришла в себя лишь при имени Миреля, который, как ей доложили, хотел с ней поговорить. Мирель был главным наперсником Кандоля, он привез Арделизе письмо, написанное его господином перед смертью, и шкатулку, в которой были заперты и письма, и все прочие знаки любви, которые она ему дарила.
Почитав последнее письмо, она принялась рыдать еще сильней, нежели ранее. Графиня, которая не покидала ее в столь жалостном состоянии, чтобы отвлечь ее от страданий, открыла шкатулку, где сверху они увидели платок со следами крови в нескольких местах. «Боже, возможно ли, — вскричала Арделиза, — я вижу это и все еще жива! Как! Несчастный, которому было дано так много более существенного, сохранил даже этот платок! Есть ли в мире что-нибудь более трогательное!» И тут она рассказала Фезик, как несколько лет назад она при нем порезалась за рукоделием и как он попросил у нее платок, которым она вытерла руку, и с тех пор его хранил. Еще они там нашли браслеты, кошельки, локоны и портреты Арделизы, а потом письма, и Фезик попросила у подруги позволения прочитать некоторые из них. Арделиза согласилась, и Фезик раскрыла первым это.
Письмо
Здесь говорят, вы потерпели поражение. Возможно, это ложный слух, пущенный вашими завистниками, но может быть и правда. В этой неизвестности я молю Господа лишь о жизни своего возлюбленного и готова пожертвовать армией. Да, Господи, не только армией, но государством и целым миром. С тех пор как мне сообщили эту новость, ничего не сказав о вас, я делаю по двадцать визитов в день. Я заговариваю о войне в надежде узнать что-нибудь утешительное. Везде мне твердят, что вы потерпели поражение, но ничего не говорят собственно о вас. Я не решаюсь спрашивать, что с вами сталось, не потому, что тем самым обнаружу свою любовь к вам; я слишком встревожена, чтобы заботиться о приличиях, но я боюсь узнать больше, чем хотела бы. Вот каково мое состояние теперь и вплоть до прибытия первого очередного курьера, если у меня достанет сил его дождаться. Мое беспокойство умножает то, что вы многократно обещали посылать мне чрезвычайных курьеров после каждого чрезвычайного происшествия, и мне кажется дурным знаком не иметь от вас известий после этого.
В то время как Фезик с трудом читала это растрогавшее ее письмо, Арделиза проливала слезы. Когда оно было дочитано, обе долго молчали. «На сегодня хватит чтения, — сказала Фезик, — ведь если это причиняет боль мне, то вам еще больше». — «Нет, — отвечала Арделиза, — продолжайте, я вас прошу. Мне это приносит не только слезы, но и воспоминания о нем». Тогда Фезик открыла следующее письмо и нашла в нем вот что.
Письмо
Неужто мне из-за вас вовек не будет покоя? Вечно ли мне страшиться вас потерять, либо из-за вашей гибели, либо из-за вашей неверности? Всю кампанию я мучаюсь жестоким беспокойством; каждый вражеский выстрел заставляет меня думать, что он предназначен вам. Я узнаю, что вы проиграли сражение, и не знаю, что с вами сталось, и когда, испытав тысячу смертельных ужасов, мне становится известно, что моя удача вас уберегла — ибо вы должны хорошо понимать, что обязаны этим не собственному везению, — мне говорят, что вы в Авиньоне утешаетесь от невзгод в объятиях Армиды.[150] Если это правда, то мое несчастье, что, потеряв победу, вы не потеряли в сражении и жизнь. Да, мой дорогой, я предпочла бы видеть вас мертвым, чем неверным, ибо тогда мне было бы сладко верить, что вы меня любили до самого конца; теперь же в моем сердце лишь ярость быть покинутой ради другой, которая не любит вас так, как я.
«Что я узнаю, — сказала Фезик Мирелю. — Кандоль любил Армиду?» — «Нет, сударыня, — отвечал Мирель, — по дороге из армии он провел два дня в Авиньоне, чтобы отдохнуть, и там дважды виделся с Армидой. Судите сами, можно ли это назвать любовью. Но, сударыня, — обратился он к Арделизе, — кто вас об этом известил?» — «Увы, — отвечала она, — до меня дошла общая молва об этой страсти и еще о том, что она отчасти послужила причиной его смерти: здесь это у всех на устах». И она принялась рыдать пуще прежнего; Фезик, старавшаяся отвлечь ее от горя, спросила, знаком ли ей почерк на конверте следующего письма. «Да, — ответила Арделиза, — это письмо моего дворецкого. Это должно быть любопытно; посмотрим, что он пишет». И она развернула его письмо.
Письмо
Что бы там госпожа ни сообщала вам, дом полон норманнов. Лучше бы эти черти оставались в своем краю. Меня это бесит, Монсеньор, как и тысяча других вещей, которые я вижу и которые не буду подробно описывать, надеясь, что вы скоро будете здесь и сами наведете порядок.
Под норманнами дворецкий разумел Ороондата и его братьев, Танкреда, шевалье Эдмона и Тюрпена, которые усердно посещали Арделизу.[151]
Простодушие, с которым этот бедняга сообщал новости Кандолю, так поразило безрассудную даму, что, поглядев на выражение лица Фезик, у которой не было особых причин горевать, она принялась хохотать во все горло. Фезик, видя, что она смеется, тоже засмеялась. И лишь бедный Мирель, не в силах выносить столь неуместное веселье, удвоил рыдания и выбежал из кабинета.
Два или три дня спустя Арделиза утешилась, но Фезик и другие подруги посоветовали ей продолжать плакать ради сохранения чести, говоря, что ее связь с Кандолем была слишком публичной, чтобы притворствовать. Она сдерживалась еще три или четыре дня, а затем вернулась к обычному поведению. Этому способствовал карнавал, который позволил ей следовать своим склонностям, а кроме того, задобрить мужа, который подозревал о ее связи с Кандолем и почитал счастьем от него избавиться. Итак, чтобы показать ему, что на сердце у нее ничего нет, она четыре или пять раз отправлялась с ним на маскарады, а чтобы вновь завоевать его доверие своей искренностью, она призналась ему не только в своей любви к Кандолю, не только в том, что тому были дарованы все знаки ее благосклонности, но и рассказала подробности их наслаждений. «Он не любил вас, сударыня, — сказал ее супруг (желая оскорбить слабость бедного усопшего), — он слишком мало старался для такой красавицы, как вы».
Не прошло и недели, как она встала с постели, к которой была прикована четыре месяца из-за серьезной болезни ноги, но тут она решила участвовать в маскарадах, и это желание ускорило ее выздоровление больше прочих снадобий, столь долго ей предписанных. Итак, она четыре или пять раз появлялась в маскарадном костюме вместе со своим супругом, однако это все были небольшие и неприметные маскарады, а она желала сделать нечто великое и громогласное, о чем бы все говорили, а потому она и еще трое нарядились капуцинами, а двое ее друзей — монахинями ордена Святой Клары. Она, ее муж, Танкред и Тюрпен были капуцинами, а англичанин Грассар и Резильи — монашками. В ночь на Марди-гра эта компания побывала на всех ассамблеях. Узнав о таком маскараде, король и королева-мать были в сильном гневе на Арделизу и публично заявили, что они отомстят за оскорбление, нанесенное религии.[152] Но со временем Их Величеств удалось смягчить, и все угрозы закончились лишь потерей уважения к Арделизе.
Пока все это происходило, Кастийант мирно наслаждался своей возлюбленной, но тут она устроила розыгрыш лотереи. Я уже говорил, что из полученных ею десяти тысяч экю она пустила в дело не более половины, и большая часть лотереи выпала на долю пресловутых капуцинов и монахинь и прочих членов ее клики. Самый ценный лот — большая серебряная жаровня — достался принцу Самилькару, [153] которому предстоит играть главную роль в этом спектакле. А Кастийант, несмотря на все оказанные ему милости, получил лишь малоценную безделушку. Шум, поднявшийся из-за нечестности этой лотереи, поверг его в печаль, ибо с ним обошлись не лучше, чем с людьми вовсе посторонними. Он посетовал на это Арделизе. Она, не желая признаваться в жульничестве, отвечала на его жалобы весьма резко, так что перед тем, как расстаться, они засыпали друг друга упреками, один по поводу своих денег, другая по поводу подаренной ему благосклонности. В заключение Арделиза отказала ему от дома, а Кастийант сказал, что повинуется ей с легким сердцем, ибо наложенный запрет убережет его от трудов и расходов.
Меж тем ее связь с Ороондатом все продолжалась: то ли он не был в нее влюблен, то ли почитал за счастье пользоваться ее благосклонностью, чего бы это ни стоило. Он не слишком докучал ей упреками по поводу ее поведения; она же всегда держала его про запас, считая, что лучше он, чем ничего. Вскоре после разрыва с Кастийантом друзья Самилькара, куда менее сонные, нежели он, посоветовали ему поухаживать за Арделизой, ибо он достиг того возраста, когда о нем должны были говорить, а женщины, как оружие, составляют репутацию; к тому же Арделиза, будучи одной из красивейших придворных дам, могла не только принести своему возлюбленному величайшие наслаждения, но и оказать честь своей любовью, и как бы там ни было место Кандоля чего-нибудь да стоило.
Всеми этими соображениями они заставили Самилькара сделаться завсегдатаем у Арделизы, но из-за того, что по натуре он был не уверен в себе, его клика, тоже в нем не уверенная, рассудила, что его нельзя оставлять на собственное усмотрение, и постановила приставить к нему Резильи, [154] дабы его направлять и помогать ему во всех обстоятельствах. Самилькар усердно ухаживал за Арделизой на протяжении двух месяцев, но о любви рассуждал лишь в самом общем смысле. Меж тем Резильи он сказал, что более шести недель назад признался ей в любви, и даже изобрел довольно резкий ответ, будто бы ею данный, дабы Резильи не осуждал его за то, что он все еще не пользуется ее благосклонностью; тогда сей наставник, дабы помочь своему подопечному, сам заговорил с Арделизой и сказал ей: «Сударыня, мне ведомо, что нет ничего свободней любви, и, если сердце не чувствует склонности, его не убедить словами, но все же позвольте мне вам заметить, что когда дама так молода и, можно сказать, еще на выданье, я не понимаю, зачем ей отвергать влюбленного в нее благородного юношу, который, как мне кажется, ничем не хуже прочих придворных: я говорю о бедном Самилькаре. Он безумно в вас влюблен, зачем же вы так жестоки? А ежели вы чувствуете, что не сможете его полюбить, то зачем тешите его надеждой? Любите его или избавьтесь от него». — «Мне было неведомо, — прервала его Арделиза, — что теперь мужчины рассчитывают на то, что мы должны дарить им любовь, не ожидая их мольбы, ибо до меня доходили слухи, что раньше им надлежало сделать первый шаг. Я знаю, что в последнее время представления о галантности стали весьма странными, но я не знала, что они настолько от нее отказались, чтобы ожидать авансов от дам». — «Как, сударыня, — ответил Резильи, — Самилькар не говорил вам, что любит вас?» — «Нет, сударь, — сказала она, — я узнала это от вас; при этом нельзя сказать, чтобы его усердие не заставило меня подозревать его намерения, но вы знаете, до объяснения мы ко всему глухи». — «Сударыня, — снова заговорил Резильи, — вы не столь виноваты, как я думал. Молодость Самилькара делает его робким и заставляет совершать промахи, но она же позволяет извинить его ошибки в обращении с дамами. В его возрасте еще не знают своей вины, для юноши в двадцать два года всегда есть надежда на милосердие». — «Согласна, — ответила она, — юноша в двадцать два года пробуждает жалость, а не гнев, но я также желала бы, чтобы он был почтителен». — «Что вы называете почтением, сударыня? — возразил Резильи. — То, что он не решается признаться в любви? Это чистая глупость, даже по отношению к даме, которая этой любви не желает, ибо в таком случае можно не терять время зря и выяснить, на что рассчитывать. Такое почтение, сударыня, на руку лишь с тем, к кому вы не испытываете ни малейшей склонности, ибо, если кавалеры, чья любовь была бы вам желанна, будут слишком почтительны, вы окажетесь в затруднительном положении».
Едва он закончил говорить, в комнату вошли, и некоторое время спустя он откланялся и отправился на поиски Самилькара, с которого, осыпав его тысячью упреков в робости, взял слово, что до конца дня тот признается в любви своей возлюбленной. Он даже сказал ему часть того, что следовало ей сказать, но в следующий момент Самилькар уже ничего не мог вспомнить; и вот, воодушевив его настолько, насколько можно, он отправил его исполнять эту великую миссию. Меж тем Самилькар испытывал странное беспокойство. То ему казалось, что карета едет слишком быстро, то он надеялся не застать Арделизу дома или что она будет не одна. Иными словами, он страшился именно того, чего всем сердцем желает каждый благородный человек. Ему не повезло застать свою возлюбленную дома и застать ее одну. Он приблизился к ней с таким смущением на лице, что если бы она уже не знала о его любви от Резильи, то легко догадалась бы по его виду. Это смущение убедило ее более, нежели все, что он мог ей сказать; вот почему в любви дуракам больше счастья, нежели людям бойким.[155]
Сев, Самилькар первым делом надел на голову шляпу, до такой степени он был сам не свой. Через секунду, заметив сделанную глупость, он снял шляпу и перчатки, затем снова натянул одну, не говоря при этом ни слова. «Что такое, — спросила Арделиза, — мне кажется, у вас что-то на уме». — «А вы не догадываетесь, сударыня?» — ответствовал Самилькар. «Отнюдь — сказала она, — я ничего не понимаю. Да и как могу я понять то, что не говорится, когда мне стоит немалых трудов понять, что говорится?» — «Я хочу вам сказать, — отвечал Самилькар, глупо разнежившись, — что я вас люблю». — «Вот уж, — сказала она, — много шума из-за пустяка. Не вижу, что сложного в том, чтобы признаться в любви; гораздо сложней действительно любить». — «О, сударыня, — прервал он ее, — мне куда тяжелей это сказать, чем сделать. Мне было бы легко вас любить и столь тяжело вас не любить, что я никогда бы не смог себя заставить вам подчиниться, сколько бы вы ни приказывали». — «Сударь, — ответила Арделиза, покраснев, — мне нечего вам приказать».
Любой другой понял бы утонченный ответ Арделизы, позволившей себя любить, но Самилькар был слишком неповоротлив умом. Такие тонкости оборачивались с ним потерей времени. «Как, сударыня, — сказал он, — я столь мало вами уважаем, что вы не окажете мне чести что-нибудь приказать?» — «Ну что же, — сказала она, — удовлетворит ли вас, если я прикажу вам более меня не любить?» — «Нет, сударыня», — оборвал он ее. «Чего же вы хотите?» — «Любить вас всю жизнь и добиться того, чтобы вы меня любили». — «Что же, — ответила Арделиза, — любите меня, сколько вздумается, и надейтесь». Для другого, более торопливого поклонника этого было бы довольно, чтобы тут же добиться желаемого. Но что бы Арделиза ни предпринимала, он протомил ее еще два месяца, а когда наконец сдался, то заслуга принадлежала ей.
Эта новая связь не заставила ее порвать с Ороондатом. Конечно, свежий возлюбленный всегда бывал более любим, но не настолько, чтобы прогнать Ороондата, бывшего для нее вторым мужем. Незадолго до того, как Кастийант порвал с Арделизой, в нее влюбился шевалье д’Эгремон;[156] а поскольку фигура это весьма необычная, здесь будет кстати его описать.
У шевалье были смеющиеся глаза, точеный нос, красивый рот и ямочка на подбородке, придававшая приятность всему лицу; его облик отличался некоей утонченностью, ладностью, когда бы не сгорбленная спина, и тонким и галантным умом, хотя выражение лица и интонации нередко придавали значимость тому, что он говорил и что в устах другого не прозвучало бы. Один из признаков этого — писал он из рук вон плохо, а ведь писал он так же, как говорил. Нет нужды повторять, соперник всегда стеснителен, но шевалье в этом качестве был столь неудобен, что даме лучше было иметь на руках четырех кавалеров сразу, нежели его одного. Он был расточительно щедр, а потому ни его возлюбленная, ни соперники не могли рассчитывать на верность собственных слуг. В остальном — милейший человек на свете.
Он уже двенадцать лет любил Фезик, женщину столь же необычную, как и он сам, чьи достоинства были так же исключительны, как его недобрые качества. Но из этих двенадцати лет пять она провела в изгнании, будучи приближенной принцессы Леоноры, дочери Горнана Галльского, к которой судьба была неблагосклонна из-за ее добродетели и великой отваги, не позволявшей снизойти до низостей двора;[157] во время их отсутствия шевалье не слишком упражнялся в постоянстве, и сколь ни была мила Фезик, его неверности заслуживают некоторого оправдания, ибо она никогда не дарила ему своей благосклонности.
Меж тем он умел возбудить ревность, в том числе графа де Вореля.[158] Однажды Ворель упрекал графиню Фезик в любви к шевалье; она ему отвечала, что он сошел с ума, если полагает ее способной полюбить величайшего плута на свете. «Что за нелепый резон, сударыня, вы приводите в свое оправдание! — возразил Ворель. — Как будто я не знаю, что по части плутовства вы ему дадите фору, и все же не могу перестать вас любить». Хотя шевалье влюблялся везде, где можно, тем не менее его наибольшей слабостью была Фезик, и стоило ему начать ее видеть немного чаще обычного, он забывал все прочие обещания и возвращался к ней.
И он был прав, ибо Фезик была восхитительна: карие блестящие глаза, точеный нос, приятный рот прекрасного оттенка; белый, ровный цвет чуть удлиненного лица — из всех женщин на свете лишь ее мог украсить острый подбородок. Волосы пепельного цвета; наряды всегда приличны и галантны, но главным украшением служила ее манера держаться, а не богатство одеяний. Ее ум отличался живостью и естественностью. Описать ее нрав невозможно, ибо помимо свойственной ее полу скромности она была способна перенять любой нрав. Обычно, размышляя над тем, что надо сделать, в конце рассуждаешь лучше, чем в начале. У Фезик все наоборот: ее размышления шли во вред поступкам. Не знаю, уверенность ли в собственных достоинствах побуждала ее не заботиться о поклонниках, но она никогда не давала себе труда их завоевывать. По правде говоря, если кто-нибудь появлялся сам по себе, то у нее не хватало ни твердости, чтобы от него избавиться, ни мягкости, чтобы его удержать. Он мог уйти или остаться, и то и другое на свой страх и риск.
Итак, как я сказал, шевалье не видел ее уже пять лет и, чтобы не терять зря времени, в ее отсутствие обзавелся множеством предметов поклонения, среди которых была герцогиня де Виктори, а три дня спустя — Лариса.[159] По этому поводу Проспер написал шевалье сонет:[160]
Как! Вы утешились, хоть громовым ударом Был поражен предмет, что вам казался мил! Любовник истинный и с неподдельным жаром Себя бы с ним в одной могиле схоронил. Как! Это сердце новый пламень охватил! Такой неверности прощенья нет недаром: Несчастный, что еще вчера белугой выл, Галантен ныне и напудрен, как пред балом! О, недостойный пыл, он отзовется вам: Кто изменил любви, найдет измену сам, Уже вас манит та, которой нету краше. Я знаю хорошо, кому несете вздох. Я сам ее люблю. И утешенье ваше Сегодня моего отчаянья залог.Некоторое время спустя после начала этой истории Фезик вернулась в Париж, и шевалье, которого подле Ларисы не удерживало ни малейшее проявление благосклонности, оставил ее и вернулся к Фезик. Но не в его натуре было долго пребывать в одном и том же состоянии, он заскучал и принялся ухаживать за Арделизой в то же время, что и Самилькар. И хотя добиться женской благосклонности у него было еще меньше шансов, чем у Самилькара, он был даже менее настойчив. Напротив, пока он мог шутить, пускать слухи, что влюблен, находить достаточно легковерных людей, которые, принимая все за чистую монету, потакали бы его тщеславию, а также чинить неприятности сопернику и затмевать его нарядом, он не слишком рвался добиться того, к чему все стремятся. Ему было тем более трудно склонить к себе даму, ибо он никогда не говорил всерьез и ей следовало обладать самым лестным о себе мнением, чтобы поверить, что он действительно в нее влюблен.
Как я уже сказал, никогда нелюбимый поклонник не приносил столько затруднений. У него под рукой всегда было три-четыре лакея без ливреи, прозванные им «серыми», которые следили за его соперниками и возлюбленными. Однажды Арделиза, поломав голову над тем, как без ведома шевалье д’Эгремона пойти на свидание с Самилькаром, решила сбить его со следа, отправившись туда пешком, в плаще, в сопровождении одной камеристки, и переправиться через Сену на лодке, а своих людей послала дожидаться в предместье Сен-Жермен. Но первый, кто ей подал руку, чтобы помочь сесть в лодку, был один из «серых» шевалье д’Эгремона; в его присутствии она вместе с камеристкой радовалась, что им удалось обмануть шевалье, и рассказала, как собиралась провести день. Переодетый лакей тут же отправился предупредить своего господина, и тот назавтра немало удивил Арделизу, пересказав подробности ее вчерашнего свидания.
Когда благородный человек получает уверенность, что его возлюбленная любит другого, он оставляет ее быстро и без шума, в особенности если она не давала ему обещаний; но шевалье был не таков. Когда он не мог внушить любовь, он был готов рискнуть жизнью, только бы его соперник и возлюбленная не знали покоя. Арделиза ни во что не ставила ухаживания шевалье, в которых тот был весьма усерден на протяжении трех месяцев, и оборачивала в шутку все его разговоры о страсти, тем более что не сомневалась, что Фезик он любил куда сильней, да и мил он ей был не больше черта; и тут-то поклонник решил, что письмо возымеет больше действия, чем все его речи. Поэтому он написал ей следующее.
Письмо
Возможно ли, моя богиня, что вам неведома любовь, зажженная в моем сердце вашими глазами, этими прекрасными светилами? И хотя с вами бесполезны все обычные признания, которые обращают к несравненным красавицам, ибо вам явственны безмолвные моления, я тысячу раз твердил вам, что люблю вас. Но вы лишь смеялись и ничего мне не отвечали. Добрый ли это знак, моя королева, или дурной? Я молю вас о разъяснении, чтобы самый страстно влюбленный из смертных продолжил поклоняться вам или перестал докучать.
Получив это письмо, Арделиза сей же час отнесла его Фезик, которая, как она полагала, участвовала в его написании; но намекать о своих догадках не стала. Они были дружны, а потому Арделиза, смеясь, поставила себе в заслугу то, что собиралась отказать поклоннику подруги и сама принесла весть о его измене. Хотя Фезик не любила шевалье, это не помешало ей рассердиться. Большинство женщин в равной мере не желает утрачивать немилых поклонников, как и тех, к кому они благосклонны; их печалит не столько утрата, сколько предпочтение, выказываемое сопернице: так было и с Фезик. Тем не менее она поблагодарила Арделизу за желание оказать услугу, уверив ее при этом, что ей дела нет до шевалье и что, напротив, она была бы признательна, если бы кто-нибудь ее от него избавил.
Арделиза не ограничилась тем, что показала письмо Фезик, она поставила себе это в заслугу перед Самилькаром; и то ли Фезик кому-то рассказала, то ли она сама разболтала, но два дня спустя все вокруг знали, что бедным шевалье пожертвовали ради другого, и вскоре до него стали доходить насмешки по поводу его письма. Пренебрежение оскорбительно для всех влюбленных, но, когда к нему примешивается насмешка, это приводит в отчаяние. Когда шевалье понял, что его выставили на посмешище, он отбросил всякую сдержанность. Не было ничего, в чем он не обвинял бы Арделизу: так эта сумасбродка нашла способ потерять репутацию, сохранив честь.
Из своих соперников шевалье более всего ненавидел Самилькара — и потому что того, по-видимому, привечали, и потому, что он меньше всего этого заслуживал. Он окрестил влюбленных в Арделизу «филистимлянами» и говорил, что Самилькар, отличавшийся малым умом, всех разогнал ослиной челюстью.[161]
Шарль де Сент-Эвремон
Характер госпожи графини д’Олонн
и
Письмо госпоже графине д'Олонн при посылке ее Характера
(1659)
Шарль де Маргетель де Сен-Дени, сеньор де Сент-Эвремон (1613–1703), мельком появляющийся в «Любовной истории галлов» под именем шевалье Эдмона, был на несколько лет старше Бюсси-Рабютена. После обучения в Клермонском коллеже он избрал военную карьеру; как и Бюсси, служил под началом принца де Конде, но в 1648 г. из-за слишком колкого замечания в адрес командующего был вынужден подать в отставку. Во время Фронды сохранил верность партии двора и благодаря покровительству герцога де Кандаля (тоже попавшего в «Любовную историю галлов») продолжил службу в чине, равном генеральскому. Завсегдатай парижских салонов, он был поклонником философа Пьера Гассенди и дружил со знаменитой куртизанкой Нинон де Ланкло. В 1661 г., после ареста Никола Фуке, в бумагах суперинтенданта было найдено письмо Сент-Эвремона маршалу де Креки с критическими замечаниями по поводу политики кардинала Мазарини и, в частности, недавно заключенного Пиренейского мирного договора. Угроза ареста заставила Сент-Эвремона уехать в Голландию, а затем перебраться в Англию, где он прожил остаток своей долгой жизни.
Как видно из «Любовной истории галлов», в конце 1650-х гг. Бюсси и Сент-Эвремон вращались в одном кругу, для которого в равной степени была свойственна свобода нравов и образа мыслей. Приблизительно 1658 г. датируется эссе Сент-Эвремона «Об удовольствиях», написанное в форме дружеского письма Бюсси.
Вы спрашиваете о моих занятиях в деревне и не пристрастился ли я от недостатка приятных собеседников беседовать с самим собой. Ответ прост: я стараюсь находить себе развлечения всюду, где приходится бывать. Каждый край имеет свои редкости, узнавать которые приятно, и даже самые дикие места не лишены наслаждений, если уметь их получать. Раздумиям я предаюсь лишь тогда, когда все вокруг немило, ибо, рассуждая здраво, слишком подолгу и всерьез обращаясь к себе, себе больше всего и докучаешь.[162]
Через пару лет Бюсси, сам оказавшись в деревне, последовал примеру друга и, чтобы спастись от скуки и серьезных размышлений, начал набрасывать «Любовную историю галлов». Но пока оба отдавали дань моде на портреты, недавно захватившей парижские салоны с легкой руки мадмуазель де Монпансье. Бюсси в 1658 г. взялся за сатирический портрет госпожи де Севинье, о котором речь в следующей главе. Сент-Эвремон, напротив, составил галантный портрет госпожи д’Олонн, которая позже предстанет в «Любовной истории галлов» под именем Арделизы.
Сент-Эвремон не первый (и, как мы уже знаем, не последний), кто взялся живописать графиню д’Олонн. В 1659 г. тиражом в несколько десятков экземпляров был отпечатан сборник «Различных портретов» (1659), составленный в окружении герцогини де Монпансье и при ее активном участии. Там среди прочих имелся портрет госпожи д’Олонн работы Винея, секретаря герцога де Ларошфуко. Как следует из «Любовной истории галлов», как раз в это время за госпожой д’Олонн ухаживал принц де Марсийак. Это наводит на мысль, что Виней взялся за перо не случайно: портрет мог быть одной из «галантностей», которыми кавалеру полагалось осыпать даму. Важным в таких случаях считалось, от кого исходил подарок, а не реальное авторство. Будучи секретарем отца Марсийака, Виней был включен в систему клиентелы семейства Ларошфуко и тем самым имел возможность выступать от лица его членов.[163] Для Марсийака, по единодушному свидетельству современников, не отличавшемуся особой бойкостью ума, было естественно прибегнуть к помощи профессионального пера доверенного человека. Но, возможно, инициатива исходила от самого Винея, который воспользовался представившейся возможностью помочь сыну покровителя и заодно польстить прекрасной даме.
«Характер госпожи графини д’Олонн» Сент-Эвремона написан как ответ на портрет Винея. Вступить в полемику его, скорее всего, побудили соображения не только литературного порядка. Как свидетельствует Бюсси, одновременно с Марсийаком за госпожой д’Олонн ухаживал шевалье де Грамон, с которым был дружен Сент-Эвремон. Предлагая «альтернативное» изображение прекрасной дамы, он доказывал интеллектуальное превосходство партии Грамона над партией Марсийака. Его «характер» (Сент-Эвремон пурист и не желает называть свою зарисовку «портретом», используя для нее другое, освященное античной традицией наименование) близко следует за портретом Винея, даже цитирует его, но придает всему ту легкость и шутливость, которая, по общему мнению, должна была отличать стиль человека светского от тяжеловесного педантизма людей ученых.
Эта техника пастиша сказывается не только в его обращении с Винеем. Описывая внешность госпожи д’Олонн — вернее, отказываясь ее описывать, — Сент-Эвремон обыгрывает несколько литературных штампов. Когда в начале он заявляет: «Я не буду рассыпать вам старые как мир похвалы — единственное, что осталось от былых красавиц. Не буду сравнивать солнце с вашими глазами, а цветы — с вашим румянцем», то это заставляет вспомнить сонет 130 Шекспира:
Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенства линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали.[164]Эта перекличка имеет отношение к общим для XVI–XVII вв. культурным стереотипам. В 1659 г. Сент-Эвремон не читал Шекспира — сомнительно, чтобы он читал его и позднее, живя в Англии. Но для него была привычна как устаревшая система сравнений (глаза — солнце или звезды, румянец — роза, губы — кораллы), так и ее отрицание, в свой черед превратившееся в поэтическую конвенцию. Описать внешность госпожи д’Олонн оказывается невозможно: любые характеристики оборачиваются банальностями. Поэтому Сент-Эвремон обращается к единственному безусловному показателю — воздействию ее красоты на окружающих: «Давно восхищаясь вами, я более всего дивлюсь тому, что в вас словно собрались прелести разных красот — и той, что поражает, и той, что трогает, и той, что дразнит, и той, что привлекает».
Как и многие из его современников, Сент-Эвремон связывал способность к суждению с процессом систематизации. Размышляя над тем или иным предметом, он обязательно делит его на части. Легенда о греческом скульпторе Зевксисе, который, не найдя идеальной красавицы, соединил в своем изображении черты нескольких прекрасных женщин (эту историю по другому поводу вспоминает и госпожа де Скюдери — см. четвертую главу), позволяет ему анатомировать красоту, последовательно разбирая, какие ее типы должны быть соединены вместе, дабы достигнуть совершенства, и как они воздействуют на душу. При этом, вслед за Гассенди (и, таким образом, за Эпикуром, переводчиком и толкователем которого был Гассенди), он различает две души: материальную (связанную с чувствами) и нематериальную (мыслящую). Когда речь идет о воздействии красоты на душу, то подразумевается чувствующая душа, чьи симпатии определяются темпераментом человека. Это объясняет, почему разных людей привлекают разные типы несовершенной красоты.
И наконец, последняя конвенция, которую Сент-Эвремон высмеивает уже в письме к госпоже д’Олонн, касается мотива «смерти от любви». Интересно, что в «Любовной истории галлов» над этим культурным штампом потешается сама Арделиза. Продавая свою любовь за деньги, она говорит: «Обычно нам твердят одни глупости, а когда решают написать любовное послание, то считают необходимым уверять в своем обожании <…>, как будто кому-то нужно их служение». Сент-Эвремон не противопоставляет идеализированную риторику и реальность, но, напротив, требует их полного соответствия. Обыгрывая свою позицию наперсника, он требует от госпожи д’Олонн подлинных смертей, которые бы свидетельствовали и о силе ее красоты, и о ее «жестокости».
«Характер госпожи графини д’Олонн» может служить иллюстрацией к его же философскому письму «Об удовольствиях», адресованному Бюсси:
Есть впечатления мимолетные, чуть задевающие душу: они будят ее чувства, позволяют замечать и беззаботно предаваться отрадному. Подобная приятность согласуется с нравом достойнейших людей, к самым серьезным занятиям непременно примешивающих этот род удовольствия. Но мне известен и другой: древние называли его mollities[165] — впечатление нежное и сладостное, льстящее, ластящееся к чувствам, наслаждением пронизывающее душу. От него происходит истома, незаметно сковывающая живость и силу разума; раз поддавшись этим чарам, трудно победить столь сладостное оцепенение. Впечатления возбуждающие ощущаются иначе, они будоражат чувства и ранят душу, пока дух не делается жарким и беспокойным. Однако выше всего то, что трогает, проникая в самую глубь сердца и вызывая лучшие чувства, нежностью пронизывая поступки. Об этом трудно говорить, ибо нет выражений, которые могли бы сравниться с подобными чувствованиями.[166]
Сходство рассуждений доказывает, что оба текста действительно написаны в один период (почти все датировки сочинений Сент-Эвремона имеют приблизительный характер). Кроме того, сопоставляя «Об удовольствиях» и «Характер госпожи д’Олонн» Сент-Эвремона с «Любовной истории галлов» Бюсси-Рабютена, можно наблюдать переход от интеллектуального, философского либертинажа к самому практическому. В эссе речь идет лишь о теории, в «характере» — о приложении теории к практике, тогда как в повести интеллектуальный конформизм рассказчика и персонажей сочетается с самым вольным образом действий.
«Характер госпожи графини д’Олонн» был напечатан в «Собрании портретов и похвальных слов в стихах и прозе, посвященном Ее Королевскому Высочеству Мадмуазель», вышедшем в свет в 1659 г.
Характер госпожи графини д’Олонн[167]
Не думаю, что мне больше посчастливится с вашим характером, нежели живописцам с вашими портретами: можно сказать, что лучшие из них потеряли на том репутацию. До сей поры нам не приходилось видеть красавиц столь совершенных, чей образ, оставшись наедине с собой, не приходилось бы тут приукрасить, а там избавить от недостатков. Лишь вы, сударыня, стоите выше искусства с его лестью и приукрашиваниями. Работа над вашим подобием никогда вас не увлекала и всегда заканчивалась неудачей, лишая совершенство достоинств, которыми обычно наделяют тех, кто их не имеет.
Если вы ничем не обязаны живописи, то еще менее — заботе о нарядах. Вы не в долгу ни перед чужим мастерством, ни перед собственным прилежанием и можете спокойно оставить на долю природы заботы, которые она вам расточает. Но я бы не стал советовать другим полагаться на провидение такого рода, ибо небрежность редко кому к лицу. Большинство женщин привлекательны тем, что делают себя привлекательными: их уборы скрывают изъяны, а вы, чем менее на вас украшений, тем более милы, и вам в той же мере выгодно вернуться к естеству, в какой им — от него удалиться.
Я не буду рассыпать вам старые как мир похвалы — единственное, что осталось от былых красавиц. Не буду сравнивать солнце с вашими глазами, а цветы — с вашим румянцем. Я мог бы упомянуть правильную форму вашего лица, тонкость черт, приятность рта, гладкость и изящество шеи, красоту плеч. Но оставим детали: в вас столько всего, что занимает мысли, но о чем не скажешь, и еще больше того, что скорее поглощает чувства, чем мысли. Поверьте мне, сударыня, никому не доверяйте заботу о вашей славе, ибо невозможно быть лучше, чем вы есть.
«Стоит вам явиться посреди портретов и характеров, и вы затмите все сделанные с вас изображения…» Давно восхищаясь вами, я более всего дивлюсь тому, что в вас словно собраны прелести разных красот — и той, что поражает, и той, что трогает, и той, что дразнит, и той, что привлекает. Собственно, ваш характер — не один отдельный характер, но целое их собрание. Того, над кем не властна красота гордая, покорит нежная. Другого нежность оттолкнет, но он склонится перед гордостью. Вы единственная оказались всеобщей слабостью: неистовые обретают в вас предмет для неистовств, а души страстные — для нежности и томности. Несхожие умы, разные душевные склады и противоположные темпераменты — все склоняются перед вашей властью. В этом общем смятении вы — беда всех, кто вышел из колыбели и еще не сошел в могилу, вы разрушаете покой невозмутимых и лишаете разума разумных. Те, кто не рожден ни дарить любовь, ни быть любимым, сохраняют первое свойство и, к несчастью, лишаются второго. Поэтому горячность ваших друзей напоминает страсть ваших поклонников, поэтому вами невозможно восхищаться бескорыстно, поэтому даже посторонние никогда не судят о вас непредвзято, ибо стоит вам явиться, как все, помимо вас, поддаются любви, ибо вы единственная к ней нечувствительны.
Простите, сударыня, но в вашей славе был бы изъян, если бы так продолжалось всю жизнь. Один-единственный раз вам стоит расстаться с безразличием, но, чтобы вы смогли разубедить себя в том, что никто вам не мил, нужно отыскать того достойных. Стоит им найтись, и я не сомневаюсь, сударыня, что, влекомые вашим очарованием и разочаровавшись во всех прочих прелестях, они будут вздыхать лишь по вам. Вспомните тогда, что гордость имеет свои пределы, за которыми скрывается грубость ума и душевная черствость.
До сих пор я стремился отдать хоть часть должного вашей красоте — и отнюдь не самая малая ей похвала в том, что ее можно восхвалять столь долго. Теперь же будет справедливо и себя потешить, и, говоря о вашем уме, показать свой. Я буду правдив и, чтобы вы не подумали, что это нанесет вам урон, начну с того, что прелесть вашей беседы ничем не уступает прелести лица. Поверьте, сударыня, что ваш разговор трогает столь же, сколь и красота. Вы могли бы заставить себя полюбить и скрывая лицо под вуалью, и тогда во Франции, как в Испании, рассказывали бы о приключениях Прекрасной Невидимки.[168]
Нигде не встретишь такого вежества, как в ваших речах, и что поразительно, такой живости и верной меры, таких удачных и умных замечаний; во всем прочем тонкость понимания и живость чувств равны тонкости и живости ума. Но оставим похвалы, они утомительны своей длиной, сколь ни были бы справедливы; приготовьтесь стерпеть то, что я нашел в вас достойного порицания.
Если вы возьмете на себя труд меня выслушать, то знайте, что я не меньше потратил его на то, чтобы выискать в вас недостатки. Мне пришлось пуститься в глубокие изыскания, и после сложнейших штудий вот что мне удалось заметить. По моим наблюдениям, вы часто выказываете чрезмерное уважение людям посредственным и покорно — пускай на краткий срок — склоняете собственные суждения перед мнениями людей мало просвещенных. Еще мне кажется, что слишком много власти над вами имеет привычка. То, что вы сперва совершенно здраво расцениваете как грубость, в конце концов начинает вам казаться утонченностью, и вы расстаетесь с заблуждением в большей степени из-за перемены настроения, нежели по размышлению. Порой, сударыня, слишком много над чем-то размышляя, вы, напротив, упускаете суть предмета, и ваше конечное мнение основывается скорее на воображении, нежели на солидном знании.
Что касается ваших поступков, то они в равной мере невинны и приятны, но, позволяя себе не следовать мелким формальностям, затрудняющим нашу жизнь, вам приходится опасаться осуждения глупцов и упреков тех, кто враждебен вам из-за ваших достоинств.
Женщины, ваши открытые недруги, вынуждены перед нами признавать, сколь многочисленны дары, которыми наделила вас природа. Но порой нам приходится соглашаться, что им можно было бы найти лучшее применение и что вы не всегда используете их так, как следовало. В конце скажу о вашей непоследовательности и непостоянстве, которые вы умеете столь живо изобразить. Они тяжелы для тех, кого касаются. Что до меня, то я в них нахожу некоторую пикантность, кроме того, я заметил, что чем более сетуют на характер дамы, тем больше ею интересуются. Как бы то ни было, вас можно завоевать, но невозможно удержать в равновесии. Вас легко обидеть, совсем того не желая, и даже желание вам понравиться не раз оборачивалось несчастьем оказаться вам неприятным.
Поверьте мне, нужно быть редкостным счастливцем, чтобы найти вас в добром расположении, и обладать недюжинной остротой суждения, чтобы этим воспользоваться. По правде говоря, изучив вас, можно лишь сказать, что нет большего несчастья, чем быть в вас влюбленным, и большего труда, чем удержаться от этого. Таковы, сударыня, наблюдения постороннего, который, дабы судить о вас здраво, постарался сохранить свою свободу. Чтобы добиться этого, он старался держаться от вас подальше. Однако, раз вас увидев, недостаточно затем вас избегать, ведь это обычно столь надежное средство исцеления с вами может и не подействовать. Возможно, вы мне скажете, что человек, в сердце которого есть хоть капля нежности, обычно не бывает столь строг в своих суждениях, но, если вы возьмете на себя труд указать мне, что вам не нравится, я приложу не меньший, чтобы исправиться.
Суждение, кажущееся вам пристрастным, может выдержать испытание лишь в вашем отсутствии, ибо, сударыня, стоит вам явиться посреди портретов и характеров, и вы затмите все сделанные с вас изображения.
Письмо госпоже графине д'Олонн при посылке ее Характера
Посылаю вам ваш Характер: он объяснит общее мнение на ваш счет и поведает, буде сие вам неведомо, что во Франции нет никого прекрасней вас. Не будьте же слишком к себе строги и не отказывайте себе в справедливости, которую вам воздает весь свет. Дамы по большей части легко поддаются убеждениям и с удовольствием впадают в приятные заблуждения. Так что с вашей стороны странно не доверять истине. Помимо всеобщего мнения в вашу пользу говорит и суждение госпожи де Лонгвиль.[169] Склонитесь перед ним без угрызений совести, и, коль скоро она считает вас совершеннейшей красавицей, которую когда-либо видел свет, вы можете смело тому верить.
От вашей красоты, сударыня, перехожу к бедствиям, которые она приносит, к недужным и умирающим по вашей вине. Отнюдь не из намерения внушить вам жалость: напротив, если вы последуете моему совету, кому-то из несчастных это будет стоить жизни. Слишком долго поэты и сочинители романов развлекали нас поддельными смертями. Я прошу у вас подлинной: кончина, в которой нельзя будет усомниться, послужит вам прекрасным украшением.
Теперь пускай меня именуют наперсником шевалье, и пусть он возвращается во главе собранных в Льеже отрядов, — он убедится, что я встану в их первые ряды. Наперекор всем советам Характера, я заинтересован в вашей суровости, ибо это в интересах моего друга. Если рассудить, то, по правде говоря, все к его выгоде, ибо советовать вам любить лишь тех, кто того достоин, значит поставить вас в невозможное положение и, в общем, посоветовать вам никого не любить. Так что, сударыня, окольным образом я куда суровей старой госпожи *, но намного деликатней и нечувствительно веду к добродетели, как ** и аббат *** — к благочестию.
Мне остается только сказать о дерзости, которую я проявил, обнаружив в вас недостатки. Я ничего не мог поделать, иначе пришлось бы нарушить законы Характера, совершенство которого заключается в смешении дурных и добрых качеств. В любом случае я больше вашего достоин сожаления, ибо целые ночи проводил без сна, будучи не в силах их отыскать. Это первый раз, когда мне пришлось столкнуться с трудностями такого рода. Так что в качестве свидетельства ваших необычайных достоинств запишите большими буквами: **** нашел, что хвалить меня легко и естественно, а выискивать недостатки стоит немалых трудов.
Глава третья Портретная галерея
Портрет — один из популярных жанров куртуазной словесности, отражавший свойственное ей колебание между «жизнью» и «литературой». С одной стороны, он существовал в качестве салонной игры, с другой — входил в арсенал приемов, свойственных романному повествованию. Эта двойственность хорошо прослеживается на примере «Мемуаров» кардинала де Реца. Когда ему вспоминается праздничная атмосфера начала Фронды и ее сходство с рыцарским духом «Астреи» Оноре д’Юрфе, то ассоциативная логика подсказывает и следующий риторический ход. Прервав нить своего повествования, он обращается к даме, по просьбе которой написаны «Мемуары» (ее имя не названо, поэтому исследователи до сих пор продолжают гадать, была ли это госпожа де Севинье или ее дочь, госпожа де Гриньян, — обе кандидатуры считаются наиболее вероятными):
Мне известно, что вы любите портреты, и по этой причине я досадовал, что до сих пор не мог представить вам ни одного, очерченного иначе, как в профиль, а стало быть, весьма неполно <…>. Но вот и галерея, где фигуры предстанут перед вами во весь свой рост и где я покажу вам изображения лиц, которые вы позднее увидите в действии.[170]
Пик популярности словесных портретов приходился на начало и середину 1660-х гг. Насколько известно, «Мемуары» написаны в 1675–1677 гг., то есть речь шла о слегка устаревшей моде. Вспомним, что уже в мольеровских «Смешных жеманницах», то есть в 1659 г., провинциалка Мадлон восклицала: «Признаюсь, я ужасно люблю портреты. Что может быть изящнее!» (1, 12)[171] По всей видимости, кардинал де Рец обращался к знакомой, с которой когда-то разделял это светское увлечение (что делает более убедительной кандидатуру госпожи де Севинье). Но эта апелляция к общему вкусу явно носит характер объяснения, придуманного задним числом (что не отменяет значимости ассоциативного хода от романа к портрету). На самом деле, когда Рец вспоминает собственную остроту, построенную на каламбурном обыгрывании романной топонимики (Марсильи) и реального имени (Марсийак), — «герцогиня де Лонгвиль прекрасна как Галатея, однако Марсийак (герцог де Ларошфуко-отец был тогда еще жив) не столь благороден, как Линдамор», [172] — то это заставляет его произнести ключевое имя: Ларошфуко. Последовательный переход от романа к портрету, а затем к автору «Максим» дает двойную ассоциацию: во-первых, ему приходит на память автопортрет, который Ларошфуко набросал еще в 1658 г. для коллекции Мадмуазель (о чем речь ниже). А во-вторых, как раз в 1670-е г. по рукам ходил портрет самого кардинала де Реца, также вышедший из-под пера герцога. Кардиналу явно хотелось отплатить той же монетой и дать собственную интерпретацию характера Ларошфуко. Но наличие одного-единственного портрета слишком бросалось бы в глаза и было бы похоже на прямое сведение счетов. Поэтому он представил читателю целую галерею исторических персонажей, хотя его исходное побуждение от этого не менее очевидно: портрет Ларошфуко у него вышел втрое длиннее всех прочих.
Этот пример примечателен не только тем, что речь идет о кардинале де Реце и авторе «Максим», двух крупных фигурах культурной и политической истории Франции XVII столетия. Благодаря ему мы можем оценить важность портретного жанра, которая выходила далеко за пределы салонной игры. На языке эпохи «портретом» именовалось любое верное и безыскусное изображение. Не случайно, что в предисловии к первому изданию «Максим» (1665) Ларошфуко утверждал, что его сочинение — «портрет человеческого сердца».[173] Для такого портрета следовало проникнуть в суть характера человека, разглядеть общий принцип, скрывающийся за уникальными личностными чертами. В этом, кстати говоря, и состояла разница между жанром «портрета» и опирающимся на античную традицию жанром «характера», мастером которого был Лабрюйер. «Характер» запечатлевал человеческие типы, «портрет» — индивидуальные черты конкретных людей, относящихся к разным человеческим типам. Рисуя портрет, автор должен был определить характер своей модели, найти его доминанту. Последняя была непосредственно связана с преобладанием одного из четырех гуморов, то есть с физическим строением человека. Поэтому Ларошфуко мог утверждать, что «сила и слабость духа — выражения неудачные: речь всего лишь идет о хорошем или дурном устройстве телесных органов».[174] Правильно найденная доминанта служила ключом к характеру и помогала истолковать поведение человека. Так, кардинал де Рец считал, что главная характеристика Ларошфуко — неопределенность (пресловутое «сам-не-знаю-что»), возможно, вызванная избытком рефлексии. Естественно, что эта точка зрения не совпадала с мнением самого Ларошфуко. Их заочное столкновение порождало борьбу интерпретаций, имевшую вполне практическую цель. Ставкой в этой борьбе была прижизненная и посмертная репутация. Не стоит забывать, что французское хорошее общество было немногочисленным, все друг друга знали либо лично, либо понаслышке, и неблаговидный портрет мог нанести человеку серьезный урон. Как мы увидим, в этом отношении случай Реца и Ларошфуко был не уникален, не менее ожесточенный конфликт вызвал разнобой в интерпретациях характера госпожи де Севинье (кстати, дружившей как с кардиналом, так и с автором «Максим»).
В портретной галерее Реца есть еще одна заслуживающая внимания черта. Ее можно обозначить как эффект циклизации. Начав рисовать портреты, мемуарист не останавливается, пока не исчерпан запас наиболее видных исторических лиц. Другой пример: увлекшись новинкой, мадмуазель де Монпансье сочинила как минимум шестнадцать портретов и приобщила к этому занятию свое окружение. Ее знакомые берутся за свои или за чужие портреты, присылая их в дар ей. По всей видимости, этот эффект циклизации являлся отличительным свойством салонной культуры XVII в. Его можно наблюдать и на других жанрах: с одной стороны, вспомним знаменитую «Гирлянду Юлии», в которую вошли шестьдесят два мадригала, написанные посетителями особняка Рамбуйе, или пресловутый «День мадригалов», имевший место 20 декабря 1653 г. (весь день «Акант» и «Сафо» обменивались записками с поэтическими импровизациями), или борьбу сонетов, когда сравнение достоинств «Урании» Вуатюра и «Иова» Бенсерада вызвало к жизни целый ряд поэтических текстов, в том числе и Корнеля. С точки зрения светского общения циклизация исполняла функции «события», маркировавшего важный этап в жизни того или иного сообщества. Еще одним примером тому может служить «Карта страны Нежности», о которой пойдет речь в четвертой главе.
Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье
Портрет Мадмуазель, ею самой составленный
(1657)
Мадмуазель де Монпансье или, как ее порой называли современники, Старшая Мадмуазель, [175] единственная дочь Гастона Орлеанского (1608–1660) от его брака с богатейшей наследницей Франции Марией де Бурбон-Монпансье (1604–1627), появилась на свет в 1627 г. Ее рождение — рождение девочки — стало разочарованием для девятнадцатилетнего Гастона, надеявшегося унаследовать престол все еще бездетного Людовика XIII. Кроме того, оно стоило жизни матери. Вскоре после этих событий Гастон бежал из Франции, пытаясь политическим шантажом или открытым бунтом подорвать влияние кардинала де Ришелье. В 1632 г. он тайно обвенчался с Маргаритой Лотарингской (1612–1672), а два года спустя Людовик XIII позволил ему вернуться во Францию, впрочем, так и не признав законность брака. В своих мемуарах Мадмуазель вспоминает, как ждала она этого возвращения и как сразу узнала отца, хотя он намеренно снял голубую орденскую ленту, чтобы посмотреть, сумеет ли семилетняя дочь отличить его от других вельмож. Насколько можно судить, такие игры в «узнавание» были частым явлением той эпохи. Так, когда Мария Манчини впервые встретилась со своим супругом (как нередко случалось в правящих домах, их свадьбу сыграли заочно: на церемонии жениха «по доверенности» представлял его посланник), то он решил ее разыграть и послать вместо себя своего кузена.[176] В обоих случаях «узнавание» функционировало как испытание, суть которого заключалась в умении отличить подлинные качества (благородство, высокий сан) от поддельных. Мадмуазель вышла из него с честью, сразу бросившись на шею отцу. Она сама считала, что этот жест ей подсказал голос крови. Но более чем вероятно, что в ее покоях висел портрет Гастона и она хорошо знала его черты.
Вплоть до 1638 г. Мадмуазель оставалась единственным прямым отпрыском рода Бурбонов (при большом количестве боковых ветвей, что придавало внутриполитической ситуации особую напряженность). Это не позволяло ей претендовать на французский престол — по салическому закону корона наследовалась только по мужской линии, — но не могло не вызывать повышенного внимания к ее особе. В 1638 г. на свет появился будущий Людовик XIV, два года спустя — его брат Филипп. Мадмуазель было тогда одиннадцать лет, и она не могла не ощутить умаления собственной значимости в глазах окружающих. Тем горячее была ее приверженность интересам и политическим симпатиям отца, с которым она сохраняла прекрасные отношения вплоть до смерти кардинала де Ришелье, когда Гастон смог наконец добиться признания своего второго брака. В 1643 г. Маргарита Лотарингская, все эти годы жившая за пределами Франции в ожидании подтверждения своего законного статуса, воссоединилась с супругом. Благодаря ей с 1645 по 1652 г. Мадмуазель приобрела четырех сестер и брата. Соперничество между двумя ветвями дома Орлеанов было также неизбежно, как когда-то конфликт между Людовиком XIII и его братом. В этом семейном раздоре Гастон склонялся на сторону жены и детей от второго брака, тем более что Мадмуазель уже начала проявлять независимый и неукротимый характер, столь резко отличавшийся от его собственного (как писал хорошо знавший его кардинал де Рец, «поработив его душу орудием страха и его разум орудием нерешительности, малодушие запятнало все течение его жизни»).[177] Помимо причин чисто семейных, разлад между Гастоном и Мадмуазель имел и политический аспект. Кончина Людовика XIII открыла перед герцогом Орлеанским давно желанную возможность добиться реальной власти. Он довольно легко отказался от претензий на регентство, уступив его Анне Австрийской, однако исполняемые им функции правителя делали его первым лицом королевства (несовершеннолетний Людовик XIV пока оставался фигурой чисто символической). Мадмуазель казалось, что отец не до конца использовал ситуацию, сулившую их дому безмерную власть и влияние. Ее честолюбие и недовольство его образом действий послужили еще одной причиной разлада их отношений.
Эпоха Фронды — решающий и, наверное, наиболее яркий момент в жизни Мадмуазель. Когда герцог Орлеанский присоединился к фрондерам, она показала себя сторонницей самых решительных мер. На ее личном счету их было две. В марте 1652 г. она отправилась в Орлеан, колебавшийся, перейти ли ему на сторону двора или сохранить верность своему удельному владетелю. Несмотря на сопротивление местных магистратов, Мадмуазель проникла в город, и жители встали на ее сторону. В июле все того же 1652 г., когда королевские войска под Парижем теснили силы мятежников, возглавляемые принцем де Конде, она заставила парижские власти открыть ворота и дать убежище отступавшим. Она сделала больше: поднявшись на башни Бастилии, она велела зарядить пушки и сделать несколько выстрелов по королевским войскам, чтобы прикрыть отступление Конде. По легенде, когда кардинал Мазарини об этом узнал, то воскликнул: «Этим пушечным выстрелом она убила собственного мужа!», имея в виду не раз обсуждавшуюся возможность брака между Людовиком XIV и Мадмуазель. В ноябре 1652 г. двор и парижский парламент пришли к соглашению, а Мадмуазель, как и ее отцу, было предписано отправиться в свои земли. Последующие пять лет Мадмуазель провела в замке Сен-Фаржо, временами посещая Гастона, обосновавшегося в Блуа. Как она признается в «Мемуарах», изгнание привило ей любовь к чтению, оживило вкус к литературным играм.[178] В эти годы она вместе со своим окружением сочиняет романы — «Жизнь госпожи де Фукероль» и «Описание воображаемого острова и история принцессы Пафлагонийской» — и берется за воспоминания. В 1657 г. ей дано позволение вернуться ко двору, но она пользуется им весьма умеренно, предпочитая путешествовать по своим владениям, лишь изредка заглядывая в Париж.
Летом 1657 г. Мадмуазель посетила Шампиньи (Пуату), где ее принимали герцог и герцогиня де Ла Тремуй. Их невестка, Амелия фон Гессен-Кассель, принцесса Тарентская (1625–1693), недавно возвратилась из Гааги, куда ездила повидаться с мужем, Анри-Шарлем де Ла Тремуй, принцем Тальмонским и Тарентским (1620–1672). Один из ближайших соратников принца де Конде, он вместе с ним перешел на службу к испанской короне и командовал войсками у северных рубежей Франции. Только заключение Пиренейского мира (в 1659 г.) позволило кардиналу Мазарини избавиться от последних напоминаний о Фронде и вернуло мятежных принцев под власть Людовика XIV. Но летом 1657 г. Мадмуазель, горячо сочувствовавшей и восхищавшейся Конде, было о чем расспросить принцессу Тарентскую. Во время этих бесед та рассказала и о новой моде на словесные портреты, бытовавшей тогда в Голландии. В 1656 г. в Гааге принцесса Тарентская и ее золовка, Мари-Шарлотт, мадмуазель де Ла Тремуй, составили свои автопортреты, которые сразу же были напечатаны. На Мадмуазель особенно сильное впечатление произвел автопортрет принцессы Тарентской. Взяв его за образец, она набросала свой собственный, а затем принялась описывать окружающих. Всего из-под ее пера вышло шестнадцать портретов. Мода быстро распространилась по парижским и провинциальным салонам. К началу 1659 г., когда Мадмуазель решила собрать лучшие из ходивших по рукам портретов, ей, безусловно, было из чего выбирать. В издание, составленное по ее пожеланию Сегре и Даниелем Юэ, их вошло около шести десятков.
Словесный портрет — в том виде, в каком с ним столкнулась Мадмуазель, — обладал отчетливой структурой. В начале шла преамбула, объяснявшая намерения автора, затем описание внешности портретируемого, его светских качеств, достоинств и недостатков, склонности к галантности и к благочестию. Концовка порой возвращала к преамбуле, но чаще тяготела к парадоксу. Как легко заметить, в автопортрете Мадмуазель в точности следовала этой схеме. Ее самоописание открывает противопоставление «природы» и «искусства», само по себе не оригинальное, но под пером внучки Генриха IV приобретающее внезапно личный оттенок. Ее «природа» — это порода, благодаря которой она вознесена выше всякого искусства. Не случайно, что в «Мемуарах» Мадмуазель неоднократно подчеркивает естественность и спонтанность своего поведения (вплоть до прямого нарушения этикета). Этот отказ от искусственности и притворства — не столько индивидуальный выбор, сколько долг перед собственной кровью, которая диктует ей образ действий. Вплоть до того, что Мадмуазель всерьез задумывается, в какой степени ее гневливость обусловлена дурной наследственностью со стороны Медичи. Ей остается только надеяться, что кровь добродушных Бурбонов должна возобладать над влиянием этих коварных отравителей.
Автопортрет Мадмуазель сперва вошел в издание «Различных портретов» Сегре и Юэ, в 1659 г. отпечатанное в городе Кан в столь малом количестве экземпляров, что уже современники путались, было ли их шестьдесят или тридцать. Вслед за этим его дополнили и перепечатали парижские издатели Серей и Барбье под названием «Собрание портретов и похвальных слов в стихах и в прозе, посвященных Ее Королевскому Высочеству Мадмуазель» (1659). Судя по всему, сборник имел успех, поскольку несколько месяцев спустя его снова переиздали все те же Серей и Барбье. В 1663 г. уже один Серей еще раз пополняет его состав (в частности, знаменитым автопортретом Ларошфуко) и перепечатывает в виде двухтомника.
Портрет Мадмуазель, ею самой составленный[179]
Раз вы желаете, чтобы я нарисовала собственный портрет, постараюсь сделать это как можно лучше. Мне хотелось бы, чтобы природа во мне превосходила искусство, ибо мне хорошо известно, что последним я не владею и не могу исправить свои недостатки; но правдивость и искренность, с которой я поведаю обо всем, что во мне есть хорошего и дурного, без сомнения, заставит моих добрых друзей меня извинить. Я не прошу о снисхождении, ибо сама не люблю его выказывать, мне милей насмешки: они обычно объясняются завистью и редко бывают обращены против людей ничтожных достоинств.
Начну со своей внешности. Я высока ростом, ни толста и ни худа, сложения хорошего и легкого. У меня приятное лицо, неплохая шея, некрасивые плечи и руки, но хорошая кожа. Нога прямая, точеная, волосы светлые, пепельного оттенка, лицо удлиненное, но красивого абриса, зубы не хороши, но и не ужасны, глаза голубые, не большие и не маленькие, но блестящие, нежные и гордые, как и выражение лица. Вид у меня горделивый, но не надменный. Я любезна и проста, но так, чтобы вызывать почтение, а не заставлять о нем забывать. Я небрежна в одежде, но эта небрежность никогда не доходит до неряшливости, неряшливость мне противна, я люблю пристойность, и небрежен наряд или нет, все на мне прилично; конечно, меня красят наряды, но и небрежность меня портит меньше других, ибо не льстя себе скажу, что я скорее лишаю украшения красоты, нежели они меня красят. Я много говорю, не произнося ни глупостей, ни дурных слов. Я никогда не болтаю о том, чего не понимаю, как это бывает свойственно разговорчивым людям, которые слишком полагаются на себя и презирают других. Есть некоторые темы, на которых меня легко поймать: они касаются связей между вещами, в которых я немного понимаю и принимаю участие; и хотя другие могут быть вовлечены в них более меня, и хотя, заведя об этом разговор, я отзываюсь о них хорошо, может показаться, что мне приятней слушать, как говорят обо мне, и что я скорее стремлюсь получать похвалы, нежели их раздавать. Мне кажется, это единственное во мне, что может вызывать насмешки. Я вполне способна претендовать на многое, но претендую лишь на то, чтобы быть хорошим другом и сохранять верность друзьям, когда мне посчастливится найти людей достойных, чей нрав согласен с моим; ибо мне не пристало страдать от чужого непостоянства. Я умею хранить тайны, и ничто не сравнится с моей преданностью и уважением к друзьям; поэтому я хочу, чтобы мне отвечали тем же, и ничто меня так не завоевывает, как доверие, ибо оно — знак уважения, в высшей степени чувствительный для тех, у кого есть сердце и честь. Я дурной враг, ибо гневна и вспыльчива, что, помня о моем происхождении, должно повергать в трепет моих врагов; но душа моя благородна и добра. Я не способна на низкие и черные поступки; мне более свойственно прощать, чем вершить правосудие. Я меланхолична; люблю читать хорошие, серьезные книги, пустяки меня утомляют, если только это не стихи, которые я люблю и серьезные, и легкие, и, без сомнения, сужу о них не хуже, чем если бы была ученой. Я люблю свет и беседу людей достойных, но не слишком скучаю и с теми, кто ими не является, ибо люди моего ранга должны себя принуждать, будучи рождены более для других, нежели для самих себя; эта необходимость настолько вошла у меня в привычку, что ничто не может мне наскучить, хотя не все развлекает. Это не препятствует тому, чтобы я умела распознавать людей достойных, ибо мне по душе все, кто отличился в своем призвании. Больше всего мне по сердцу военные, и я люблю слушать их разговоры о своем ремесле; и хотя я уже сказала, что никогда не говорю о том, чего не знаю и что мне не подобает, признаюсь, что охотно говорю о войне; я чувствую в себе большую отвагу, во мне много смелости и честолюбия, но Господь дал им такой простор, позволив мне родиться в моем ранге, что у других это было бы недостатком, а мне помогает служить Его делам. Я скоро принимаю решения и твердо их держусь. Ничто не кажется мне трудным, когда нужно услужить друзьям или повиноваться тем, кто надо мною властен. Я не корыстна, не способна на низости и до такой степени равнодушна ко всем благам света — и потому, что презираю других, и потому, что имею о себе хорошее мнение, — что предпочту провести жизнь в одиночестве, чем хоть в чем-нибудь принуждать свой гордый нрав, даже если речь идет о моей судьбе. Я люблю бывать одна; я не любезна, но требую любезности от других, я недоверчива, но не по отношению к себе, я люблю радовать и оказывать услуги, но нередко мне нравится поддразнивать и обижать. У меня не лежит душа к удовольствиям, а потому я неохотно устраиваю их для других. Я люблю скрипки больше всякой другой музыки, люблю танцевать больше, чем это делаю, и танцую очень хорошо; терпеть не могу карты, но люблю подвижные игры; знаю многие виды рукоделий, и для меня это не меньшее развлечение, чем охота или прогулки верхом. Горе мне чувствительней, нежели радость, и с первым я больше знакома, чем со второй, но это нелегко заметить, ибо, хотя я не комедиантка и не жеманница и обычно меня можно видеть насквозь, я хорошо владею собой, когда хочу, и могу повернуться такой стороной, какой нужно, чтобы была видна лишь она. Никто не имеет столько власти над собой и никогда дух столь полно не господствовал над телом, и порой я из-за этого страдаю. Пережитые мной великие беды убили бы любую другую, но Господь так вымерил мою долю и все в ней так связано друг с другом, что мне дано необычайное здоровье и силы: меня ничем не сокрушить и не утомить, по моему лицу трудно судить о переменах в моей судьбе и о выпавших мне невзгодах, ибо оно редко меняет выражение. Я забыла сказать, что у меня здоровый цвет лица, вполне отвечающий тому, что я уже сказала: не мягкий, но белый и свежий. Я не набожна, но хочу быть, и свет мне уже во многом безразличен, но то, что побуждает меня его презирать, не позволяет от него оторваться, ибо это презрение не касается меня самой, а самолюбие, кажется, не принадлежит к качествам, способствующим благочестию. Я с большим усердием занимаюсь своими делами и полностью им отдаюсь и так же в них подозрительна, как и во всем остальном. Я люблю порядок и последовательность даже в мелочах; не знаю, щедра ли я, но могу сказать, что во всем люблю пышность и блеск и мне нравится одаривать людей достойных и тех, кто мне по душе; но в этом я часто руководствуюсь прихотью, поэтому не знаю, можно ли это назвать щедростью. Когда я вершу добро, то делаю это с большой охотой, и никто не внушает благодарность лучше меня. Я скупа на похвалы другим и редко осуждаю саму себя. Во мне нет ни злоречивости, ни насмешливости, хотя я лучше других знаю смешные стороны людей и склонна поднимать на смех тех, кто, как мне кажется, того заслуживает. Я плохо рисую, но пишу естественно и без труда. Что касается галантности, то к ней у меня нет ни малейшей склонности, и меня даже поддразнивают тем, что в стихах мне меньше всего нравятся страстные, ибо душа моя лишена нежности; но когда уверяют, что я столь же нечувствительна к дружбе, то против этого я изо всех сил возражаю, ибо люблю тех, кто того достоин, и тех, кому обязана, и признательней меня не найти на всем белом свете. Я от природы воздержанна, трапезы меня утомляют, как утомляет и наблюдать за теми, кто в них находит чрезмерное удовольствие. Гораздо больше я люблю спать, но любая мелочь, которой нужно заняться, лишает меня сна, что не причиняет мне ни малейшего неудобства. Я чужда интриганству: мне хочется знать, что происходит в свете, больше из желания от него удалиться, чем из стремления участвовать в его делах. У меня обширная память и есть способность к суждению. Хотелось бы, чтобы обо мне не судили по превратностям моей судьбы, до сих пор ко мне неблагосклонной, — если помнить, какой она должна была быть, — ибо такое суждение может оказаться не слишком мне приятным. Чтобы воздать мне по справедливости, стоит сказать, что я менее ошибалась в своих поступках, чем фортуна в своих вердиктах, ибо суди она верней, то, без сомнения, обошлась бы со мной получше.
Мадлен де Скюдери
Портрет принцессы Кларэнт из III части романа «Клелия»
(1657)
Еще до возникновения светской моды на составление портретов (зародившейся в 1656 г. и, как мы видели, окончательно выкристаллизовавшейся к 1659 г.) Мадлен де Скюдери запечатлевала черты современников в своих романах, превращая их в настоящие портретные галереи. Это прежде всего относится к двум знаменитым эпопеям «Артамен, или Великий Кир» (1649–1653) и «Клелия» (1654–1660), первая из которых написана ею в соавторстве с Жоржем де Скюдери. Обращаясь к сюжетам из древнегреческой, персидской или римской истории, брат и сестра сохраняли канву событий и основных исторических лиц, но перемежали их вымышленными эпизодами и вводили выдуманных персонажей. Как объясняла Мадлен де Скюдери,
Когда в ход идут знаменитые имена, описываются края, о которых все слышали и чья география в точности соблюдена, когда обращаются к достаточно известным событиям, то ум склонен поддаться соблазну и принять ложь наравне с правдой, при условии, что они искусно перемешаны.[180]
Но это — лишь часть рецепта, использовавшегося госпожой де Скюдери. Смешивая достоверные сведения о прошлом с собственными фантазиями, она добавляла к ним описания современной ей действительности — своих знакомых и покровителей, их домов, поместий и т. д. Иначе говоря, в ее романах присутствовало сразу три пласта: исторический (то есть опиравшийся на источники, считавшиеся историческими в середине XVII в.), вымышленный и реальный. Отличительная черта этой повествовательной техники состояла в том, что такая исходная тройственность не предполагала конечного единства. Как показала исследовательница Морле-Шантала, придавая историческим или вымышленным персонажам черты своих современников, госпожа де Скюдери не обязательно заботилась об их полном отождествлении. Например, в герое «Великого Кира» легко узнавался принц де Конде, однако не все действия персонажа соответствовали поступкам его прототипа. Соотношение между ними было опосредованным: и герой романа, и реальный Конде воспринимались как два разных воплощения одного идеального типа (в данном случае — «великого полководца»), за счет чего между ними был возможен обмен характеристиками, но что не отменяло их индивидуальности.
Кроме того, в романах госпожи де Скюдери было немало портретов персонажей, никак в действии не участвовавших. Все они являлись изображениями современников писательницы и, с одной стороны, обрисовывали круг ее знакомых, а с другой — свидетельствовали о своеобразной игре амбиций. Для многих попасть в «Клелию» было делом престижа: портрет как бы подтверждал, что человек вхож в круги, закрытые для непосвященных. Но и для госпожи де Скюдери выбор портретируемых был отнюдь не безразличен. Детальный, психологически тонкий портрет указывал на близкое знакомство с моделью, так что, запечатлевая черты знатной особы, автор подчеркивал свое привилегированное положение. С этой точки зрения портреты в «Великом Кире» и «Клелии» можно разделить на две категории: в одних была заинтересована сама госпожа де Скюдери, в других — портретируемые.
Престиж портретного жанра делал его предметом своеобразной коммерции между писательницей и светскими кругами. Как подсмеивался в «Буржуазном романе» (1666) Антуан Фюретьер, тарифицируя подобные услуги, «за вставленный [в роман] портрет или характер — 20 турских ливров».[181] Трудно сказать, насколько это справедливо по отношению к госпоже де Скюдери. Получаемая ею выгода не обязательно имела откровенно меркантильный характер. В каких-то случаях портрет мог быть знаком ее признательности за помощь, за покровительство, за оказанное гостеприимство. Да и от тех, кто хотел себя видеть запечатленным в ее романах, она ожидала скорее дружеской благодарности или ответной услуги, чем денег.
В «Портрете принцессы Кларэнт» не стоит искать следов корысти: госпожа де Скюдери была хорошо знакома со своей моделью, Мари де Рабютен-Шанталь, маркизой де Севинье. В середине 1650-х гг. им часто доводилось встречаться в парижских салонах. Госпожа де Севинье всегда оставалась преданной читательницей и почитательницей романов госпожи де Скюдери, а та не скрывала своего восхищения блестящим умом маркизы. Но если сравнить портрет из «Клелии» с аналогичным наброском госпожи де Лафайет, о котором речь пойдет ниже, то легко измерить расстояние, отделявшее светское знакомство от близкой дружбы. Госпожа де Скюдери не упоминает ни об одном недостатке госпожи де Севинье. И, понимая всю трудность индивидуализированного описания — как описать красивую женщину, чтобы она не была похожа на всех прочих красавиц? — не отказывается от литературных штампов (маркиза свежа как роза, губы у нее алые, кожа белоснежная, шея точеная и пр.). Именно конвенциональность сравнений подчеркивает дистанцию между писательницей и ее моделью. Как мы увидим в следующем разделе, госпожа де Скюдери была способна обходиться без штампов или иронически их обыгрывать. Здесь же ее речевое поведение столь же строго регламентировано, как, наверное, было регламентировано ее поведение в светском кругу.
На фоне «Портрета принцессы Кларэнт» портрет работы госпожи де Лафайет кажется почти интимным. По сути, он таковым и является, ведь речь в нем идет о сердце и душевных свойствах госпожи де Севинье, тогда как госпожа де Скюдери сообщает о внешних характеристиках, заметных любому наблюдателю: умении петь и хорошо танцевать, знании итальянского («африканского») языка. Количество внешних деталей как раз свидетельствует о том, что это взгляд со стороны, тогда как госпожа де Лафайет стоит так близко к своей модели, что внешние черты утрачивают определенность и как будто начинают расплываться.
Нет сомнений, что портрет принцессы Кларэнт послужил отправной точкой для аналогичных упражнений госпожи де Лафайет и Бюсси. На это указывает полемический пафос, в разной степени присутствующий в их портретах госпожи де Севинье. Особенно он заметен у Бюсси: в 1657 г. госпожа де Скюдери посвятила несколько строк пению госпожи де Севинье, в 1658 г. (или даже в 1661). Бюсси писал, что та в молодости действительно неплохо пела. Замечание это логически ни с чем не связано и обретает смысл лишь в контексте «Портрета принцессы Кларэнт». И госпожа де Лафайет по-своему разрабатывала темы, намеченные госпожой де Скюдери. Так, та утверждала, что ее модель «завоевывает сердца и дам, и кавалеров и внушает дружбу наравне с любовью». В интерпретации госпожи де Лафайет эта характеристика преобразилась в своеобразное соперничество полов за госпожу де Севинье, где «Неизвестный» вынужден признать поражение мужской части человечества.
«Портрет принцессы Кларэнт» был включен в третью часть «Клелии», увидевшую свет в 1657 г.
Портрет принцессы Кларэнт из III части романа «Клелия»[182]
Принц Эрисский, хотя и не молод, не столь обременен годами, чтобы считаться стариком, а поскольку он от природы галантен, на всем дворе лежит отпечаток его нрава; но, говоря по правде, этот небольшой двор может по праву называться самым воспитанным, интересным и остроумным из всех, мной виденных, благодаря принцессе Кларэнт, вдове его старшего сына. Принцесса Эрисская и вправду обладает особым талантом вдохновлять всех, кто к ней приближается: как говорится, рядом с ней никто не осмеливается обнаруживать недостаток ума. — Умоляю, — прервал тут Амилькар, — возьмите на себя труд описать нам ее красоту, ее ум и нрав. — То, о чем вы просите, — отвечал Эмиль, — гораздо труднее, чем вы думаете, ибо красота и ум принцессы Кларэнт отмечены такой деликатностью и своеобразием, что мне не найти подходящих выражений, чтобы вас с ней познакомить. Ибо скажи я, что она хороша собой, приветлива и бесконечно умна, ее можно было бы сравнить со многими представительницами ее пола, подходящими под это описание. Поэтому, чтобы отличить ее от прочих красавиц, вам необходимо знать свойства, присущие только этой восхитительной женщине. Тогда вам будет ведомо, что роста она самого приятного, намного выше среднего, но все же не слишком. Весь ее облик отличается непринужденностью, поступки — естественностью, а осанка — благородством; при первом взгляде на нее сразу понимаешь, сколь высоко ее происхождение и что весь век она проводит в лучшем обществе, а нравом весела, как будто собирается танцевать. У нее белокурые волосы — но не блеклого оттенка, и это ее украшает, — и превосходный цвет лица: самые суровые зимы не в силах лишить ее румянца, который так ее красит, оттеняя чудесную белизну кожи, что во все времена года она свежа, как свежи на весенней заре прекрасные розы. Кларэнт обладает еще одним преимуществом, ибо движения души никогда не портят цвета ее лица. Меланхолия не заставляет ее желтеть, гнев едва усиливает алость щек, скромность ее красит, а радость придает лицу такую безмятежность, что вблизи от нее успокаиваются самые встревоженные умы. Что до губ, то они прекраснейшего цвета в мире, а еще у нее красивый очерк лица, синие, полные огня глаза и столь прелестные щеки, что, когда она улыбается, в ней появляется нечто, не поддающееся выражению, и в этом часть ее прелести. Что касается шеи, то невозможно представить себе более точеную и белую; короче говоря, не сыскать дамы лучшей наружности, которой бы ничего не стоило покорение сердец. Не знаю, удастся ли мне разъяснить вам ее ум, но я точно знаю, что никогда не было более приятного, складного, просвещенного и тонкого. У нее живое воображение, и весь ее вид столь галантен, достоин и очарователен, что ее стыдно не любить. При всем том она сама признается, что порой бывает склонна к беспричинной печали, которая на три или четыре часа дает передышку веселости. Но эти печали столь незначительны и так быстро проходят, что, по сути, заметны лишь ей самой. Ее разговор свободен, занимателен и естествен; она говорит точно, хорошо, порой выражаясь простодушно или остроумно, так что всем приходится по вкусу; она не похожа на недвижных красавиц, в которых нет жизни, ее ухватки не бывают надуманны и происходят исключительно от живости ума, веселости нрава и счастливой привычки всегда сохранять изящество. Танцует она так чудесно, что похищает глаза и сердца всех, кто на нее глядит, ибо у нее есть такт, способность и нечто такое, чего не выразить, но что придает ее облику ту галантность и приятность, которой лишены все прочие. Кроме того, Кларэнт любит читать, и, не претендуя на высокий ум, великолепно разбирается в прекрасном. Она с удивительной легкостью выучила африканский язык, ибо Африка находится в тесных сношениях с Сицилией, и потому благородные сицилийские дамы захотели с ним познакомиться. Помимо этих редкостных качеств принцесса обладает нежным, верным и очаровательным голосом, и хотя увлекается пением и поет действительно превосходно, но — что достойно всяческих похвал, — как подобает особе ее звания, не видит в том чести, не заставляет себя умолять, ничего из себя не строит; причем делает она это столь галантно, что становится еще краше, особенно когда поет африканские песенки, которые ей нравятся более напевов ее края, ибо в них больше страсти. Кларэнт любит все прекрасное и все невинные развлечения, но свою славу она любит более себя и столь рассудительна, что нашла способ сохранить прекрасную репутацию, не ударяясь в строгости, застенчивость или одиночество, причем сохранить ее и при великом дворе, где она видит самых достойных людей и принуждает к любви сердца, на то способные. Правда, она никогда не давала надежды никому из влюбленных, но в ней столько достоинств, что отчаяние, обычное лекарство от страсти, не становится избавлением для ее воздыхателей. Меж тем Кларэнт не считает их поклонниками, и веселость, столь ей идущая и развлекающая саму ее, пока она развлекает других, позволяет ей причислять к своим друзьям всех тех, кто желал бы осмелиться претендовать на роль влюбленных. Но она так следит за своим поведением, что злоречие всегда уважало в ней добродетель и не подозревало в галантных интригах, хотя галантней ее на свете не найти. Порой, смеясь, она говорит, что влюблена лишь в собственную славу, которую обожает до ревности. Еще в ней удивительно то, что в свои годы она рассуждает о фамильных делах с осмотрительностью опыта, лишь со временем приобретаемого просвещенными умами; и более всего меня восхищает, что при нужде она легко обходится без светского общества и без двора, спокойно удовлетворяясь деревенскими развлечениями, как будто была рождена в лесах. И возвращается оттуда столь же прекрасной, веселой и нарядной, как будто не покидала Эриса. Я забыл вам сказать, что пишет она так же, как говорит, то есть самым приятным и галантным образом. Еще эта принцесса отличается очарованием столь великим и неотвратимым, что, наперекор обычаю, завоевывает сердца и дам, и кавалеров и внушает дружбу наравне с любовью. Можно смело заверить, что ею равно повержены зависть и злоречие, ибо она любима всеми красавицами и всеми достойными людьми двора. За исключением любимой мною особы, я никогда ни в ком не видал столько прелестей, веселья, галантности, ума, невинности и добродетели; никто лучше не владеет искусством быть изящной без натуги, шутливой без злости, веселой без неразумия, блюсти приличия без принуждения, любить славу без гордыни и быть добродетельной без суровости. В Кларэнт есть еще одно достоинство, необычное для дамы ее лет и нрава, ибо она способна следовать советам друзей и доверять им даже тогда, когда они расходятся с ее мнением. Правда, один из них известен ей с самого детства, и это человек исключительного достоинства, ума, рассудительности, знаний, добродетели и воспитанности, превосходно знающий свет, поэтому неудивительно, что в самом начале жизни ее выбор пал на него; судите сами, что такая принцесса не может не задавать тон своему двору. Посему могу вас заверить: на всем свете нет другого места, где, учитывая его протяженность, встречалось бы больше достойных людей, чем в Эрисе.
Мари-Мадлен Пиош де Ла Вернь, графиня де Лафайет
Портрет госпожи де Севинье, выполненный графиней де Лафайет
(1659)
Мари-Мадлен Пиош де Ла Вернь, графиню де Лафайет (1634–1693), с госпожой де Севинье связывали не только дружеские, но и родственные — вернее, свойственные — отношения: ее мать вторым браком вышла за Рено де Севинье, который приходился дядей мужу госпожи де Севинье. Тогда же, по-видимому, завязалось их знакомство. В 1659 г., когда был опубликован портрет маркизы, госпожа де Лафайет сама уже была замужем, ей исполнилось двадцать пять лет, то есть она пересекла грань между молодостью и зрелостью. Вряд ли случайно, что именно в это время появляется ее первое литературное произведение. Оно написано от лица «Неизвестного»: скрывшись под маской анонимного поклонника госпожи де Севинье, госпожа де Лафайет начинает игру с читателем, которую будет вести всю жизнь, никогда не признаваясь в авторстве собственных сочинений. Но «Портрет госпожи де Севинье» подразумевает лишь полупрозрачную завесу тайны, именно поэтому рядом с изображением портретируемой вырисовывается образ ее подруги, самой госпожи де Лафайет. Возникает своеобразный любовный треугольник: «Неизвестный» — госпожа де Севинье — госпожа де Лафайет; мнимое соперничество между «Неизвестным» и госпожой де Лафайет порождает игру иллюзий, столь любимую литературой и искусством конца XVI — середины XVII в.
Женщина, под видом мужчины ухаживающая за другой дамой, нередко появлялась на театральных подмостках эпохи. Даже оставляя в стороне шекспировских героинь, охотно переодевавшихся в мужское платье (их появление было связано со спецификой английского театра, где женские роли исполнялись мальчиками), здесь вспоминается пьеса Тирсо де Молина «Дон Хиль — зеленые штаны» и похожая коллизия, позже использованная Гольдони в «Слуге двух господ». Помимо эротического и, до определенной степени, комического эффекта, эта травестия обладала мощным воспитательным потенциалом. Играя роль кавалера, женщина обучала противоположный пол, как следует вести себя с дамами. Для этих же целей, заметим, создается такой знаменитый путеводитель по чувствам, как «Карта страны Нежности», о которой пойдет речь в четвертой главе.
Говоря о внешности госпожи де Севинье, «Неизвестный» прибегает к формуле отказа от описания, которая уже фигурировала в «Характере госпожи д’Олонн». Однако, в отличие от Сент-Эвремона, госпожа де Лафайет избегает внешних характеристик не только потому, что они банальны. С ее точки зрения, портрет не должен брать на себя роль зеркала: портретируемая, без сомнения, знает, как выглядит. Однако зеркальное отражение статично и не передает всего того, что видят посторонние глаза, когда госпожа де Севинье увлечена беседой и сама себя не видит. Госпожа де Лафайет стремится изобразить подругу в движении: вот она засмеялась, вот оживленно разговаривает, вот приветливо прощается с очередным гостем, который уходит в полной уверенности, что хозяйка от него без ума…
Как пишет госпожа де Лафайет, все это госпожа де Севинье вряд ли знает, поскольку не имеет привычки беседовать с зеркалом. Это, естественно, следует понимать в том смысле, что ей чуждо самолюбование (дама перед зеркалом — один из любимых моралистических сюжетов эпохи). Но стоит обратить внимание на использованное выражение. Судя по письмам и по этим портретам, круг госпожи де Севинье говорил на языке, в значительной степени насыщенном пословицами, поговорками и устойчивыми оборотами. Бюсси, рассуждая о качествах кузины, замечал, что «не все то золото, что блестит» и что «глаза — зеркало души»; госпожа де Лафайет — что той вряд ли вздумается беседовать с зеркалом, а сама госпожа де Севинье в письме к Бюсси возмущалась, что тот потчует ее сказками на манер «Ослиной шкуры», или радовалась, что вскормленных им змей и жаб высидела их общая знакомая, а не он сам. Хотя исследователи датируют начало увлечения волшебными сказками лишь 1685 г. (а сказки Перро появились еще позже, в 1690-х гг., в частности, «Ослиная шкура» — в 1695 г.), их присутствие уже ощутимо в образах и выражениях, используемых хорошим обществом.
Кроме того, язык госпожи де Лафайет отмечен некоторой «прециозностью» — склонностью к лингвистическим странностям, вычурности и повышенным вниманием к оттенкам эмоций. Упоминание «нежности» выдает в ней читательницу романов госпожи де Скюдери, сделавшей это слово важнейшим понятием прециозного лексикона. При помощи этого неологизма ей удается легко соскользнуть из номинальной сферы «любви» (как известно, брак госпожи де Севинье был не слишком удачен) в сферу «дружбы» (потенциальному переносу невостребованных чувств на собственный пол). Но здесь следует сделать оговорку. Нельзя исключать, что современному читателю такой перенос кажется более недвусмысленным, нежели того хотел автор. Однако еще раз подчеркнем, что речь идет именно о нежности. Как будет видно ниже, госпожа де Скюдери считала различие между нежностью и любовью основополагающим: первое чувство контролируется, дозволено даже незамужним девушкам (и уж тем более вдовам) и распространяется на оба пола. У госпожи де Скюдери к «нежным друзьям» причислялись как кавалеры, так и дамы. Своеобразный «отказ от любви» в пользу дружбы — характерная черта этого поколения: на нем строились отношения между госпожой де Скюдери и Полем Пелиссоном, госпожой де Лафайет и герцогом де Ларошфуко, и, в конце концов, госпожой де Севинье и госпожой де Лафайет.
«Портрет госпожи де Севинье» вышел в свет в 1659 г. сразу в двух изданиях: сперва в «Различных портретах», затем в «Собрании портретов и похвальных слов».
Портрет госпожи де Севинье[183]
Все, кто берется за портреты красавиц, выбиваются из сил, их приукрашивая, чтобы угодить, и никогда не решаются указать на единый недостаток; что до меня, сударыня, то, пользуясь привилегией быть вам неизвестным, я нарисую вас без оглядки и без стеснения выскажу все, как есть, не боясь навлечь ваш гнев; к своему отчаянию, я не в силах поведать вам ничего неприятного, а то какой досадой для меня было бы видеть, что, укорив вас в тысяче недостатков, сей неизвестный встречает у вас столь же радушный прием, как и те, кто всю жизнь вас превозносил. Не хочу засыпать вас похвалами и растрачивать слова на то, что вы замечательно сложены, что цвет вашего лица отличается красотой и свежестью, как будто вам не более двадцати лет, что у вас несравненный рот, зубы и волосы; не имею желания об этом говорить, ваше зеркало достаточно красноречиво, но раз вам вряд ли вздумается с ним беседовать, оно не сможет сказать, как вы милы и очаровательны, когда говорите; хочу, чтобы об этом вы узнали от меня.
Знайте, сударыня, если до сих пор сие вам неведомо, что ваш ум удивительно красит вашу особу и в мире не найти никого милей. Когда вы оживлены беседой, из которой изгнана принужденность, ваши речи столь очаровательны и так вам идут, что собирают вокруг вас Смех и Грации; блеск вашего ума заставляет сиять ваше лицо и глаза, и, хотя считается, что уму положено поражать лишь слух, ваш ослепляет взгляд; слушая вас, никому не придет в голову судить, достаточно ли правильны черты вашего лица, всем кажется, что в мире нет красоты более совершенной. Из сказанного вы можете заключить, что коли я неизвестен вам, то вы мне знакомы и я не раз видел вас и с вами разговаривал, разведывая, что именно придает вам эту приятность, которой дивится свет; однако, сударыня, я хотел бы явить вам не меньшую осведомленность в самой сути, а не только знание приятных качеств, и так для всех чувствительных. У вас высокая и благородная душа, склонная расточать свои сокровища и не способная унизиться до того, чтобы дать себе труд их копить. Вы чувствительны к славе и честолюбию и в не меньшей мере к удовольствиям. Кажется, что вы для них рождены, а они сотворены для вас. Ваше присутствие умножает праздник, а праздники, вас окружая, умножают вашу красоту; радость — естественное состояние вашей души, печаль для вас более противоестественна, чем для остальных. По природе вы нежны и страстны, но, к стыду нашего пола, эта нежность не была востребована, и вы оставили ее для собственного, одарив ею госпожу де Лафайет. Сударыня, когда бы в мире нашелся счастливец, в ваших глазах достойный сокровища, отданного ей во владение, то он заслуживал бы всех невзгод, которые любовь способна низвергать на подданных своего царства, если бы не положил всех сил, чтобы его добиться. Какое счастье быть господином сердца, чьи чувства изъяснялись бы с галантным и приятным умом, которым наградили вас боги! А ваше сердце, сударыня, — достояние, которого нельзя быть достойным, ибо никогда не было другого такого, столь же великодушного, прекрасного и верного. Некоторые подозревают, что вы не всегда показываете его таким, какое оно есть; напротив, вы привыкли чувствовать лишь то, что не стыдно показать, и потому порой обнаруживаете и то, что благоразумие века требует скрывать. От рождения вы в высшей мере вежливы и предупредительны; и благодаря непринужденности, услаждающей все ваши действия, даже простейшие выражения вежливости в ваших устах звучат как уверения в дружбе и выходящие от вас всегда убеждены, что пользуются вашим уважением и благосклонностью, хотя не могут отдать себе отчет, какие знаки того или другого им были оказаны. Вы одарены милостями Небес, ранее никому не отпускавшимися, и свет вам признателен за то, что в вас явлено множество приятнейших качеств, до тех пор ему неведомых. Я не стану их описывать, ибо тогда нарушу обещание не засыпать вас похвалами; к тому же, сударыня, чтобы воздать вам так, как вы того заслуживаете, так, чтобы это заслуживало всеобщего обозрения,
Следует быть вашим поклонником,
А я не имею чести им быть.
Роже де Бюсси-Рабютен
Портрет госпожи де Шенвиль из «Любовной истории галлов»
(1658–1661)
В мае 1658 г. Бюсси-Рабютен обратился к своей кузине, госпоже де Севинье, с просьбой одолжить денег под залог его части наследства их общего дядюшки. Вдова с двумя малолетними детьми — шесть лет назад ее муж погиб на дуэли — госпожа де Севинье была не вполне вольна распоряжаться своим состоянием. За делами присматривал аббат де Куланж, ее родич и доверенное лицо. Кроме того, как говорит один из персонажей «Любовной истории галлов», «деньги нынче становятся все большей редкостью»: структура доходов землевладельцев (к каковым относилась и госпожа де Севинье) давала мало свободной наличности. Это объясняет то, почему госпоже де Севинье было трудно одолжить деньги кузену и почему ей не слишком хотелось это делать.
В своем труде «Придворное общество» Норберт Элиас называет разницу между характером доходов и расходов одной из базовых характеристик этого типа общественного устройства.[184] «Дворянство шпаги», к которому принадлежал Бюсси, существовало на доходы от своих земель, которых бывало недостаточно как для жизни в столице и пребывания при дворе, так и для получения военных чинов. Во французской армии XVII в. чины лейтенанта и лейтенанта-полковника (последний был учрежден уже после описываемых событий, в середине 1660-х гг.) давались королем, меж тем как звания капитана и полковника можно было получить, заплатив соответствующую сумму их обладателю и испросив официальную санкцию на заключение сделки. Это означало, что купивший должность полковника был обязан содержать собственный полк (денежные суммы, выдаваемые казной на покрытие расходов, всегда оказывались сильно занижены). В случае разорения дворянину ничего не оставалось, как продать свою должность следующему покупателю. Приблизительно в таком положении был Бюсси, которому отсутствие наличных денег не позволило принять участие в военной кампании.
Как поясняет Элиас, вырваться из этой финансовой ловушки было невозможно: нужда в наличных деньгах заставляла дворян закладывать земли и продавать наследственные ценности, что, естественно, еще больше понижало их доходы. Но, покупая военные или придворные должности, «дворянство шпаги» надеялось на увеличение символического капитала — престижа, которое в итоге могло привести и к вполне реальным доходам (королевским милостям, получению прибыльных должностей и т. д.). Таким образом, когда госпожа де Севинье отказала Бюсси в деньгах, она тем самым нанесла ущерб его карьере, лишив возможности повысить престиж и в конечном счете заслужить награду от короля.
Бюсси отомстил за обиду, воспользовавшись последним светским увлечением, пущенным мадмуазель де Монпансье, и набросал язвительный портрет кузины. Интересно, что годом ранее Гастон Орлеанский предупреждал дочь, что мода на литературные портреты приведет к появлению карикатур (как язвительно замечала герцогиня, по-видимому, он опасался, как бы кто-нибудь не взялся за его портрет). Под пером Бюсси жанр портрета сохранил все свои характерные черты, с той разницей, что вместо галантных комплиментов в нем оказались собраны все слабости портретируемой. Не отрицая ее ума, он обвинил ее в интеллектуальном либертинаже (любви к вольным разговорам), холодном кокетстве (любит окружать себя поклонниками, но не имеет любовников) и показной набожности.
Последнее в высшей степени несправедливо: из переписки госпожи де Севинье очевидно, что ее благочестие было искренним. Но речь здесь не столько о внутренних чувствах, сколько о выборе модели поведения. Тридцатидвухлетней женщине, к тому же вдове, полагалось думать не о светских удовольствиях, но о праведной жизни и помощи бедным. Вспомним «Принцессу Клевскую» (1678) — роман, написанный ее ближайшей подругой, — чья героиня, овдовев, удаляется от общества, никого не принимает и в итоге поселяется при монастыре. Еще более определенно о тех возможностях, которые были открыты для одинокой и уже не очень молодой женщины, сказано в «Мемуарах» Мадмуазель, где граф де Лозен так рассуждал о ее положении (герцогине в то время было за сорок, и она по-прежнему оставалась незамужней дамой): «В сорок лет не должно предаваться радостям, которые приличны девушкам с пятнадцати до двадцати четырех». Естественно, что конвенциональные представления не всегда соответствовали реальному положению вещей. Свобода поведения во многом была связана с положением в обществе. Так, будучи кузиной короля, мадмуазель де Монпансье могла пренебрегать многими условностями, не навлекая на себя осуждения.
Госпожа де Севинье, которой надо было выдать замуж дочь и устроить карьеру сына, не имела возможности открыто игнорировать требования приличия, да и вряд ли того хотела. Поэтому, как следует из слов Бюсси, она старалась разделять стратегию публичного и частного поведения. Отказываясь от публичных увеселений, она тем самым отдавала дань своему возрасту и вдовству, меж тем как в частном кругу позволяла себе развлечения, не противоречившие нравственности. При этом сфера частной жизни для нее, очевидным образом, была не менее важна, нежели публичная. Бюсси такое отношение должно было казаться чуждым и непонятным. В отличие от кузины, он всеми силами сопротивлялся притяжению частной жизни, которое ему пришлось ощутить во время опалы.
Еще одно обвинение Бюсси — излишнее ослепление госпожи де Севинье величием королевского двора. По-видимому, это намек, что она не слишком вхожа в придворный круг и, попадая туда, ведет себя как горожанка. Он описывает эпизод, когда госпожа де Севинье танцевала с королем, — судя по всему, дело происходило где-то между 1644 (когда она стала госпожой де Севинье) и 1648 г. (началом Фронды, когда маркиз де Севинье оказался в партии принцев). Значит, Людовику XIV было где-то от шести до десяти лет; ирония Бюсси по поводу верноподданнических чувств кузины обусловлена нежным возрастом монарха. Однако даже с учетом этих хронологических рамок стратегия госпожи де Севинье не так уж нелепа. Как показало будущее, король отличался памятливостью, а в период регентства приветливое слово королевы-матери было капиталом, из которого при умении можно было извлечь выгоду. Поведение госпожи де Севинье показывает, что она куда лучше Бюсси отдавала себе отчет в этой механике, которой несколько десятилетий спустя начал виртуозно управлять повзрослевший Людовик XIV.
Появление портрета испортило отношения между кузенами, но не привело к полному разрыву. Для обоих личные размолвки оказались менее важны, нежели кровное родство. Не случайно, что когда они возобновили переписку, то одним из факторов примирения оказалось желание Бюсси написать историю рода Рабютенов.
По мнению исследователей, «Портрет госпожи де Севинье» написан на несколько лет раньше прочих историй скандальной хроники. Не исключено, что эта проба пера подтолкнула Бюсси к дальнейшим экспериментам. В любом случае в «Любовной истории галлов» он включен в рассказ автора о собственых любовных похождениях, и госпожа де Севинье, за которой Бюсси тоже ухаживал, фигурирует там под именем госпожи де Шенвиль.
Портрет госпожи де Шенвиль[185] из «Любовной истории галлов»
У госпожи де Шенвиль, как правило, прекрасный цвет лица, глаза у нее маленькие и блестящие, рот плоский, но прекрасного цвета, нависший лоб, нос как нос, ни длинный, ни короткий, с кончика квадратный, как и подбородок. По частям все некрасиво, но в целом довольно приятно. Она хорошо сложена, но лишена природного изящества. У нее точеная ножка и грубые плечи, грудь и руки. Волосы у нее светлые, мягкие и густые. Она хорошо танцевала и до сих пор сохраняет верный слух; у нее приятный голос, она немного поет. Вот более или менее все, что касается ее внешности. Нет во Франции женщины большего ума, нежели она, и мало кто может с ней сравниться. Ее манеры отличаются живостью и веселостью. Иные говорят, что для знатной дамы в ее характере слишком много игривости. В те времена, когда я у нее бывал, это суждение казалось мне нелепым и я именовал ее бурлескность веселостью; теперь же, когда я у нее не бываю и ее блеск меня не слепит, я согласен, что она слишком стремится быть забавной. Те, кто умен и, в особенности, весел и остроумен, находят у нее любезный прием. Она вам внимает, в точности схватывает то, о чем идет речь, угадывает вашу мысль и, как правило, увлекает вас дальше, нежели вы хотели зайти. Порой это ей стоит хлопот, и в пылу шутливого разговора она с радостью выслушивает вольности, которые ей говорят, если они несколько завуалированы. И даже с лихвой на них отвечает, полагая, что все было бы точно так же, не забегай она вперед обращенных к ней речей. При столь великой пылкости неудивительно, что у нее посредственная способность к суждению: обычно эти вещи несовместимы, и природа не пожелала сделать для нее исключение. Бойкий глупец всегда будет у нее в большем почете, чем человек достойный, но склонный к серьезности. Ее заботит, чтобы окружающие были веселы. Она любит хвалы, любит быть любимой и потому сеет, чтобы пожать, раздает похвалы, чтобы их получать. Ей милы все мужчины, любого возраста, рождения и достоинства, независимо от их занятий: для нее все сгодится, от королевской мантии до сутаны, от скипетра до чернильницы. Меж ними она предпочитает поклонников друзьям, а среди поклонников — веселых печальным. Меланхолики льстят ее тщеславию, весельчаки — ее склонностям. С одними она веселится и льстит себе мыслью, что могла стать причиной томности других.
По своему темпераменту она холодна, по крайней мере, если верить ее покойному супругу. Он говаривал, что этому обязан своей честью. Вся ее пылкость в уме. По правде, она более чем вознаграждает холодность темперамента. Если брать ее поступки, то не думаю, что брачные обеты были нарушены, если же намерения, то это совсем иное дело. Говоря откровенно, я считаю, что ее муж вышел сухим из воды в глазах людей, но уверен, что в глазах Господа он — рогоносец.
Эта красавица, желая участвовать во всех развлечениях, нашла, как она полагает, надежное средство веселиться, не нанося урон своей репутации. Она завела дружбу с четырьмя-пятью дамами суровой добродетели и повсюду появляется с ними. Она заботится не столько о том, что делает, сколько о том, с кем она. Поступая так, она убедила себя, что компания оправдывает действия; и мне кажется, что если благосклонности других дам легче добиться с глазу на глаз, то у нее скорее посреди ее собственного семейства. Порой она во всеуслышание отказывается участвовать в общей загородной прогулке, чтобы все укрепились во мнении о размеренности ее поведения; а некоторое время спустя, полагая себя в безопасности после громкого публичного отказа, сама устраивает пять или шесть частных загородных прогулок. По своей природе она любит удовольствия. Лишь две вещи заставляют ее порой от них отказаться: стратегический расчет и непостоянство; из-за них она наутро после ассамблеи нередко отправляется слушать проповедь. Сделав на людях несколько гримас, она полагает, что расположила всех в свою пользу и что тут немного дурного, а здесь немного хорошего поведения — и самое худшее, что может быть сказано, так это то, что одно уравновешивает другое и что она — достойная женщина. Льстецы, которыми кишит ее маленькая свита, уверяют ее в обратном; они не упускают случая подтвердить, что невозможно лучше найти согласие между разумным поведением и светом, удовольствием и добродетелью.
При всем уме и знатности она чрезмерно ослеплена величием двора. В тот день, когда королева к ней обратится, пускай лишь с вопросом, с кем она приехала, она будет вне себя от радости и долгое время спустя найдет способ уведомить всех, в чьем уважении заинтересована, как милостиво с ней говорила королева. Как-то вечером, когда король, с которым она танцевала, проводил ее на место, которое было рядом со мной. «Надо признать, — сказала она, — что король отмечен великими качествами; я думаю, что он затмит славой своих предшественников». Я с трудом мог удержаться, чтобы не рассмеяться ей в лицо, видя, какова причина ее похвал, и ответил: «Не сомневаюсь, после того, что он для вас сделал». Она тогда была так довольна Его Величеством, что из благодарности едва не закричала: «Да здравствует король!»
Есть люди, чьей дружбе пределом служит лишь таинство веры и которые ради друзей пойдут на все, что не оскорбляет Господа. Их называют друзьями до алтаря. Дружба госпожи де Шенвиль совсем иной породы. Эта красавица остается другом, пока дело не коснется кошелька. Из всех прелестных женщин лишь она оказалась способна обесчестить себя неблагодарностью. Видно, нужда внушает ей великий ужас, если, чтобы избежать одной ее тени, она не побоится стыда. Желающие ее извинить говорят, что в этом она полагается на советы тех, кому известен голод и памятна недавняя бедность. Но обязана ли она этим кому-то постороннему или себе самой, ничто так не естественно для нее, как эта экономия.
Величайшая забота госпожи де Шенвиль — казаться не такой, какая есть. С тех пор как это стало предметом ее усилий, она научилась вводить в заблуждение тех, кто ее не посещает или не стремится хорошо узнать. Но поскольку иные люди принимали в ней больше интереса, нежели прочие, они это заметили и убедились, что не все то золото, что блестит.
Госпожа де Шенвиль непостоянна вплоть до ресниц и зрачков. Они у нее разного цвета, а коль скоро глаза — зеркало души, их различие — предупреждение самой природы всем тем, кто к ней приближается, не слишком полагаться на ее дружбу.
Не знаю, потому ли, что ее руки не слишком красивы и она ими не слишком дорожит, или же ей не кажется милостью то, что дается всем без разбора, но их берут и целуют все, кто захочет. Полагаю, ее легко уверить, что в этом или в чем ином нет ничего дурного, если она сама считает, что это не приносит удовольствия. Сдержать ее может лишь обычай, да и то она без колебаний отвергнет его, а не людей, ибо прекрасно знает, что мода не позволит благопристойности удержаться в тех тесных рамках, которые на нее стремятся наложить. Вот, мои дорогие, портрет госпожи де Шенвиль.
Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье
Письма графу де Бюсси-Рабютену
(1668)
Летом 1668 г. Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696), и Бюсси-Рабютен возобновили отношения, почти сошедшие на нет в 1665 г. после публикации «Любовной истории галлов». Снова вступив в переписку с опальным кузеном, госпожа де Севинье не без лукавства именовала этот эпистолярный обмен то тяжбой, то поединком. Его предметом был не только сам «Портрет госпожи де Шенвиль», но факт его обнародования. Как ни странно, это были две разные обиды. Естественно, госпожа де Севинье была в претензии на кузена за нелестное изображение и отказывалась себя в нем узнавать. Однако не этот инцидент привел к разрыву, а циркуляция текста сперва в рукописном, затем в печатном виде. Как видно из оправданий Бюсси, он прекрасно понимал, что именно ставилось ему в вину, и, не отрицая своего авторства, пытался переложить ответственность за распространение текста на своих недоброжелателей.
Раздор между кузенами позволяет понять, где в ту эпоху проходила граница дозволенного. Прежде всего, ее расположение определялось соотношением частной и «частной публичной» сферы. Пока «Портрет госпожи де Шенвиль» был известен единицам, его существование оставалось частным делом между госпожой де Севинье и Бюсси, которое улаживалось приватным образом (через посредничество друзей) и без шума. Когда списки начали ходить по рукам, госпожа де Севинье сочла необходимым публично рассориться с кузеном и не афишировать их последующее примирение. Но это была лишь первая степень перехода от частности к публичности: хотя в ту эпоху обращение рукописных текстов порой не уступало книжному, их аудитория оставалась ограниченной и контролируемой. Маршрут манускрипта в значительной степени повторял рисунок той своеобразной информационной сети, которую создавали переписка, салонные беседы, обмен новостями между знакомыми. Так, «Любовная история галлов» была доверена Бюсси на сорок восемь часов его недавней знакомой госпоже де Ла Бом, которая за это время успела снять с нее по крайней мере одну копию и пустить по своим светским каналам. Появление книги представляло собой более высокую степень публичности не столько в количественном, сколько в качественном отношении. В принципе, тираж издания мог не превышать числа рукописных копий. Однако распространение книги подчинялось иным законам и попадало в зависимость уже не от сословных, а от финансовых возможностей читателя. Отсюда ужас госпожи де Севинье перед печатным станком, превратившим ее в «потешную книгу для всех провинций».
Невозможность контролировать читательскую аудиторию — один из резонов, традиционно выдвигавшихся некоторыми сочинителями XVII в. против издания собственных книг. Многие светские поэты, включая Вуатюра, отказывались печатать свои произведения. Это позволяло им не компрометировать себя и не омрачать репутацию «человека достойного» подозрением в излишнем профессионализме. Более того, переход от рукописной к печатной форме воспринимался как «вульгаризация» текста, и, согласно распространенному мнению, сочинения, пользовавшиеся успехом в «допечатном» виде, обычно проигрывали, выйдя из-под типографского пресса. Если оставить за скобками очевидный снобизм этой позиции, то в ней была доля истины: многие рукописные тексты изначально предназначались для ограниченной аудитории, за пределами которой они утрачивали большую часть смысловых оттенков. Как мы увидим в следующем разделе, госпожа де Скюдери, будучи профессионалом пера, прекрасно умела стратифицировать свою публику и знала, какие тексты печатать, а какие нет.
Однако свободное хождение рукописи увеличивало шанс того, что она будет незаконно «тиснута» каким-нибудь расторопным голландским издателем. В пределах Франции публикация требовала получения официального разрешения или, как тогда говорили, привилегии. Претендовать на нее мог либо автор, либо издатель, который предоставлял рукопись для прочтения и утверждения соответствующему королевскому секретарю. Издатель, конечно, мог это сделать и без ведома автора, но, как правило, у последнего было достаточно времени, чтобы успеть заявить о своих правах до выдачи привилегии. Если же рукопись пересекала границу королевства и попадала в руки голландских печатников, то автор был бессилен помешать ее публикации. С одной стороны, авторского права в современном понимании еще не существовало, [186] с другой — характер многих произведений делал неудобным открытое признание в их авторстве.
Судя по всему, именно так обстояло дело с рукописью «Любовной истории галлов», хотя нельзя исключать и тот факт, что Бюсси мог сам переправить ее издателю. Печать давала автору возможность более широкого (и менее выборочного) распространения текста, но она же делала его более уязвимым. Как описывал эту ситуацию Сент-Аман (1594–1661), еще один известный поэт эпохи,
Рассудку вопреки и здравому резону, Желавшему стихи не выпускать из дому, Чтоб им забавою для черни не бывать, Я вижу, что пора учиться угождать. Из кабинета дать им вырваться на волю, Под пресс, где обрету я мученика долю, С тисненым именем и глоткою сухой, Залитой второпях чернильной чернотой; И вот стать книгою и не иметь кафтана Иного, нежели из кожи иль сафьяна; Чтоб хором торгаши, обсевшие Дворец, Мне громко прочили бессмертия венец; И чтоб за четвертак какого-нибудь фата Я мог бы сделаться подтиркою для зада.[187]Парадоксальным образом появление книги ограничивало личную свободу автора, который оказывался загнан в переплет и беспомощен перед лицом покупателя, который мог приобрести его отнюдь не для чтения. Но это одно из правил игры, в которую автор вступал, когда брался за перо. Случай госпожи де Севинье иной: в «потешную книгу» ее превратил Бюсси. Пока рукопись оставалась в частном кругу, хорошо знавшем обе стороны конфликта, госпожа де Севинье была обижена, но молчала. Когда манускрипт начал ходить по рукам, ей пришлось громко заявить о своем негодовании, поскольку теперь под ударом оказалась ее репутация в глазах хорошего общества. Но публикация книги делала ее совершенно беспомощной. Потенциальные читатели книги ее не знали и не могли знать лично, однако Бюсси давал им право судить о ней, тем самым выставляя ее в качестве «публичной» женщины.
Механизмы взаимодействия частной и «частной публичной» сферы объясняют, почему в зависимости от способа существования текста он воспринимался то как безобидный, то как в высшей степени опасный. Несмотря на язвительность, «Портрет госпожи де Шенвиль» — отнюдь не карикатура. Сама госпожа де Севинье в письме кузену признавалась, что «он показался бы мне весьма милым, если бы его предметом была не я, а автором не вы». Бюсси в нем не выходил за пределы допустимых в светском кругу насмешек и злоречия. Здесь стоит заметить, что общая тенденция к злоупотреблению острословием беспокоила его современников. Если в первой половине века, когда был написан «Достойный человек» Фаре, словесные перепалки казались желательной альтернативой дуэли, то к 1660-м гг. писателей-моралистов стало тревожить слишком широкое распространение этого оружия. Как уже было упомянуто, Антуан де Куртэн посвятил вопросам чести отдельный трактат, а аббат де Бельгард был автором «Размышлений о том, что вызывает насмешки и как их избежать» (1696). Госпожа де Скюдери в «Беседах на разные темы» (1680) высказала мнение, что невинных насмешек не бывает, ибо для них практически не существует подходящего предмета:
Я смело утверждаю, что нельзя насмехаться ни над преступлениями, ибо их следует ненавидеть; ни над несчастьями, ибо им следует сочувствовать; ни над телесными недостатками, ибо от них невозможно избавиться; ни над старостью, ибо ее никому не избежать, кроме тех, кто умирает молодым; ни над чужеземцами как чужеземцами — ведь, к примеру, перс не может не быть персом, так же как вы не можете не быть француженкой.[188]
Этот перечень недозволенных, но распространенных поводов для насмешек отчасти объясняет, почему госпожа де Севинье не могла простить Бюсси упоминание о разном цвете ее глаз: здесь он нарушил правила приличия в большей степени, чем когда нелестно характеризовал ее моральные качества.
Однако, выходя за пределы сугубо частного пространства, насмешка превращалась в публичное оскорбление, что диктовало обиженной стороне иную тактику поведения. Если, по собственному признанию, прочитав «Портрет госпожи де Шенвиль», госпожа де Севинье ограничилась тем, что проводила ночи без сна, то когда этот текст получил огласку, она публично порвала с Бюсси.
Интересно, что и вторым, посмертным выходом в публикационное пространство госпожа де Севинье тоже была обязана Бюсси, но уже не Роже, а его сыну, который в 1697 г. напечатал часть отцовской переписки. Первое отдельное издание писем госпожи де Севинье появилось в 1725 г.
Письма графу де Бюсси-Рабютену[189]
Графу де Бюсси-Рабютену, 26 июля 1668 г., Париж
Сперва я в двух словах отвечу на ваше письмо от 9 числа сего месяца, и на этом наша тяжба будет завершена.
Вы меня атакуете без предупреждения, господин граф, и ставите в вину, что мне не особенно дороги несчастные; иначе мне следовало бы рукоплескать вашему возвращению; одним словом, что я вою заодно с волками и в достаточной мере светская дама, чтобы не перечить тем, кто дурно отзывается об отсутствующих.
Вижу, вы плохо осведомлены о новостях нашего края. Знайте, кузен, что уличать меня в слабости, когда дело касается моих друзей, отнюдь не в моде. У меня полно других недостатков, как заверяет госпожа де Буйон, [190] но этого нет. Эта мысль существует лишь в вашей голове, я же не раз выказывала великодушие к опальным и потому в чести во многих местах, о которых рассказала бы вам, если бы пожелала. Я не заслужила этого упрека и хочу, чтобы вы вычеркнули его из списка моих недостатков. Но обратимся к вам.
Мы с вами родня, одной крови; мы друг другу приятны, любим друг друга, принимаем интерес в наших взаимных судьбах. Вы просили меня одолжить вам денег под залог десяти тысяч экю, которые должны были унаследовать от господина де Шалона.[191] Вы говорите, что я вам отказала, а я говорю, что одолжила; вы знаете, и наш друг Корбинелли[192] тому свидетель, что мое сердце того хотело, но, пока мы улаживали некоторые формальности, чтобы получить согласие Нешеза занять ваше место в числе наследников, вы потеряли терпение; к несчастью, найдя меня достаточно несовершенной телом и душой, чтобы написать мой портрет, вы это сделали, предпочтя нашей старинной дружбе, вашему имени и самой справедливости удовольствие получать похвалы за свое творение. Вы знаете, что одна дама из числа ваших друзей великодушно принудила вас его сжечь;[193] она думала, да и я тоже, что вы так и поступили; когда же некоторое время спустя я узнала, что вы творили чудеса по поводу моей истории с господином Фуке, [194] это заставило меня окончательно вас простить. Вернувшись из Бретани, [195] я помирилась с вами, и вы прекрасно знаете, до какой степени это было искренне! Вам известно и наше путешествие в Бургундию, и то, как простодушно я возвратила вам прежнее место в своих дружеских чувствах. Я вернулась совершенно одурманенная вашим обществом. Нашлись люди, мне говорившие: «Мы видели ваш портрет у госпожи де Ла Бом».[196] Я отвечала им презрительной улыбкой, жалея их, веривших собственным глазам. «Я его видел», — опять мне говорят через неделю; я снова улыбаюсь. Я даже, смеясь, рассказываю об этом Корбинелли, и снова показываю насмешливую улыбку, уже дважды использованную; так продолжается на протяжении пяти или шести месяцев, во время которых меня жалеют все, над кем я смеюсь. Наконец настает несчастный день, когда я своими собственными разными глазами вижу то, во что не желала верить. Если бы на голове у меня выросли рога, я удивилась бы меньше. Я читаю и перечитываю этот жестокий портрет и нахожу, что он показался бы мне весьма милым, если бы его предметом была не я, а автором не вы. Я нахожу его столь умело оправленным и до такой степени на своем месте, что не могу тешить себя надеждой, что он сделан не вами. Я признаю его по многим деталям, о которых мне говорили ранее, но не по изображению моих чувств, от которых я полностью отрекаюсь. Наконец я вижу вас в Пале-Рояле и говорю вам, что книга ходит по рукам. Вы пытаетесь меня убедить, что портрет был кем-то восстановлен по памяти и вставлен обратно. Я вам не верю. Мне вспоминаются предупреждения, которые мне делали и над которыми я смеялась. Я нахожу, что место для портрета выбрано столь точно, что отеческая любовь не дала вам обезобразить свое творение, изъяв его оттуда, где он сидит как влитой. Я вижу, что вы посмеялись и над госпожой де Монгла, [197] и надо мной; что я была вами обманута; что вы воспользовались моей доверчивостью; что вы имели резон считать меня дурочкой, видя, что сердце мое вернулось к вам, и зная, что ваше меня предало — что было потом, вы знаете.
Ходить по рукам по всему миру, быть напечатанной, стать потешной книгой для всех провинций, где подобные вещи наносят непоправимый урон, находить себя в библиотеках и быть всем этим обязанным кому? Я не хочу далее излагать свои резоны; у вас довольно ума, и я уверена, что, если вы возьмете за труд четверть часа поразмышлять, вы их увидите и почувствуете, как я. Меж тем как я поступила, когда вы были арестованы?[198] С болью в душе я выразила вам свои сожаления, сочувствовала вашему несчастью, даже говорила об этом в свете и столь неприкрыто высказывала мнение по поводу поступка госпожи де Ла Бом, что поссорилась с ней. Вы выходите из тюрьмы, я у вас часто бываю, прощаюсь с вами перед отъездом в Бретань, пишу вам, когда вы возвращаетесь в свои земли, слогом свободным и лишенным обиды; наконец, я пишу вам, когда госпожа д’Эпуасс[199] говорит мне, что вы разбили голову.
Вот что я хотела вам сказать раз и навсегда, и выкиньте из головы, что виновата здесь я. Сохраните мое письмо и перечитывайте его, если вам снова взбредет в это поверить, будьте справедливы, как если бы вы судили о том, что произошло между двумя другими людьми. Пусть ваша заинтересованность не заставит вас видеть то, чего нет; признайтесь, что вы жестоко оскорбили нашу дружбу, и я буду обезоружена. Но вы ошибаетесь, если думаете, что раз вы ответили, я смогу замолчать; для меня это невозможно. Я всегда вербализую и вместо того, чтобы, как обещала, написать вам пару слов, написала пару тысяч; и в конце концов мои письма чудовищной длины и убийственной скуки заставят вас просить у меня прощения, то есть пощады. Так сделайте это по доброй воле.
В остальном я почувствовала, когда вам сделали кровопускание. Это было 17 числа этого месяца? Точно: оно принесло мне огромное облегчение, и я вас благодарю. Мне так трудно пустить кровь, что в высшей степени милосердно с вашей стороны подставить свою руку вместо моей.
Что касается прошения, то пришлите мне вашего доверенного человека с бумагами, я передам их через подругу этому господину Дидэ (я с ним незнакома), [200] и даже отправлюсь к нему вместе с ней. Вы можете быть уверены, что если я могу оказать вам услугу, то сделаю это от всего сердца и по доброй воле. Не буду вам говорить о том интересе, который я всегда принимала в вашей судьбе: вы подумаете, что причиной тому Рабютинство; нет, причина — вы сами. Из-за вас я испытала печаль и горечь при виде трех новопроизведенных маршалов Франции. Госпожа де Виллар, [201] которой отдавали по этому случаю визиты, заставила меня подумать, что такие же визиты отдавали бы мне, когда бы вы того пожелали.
Прелестнейшая девушка Франции вам кланяется. Такое имя мне кажется приятным, тем не менее я устала ему радоваться.[202]
Графу де Бюсси-Рабютену; от 28 августа 1668 г., Париж
Еще одно слово, и все: это будет зачином ответа на ваш ответ.
Где, черт побери, вы полагаете, я должна была отыскать двенадцать или пятнадцать тысяч франков? Что, они лежали у меня в шкатулке? Или были в кошельках моих друзей? Только не говорите мне про кошелек суперинтенданта: я никогда там ничего не искала и не находила; если бы за меня не поручился аббат де Куланж, [203] я бы не смогла отыскать и четверти экю, но он соглашался действовать лишь под залог собственности в Бургундии, действительно необходимой или бесполезной, — таково было его условие; что до меня, то я была в отчаянии, не имея возможности доставить вам это удовольствие. И вот этот проклятый портрет сделан и доведен до совершенства. От радости, что он так удался и заслужил одобрение, вы решаете, что во всем виновата я, и, желая избавиться от угрызений совести, даже усугубляете мою вину. Госпожа де Монгла убеждает вас его порвать, но затем ее супруг собирает обрывки и возвращает его к жизни. Что за чушь вы мне поете? Разве он был причиной того, что вы поместили портрет в одном из ключевых мест своей истории? Если вам его вернули, то вы могли бы убрать его в шкатулку, а не пускать в ход; тогда он не попал бы в руки госпожи де Ла Бом и не был бы переведен на все языки. Не говорите мне, что это чужая ошибка, неправда, она ваша, и я бы отвесила вам хорошую пощечину, если бы имела честь находиться рядом с вами и вы бы начали мне плести такие небылицы. Вот что меня больше всего мучит: я вам поверила, а вы предали меня в руки разбойников, то есть госпожи де Ла Бом; и вы знаете, что, когда мы с вами помирились и вам понадобились деньги, я вам позволила занять под мое имя, а когда вы не смогли никого найти, то сама заняла под расписку у господина Ле Мэгр две сотни пистолей, которые вы позже ему вернули. Что же до того, что, как вы пишете, впервые увидев портрет, я при свидании с вами не выказала гнева, не обманывайте себя, господин граф, я была в ярости и целые ночи проводила без сна. Но то ли видя вас обремененным делами куда более существенными, то ли надеясь, что дело не получит огласки, я не стала засыпать вас упреками. Когда же я увидела себя в руках у публики и разосланной по провинциям, признаюсь, я пришла в отчаяние, и, не имея вас перед глазами, чтобы поддаться обычной слабости и старинной к вам нежности, я позволила сердцу зачерстветь и во время вашего заточения делала лишь то, что следовало: мне и это казалось немалым. Когда вы вышли, то оказали мне доверие, дав об этом знать; я была тронута: кровь всегда берет свое, а время отчасти смягчило обиду, остальное вам известно. Я не объявляю, в каких отношениях мы с вами сейчас: меня побьют камнями, если я пущусь на большие изъявления сердечности. Это в сторону, я от всей души желаю, чтобы вы были в состоянии находиться здесь и снова оставить меня в дураках. Не заходя так далеко, еще раз скажу, что единственное покаяние, то есть единственное наказание, которое я вам предназначаю, — поразмыслить над дружбой, которую я всегда к вам питала, над моей безвинностью в вашей первой обиде, над моим доверием к вам при нашем примирении, из-за которого я лишь смеялась над предостережениями, а еще о змеях и жабах, которых вы все это время вскармливали против меня и которых, к счастью, высидела госпожа де Ла Бом. Баста, я закрываю ваш процесс.
Что до шутки по поводу карниза, то даже не хочу об этом говорить. По-моему, вы должны быть благодарны мне за сдержанность, за то, что я в уменьшительном виде говорила о том, что бывает столь большим.[204]
Я получила то, что вы мне послали касательно нашего дома; это безумство меня увлекает. Господин де Комартен[205] очень любопытствует по поводу этих изысканий. В таких случаях хорошо ничего не упустить, они не так часто выпадают. Господин аббат де Куланж посетит господина дю Буше, [206] а я напишу шампанским Рабютенам, чтобы собрать все наши бумаги. Также напишите ему прислать мне список всего, что у него есть; что-то лежит у моего дяди-аббата. Приятно установить благородство своего рода, когда к этому вынуждают.
Прелестнейшая девушка Франции в полной мере заслуживает вашего уважения и вашей дружбы, она вам кланяется. В ее судьбе так трудно разобраться, что я уже ничего не понимаю.
Известно ли вам, что мой сын отправился в Кандию вместе с господином де Роаннесом и графом де Сен-Поль?[207] Эта фантазия втемяшилась ему в голову. Он поведал о ней господину де Тюренну, кардиналу де Рецу и господину де Ларошфуко:[208] посудите, какой набор! Все эти господа горячо его одобрили, дело было решено и получило огласку до того, как дошло до меня. Он уехал — я горько плакала, это чувствительное для меня огорчение, и мне не знать ни минуты покоя, пока он путешествует. Я предвижу опасности, меня это убивает, но в подобных случаях матери не имеют права голоса. Прощайте, граф, я устала писать, но не перечитывать нежные и любезные выражения, рассыпанные по вашему письму: ни одно от меня не ускользнуло.
Графу де Бюсси-Рабютену, 4 сентября 1668 г., Париж
Поднимитесь, граф, я не желаю вас убивать поверженным; или снова возьмите меч, и мы продолжим наш бой. Но лучше я дарую вам жизнь и мы будем жить в мире. Я хочу только одного: признайте, что все было так, как было. По-моему, я поступаю благородно, и вы больше не сможете именовать меня маленькой грубиянкой.
Я не нахожу, что вы сохранили ту нежность, что когда-то испытывали к пленившей вас красавице. Лучше вспомним ваши давние слова:
В придворном крае Утратив уважение, Любовь теряешь.Господин де Монтозье назначен гувернером Дофина:
Ты был обласкан мной, а будешь во сто крат.[209]Прощайте, граф. Теперь, когда я вас одолела, я буду везде твердить, что вы — отважнейший человек во всей Франции, и я расскажу о нашей схватке, когда мне выпадет говорить о поединках.
Моя дочь вам кланяется. Ваше мнение о ее судьбе нас несколько утешило.
Глава четвертая Карта страны Нежности
В «Смешных жеманницах» (1659) одна из героинь сетует на дурные манеры женихов, которых навязывают ей и кузине:
Я готова об заклад побиться, что эти неучтивцы никогда не видали Страны Нежности, что селения Любовные Послания, Любезные Услуги, Галантные Изъяснения и Стихотворные Красоты — это для них неведомые края (I, 5).[210]
Эта реплика, как и вся мольеровская комедия, была рассчитана на бурную реакцию зала, на немедленное узнавание литературных и культурных аллюзий. По ней мы можем судить, сколь велика была известность «Карты страны Нежности», включенной в первый том романа госпожи де Скюдери «Клелия» (1654–1660). За четыре года, прошедшие с момента публикации, знание о ней до такой степени стало общим местом, что провинциальные актеры, приехавшие покорять Париж — а именно таково было положение мольеровской труппы в 1659 г., — нашли возможным упомянуть ее для пущего эффекта. С тех пор исследователи не перестают спорить, следует ли считать «Карту страны Нежности» квинтэссенцией прециозной культуры или нет.
О популярности «Карты страны Нежности» свидетельствует и немалое количество пародий и подражаний. В том же 1654 г. появилась «Карта страны Кокетства» аббата д’Обиньяка и, возможно, «Карта страны Прециозниц» Молеврие. Датировка последней остается приблизительной, поскольку опубликована она была лишь в 1659 г., во время новой вспышки интереса к этому жанру (скорее всего, прямо спровоцированной успехом мольеровской комедии). Тогда на свет появились «Описание воображаемого острова и история принцессы Пафлагонийской» мадмуазель де Монпансье, приписываемая Тристану Л’Эрмиту «Карта страны Любви» и «Новая аллегория, или Описание последних беспорядков, случившихся в стране Красноречия» Антуана Фюретьера. Как и «Карта страны Нежности», некоторые из этих сочинений сопровождались рисунком, но в основном это были словесные описания топографии любовных (и отнюдь не всегда нежных) отношений.
Публикуемые ниже тексты отражают начальный и конечный этапы формирования «Карты страны Нежности», которая возникла из салонной забавы, чтобы затем стать частью романного повествования. Этот генезис носит подчеркнуто биографический характер, поскольку карта оказалась своеобразной завязкой жизненного сюжета, соединившего госпожу де Скюдери и Поля Пелиссона. Однако не стоит забывать и о другом аспекте проблемы: за «Картой страны Нежности» стояла литературная и общекультурная традиция, обусловившая кажущуюся легкость и спонтанность этого изобретения. Наиболее очевидна ее связь с позднесредневековой куртуазной эстетикой, откуда позаимствован механизм своеобразной «материализации» абстрактных понятий. Так, в знаменитом «Романе о Розе» (XIII в.) влюбленный в Розу герой стремится к Источнику Любви, который расположен в Саду Наслаждений. Путь ему преграждают пороки — Ненависть, Зависть, Скупость, Старость, Нищета и целый ряд других, меж тем как преодолеть препятствия ему помогают добродетели — Веселье, Радость, Красота, Богатство, Щедрость, Юность и пр. В XVII в. отголоски этой традиции были ощутимы в пасторальном романе: герои «Астреи» (1607–1627) Оноре д’Юрфе тоже искали Источник Истины в Любви, но уже не имели дела с аллегорическими персонажами, хотя и для них странствия были метафорой духовного пути, который необходимо пройти, чтобы удостоиться конечной награды. Госпожа де Скюдери материализовала метафору пути, разбив его на конкретные этапы. Ее путешественники, следующие по одному из трех возможных маршрутов, не сталкиваются со Злобой или Красотой. Вместо этого, передвигаясь из одного пункта в другой, они сами должны проявлять те или иные качества — Честность, Щедрость, Добросовестность и т. д.
Такое внимание к подробностям маршрута можно объяснить характерным для XVII в. стремлением к систематизации знаний об окружающем мире. Хотя эту эпоху трудно заподозрить в любви к путешествиям — как отмечал Поль Азар, по сравнению с предшествующим столетием современники Людовика XIV вели удивительно оседлый образ жизни, [211] — процесс освоения только что открытых или давно известных пространств требовал создания их вербальных эквивалентов. Собственно говоря, описание новых земель давало возможность освоить их ментально. Не случайно в это время начинают появляться первые путеводители, а правительственные структуры уделяют повышенное внимание картографии.[212] Систематизация внешнего пространства легко переходила в упорядочивание внутреннего. Когда королева Марго приступила к описанию своей жизни, то она использовала картографическую метафору:
Подобно тому как географы в описании земель, дойдя до последней точки своих знаний, говорят: «Дальше нет ничего, кроме песчаных пустынь, необитаемых земель и несудоходных морей», так и я могу сказать, что от этого момента [эпохи короля Генриха II] у меня остались лишь смутные воспоминания о раннем детстве.[213]
В этом смысле ее «Мемуары» были романом о жизненном путешествии — о том, как от песчаных пустынь бессознательного состояния (детство для нее, как и для ее современников, было животной или растительной фазой человеческого существования) она дошла до ясного самосознания.
Пример мемуаров Маргариты де Валуа напоминает еще об одном источнике аллегорической картографии XVII столетия. Это традиция духовных паломничеств, которая в рамках католической культуры продолжала сохранять актуальный и вполне буквальный характер посещения святынь, а в протестантской дала новый всплеск аллегоризма, главным примером которого стал «Путь паломника» (1678) Бэньяна. Вряд ли следует считать простым совпадением то, что, когда госпожа де Скюдери рассуждала о расстоянии, отделяющем Дружескую Близость от Нежности, ей вспоминались башни Шартрского собора, одной из французских святынь, которые она видела, возвращаясь в столицу из провинции. Или то, что идея аллегорической «материализации» принадлежала протестанту Пелиссону, который одной репликой сумел превратить выстраиваемую госпожой де Скюдери иерархию дружеских отношений в своеобразный маршрут духовного совершенствования.
Еще один фактор, безусловно повлиявший на конкретное оформление «Карты страны Нежности», связан с особенностью салонной культуры, а именно со свойственной ей любовью к розыгрышам, загадкам, разнообразным играм. В отличие от двора, где много и азартно играли в карты, в салонах старались избегать такого рода развлечений, предпочитая им настольные игры. Как и в наше время, последние предполагали наличие игрового поля, по которому передвигались игроки, определяя количество ходов броском костей и исполняя задания, диктовавшиеся их попаданием на ту или иную позицию. По всей видимости, в своем окончательном варианте «Карта страны Нежности» не исключала возможности аналогичного использования. Все, что сообщает «Газета страны Нежности» о перемещениях игроков, укладывается в схему настольной игры, когда одному участнику удается перепрыгнуть сразу через несколько пунктов, а другому из-за неудачного броска костей приходится оставаться на месте. Исследователи считают, что, скорее всего, игроки разбивались на пары и задачей игры было не просто добраться до одного из конечных пунктов, но добраться туда одновременно с партнером. Если этого не происходило, то оба были вынуждены снова вернуться на исходную позицию.[214]
«Карта страны Нежности» является характерным примером уже обсуждавшегося отсутствия четких границ между «словесностью» и «частной публичностью» салонного существования. Она возникает из салонной забавы, придуманной «Сафо» и «Акантом», дает толчок к созданию целого ряда прозаических и поэтических текстов (в частности, «Газеты страны Нежности»), затем госпожа де Скюдери делает ее частью романного повествования. В опубликованном виде «Карта страны Нежности» начинает обратный путь, повторно расходясь по салонам, где ее снова могли использовать в качестве настольной игры.
Мадлен де Скюдери, Поль Пелиссон и другие
Субботние хроники
(1653–1654)
В 1653 г. в жизни Мадлен де Скюдери произошло несколько значимых событий. Во время поездки в загородный дом своей подруги, госпожи Арагонне («Филоксены»), она свела знакомство с Полем Пелиссоном (1624–1693), только что закончившим работу над «Историей Французской академии» (1653). Появление нового персонажа в окружении сестры не обрадовало Жоржа де Скюдери, считавшего, что автор «Истории» отозвался о нем недостаточно хвалебно (собственно говоря, Пелиссон лишь заметил, что из так называемого спора о «Сиде» победителем вышел Корнель). Обида Жоржа не позволяла Мадлен принимать провинившегося историка у себя, но они виделись в доме ее подруги, госпожи Боке («Ажеласт»). Впрочем, это препятствие вскоре исчезло, поскольку по завершении Фронды Жорж де Скюдери, слишком гласно поддерживавший интересы клана Конде — Лонгвилей, почел за лучшее на время покинуть Париж. Мадлен с ним не поехала, тем самым начав новый жизненный этап, ознаменованный большей степенью творческой и личной самостоятельности. Ее «Субботы», на которые собирались соседские дамы и молодые магистраты, постепенно приобрели известность за пределами квартала Маре. Когда к кружку присоединился автор «Истории Французской академии», то у его участников вполне естественно возникла идея сделать «Аканта» летописцем субботних собраний. Как и подобает историку, он должен был отбирать и комментировать документы, имевшие непосредственное к ним отношение.
Коллекционирование — одно из увлечений эпохи.[215] Оно могло принимать разные формы: кардинал Мазарини коллекционировал книги (во время Фронды его библиотека была разграблена, но потом восстановлена) и произведения искусства (после его смерти они перешли к супругу его племянницы, Гортензии Манчини, который собственноручно разбил все обнаженные статуи, считая их непристойными). Мадмуазель собирала портреты предков. Ученые — редкости и диковинки, начиная от античных монет и медалей вплоть до чучел экзотических животных. Впрочем, в последнем случае коллекционирование приобретало практический уклон, не просто удовлетворяя вкус к необычному, но служа основой для научных изысканий. Безусловно прагматический смысл имело собирание архивов. Если в более ранние эпохи им занимались знатные семьи, заинтересованные в сохранении документальных подтверждений своих прерогатив, то в XVII столетии оно попало в поле зрения государства. Кардинал де Ришелье, а затем Кольбер следили за тем, чтобы важнейшие собрания документов оставались во владении государственных институтов (а не переходили к потомкам того или иного министра, считавшего их своей личной собственностью). Эта тенденция способствовала развитию так называемой «антикварной» истории, ориентированной на собирание и обработку документов, относящихся к национальному прошлому (и тем отличавшейся от различных видов нарративной истории, где на первом плане было повествование, а не свидетельства). Для таких людей, как Поль Пелиссон, Валантен Конрар, Жедеон Таллеман де Рео, и ряда других, собирание документов было способом утверждения групповой (внеинституциональной) идентичности. Конрар коллекционировал тексты, ходившие по рукам в рукописном виде. Таллеман де Рео помимо этого записывал анекдоты и сплетни, а также песенки, которые распевали парижане: многие из них были сочинены на злобу дня и служили своеобразным средством массовой информации. Поль Пелиссон вел «Субботние хроники», отбирая для них наиболее примечательные письма и литературные опусы, которыми обменивались члены кружка.
С современной точки зрения «Субботние хроники» трудно назвать коллекцией подлинных свидетельств. В полном соответствии с архивной практикой той эпохи Пелиссон (вернее, его секретарь) копировал документы, снабжал их необходимым комментарием и избавлялся от оригиналов. Затем манускрипт был переплетен в голубой бархат (поклон «голубой комнате» госпожи де Рамбуйе) и в таком виде дошел до нашего времени. Как справедливо замечают публикаторы, статус «Субботних хроник» определить сложно: в качестве коллекции — это подлинное свидетельство той эпохи. Но все входящие в нее документы, строго говоря, не аутентичны (вернее, мы не можем убедиться в их аутентичности), поскольку с большой долей вероятности подвергались правке и купированию. Кроме того, они выстроены в определенный сюжет, развивающийся по законам романной интриги (справедливости ради напомним, что один из первых французских романов в письмах, «Португальские письма» Гийерага, появится позже, в 1669 г.). Иными словами, «Субботние хроники» представляют нам тот образ круга госпожи де Скюдери, какой она хотела донести до потомков.
Основная составляющая «Субботних хроник» — письма «Сафо», «Аканта» и еще нескольких участников кружка. В эпоху, когда новости распространялись изустно, переписка во многом заменяла газету. Скажем, когда госпожа де Севинье писала дочери в Прованс или Бюсси-Рабютену в Бургундию, то она обязательно сообщала последние известия, придворные сплетни и даже мелкие события из жизни знакомых. Ей было хорошо известно, что эти письма будут читаться вслух, частично копироваться и расходиться по рукам окружения ее корреспондентов. Переписка «Сафо» и «Аканта» тоже предназначалась для сторонних глаз, но ее циркуляция была ограничена кругом посвященных — тех самых «нежных друзей», в число которых стремился попасть «Акант». В письмах фиксировались и оттачивались удачные выражения, найденные в устной беседе. Письменная форма позволяла приблизиться к тому идеалу, который был создан для живого разговора, но не всегда оказывался достижим в устной речи, — к идеальному сочетанию естественной непринужденности и изощренной продуманности каждого слова. В этом смысле переписка была даже предпочтительнее непосредственного общения. Таллеман де Рео рассказывает, что маркиза де Сабле и графиня де Мор, бывшие подругами, соседками и дамами в высшей степени утонченными, предпочитали переписываться, посещая друг друга лишь в крайних случаях.[216] А в письмах «Аканта» несколько раз проскальзывает неуверенность в возможностях живой речи, которая не позволяет четко сформулировать все необходимые идеи, поэтому его встречи с «Сафо» нередко оказываются продублированы записками.
За пределами XVII столетия «Субботние хроники» ожидала достаточно причудливая судьба. Манускрипт в голубом бархатном переплете был известен собирателям исторических редкостей, которых было немало в XIX в. В 1902 г. выдержки из него были опубликованы исследователем Луи Бельмоном, после чего рукопись таинственным образом исчезла и долгое время считалась утерянной, пока в 1977 г. не была приобретена с торгов библиотекой Арсенала, где с тех пор находится на хранении. В 2002 г. в свет вышло ее первое полное комментированное издание.
Субботние хроники[217]
Сафо — Аканту[218]
Ваше счастье, что по известной причине{3} вы не входите в число моих нежнейших друзей и что вы обещали провести вечер именно с господином Конраром.[219] Иначе бы вам пришлось выслушать необычайные укоры. Право, сударь, неужто вы полагаете, что раз вы оказались перед необходимостью не сдержать слово, то я одобрю, если вы не сдержите его мне, а не кому-то другому? Не знаю, были ли у вас возлюбленные столь мягкого нрава, чтобы прощать подобные вещи. Но знаю, что среди моих нежных друзей нет таких, от которых я согласилась бы это терпеть. Но раз по вине прекрасной Альфизы[220] состояние вашего сердца не позволяет вам быть у меня на хорошем счету и в таком случае сегодня оказаться на плохом, — и раз я решила всегда и во всем уступать господину Конрару, то дозволяю вам посвятить этот день ему. Я даже сожалею, что не могу послать вам письмо, которое вы желали видеть: я должна выйти с госпожой де Пенн, [221] в присутствии которой пишу вам, и потому не могу сейчас привести его в такое состояние, чтобы вы могли его прочитать. Так что, извините, оставим это до завтра, я же благодарю вас за приятный сонет к Мелианту, [222] хотя сейчас я более расположена вас отчитать, нежели похвалить.
Акант — Сафо
Хотя я надеюсь иметь сегодня честь видеть вас в одиннадцать и нынче — обычный день наших собраний, [223] не могу удержаться и не написать вам эту записку.
Как, мадмуазель, Ведаю, безвинен тот, Кто влюблен, {4} —и все же вы угрожаете влюбленным самой жестокой казнью — что бы они ни предпринимали, им никогда не оказаться в числе ваших нежнейших друзей. Наверно, те, кто весь век проводит в Швеции или в Лангедоке, [224] способны прочесть эти слова без содроганий. Но когда видишь Сафо раз в неделю, когда имеешь перед глазами тех, кого она награждает этой нежной и истинной дружбой, когда знаешь ей цену, как знаю я, — тогда, скажу вам, мадмуазель, это невыносимо; и сам Амур — я говорю о Любви в гневе, со всеми стрелами, ей данными, будь они из свинца (как вам известно, эти самые острые), — не столь грозен и непреклонен. Возможно ли, что справедливейшая в мире особа тут оказалась несправедлива? Что она пожелала лишить прекрасную Альфизу единственного слуги, тогда как та хотела бы принести ей в дар тысячу и всегда отзывается о ней с беспредельным почтением? Что она столь жестоко карает меня за невольный промах? Что она в прозе запрещает мне то, что позволила в стихах? Что ее куплет оказался всего лишь песенкой? Нет, я не желаю этому верить и полагаю, что вы ищете способ отказаться от оговоренных шести месяцев, {5} воспользовавшись привилегией вашего племени, [225] и потому схватились за этот предлог, видя, что другого я вам не дам. Но что бы вы ни делали, мадмуазель, уверяю вас, моя дружба не менее упорна, чем любовь. Надеюсь, она представит столько доказательств своего величия, искренности и нежности, что в конце концов вы устыдитесь не воздать ей по заслугам, пусть не через шесть месяцев, так через шесть лет. Но, умоляю, лучше не так долго. Это слишком длительный срок для желания, подобного моему. Вместо наших раздоров давайте лучше установим доброе согласие между вашей дружбой и моей любовью. Этот Амур — послушное дитя, он позволит дружбе собой руководить, будет ее почитать и воздавать ей почести, признает ее законы и, возможно, свершит более своих братьев, дабы избежать вашей немилости. Я призываю на помощь прелестную Ажеласт[226] и, если пожелаете, прошу ее рассудить, сколь обоснованно мое предложение. Но, мадмуазель, я изъясняюсь с недостаточным почтением, между вами и мной не может быть суда, подданный не вступает в переговоры с монархом. И вы, мадмуазель, поступите так, как пожелаете. Но и я буду делать, что пожелаю, а я желаю вас чтить, уважать и почитать более, нежели на это способны ваши нежные друзья и в настоящем, и в будущем. Я мог бы сказать и больше, но ящик для писем{6} открывают в восемь часов, и я хочу послать эту записку через его посредство.
Сафо — Аканту
Как вижу, сударь, вы уверены, что раз ваши достоинства принудили господ академиков нарушить собственные правила, [231] то я должна поступить так же и принять вас в ряды моих нежнейших друзей, хотя вы еще не в состоянии быть принятым. Но, сударь, это далеко не одно и то же, ибо вы, без сомнения, обладаете всеми необходимыми качествами, чтобы достойно занимать место, предоставленное вам этими господами, но у вас их в избытке для того, чтобы добиться моего дружеского расположения, ибо этому препятствует страсть, которой вы одержимы. Это не значит, что я впадаю в противоречие, ибо один ничтожный куплет, что влюбленные не виноваты, отнюдь не доказывает, что я должна считать своими нежными друзьями всех безвинных. Так что, сударь, вы можете любить без всякой вины, но при этом невозможно, чтобы вы не были у меня чуть менее на хорошем счету. Без сомнения, я почитаю вас так же, как если бы вы не были влюблены, и, может, даже несколько больше, но моя привязанность к вам менее крепка. Ибо для меня величайшая сладость дружбы — в мысли, что я приношу чувствительную радость тем, кого ею одариваю, и нет ничего удивительного, что я не награждаю всей нежностью тех, кто не в состоянии ощутить ее как сладчайшую вещь в мире. Поэтому не думайте, будто я ищу предлог, дабы разорвать договор о шести месяцах, который я с вами заключила, или что я хочу воспользоваться привилегией своего края. Напротив, я от него не отказываюсь и пребываю в прежнем расположении чувств. Не думайте, что я хочу отнять пленника у прекрасной Альфизы или считаю, что дружба может присвоить себе права любви. Я никогда не вступлю в столь безосновательное соперничество с сомнительным исходом. Но не ждите, что я поверю, будто Любовь, о которой вы говорите, послушное дитя, и будто ею легко управлять. По правде говоря, эпитет «послушное дитя» неуместен там, где вы его поставили. Мне, сударь, доводилось видеть Амуров нормандских, парижских, провансальских, из Пуату и из других мест. Но в какой бы части королевства я с ними ни сталкивалась, все они казались мне непослушными, капризными и неисправимыми. Даже их игры напоминают войну; эта истина хорошо известна художникам, которые часто изображают их спорящими, и, откровенно говоря, слишком послушная Любовь никогда не будет столь же мила, как лукавая. Да и не может быть Любви такого рода. Если бы она существовала, то ее заметили бы на похоронах Вуатюра, где их было такое множество, или на свадьбе госпожи де Шатийон, собравшей Амуров со всего света.{7} Сказать по чести, мне не приходилось ранее встречать гасконских Амуров.[232] По всем приметам они должны быть непослушней прочих, и охотно верю, что по части лукавства гасконский амурчик так же отличается от нормандского, как хорошенькая обезьянка от парижского малыша. Так что судите сами, сударь, можно ли поверить, чтобы тот, о котором вы говорите, оказался столь послушным дитятей и с готовностью уступил, став данником Дружбы. Что до меня, то, откровенно говоря, я за это не поручусь. Довольствуйтесь тем, что входите в число друзей, заслуживших большое мое уважение и даже дружбу; что до нежных друзей, которым мне трудно подобрать определение и которых у меня сейчас совсем немного, то об этом даже и не помышляйте. Ибо, учитывая расположение вашей души, вы, скорее всего, даже не сможете вполне ощутить сладость моей дружбы. Но, дабы закончить тем, с чего начала, и выказать вам наибольшую нежность, на которую я способна, признаюсь, что если когда-нибудь я решу сделать такое же неслыханное исключение в дружбе, какое сделали для вас господа академики, нарушив собственные установления, то вы станете единственным любовником в мире, получившим место среди моих нежных друзей; однако не хочу вводить вас в заблуждение, я не вижу, чтобы дело к тому шло, и могу лишь дозволить вам надеяться, что это не невозможно.
Акант — Сафо{8}
Первая милость, о которой я вас умоляю, мадмуазель (и это необычная милость), — не отвечайте на эту записку. Ибо если вы ответите и об этом узнает господин Конрар, он мне этого не простит и, прикрывая ревность заемным именем, будет обвинять, что я постоянно вам надоедаю и трачу ваше время. А коль скоро я лишь ему обязан честью вашей дружбы (в той мере, в какой я на нее могу претендовать), я должен пользоваться ею лишь с его разрешения и, по его закону, не писать вам без необходимости. С этим я согласен, но, не видав вас более недели, считаю необходимым напомнить о своем существовании. Я нахожу необходимым, посылая вам мою записку-акростих, сопроводить ее еще одной запиской. Наконец, я нахожу необходимым тысячу раз поблагодарить за все, чем, того не ведая, был вам обязан, ибо мне кажется, что я недостаточно поблагодарил вас в прошлый четверг. Но хотя чувствую я глубоко, не знаю, удастся ли мне сейчас выразить признательность лучше, чем тогда. Ибо, откровенно говоря, душа моя исполнена иной, более сильной страстью, наполняющей меня до такой степени, что я не могу думать ни о чем другом и заниматься чем пожелаю. И самое жалостное, что если я вам о ней поведаю, вы, без сомнения, поднимете меня на смех. Только взгляните, мадмуазель, каков человеческий дух, несмотря на всю глубину чувства! Я вбил в себе в голову летать; и хотя это, вероятно, смешно, не могу отказаться от задуманного. Машины этого человека из Польши или из Германии, о котором вам говорили в особняке Рамбуйе, [233] — ничто в сравнении с теми, которые я возвожу всякий день, и уверяю вас, я уже летал во сне, ожидая, пока смогу полететь иначе. Прекрасный юноша, {9} с которым я делю кров, страшно удивлен (хотя его нередко обвиняли в ветрености и в воровстве и хотя он вечно порхает) видеть меня в таком воспарении и порой предполагает, что желание крыльев мне внушено честолюбием или любопытством подняться повыше и видеть все, что происходит над нами. Он заблуждается, клянусь вам, ибо я не желаю быть ни орлом, ни даже корольком; с меня хватит мухи, тем более что с этим животным у меня есть нечто общее. Я не делаю шума. Часто надоедаю, но никогда не раню. Я безумно люблю сладости, и, хотя меня порой называют тонкой бестией, нет такого существа, которое было бы легче поймать, нежели меня.{10} Так что, несмотря на неудобства, которые с этим связаны, признаюсь вам, что был бы весьма доволен таким метемпсихозом, если бы потихоньку и незаметно смог перебраться из страны Дружеской Близости в страну Нежности, чего давно желаю. Но, мадмуазель, после этой метаморфозы, в которой я не отчаиваюсь, как мне не сбиться с пути? Вы же не захотите, чтобы бедная мошка облетела весь мир, не ведая, куда стремится? Ее может погубить один хлопок руки. Первый же принц-бездельник, {11} который ей повстречается (а вы знаете, что их довольно), позабавится ее смертью, или, хуже того, ее убьет зимний холод, если она не отправится в путешествие до морозов. Умоляю, мадмуазель, укажите мне путь, которым ей следовать, какие местности миновать, каких опасностей опасаться и как поскорей добраться до цели. Это не слишком хорошо согласуется с моей просьбой, высказанной вначале, — не оказывать мне честь ответом. Но когда человек хочет летать, он дерзок, и, быть может, господин Конрар не сочтет предосудительным, если вы напишете мошке. Поступайте так, как пожелаете, я же желаю всю жизнь свидетельствовать вам свое почтение с такой же страстью, как желаю летать.
Сафо — Аканту
Хотя ваше письмо было написано в понедельник утром, я получила его лишь вечером, причем так поздно, что в этот час мошки уже перестают летать над полями. Ибо, сударь, вам, столь жаждущему стать мухой, без сомнения, известно, что эти мелкие твари, особенно в деревне, встают и ложатся вместе с солнцем. Правда, когда они в городе, то их порой вводит в заблуждение свет факелов. Ибо, сударь, не все мошки такие же тонкие бестии, как вы. Как бы там ни было, уверена, что ежели бы кто пожелал вас нарисовать, когда вы обернетесь мухой, то ему придется поступить так же, как тому художнику — не ведаю, ни в каком веке он жил, ни в какой стране, ни как его звали, [243] — который, дабы изобразить величайшую красоту, позаимствовал черты различных красавиц. И вправду, сударь, чтобы вас верно изобразить или чтобы хорошо вас преобразить в муху, надо позаимствовать что-то у ос, столь любящих сладкое и покрытых золотом, как если бы они всегда были облачены в торжественные одеяния, и имеющих опасное оружие против тех, кто их раздражает. Помимо этого, вы обладаете трудолюбием пчелы и, как она, производите нечто столь же сладостное, как ее мед. И что бы вы ни говорили, от вас достаточно шума в мире ума, чтобы оказалось необходимым позаимствовать нечто у крупных жужжащих мух, которые, пролетая, колеблют цветы, казалось бы, одним своим гудением. Но в конечном счете, даже если все мухи, летающие от восхода до заката, отдадут вам свои лучшие качества, какую выгоду вы из этого извлечете, дабы исполнить ваш замысел и поскорее добраться из страны Дружеской Близости в страну Нежности? Мне кажется, вы вообразили себе, что эти два места располагаются вблизи друг от друга, как Тюильри и сад Ренара;[244] меж тем, если бы вы оценили расстояние от Дружеской Близости до Нежности, то пожелали бы стать ласточкой, каково бы ни было ее правописание.[245] По правде говоря, я извинила бы желание вашего милого друга, порой упрекаемого в непостоянстве, превратиться в муху, дабы, как поется в песенке, перелетать «di rame en rame, di fior en fior», [246] но вам неразумно пускаться в столь долгое путешествие на крыльях мухи, и этого я одобрить не могу. Мне ведомо, что путь от Дружеской Близости к Нежности нельзя назвать непроходимым, и, добравшись до Дружеской Близости, начинаешь открывать для себя Нежность, но из этого не следует, что от одного до другого не так уж далеко. По крайней мере, возвращаясь из края Мэн, я увидела башню Нотр-Дам-де-Шартр, только добравшись до Бос, и затем целый день ехала по огромной плоской равнине, все время видя колокольни этого города, но отнюдь не замечая, чтобы они приближались. Так что, поверьте мне, перемените намерение и, вместо того чтобы помышлять о превращении в муху, подумайте о более сильных крыльях, раз вы решили лететь; но, если вы послушаете совета, лучше отправляйтесь сушей. Ибо в наши дни столько людей бьют с лету, что, став птицей, вы подвергнете себя множеству опасностей. Кроме того, мне в жизни встречались люди, добравшиеся от Дружеской Близости до Нежности, причем долгой дорогой. Тем не менее они уверяли, что ее длина их отнюдь не утомила и что по пути они видели множество приятностей, их развлекавших. Когда бы я пожелала, то могла бы послать вам небольшую карту этой страны, но не зная, решите ли вы отправиться по суше, по воде или по воздуху, не вижу в том необходимости. Поэтому подожду до субботы, дабы узнать ваше окончательное решение; но все-таки поверьте мне, не превращайтесь в муху, ибо я привыкла отмахиваться от них веером, когда он под рукой, или даже муфтой, когда они мне встречаются зимой, и эта неприятность может постигнуть и вас, когда вы приблизитесь, ибо трудно вообразить, чтобы на мухе была перевязь, отличавшая ее от вражеских мух. Подумайте об этом серьезно, сударь. Ибо, по моему мнению, из человека труднее сделать муху, нежели из мухи — слона.
Прошу прощения за дурной почерк.{12}
Газета страны Нежности
(1654)
Идея снабдить страну Нежности собственным печатным органом не была столь неожиданной, как может показаться. В XVII столетии Франция переживала расцвет галантной периодики. Конечно, моделью для нее служили настоящие новостные издания, становившиеся все более многочисленными. В XVI — начале XVII столетия они были представлены информационными бюллетенями, печатавшимися в связи с крупными политическими событиями — скажем, трагической гибелью короля Генриха II. Оставшуюся нишу занимали так называемые «утки» (canards), рассказывавшие о необычных происшествиях и, как видно по их названиям, нередко служившие аналогом современной криминальной хроники: «Трагическая история одной дамы и ее поклонника, каждый из которых убил себя из пистолета, чтобы не пережить другого» (1608), «Потрясающая и удивительная история отца и матери, которые убили собственного сына, его не узнав, приключившаяся в городе Ниме» (1618). Помимо преступлений «утки» сообщали о природных катаклизмах — наводнениях, пожарах, землетрясениях, эпидемиях и прочих ужасах, а также о чудесах и других сверхъестественных явлениях. Тут стоит вспомнить, что среди докучливых собеседников госпожа де Скюдери особо выделяла тех, кто вечно рассказывает ужасные истории: без сомнения, «утки» имели широкую и благодарную аудиторию. И информационные бюллетени, и «утки» обычно печатались на нескольких листках и сопровождались иллюстрацией, которая помещалась на первой или последней странице памфлета. Выходили они сравнительно часто (с 1600 по 1631 г. исследователи насчитывают около 323 «уток»), однако не регулярно.
Первое регулярное парижское издание появилось во время царствования Людовика XIII. В 1631 г. медик Теофраст Ренодо (1586–1653) получил от короля привилегию на выпуск «Газеты» (термин был заимствован из венецианской практики публикации периодических листков). Идея внедрения такого рода новшества возникла у Ренодо отнюдь не случайно. Еще в 1625 г. он открыл в Париже знаменитое «Адресное бюро» — посредническое агентство, помогавшее сводить вместе спрос и предложение самых разнообразных услуг, от найма или сдачи дома до подбора мастеров на определенные виды работ. В сущности, его бюро служило информационным центром, где можно было оставить запрос или получить необходимые сведения. Работа «Адресного бюро» повлекла за собой издание бюллетеней, публиковавших объявления о выставленных на продажу землях, лошадях и нарядах. Кроме того, Ренодо открыл первый во Франции ломбард.
По сравнению с бюллетенями «Адресного бюро» «Газета» представляла собой выход на более высокий информационный уровень. В ней сообщались новости европейских столиц, перипетии военных кампаний и местные известия. Издание пользовалось огромным успехом: для «Газеты» не брезговал писать кардинал де Ришелье, а с 1631 по 1642 г. сводки военных кампаний составлял сам Людовик XIII. Кроме того, Ренодо смог привлечь к выпуску «Газеты» Вуатюра, известного романиста Ла Кальпренеда и не менее известного историка Франсуа де Мезере. По понедельникам («Газета» выходила раз в неделю, по субботам) он собирал в своем бюро небольшое общество для обсуждения актуальных научных вопросов, а затем публиковал отчеты об этих заседаниях. Естественно, что у Ренодо были соперники, пытавшиеся перехватить инициативу, однако вплоть до конца царствования Людовика XIII ему удавалось успешно им противостоять. Лишь в 1650 г. у него появился настоящий конкурент в виде «Исторической Музы» Жана Лоре. Это издание было примечательно тем, что от начала и до конца являлось стихотворным. Основной конек Лоре — описание придворных праздников. «Историческая Муза» пользовалась покровительством герцогини Немурской (в девичестве мадмуазель де Лонгвиль — ей, как уже говорилось, была посвящена «Клелия»).
В отличие от «Газеты» Ренодо, ориентированной на сравнительно широкую городскую аудиторию, «Историческая Муза» предназначалась для того круга, который являлся производителем новостей. Не будучи частью избранного общества — в его листках нередко встречаются извинения перед читателем, что он описывает тот или иной праздник с чужих слов, ибо не имел возможности на него проникнуть, — Лоре постоянно и восторженно его изображал. Судя по всему, эти отчеты в большей степени удовлетворяли свойственную высшим кругам потребность в восхищении, нежели служили источником информации для непосвященных. Успех Лоре был обусловлен тем, что он воспроизводил точку зрения восторженного зеваки, снизу вверх взирающего на развлечения великих мира сего.
Помимо моделей Ренодо и Лоре у «Газеты страны Нежности» был непосредственный прототип — «Газета из многих мест», галантная забава особняка Рамбуйе образца 1640 г. И в том, и в другом случае выпуск рукописных листков свидетельствовал не только о высокой степени самосознания группы, но и о ее желании подчеркнуть свою автономность от остального общества, своеобразное положение «государства в государстве». Интересно, что к 1670-м гг. это ощущение собственной автономности, по-видимому, распространилось на большую часть светского общества. Когда в 1672 г. Жан Донно де Визе (1638–1710) принялся за издание «Галантного Меркурия», его начинание нашло достаточную поддержку среди читателей. Как показывает обращение издателя к публике, изначально журнал был задуман в качестве своего рода справочника, из которого «любители новостей, провинциалы и чужеземцы, которые не знакомы со многими высокорожденными или высокодостойными особами, о которых им часто приходилось слышать, <…> узнают все, чем они славны и что им приносит уважение».[247] Однако более развернутая программа, представленная на первых страницах издания, предлагала несколько другое разграничение: в «Галантном Меркурии» не будет государственных новостей, за исключением тех, что являются предметом всеобщего обсуждения. Вместо этого в нем можно будет прочитать беллетризированные рассказы о реальных происшествиях, то есть тот тип повествований, который нам уже известен, с одной стороны, по творчеству госпожи де Скюдери, с другой — по скандальной хронике Бюсси-Рабютена. Приведем выдержку из содержания первого тома: «История жемчужного ожерелья», «Почести, отданные в память о покойной госпоже де Монтозье», «Похвала господину аббату де Ноай», «Основание Академии архитектуры, профессором которой станет сьер Блондель», «История зеленых шелковых чулок», «Вступление господина герцога де Фейад в должность полковника французских гвардейцев», «Похвала господину маршалу герцогу дю Плесси», «Речь по поводу „Баязета“, трагедии сьера Расина», «Приключения, случившиеся в Константинополе с одним французом, по которым можно судить о турецкой галантности», «История той, что предпочла сгореть с мужем, нежели видеть его неверность» и т. д. Иными словами, как и более ранняя галантная периодика, «Меркурий» балансировал на грани между «реальностью» и «литературой», предлагая своим читателям определенный способ подачи светских новостей, герои которых легко превращались в героев уже вполне вымышленных повествований.
Впервые «Газета страны Нежности» была опубликована в середине XIX в. в качестве приложения к знаменитому «Дню мадригалов».
Газета страны Нежности[248]
Из Новой Дружбы
Несколько дней назад отсюда отбыли две высокородные дамы, {13} избравшие разные пути к Нежности: одна села на корабль на реке Склонности, другая же отправилась по дороге, ведущей к Нежности-на-Признательности. Поговаривают, что первую же ночь она провела в Небольших Услугах и лишь отобедала в Любезности. Что касается другой, то неизвестно, добралась ли она, но, по всем приметам, ее путешествие должно было быть удачным, ибо когда она садилась на корабль, река была полноводной, а ветер — благоприятным. Еще по окончании кампании здесь ожидают прибытия кавалера, {14} прославившегося повсюду обширным умом и сердцем; также уверяют, что должен прибыть юный герой, {15} отличившийся в последних схватках. В нашем городе довольно и других особ, намеревающихся отправиться в Нежность, но они еще не решили, какой путь избрать.
Из Незаурядного Ума
Все здесь обеспокоены судьбой знаменитого чужестранца по имени Акант, {16} который побывал у нас уже довольно давно, но до сих пор мы так и не имеем вестей о его прибытии в Нежность. Известно, что он останавливался в Милых Стихах, где был превосходно принят; затем ему так приглянулись Любовные Послания, что, имея возможность заночевать в Искренности, он предпочел остаться в этом прелестном селении. Одни болтают, что после этого он внезапно свернул вправо с дороги к Нежности-на-Уважении{17} и отправился по реке Склонности. Другие уверяют, что он через нее переправился и остановился в Небольших Услугах, дабы затем отправиться по пути, ведущем к Нежности-на-Признательности, а третьи клянутся, что он продолжил прежний путь. Некоторые даже полагают, что он уже добрался до Нежности. В общем, никто ничего в точности не знает, что огорчает всех его знакомых, ибо человек это в высшей степени достойный.
Из Забвения
Несколько дней назад сюда прибыл чужестранец{18} весьма приятной наружности, который, проделав путь из Новой Дружбы до Незаурядного Ума, из Незаурядного Ума до Милых Стихов, из Милых Стихов до Галантных Записок и из Галантных Записок к Любовным Посланиям, на выезде из этого приятного селения сбился с дороги и вместо того, чтобы отправиться в Искренность, прибыл в наш город, где провел целый день, даже не заметив, что заблудился. Но как только ему на это указали, он покинул нас с такой поспешностью, что, по уверениям некоторых, за два дня продвинулся больше, чем с момента отъезда из Новой Дружбы.
Из Небрежения
Никогда еще не приходилось нам лицезреть столь милых чужестранок, {19} как те, что сейчас находятся в нашем городе. Впрочем, не вполне понятно, что их тут удерживает. Одни уверяют, что они сбились с пути; другие — что их изгнали из Нежности тайные раздоры между новым и старым городом; третьи — что они собираются туда вернуться, как только немного у нас передохнут; четвертые — что им так хорошо в этих местах, где никто ни о чем не тревожится, что они не уедут, — это весьма украсило бы наш город, ибо они хороши собой и исполнены ума.
Из Искренности
Наше маленькое селение посещает столь мало чужестранцев, что можно было бы даже не отмечать его на Карте, путешественникам это не причинило бы неудобств; ибо большинство тех, кто хочет добраться до Нежности, объезжает его справа или слева; это настолько разрушило нашу коммерцию, что мы ниоткуда не имеем новостей.
Из Равнодушия
Несколько дней назад к нам прибыл молодой чужестранец;{20} он хорош собой, имеет приятный вид, любезен и умен. Его приезд заставил всех вокруг твердить, что вряд ли такой человек задержится тут больше дня, однако он так среди нас прижился, что даже не заговаривает об отъезде. И является нам отнюдь не в сельском наряде, пригодном для продолжения путешествия; нет, всякий день мы встречаем его в наших храмах, на улицах и у дам, в белокуром парике, напудренном и завитом, словно он собрался на бал. Иные все же уверяют, что, несмотря на недостаток рвения и томный взгляд, он не столь безразличен, как кажется; но спокойное выражение его лица заставляет подозревать отсутствие страстных желаний, и никто не сомневается, что мирные, пускай самые незначительные удовольствия он предпочтет величайшим наслаждениям в мире, если те сопряжены с некоторым неудобством; поэтому неизвестно, будет ли он упорствовать в своем намерении добраться до Нежности, ибо туда не доедешь без трудностей.
Мадлен де Скюдери
Клелия, римская история
Посвящается мадмуазель де Лонгвиль
Часть первая
(1654)
В 1654 г. читатель, открывая новый роман, напечатанный под именем господина де Скюдери, попадал на свадьбу героев, Клелии и Аронса. Внезапно торжество прерывало наводнение, а вслед за ним — землетрясение. Суженые оказывались по разные стороны разверзшейся пропасти, и в довершение всех бед прямо на глазах жениха Клелию похищал его соперник, Орас. В погоне за ним Аронс внезапно наталкивался на поединок, в котором несколько человек теснили одного. Бросившись на помощь слабейшей стороне, он неожиданным для себя образом спасал властителя Перузии, который, естественно, настаивал на том, чтобы Аронс стал гостем в его замке. Так, через полсотни страниц после бурной завязки, читатель сталкивался с первым замедлением действия, теперь переместившегося к перузскому двору. Там Аронс узнавал, что у властителя в плену находится царь Порсенна, и решал его спасти. Меж тем в Перузии его ждало знакомство с правительницей Леонтин, которая сразу прониклась к нему безотчетной симпатией и уважением. Чтобы лучше узнать героя, она расспрашивала о нем одного из его спутников по имени Селер. Тот с охотой поведал ей историю Клелии и Аронса, неоднократно прерывая ее рассуждениями на различные моральные темы — скажем, о том, до какой степени симпатия может быть рациональна. Как выясняется, Аронс с детства воспитывался в семье римских изгнанников вместе с их дочерью, Клелией. Но его родители были родом не из Рима, и он с самого начала знал, что брак между ним и Клелией невозможен, поскольку отец отдаст ее только за римлянина. Это не помешало ему, когда оба выросли, в нее влюбиться. Меж тем Клелию страстно полюбил Орас, еще одна жертва тирании царя Тарквиния, в отличие от Аронса обладавший всеми необходимыми для жениха качествами. Орас и Аронс одновременно признались Клелии в любви, но она попыталась обернуть оба признания в шутку. В этом намерении ей поспособствовало появление еще одного изгнанника по имени Эрминий. У того в Риме осталась возлюбленная (Валери), поэтому он принялся ухаживать за Клелией из чистой галантности, что несколько разрядило напряжение классического любовного треугольника. Вот тут-то и появляется «Карта страны Нежности».
Как можно видеть даже из этого беглого пересказа начальной части сюжета (около 300 страниц из нескольких тысяч), «Клелия» — роман, в основном состоящий из бесед и рассказов. Его структура напоминает о том, что авторы XVII в. стремились выстраивать свое повествование по законам эпоса (чем объясняется начало in media res). И о том, что перед нами сочинение эпохи безусловного главенства театральных жанров. Как в классицистической трагедии, герои мало действуют и много рассуждают о своих чувствах и постоянно попадают в ситуации, когда им необходимо делать выбор между личными интересами и веленьями долга (к примеру, Аронс все-таки спасает правителя Перузии, хотя это лишает его возможности догнать Ораса и Клелию). В этом смысле группы собеседников, обсуждающие поступки героев, берут на себе функции хора, то выслушивая рассказы об их страданиях, то снабжая их информацией, необходимой для дальнейшего развития действия.
Взявшись за один из важнейших эпизодов древнеримской истории — изгнание Тарквиния Гордого и установление консульского правления (ок. 509 г. до н. э.), — госпожа де Скюдери буквально следовала программе, за пару десятилетий до того предложенной Гезом де Бальзаком в «Продолжении живого разговора, или О беседе римлян»: она показала римлян за беседой. Это совпадение вряд ли случайно. Многое говорит о том, что все связанное с госпожой де Рамбуйе представляло для писательницы особую ценность. Трудно предположить, что ей не был известен обращенный к маркизе текст, опубликованный еще в 1644 г. Что касается выбора исторической эпохи, то госпожу де Скюдери очевидно привлекла возможность соединить вместе два героических сюжета, центральными персонажами которых являлись женщины: с одной стороны, историю гибели Лукреции, с другой — эпизод переправы Клелии через Тибр. Причем в обоих случаях речь шла о специфически женском героизме, отличном от мужского. В интерпретации госпожи де Скюдери и Клелия, и Лукреция не пытались выйти за пределы своего предназначения и присвоить себе добродетели противоположного пола. Напротив, сугубая женственность позволяла им оказывать «цивилизующее» влияние на окружавших их мужчин. Так, неистовый Орас смирял свой нрав рядом с Клелией, и даже Тарквиний не сразу решился учинить насилие над Лукрецией. Парадоксальным образом, подвиги обеих героинь оказывались вынужденной мерой, к которой им приходилось прибегнуть, исчерпав все прочие аргументы. Совершая их, они показывали, что способны следовать мужскому этосу, хотя сам по себе он оставался для них чужд.
Два десятка лет спустя в «Поэтическом искусстве» (1674) Никола Буало заметил по поводу сочинений госпожи де Скюдери, что в ее изображении Катон выходит галантным кавалером, а Брут — дамским угодником.[249] Эти слова во многом определили репутацию писательницы для последующих поколений. Нет сомнения, Буало был прав: в «Клелии» Луций Юний Брут мало похож на сурового основателя республики, пожертвовавшего ради нее жизнью собственных сыновей. Но госпожу де Скюдери как раз интересовал не этот освященный традицией образ, а его возможная оборотная сторона. Она не видела противоречия в том, чтобы за дверьми кабинетов, вдали от посторонних глаз, будущий государственный муж вел галантные беседы с дамами и — кто знает — задумывался о маршруте собственного путешествия по стране Нежности. Такова была ее версия частной жизни великих обитателей Древнего Рима.
Последний том «Клелии» вышел в 1660 г. Роман несколько раз переиздавался и продолжал пользоваться известностью на протяжении XVIII в.
Клелия, римская история
Посвящается мадмуазель де Лонгвиль
Часть первая[250]
Эрминий, [251] и в дружбе галантный, никак не мог удержаться, чтобы не наговорить нежностей Клелии; Аронс принялся над ним подшучивать по этому поводу, говоря, что нельзя сделать лучшего выбора для дружеских нежностей, ибо никто так не сведущ в истинной нежности, как Клелия; и если вы готовы удовольствоваться ее определением, добавил он, то будете самым счастливым другом на свете, ибо Клелия говорит о ней лучше, чем кто-либо в мире. — Если я вправду изъясняюсь об этом не слишком плохо, — отвечала она, — тому меня научило сердце: не трудно говорить о том, что чувствуешь; однако, — добавила прелестная особа, — из этого не следует, что все, кого я называю друзьями, — мои нежные друзья, ибо у меня много самых разных. Есть, если можно так выразиться, полудрузья, которых иначе именуют приятными знакомствами; есть более близкие, которых я называю новыми друзьями; есть просто друзья; есть те, кого можно назвать друзьями по привычке, или те, которых я определила бы как надежных друзей, а также другие, которых я называю ближайшими друзьями. Что до тех, кого я включаю в число нежных друзей, то их весьма немного, и они столь глубоко проникли в мое сердце, что им уже нечего желать. Меж тем я прекрасно различаю все эти разновидности дружества и никогда их не путаю. — Умоляю, прекрасная Клелия, — воскликнул Эрминий, — скажите, каково мое положение. — Вы все еще в Новой Дружбе, — отвечала она, смеясь, — и вам долго не продвинуться вперед. — По крайней мере, — сказал он, тоже улыбаясь, — мне хотелось бы знать, как далеко от Новой Дружбы до Нежности. — Мне кажется, — подхватил Аронс, — мало кому известна карта того края. — Меж тем многие хотели бы предпринять это путешествие, — заметил Эрминий, — и заслуживают знать, какой путь может привести их в места столь отрадные; когда бы прекрасная Клелия меня научила, я вечно был бы ей признателен. — Вы, вероятно, думаете, что от Новой Дружбы до Нежности — короткая прогулка; поэтому перед тем, как вы отправитесь в дорогу, я обещаю дать вам карту этого края, которой, как полагает Аронс, не существует. — Пощады, мадмуазель, — сказал тот, — если она и вправду существует, то дайте ее и мне, как и Эрминию. — Едва Аронс произнес эти слова, как Орас попросил о том же, и я тоже, а Фенис стал торопить Клелию показать нам карту страны, плана которой ни у кого еще не бывало. Мы все тогда воображали, что Клелия напишет еще одно прелестное письмо, которое раскроет нам ее истинные чувства. Но на наши моления она отвечала, что карта обещана Эрминию и будет отослана ему завтра. А так как нам было хорошо известно, как галантно пишет Клелия, всем не терпелось увидеть письмо, которое, как мы полагали, она сочинит для Эрминия; и самому Эрминию так хотелось его получить, что на следующее утро он послал Клелии записку, чтобы напомнить о данном слове; поскольку она была очень короткой, я не совру, сказав вам, что в ней было следующее:
Эрминий прекрасной Клелии
Я не смогу отправиться из Новой Дружбы в Нежность, если вы не сдержите слова, потому прошу у вас обещанную карту. Обещаю отправиться в путь, как только ее получу, дабы совершить путешествие, которое представляется мне столь приятным, что я с большей радостью совершу его, чем соглашусь увидеть целый свет, даже если тогда мне будут приносить дань все народы, населяющие землю.
Когда Клелия получила эту записку, то, насколько я знаю, уже успела позабыть об обещании Эрминию; внимая нашим мольбам по этому поводу, она думала, что все это — причуда, о которой на следующий день никто не вспомнит. Так что сперва письмо Эрминия застало ее врасплох, но затем ей на ум пришла одна фантазия, ее позабавившая, и она решила, что эта выдумка сможет развлечь и других. Поэтому без малейшего колебания взяла таблички и записала на них свою забавную выдумку, да так быстро, что за полчаса начала и закончила задуманное; затем она присовокупила к сделанному записку и отослала все к Эрминию, где в то время были Аронс и я. Каково же было наше удивление, когда Эрминий взглянул на послание Клелии и показал его нам, ибо это действительно была карта, начертанная ее собственной рукой, которая показывала, как добраться из Новой Дружбы до Нежности, и была весьма похожа на настоящую, ибо на ней имелись моря, реки, горы, озеро, города и селения; чтобы вам все это увидеть, взгляните, сударыня, на копию этой изобретательной карты, с тех пор бережно мной хранимую.
С этими словами Селер показал правительнице Леонтин карту, которая находится на следующей странице, чем та была приятно удивлена; и, чтобы она лучше поняла эту выдумку, он объяснил ей замысел Клелии, как та разъяснила его Эрминию в записке, сопровождавшей карту. Так что когда правительница Леонтин взяла ее в руки, Селер сказал: — Думаю, вы помните, сударыня, что Эрминий просил Клелию научить его, как добраться из Новой Дружбы к Нежности; именно поэтому, дабы туда отправиться, следует начинать с этого города [Новая Дружба], расположенного внизу карты; когда вы лучше поймете замысел Клелии, то увидите, что, по ее мнению, нежность могла быть следствием трех разных причин: глубокого уважения, признательности или склонности; это побудило ее основать три города Нежности на трех реках, носящих перечисленные имена, и проложить к ним три разные дороги. И подобно тому, как на Ионийском море есть город Кумы, и на Тирренском тоже есть город Кумы, она сделала так, чтобы можно было их назвать Нежность-на-Склонности, Нежность-на-Уважении, Нежность-на-Признательности. Меж тем, посчитав, что нежность, рождающаяся из склонности, ни в чем постороннем не нуждается, Клелия, как вы видите, не разместила селений по берегам этой реки, ибо та течет столь быстро, что, добираясь от Новой Дружбы до Нежности, нет нужды останавливаться на ночлег. Все совсем иначе, если вы желаете доехать до Нежности-на-Уважении, ибо на пути туда Клелия искусно расположила столько селений, сколько есть больших и малых вещей, которые, вызывая уважение, способны помочь зародиться той самой нежности, которую она имела в виду. И правда, вы видите, что из Новой Дружбы попадаешь в место, названное ею Незаурядный Ум, ибо уважение обычно начинается именно с него; затем вы видите радостные селения Милых Стихов, Галантных Записок и Любовных Посланий, в которых воплощены обычные действия незаурядного ума при завязывании дружбы. Далее, значительно продвинувшись по этому пути, вы видите Искренность, Великодушие, Честность, Щедрость, Добросовестность и Доброту, которая совсем рядом с Нежностью: это показывает, что без доброты не бывает подлинного уважения и, не имея этого драгоценного качества, к Нежности с этого края не подобраться. Затем, сударыня, вам придется вновь вернуться к Новой Дружбе, дабы поглядеть, какой дорогой отправляются в Нежность-на-Признательности. Обратите внимание, что из Новой Дружбы надо сперва доехать до Любезности, затем до небольшого сельца, называемого Покорностью, которое граничит с другим приятным сельцом, именуемым Мелкие Услуги. Оттуда полагается проследовать к Усердию: это показывает, что недостаточно время от времени оказывать мелкие услуги, вызывающие признательность, делать это надо усердно. Затем необходимо попасть в другое селение, имя которому Рвение, и не уподобляться людям медлительным, которые ни за что не поспешат, сколько их ни проси, и не имеют способности к рвению, порой нас так обязывающему. Затем, как вы видите, следует отправиться к Значительным Услугам, и поскольку на них способны немногие, то Клелия сделала это сельцо меньше прочих. Далее отправляемся к Чувствительности, ибо следует знать, что надо живо ощущать даже мелкие неприятности тех, кого мы любим. Наконец, чтобы добраться до Нежности, надо проехать через Симпатию, ибо дружба притягивает к себе дружбу, потом через Покорство, ибо ничто так не привязывает сердца тех, кому повинуешься, как слепое покорство; и посетить Постоянство-в-Дружбе, что самым надежным образом приводит к Нежности-на-Признательности. Однако, сударыня, нет такого пути, с которого нельзя было бы сбиться, а потому, как вы видите, Клелия сделала так, что, ежели из Новой Дружбы путники заберут немного слишком вправо или влево, они собьются с дороги: из Незаурядного Ума, как показано на карте, отправятся к Небрежению, затем, все больше утрачивая верный путь, доберутся до Переменчивости, за которой последуют Равнодушие, Непостоянство и Забвение; и тогда вместо Нежности-на-Уважении оказываешься у озера Безразличия, которое вы видите на этой карте; его спокойные воды точно представляют то состояние, чье имя оно носит. С другой стороны, если при выезде из Новой Дружбы взять слишком вправо, то проедешь через Нескромность, Вероломство, Гордыню, Злословие или Злобу и вместо Нежности-на-Признательности окажешься у моря Неприязни, где любое судно ожидает кораблекрушение и чьи беспокойные волны сильно схожи с этой бурлящей страстью, которую хотела изобразить Клелия. Такими различными путями она желала показать, что существует множество добрых качеств, которые способствуют нежности, и что обладатели дурных могут рассчитывать лишь на ее неприязнь или безразличие. А еще эта мудрая девушка, при помощи карты намереваясь показать, что никогда не знала любви и что в сердце у нее одна нежность, сделала так, что река Склонности впадает в море, названное ею Опасным, ибо женщине опасно покидать пределы дружбы; за ним она расположила то, что мы называем Неведомыми Землями, ибо не ведаем, что там находится, как не думаем, что кто-нибудь заплывал за Геркулесовы столпы. Тем самым она смогла из игры ума извлечь приятную дружескую мораль и весьма необычным способом дала понять, что не ведает любви и не может ее ведать. А потому Аронс, Эрминий и я нашли эту карту столь галантной, что перед тем, как разойтись, выучили ее наизусть; Клелия же просила того, для кого она была сделана, показать ее лишь пяти-шести персонам, которые были ей достаточно милы; ибо это была просто шутка и она не хотела, чтобы глупцы, которые не знали, каково ее происхождение, и были не способны оценить эту новую галантность, своими неповоротливыми умами судили о ней, как вздумается. Однако она не добилась повиновения, ибо звезды расположились так, что, хотя эту карту собирались показать лишь немногим, она произвела такой шум в свете, что повсюду шли разговоры о «Карте страны Нежности». И все известные своим умом обитатели Капуи писали в честь нее хвалы, кто в стихах, кто в прозе, ибо она послужила предметом одной изобретательной поэмы, нескольких весьма галантных стихов, множества превосходнейших писем и приятнейших записок, а также столь увлекательных бесед, что, по утверждению Клелии, они стоили куда больше ее карты, и невозможно было найти такого человека, которому не приходилось бы отвечать на вопрос, не хотел бы он отправиться в страну Нежности. И вправду, все это стало столь приятным сюжетом для разговоров, что никогда раньше не бывало другого, столь же всех развлекавшего.
Глава пятая Замужество Мадмуазель
В 1670 г. Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье, решила выйти замуж за графа де Лозена. Ей было сорок три года, ее избраннику — тридцать семь. Однако современников смутил не возраст пары и не малосущественная разница в летах. Скандал разыгрался из-за того, что кузина Людовика XIV намеревалась совершить мезальянс, связав свою жизнь с обычным дворянином. Это означало, что в королевстве мог появиться еще один могущественный вельможа, герцог де Монпансье, обладатель гигантского состояния и свойственник короля. Все родственники Мадмуазель решительно выступили против: и клан Гизов, и клан Конде, и ее мачеха Маргарита Лотарингская. Но значение имело лишь разрешение короля, которое ей сперва удалось получить. Пару дней спустя принц де Конде убедил Людовика в нежелательности этого союза, и уже подписанный брачный договор был расторгнут.
Такова внешняя канва этой романтической истории. Как и многие громкие происшествия XVII в., она столько обсуждалась современниками, что, по-видимому, дошла до нас в виде готового рассказа. Даже самые первые отклики очевидцев, выступивших в роли хроникеров событий и еще не знавших их исхода, были результатом бесчисленных бесед на эту тему. Как восклицала госпожа де Севинье, «каков сюжет для разговоров!» Эта коллективная проработка неожиданной жизненной коллизии привела к созданию коллективной же интерпретации событий, с редким единодушием поддерживавшейся их очевидцами и даже участниками. Поэтому стоит учитывать, что, когда в 1677 г. Мадмуазель принялась за соответствующую часть своих мемуаров, она имела дело с уже устоявшимися представлениями о том, как все происходило, не могло не повлиять на ее воспоминания.
Из этого отнюдь не следует, что в реальности все происходило иначе и что догадки современников были неверны. Нет сомнения, что родственники Мадмуазель интриговали против ее брака с де Лозеном и что ими в первую очередь руководила корысть. Если бы Мадмуазель осталась в девицах, то все ее гигантское состояние было бы поделено между ними в соответствии со степенью родства. А после замужества львиная доля наследства досталась бы ее супругу. Но побудительные причины, двигавшие самой Мадмуазель, графом де Лозеном и королем, все же не столь очевидны, как может показаться на первый взгляд.
Посмотрим на расстановку сил. Как мы уже видели, Мадмуазель получила дозволение присоединиться ко двору еще в 1657 г. Два года спустя был заключен Пиренейский мир, в рамках которого принц де Конде договорился о своем возвращении во Францию. В 1661 г. скончался кардинал Мазарини и Людовик XIV сосредоточил в своих руках всю полноту власти. В 1670 г. королю было тридцать два года, он находился в расцвете сил и могущества: военные победы следовали одна за другой, направляемая Кольбером внутренняя политика давала свои результаты, будущее династии было обеспечено рождением дофина, а эмоциональные потребности самого короля — двумя фаворитками и четырьмя незаконнорожденными отпрысками. И хотя герцогиня де Лавальер, не желая делить монаршью благосклонность с госпожой де Монтеспан, хотела уйти в монастырь, Людовик продолжал удерживать ее при себе, то ли из привязанности, то ли из своеобразного чувства приличия (маркиза де Монтеспан была замужем, и связь с ней считалась более скандальной, нежели с госпожой де Лавальер).
Просьба Мадмуазель позволить ей выйти за графа де Лозена очевидно застала короля врасплох. С государственной точки зрения такой брак был не слишком хорош, но и не слишком плох. По возрасту Мадмуазель уже вряд ли могла годиться для династического альянса. Кроме того, ее состояние было слишком велико, чтобы позволить за счет него обогатиться кому-то за пределами королевства (не исключено, что неизменный провал всех брачных планов Мадмуазель — а их до Лозена было немало, — был обусловлен именно этим соображением). Брак с подданным французского короля предотвращал эту опасность, но не приносил ни малейшей выгоды. Иными словами, интерес Людовика скорее был в том, чтобы все оставалось, как есть. Однако сразу отказать Мадмуазель он не смог или не посчитал необходимым. Вряд ли нужно объяснять это личным расположением короля к кузине (Сен-Симон писал: «Она непрестанно чувствовала, что король ее не выносит, что он так и не простил ей поездку в Орлеан, который она вовлекла в мятеж, а уж тем паче пушку Бастилии, из которой она приказала в своем присутствии выстрелить по королевским войскам <…>»).[252] Судя по его поведению с куда более дорогими ему людьми, в вопросах брачной стратегии Людовик всегда действовал как глава рода и больше думал о благополучии своего дома, нежели отдельных его членов. Но не исключено, что именно обостренное родовое сознание заставило его дать согласие на брак Мадмуазель. После смерти Анны Австрийской, скончавшейся в 1666 г., она осталась старшей из его ближайших родственниц, тем самым являясь главой женской половины рода. Недаром он настаивал, чтобы она повсюду сопровождала королеву, и часто советовался с ней по вопросам церемониала. В его глазах старшая принцесса крови имела некоторое право решать собственную судьбу.
Вот тут в игру вступил принц де Конде. Бывший фрондер, он также не пользовался личной симпатией короля, который тем не менее был способен отдавать должное талантам великого полководца и использовать их по назначению. Но в родовой иерархии Конде был старшим из принцев крови, в этом качестве разделяя с королем ответственность за прочих членов дома Бурбонов. Возражения с его стороны перевешивали доводы Мадмуазель. Не столь важно, действительно ли Конде считал необходимым предотвратить этот брак, или его авторитет был использован для того, чтобы Людовик мог переложить на него часть ответственности (стоит отметить, что король сообщил кузине о своем окончательном решении с глазу на глаз, но при этом велел принцу де Конде встать за дверью, чтобы тому было слышно каждое слово). Участие Конде позволяло Людовику представить запрет как результат вмешательства неких надличностных — родовых — сил. Поэтому он мог рыдать вместе с кузиной над ее судьбой и всячески выражать ей свое личное сочувствие, не отменяя решения, принятого им как главой рода.
Здесь есть одна интересная деталь. Известно, что это драматическое объяснение произошло 18 декабря. Мадмуазель подробно пересказала его в мемуарах:
Вместе со мной он упал на колени и обнял меня. Три четверти часа мы так и оставались — обнявшись, щека к щеке, и он рыдал не менее моего. «Ах, зачем вы дали время для размышлений? Почему не поторопились? — Увы, Сир, кто бы усомнился в слове, данном Вашим Величеством? Не бывало, чтобы вы кому-нибудь его не сдержали, и вот вы решили начать с меня и господина де Лозена! Я умру и буду рада умереть. Я никогда ничего не любила; теперь же люблю, люблю страстно и искренне достойнейшего человека вашего королевства. Довольством и радостью моей жизни стало его возвышение. С ним я надеялась провести остаток своих дней, почитая вас и любя так же, как он. Вы мне его дали, вы у меня его отнимаете, и это разрывает мне сердце!»[253]
За четыре дня до этого при дворе была представлена трагедия Расина «Береника» (в первый раз пьеса была сыграна 21 ноября в Бургундском отеле, но Людовик увидел ее лишь 14 декабря). И современники, и историки согласны, что эта пьеса содержала прямые аллюзии на события из жизни короля (по всей видимости, на его юношескую любовь к Марии Манчини). Однако, как представляется, не столь существенно, кто именно был прототипом Береники; важно то, что в Тите Людовик мог узнать себя. 18 декабря его объяснение с кузиной проходило совершенно в духе «Береники»:
Слабею, несмотря на все мои старанья, — Будь сильной, помоги мне удержать рыданья. А если с горем мы не сможем совладать, Высокий наш удел нам так велел страдать, Чтоб весь увидел свет, сказала вся столица: «Они и слезы льют, как цезарь и царица» (III, 5).[254]Трудно сказать, объяснялось ли это тем, что Людовик действительно подражал расиновскому Титу, или Расин в образе своего героя точно запечатлел свойственное королю сочетание чувствительности и способности все время видеть себя со стороны, или же самой Мадмуазель эта сцена запомнилась как бы сквозь призму пьесы, но сходство, безусловно, ощущается. Проблема в том, что Мадмуазель всю жизнь предпочитала Корнеля.
Это своеобразное столкновение корнелевской и расиновской эстетики возвращает нас к проблеме побудительных причин, определявших поведение Мадмуазель и графа де Лозе-на. Показательно, что процитированный выше фрагмент из ее «Мемуаров» — чуть ли не единственное место, где она прямо говорит о своей любви к Лозену. В основном же она пишет о безотчетной склонности, о желании иметь рядом человека, на преданность которого можно было бы положиться. Слово «любовь» появляется лишь в самые эмоциональные моменты, к которым, конечно, относится и сцена объяснения с королем. С точки зрения повествовательной техники существенно, что Мадмуазель предпочитает цитировать свои признания в любви в форме прямой речи, тогда как все прочие оттенки переживаний описываются в обычном режиме рассказа от первого лица. Эти моменты прямой речи напоминают драматические вкрапления, когда Мадмуазель переключается от созерцания своего внутреннего мира на то, какой она предстает в глазах внешнего. Стороннему наблюдателю и адресованы реплики, лишенные смысловой неопределенности внутреннего монолога: «…люблю, люблю страстно и искренне».
Но внешние наблюдатели как раз были склонны сомневаться в искренности чувств Мадмуазель. Одни считали, что этот брак — тактический ход с ее стороны. Граф де Лозен был в фаворе, ему прочили блестящую карьеру, и Мадмуазель решила им воспользоваться, чтобы еще больше приблизиться к королю. Другие видели в ее поступке нелепую причуду старой девы, никогда не отличавшейся чувством меры. Третьи, как госпожа де Севинье, считали обсуждение чувств иррелевантным, поскольку суть дела составляли не они, а само решение выйти замуж. При этом мало кто сомневался, что графом де Лозеном двигало желание возвыситься. Не потому, что он был честолюбивее прочих придворных: для современников причудливый характер этого персонажа во многом оставался загадкой. Вот как описывал его Сен-Симон, хорошо знавший Лозена в последние годы жизни (как уже говорилось, они были женаты на сестрах):
Герцог де Лозен был невысок, белобрыс, для своего роста хорошо сложен, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишенным приятности, о чем я слышал от людей его времени; был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован, имел ум, не отшлифованный знаниями и изящными искусствами, характером обладал мрачным и грубым; имея крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а еще более от завистливости и тщеславия, но при всем том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся для достижения своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при Дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило.[255]
А вот обобщенный (и гораздо более ранний) портрет Лозена, выполненный Лабрюйером:
Стратон родился сразу под двумя звездами — счастливой и несчастливой. Жизнь его — настоящий роман; хотя нет — ей не хватает правдоподобия; в ней не было приключений, а были только приятные или дурные сны. Впрочем, что я говорю! Жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Никто не взял от судьбы больше, чем он; ему были знакомы и крайности, и золотая середина; он блистал, претерпевал страдания, вел обыденную жизнь и познал все без исключения… И в милости, и в опале он сохранял облик и дух подлинного придворного, являя зрителям больше хорошего и больше плохого, чем, возможно, было в нем на самом деле. Обворожительный, любезный, неподражаемый, замечательный, неустрашимый, — каких только слов не говорили ему в похвалу; каких только бранных эпитетов не находили потом, чтобы его унизить! Это неясный, противоречивый и непонятный характер, это загадка, и притом почти неразрешимая.[256]
Но даже при отсутствии ключа к характеру графа де Лозена современники были уверены в мотивах его поступков. Брак с Мадмуазель представлял такую возможность возвышения, что отказаться от нее не смог бы никто, вне зависимости от личных качеств. В этом смысле Лозен вызывал не меньше, если не больше сочувствия (или злорадства): его жизненный проигрыш был столь велик, что у него не было ни малейшего шанса отыграться (хотя, по рассказам Сен-Симона, он был отличным игроком). Не случайно, что после публичного расторжения брачного договора он, по-видимому, не мог сдержать приступов гнева. То ли они, то ли его тайный брак с Мадмуазель (судя по ее дальнейшим поступкам, они все-таки обвенчались) стали причиной его ареста в 1671 г. Он был препровожден в крепость Пиньероль, где оказался соседом бывшего суперинтенданта Никола Фуке, находившегося там с 1664 г. Лишь в 1681 г. Мадмуазель смогла добиться его освобождения, отдав свое состояние незаконнорожденным детям Людовика.
Публикуемые ниже тексты различны по жанру и времени написания. Письма госпожи де Севинье и дневниковые записи д’Ормессона позволяют проследить последовательность событий по мере того, как они становились известны довольно широким парижским кругам. «Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель» — попытка неизвестного автора представить себе, как должны были складываться отношения графа и герцогини, пополнить известные факты психологически достоверными подробностями. Что касается «Мемуаров» мадмуазель де Монпансье, то они дают возможность взглянуть на ситуацию изнутри, встав на точку зрения главной героини этих драматических событий.
Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье
Письма Филиппу-Эмманюэлю, маркизу де Куланжу
(1670)
и
Оливье д’Ормессон
Дневник
Как и Бюсси, Филипп-Эмманюэль де Куланж (1633–1716) был кузеном госпожи де Севинье, но по материнской линии. Рано оставшись сиротой (она потеряла отца еще в младенческом возрасте, а мать — в семь лет), Мари де Рабютен-Шанталь воспитывалась в обширном семействе Куланжей. И хотя она всегда гордилась знатностью рода Рабютенов, нет сомнения, что гораздо ближе ей была нетитулованная родня матери. Об этом, в частности, свидетельствовала ссора с Бюсси: очевидно, что мнение аббата де Куланжа для нее перевесило все доводы другой стороны.
Это своеобразное противостояние Рабютенов и Куланжей в высшей степени символично и имеет отношение не только к эмоциональному миру госпожи де Севинье. Рабютены были представителями «дворянства шпаги». Согласно общепринятым представлениям, происхождение дворянина должно было теряться во мраке веков и желательно восходить к эпохе Крестовых походов. Вторым признаком благородства был образ жизни: военная служба и владение землями, которые обеспечивали бы для нее необходимый доход. В XVI столетии, когда французское дворянство сильно поредело после Столетней войны, этого было достаточно для закрепления благородного статуса. Однако начиная с 1660-х гг. Людовик XIV ввел процедуру его юридического оформления, требующую документальных подтверждений. Так что намерение Бюсси составить родословную Рабютенов было отчасти продиктовано практическими соображениями.
Если до середины XVII в. формирование «дворянства шпаги» происходило спонтанно и регулировалось обществом (о чем свидетельствует критерий «благородного» образа жизни), то образование «дворянства мантии» шло параллельно с формированием административных структур государства. Целый ряд должностей, связанных с юридическими и финансовыми институтами — государственных советников, королевских секретарей, парламентских президентов и советников, — давал право на личное дворянство. А так как многие из этих должностей передавались по наследству, то во втором-третьем поколении личное дворянство превращалось в родовое. Семейство Куланжей принадлежало именно к этому разряду. Дед госпожи де Севинье был финансистом, разбогатевшим на солевых откупах (государство, нуждаясь в быстром получении наличных денег, перепродавало будущий налоговый сбор за сумму, значительно уступавшую его реальной величине). Его дети и внуки (включая госпожу де Севинье) получили превосходное образование и, обладая достаточным состоянием, могли позволить себе занимать менее прибыльные, но более благородные должности. Так, Филипп-Эмманюэль де Куланж был парламентским докладчиком; впрочем, даже этот пост его стеснял.
Как указывает Жан-Мари Констан, хотя «должностное» дворянство существовало уже в XVI в., однако его консолидация в «дворянство мантии» произошла только в XVII столетии, когда оно превратилось в активную социальную группу. Располагая значительными финансами, оно скупало земли разорявшегося «дворянства шпаги» и получало сопутствовавшие им титулы.[257] Еще одним способом социального возвышения было заключение браков. Так, отец госпожи де Севинье, Селе Бенинь де Рабютен, барон де Шанталь, женился на богатой наследнице Мари де Куланж, чье семейство лишь недавно было «облагорожено». Рабютены восприняли этот брак в штыки, однако подобная сословная тактика себя оправдывала: именно благодаря ей сама госпожа де Севинье, а затем ее дочь смогли выйти замуж за представителей старинных родов. Однако внук госпожи де Севинье, Луи-Прованс де Гриньян, снова был вынужден жениться на богатой наследнице незнатного происхождения. По слухам, его мать при этом заметила: «Даже лучшие земли нуждаются в унавоживании».
Насколько можно судить, родственные связи с Рабютенами ощущались госпожой де Севинье как предмет сословной гордости. Тем болезненней был удар, нанесенный насмешками Бюсси. Не случайно в «Портрете госпожи де Шанвиль» скупость оказывается одним из тайных признаков неполного благородства: автор «Любовной истории галлов» напоминал кузине, что в ее жилах течет не вполне «чистая» кровь. Напротив, ее отношения с Куланжами, помимо воспоминаний детства, по-видимому, подкрепляло отсутствие сословного напряжения. Их сугубо частный характер не оказывал негативного влияния на ее публичную репутацию.
Письма к Филиппу-Эмманюэлю де Куланжу как нельзя лучше передают эту ничем не осложненную приватность отношений между кузенами. По воспоминаниям герцога де Сен-Симона, сам по себе маркиз де Куланж был сугубо частным человеком:
Это был крохотный толстячок с веселым лицом, один из тех легких, радостных и приятных умов, которые порождают лишь милые безделки, но зато делают это постоянно, заново, не сходя с места; умов подвижных и несерьезных, которые не выносят принуждения и занятий и естественны во всем. И он рано научился отдавать себе должное. Оставив должность парламентского докладчика, он отказался от выгод, которые обещало ему близкое родство с господином де Лувуа[258] и связи с самыми видными семействами магистратов, ради жизни праздной, свободной, своевольной, проводимой им в лучшем обществе Города и даже двора, где он имел рассудительность показываться редко и лишь у своих близких друзей. Любезность, забавная, но всегда естественная шутливость, тон хорошего общества и знание света, умение помнить свое место и не позволять себе выходить за его рамки, непринужденность манер, песенки по любому случаю, никого не задевавшие и каждому казавшиеся собственным сочинением, любовь к застолью без малейшего пьянства и оргий, веселость на прогулках, радостью которых он был, приятность в путешествиях, но в особенности надежность в отношениях и доброта души, неспособной ко злу, но любившей лишь собственные удовольствия, всегда заставляли искать его общества и придали ему больше уважения, чем он мог ожидать ввиду собственной бесполезности.[259]
Письма госпожи де Севинье, славившейся умением попадать в тон собеседнику, которого не отрицал за ней даже Бюсси, отражают эту легкую, необременительную веселость. Рассказывая кузену о последней громкой новости — несостоявшемся замужестве Мадмуазель, — она обыгрывает лишь ее театральную сторону, прочно занимая позицию незаинтересованного зрителя, почти досужего зеваки. Меж тем она была хорошо знакома с герцогиней: ровесницы, они были почти дружны — насколько это было возможно, учитывая положение первой принцессы крови. Напомним, что в 1659 г. госпожа де Лафайет написала портрет госпожи де Севинье для коллекции Мадмуазель. Однако в письмах Куланжу вплоть до 31 декабря нет ни намека на сопереживание. Этому может быть несколько объяснений. В 1670 г. госпоже де Севинье было сорок четыре года, она уже выдала замуж дочь и стала бабушкой. Не исключено, что желание сорокатрехлетней Мадмуазель выйти замуж казалось ей глупым сумасбродством. Но возможно, эта шутливая отстраненность носила защитный характер и была обусловлена нежеланием приоткрывать мир собственных эмоций, столь богато представленный в ее письмах к дочери. Заключительные фразы из письма от 31 декабря показывают, что первые послания сочинялись с прицелом на публичное чтение, тогда как последнее было предназначено только для Куланжа и его супруги.
Расхождение мужской и женской точки зрения на одно и то же событие хорошо прослеживается, если сравнить письма госпожи де Севинье к Куланжу с соответствующими фрагментами из дневников Оливье д’Ормессона (1616–1686), уважаемого юриста, докладчика государственного совета, связанного с Куланжами и, соответственно, с госпожой де Севинье узами родства. Из его записей видно, какими путями шло распространение новостей и почему придворное общество столь враждебно отнеслось к попытке герцогини де Монпансье устроить свою судьбу. На фоне важного осуждения, выражаемого государственными мужами, даже шутливый тон госпожи де Севинье может сойти за сочувственный.
Письма маркизы де Севинье маркизу де Куланжу
и
Дневник Оливье Д’Ормессона[260]
Госпожа де Севинье
Письмо Куланжу, 15 декабря 1670 г., Париж
Я намереваюсь сообщить вам нечто совершенно удивительное, поразительное, чудесное, дивное, потрясающее, поражающее, невиданное, небывалое, необычайное, невероятное, непредвиденное, огромное, пустяковое, редкостное, обычное, блестящее и до сего дня тайное, великолепное и достойное зависти: нечто, чему в минувшие века можно найти единственный пример, и тот недостоверен; нечто, чему невозможно поверить в Париже (а как этому поверить в Лионе?); нечто, отчего впору молить о пощаде; нечто, приводящее в восторг госпожу де Роган и госпожу де Отрив;[261] нечто, что совершится в воскресенье, и все присутствующие решат, что у них помутилось зрение; нечто, что совершится в воскресенье и, быть может, еще не будет завершено в понедельник. Никак не решусь произнести: догадайтесь сами, я дам вам три попытки. Вы ломаете голову? Хорошо, придется вам сказать: в воскресенье в Лувре господин де Лозен должен жениться, и на ком? Я даю вам четыре, десять, сто попыток. Госпожа де Куланж говорит: «Нетрудно догадаться: это г-жа де Лавальер».[262] — «Ошибаетесь, сударыня». — «Тогда мадмуазель де Рец?» — «О нет, как вы провинциальны». — «Действительно, как глупо: скажите, это мадмуазель Кольбер?» — «Отнюдь нет». — «Тогда, должно быть, мадмуазель де Креки?»[263] — «Не угадали. Придется вам сказать: в воскресенье, в Лувре, с дозволения короля, он женится на мадмуазель… мадмуазель де… Мадмуазель… угадайте же имя: он женится на Мадмуазель, Старшей Мадмуазель, дочери покойного Месье, внучке Генриха IV, мадмуазель д’О, мадмуазель Домб, мадмуазель де Монпансье, мадмуазель д’Орлеан, Мадмуазель, кузине короля, Мадмуазель, судьбой предназначенной к трону, Мадмуазель, единственной невесте Франции, достойной брата короля!» Каков сюжет для разговоров! Если вы вскрикнули, если вы сам не свой, если вы говорите, что мы вас обманываем, что это неправда, что мы над вами смеемся, что шутка не слишком хороша, что это глупая выдумка, если вы нас честите, то мы решим, что вы совершенно правы: мы сами все это проделали до вас.
Прощайте, письма, которые будут отправлены с ближайшей почтой, расскажут вам, правдивы ли наши речи.
Оливье д’Ормессон
Дневник
15 декабря 1670 года жена рассказала мне, что узнала от господина герцога де Шольна об объявлении грядущего брака мадмуазель д’Орлеан и господина де Лозена; что герцоги де Монтозье и де Креки, маршал д’Альбре и господин де Гитри[264] обратились с публичным ходатайством к королю, и король ответил, что он не одобряет этого мезальянса, но не может помешать девице сорока трех лет поступать так, как она пожелает; затем король позвал Месье и сообщил все ему, а Месье воскликнул, что Мадмуазель стоит отправить в сумасшедший дом, а Лозена вышвырнуть вон; и что эта новость мгновенно получила огласку и была встречена всеми с крайним изумлением. Я рассказал о ней у господина Бошра, все общество было поражено, и никто не хотел ей верить.
Госпожа де Севинье
Куланжу, 19 декабря 1670 г., Париж
Вот что называется упасть с небес на землю, и это произошло вчера вечером в Тюильри;[265] но обо всем по порядку. Вы остановились на радости, восторгах, упоении принцессы и ее счастливого возлюбленного. Итак, о помолвке, как вы знаете, было объявлено в понедельник. Вторник прошел в разговорах, удивлении и поздравлениях. В среду Мадмуазель сделала подарок господину де Лозену, дабы наделить его титулами, именами и украшениями, которые должны быть перечислены в брачном договоре, составленном в тот же день. В ожидании большего, она отдала ему четыре герцогства: графство д’О, первое пэрство Франции, дающее первый ранг; герцогство де Монпансье, чье имя он носил весь вчерашний день; герцогство де Сен-Фаржо и герцогство де Шатлеро: все вместе оценивается в двадцать два миллиона. Затем был составлен брачный договор, в котором он принял имя де Монпансье. В четверг утром, то есть вчера, Мадмуазель надеялась, что король его подпишет, как он ей обещал; но к семи часам вечера королева, Месье и куча стариков убедили Его Величество, что эта история повредит его репутации, и он решил расторгнуть договор, после чего призвал к себе Мадмуазель и господина де Лозена и в присутствии господина Принца[266] объявил, что запрещает им помышлять о браке. Господин де Лозен выслушал этот приказ со всем почтением, покорностью, твердостью и отчаянием, какого заслуживает такое огромное падение. Что касается Мадмуазель, то она, в соответствии со своим нравом, ударилась в слезы, крики, отчаянные стенания и чрезмерные жалобы; весь день она не покидала постели и не могла ничего проглотить, помимо бульона. Вот прекрасная мечта, вот превосходный сюжет для романа или для трагедии, но особенно для рассуждений и бесконечных разговоров: именно этим мы и занимаемся день и ночь, утро и вечер, не переставая. Надеемся, что и вы поступите так же, е fra tanto vi bacio le mani.[267]
Оливье д’Ормессон
Дневник
В пятницу 19 декабря, по дороге в Мерси, один дворянин из окружения дома де Гизов[268] шепнул мне на ухо, что свадьба отменена, ибо король сказал, что не желает ее свершения. Действительно, вскоре это известие стало известно повсюду и вызвало немало радости и одновременно удивления, ибо никто не ожидал столь скорой перемены. От господина Ле Пелетье я узнал, что вдовствующая Мадам написала королю большое письмо, надеясь воспрепятствовать этому браку, и что господин Принц очень рассудительно об этом говорил с королем, и что маршал де Вильеруа тоже сказал свое слово, и что король поддался на их убеждения, и было это после обеда в четверг, ибо еще утром он приказал господину де Лионну написать об этом браке всем посланникам, но вечером, изменив решение, он послал двух офицеров к господину де Лозену и к Мадмуазель с повелением явиться к нему.[269] Они были поражены, рассудив, что это предвещает перемены. Сперва король поговорил с господином де Лозеном и сказал, что в силу многих причин не желает заключения этого брака и что позаботится, чтобы тот достиг не меньшего возвышения, чем дала бы ему женитьба. Говорят, что господин де Лозен выдержал этот удар с большой стойкостью и почтением к королю, который остался им весьма доволен.
Что до Мадмуазель, то она пришла в неистовство и высказала королю все, что подсказывал ей гнев, обвинив господина Ле Телье[270] во враждебности ей и господину де Лозену и наговорив с три короба самому королю, которого обозвала дьяволом, но он и тут сохранил спокойствие. Напротив, утешал ее, уверяя, что разделяет ее недовольство, и пытался ее успокоить. Господин Принц был за дверью, куда король его поставил, чтобы он все слышал. Господин Ле Пелетье рассказал мне и господину де Фурси всю эту интригу, ибо принимал в ней участие и написал письмо для Мадам.
Все вокруг хвалят короля за этот поступок; такой брак обернулся бы для него позором, ибо мог быть заключен только с его согласия. Переговоры о нем начались еще во время поездки короля во Фландрию, где Мадмуазель неоднократно твердила господину де Лозену, что не желает более быть жертвой государственных интересов, что она хочет выйти замуж за обычного дворянина; наконец господин де Лозен спросил у нее, не назовет ли она имя этого счастливца, и она сказала, что напишет его на бумаге, и действительно послала ему запечатанный лист, на котором было написано: «Это вы».[271] Так что переговоры по поводу этого брака шли восемь месяцев: смерть Мадам и надежда выйти за Месье их прервали; однако Месье не желал об этом слышать, тогда негоциации завязались пуще, чем прежде, и продолжали идти вплоть до дня, когда дело получило огласку
Госпожа де Севинье
Письмо Куланжу, 24 декабря 1670 г., Париж
Вы уже осведомлены о романической истории Мадмуазель и господина де Лозена. Это прямой сюжет трагедии по всем законам театра. Как-нибудь потом мы разобьем его на действия и сцены; вместо двадцати четырех часов возьмем четыре дня, и это будет совершенная пьеса. Никогда еще не бывало столь великих перемен за такое короткое время; никогда вам еще не приходилось видеть ни столь общего волнения, ни слышать столь поразительной новости. Господин де Лозен сыграл свою роль идеально. Он перенес несчастье с твердостью, отвагой и в то же время с болью, смешанной с глубоким почтением, что вызвало восхищение всех окружающих. Потерянное им бесценно, но и сохраненная благосклонность короля также не имеет цены, поэтому его судьба не кажется плачевной. Мадмуазель тоже не так плоха. Она много плакала. А сегодня начала исполнять свои обязанности по отношению к Лувру, откуда ей отдали визиты.[272] И вот все кончено. Прощайте.
Госпожа де Севинье
Письмо Куланжу, 31 декабря 1670 г., Париж
Я получила ваши ответы на мои письма. Понимаю, как вас изумило все происходившее с 15-го по 20-е число сего месяца; оно того заслуживает. Я восхищаюсь остротой вашего ума и тем, как вы верно рассудили, полагая, что такая гигантская машина не сможет продержаться на ходу от понедельника до воскресенья. Скромность мешает мне превозносить вас до небес, поскольку я говорила и думала совершенно так же. В понедельник я сказала дочери: «Хорошего конца не видать, если тянуть до воскресенья»; хотя все вокруг было исполнено свадьбой, я хотела побиться об заклад, что она не состоится. Действительно, в четверг погода нахмурилась, и туча разразилась громом в десять часов вечера, как я вам уже сообщала.
В тот же четверг часов в девять утра я посетила Мадмуазель, поскольку до меня дошло, что свадьба состоится в деревне и что церемонию совершит коадъютор Реймсский. Так было решено в среду вечером, ибо насчет Лувра мнение переменилось еще во вторник. Мадмуазель писала. Она позволила мне войти, закончила свое письмо, а затем я опустилась на колени рядом с кроватью. Она мне рассказала, кому писала, и почему, и какие великолепные дары она сделала накануне, и имя, которым она наградила, и что во всей Европе для нее нет партии, а она хочет выйти замуж. Она мне слово в слово пересказала разговор с королем. Мне показалось, что она вне себя от радости, что может так осчастливить человека; она с нежностью говорила мне о достоинствах и благодарности господина де Лозена. На все это я ей сказала: «Мой Бог, Мадмуазель, вы счастливы, но отчего было бы не завершить все еще в понедельник? Разве вы не знаете, что такая значительная задержка дает время для разговоров по всему королевству и что длить столь необычное дело значит искушать Господа и короля?» Она отвечала, что я права, но она была столь исполнена уверенности, что эта речь произвела на нее лишь незначительное впечатление. Она вновь вернулась к дому и превосходным качествам господина де Лозена. Я ей сказала словами Севера из «Полиевкта»:
Никто не упрекнет, что сделан выбор ней: Прославлен Полиевкт и крови королей.[273]Она меня крепко обняла. Эта беседа длилась час, и всю ее не перескажешь. Но я, безусловно, в тот момент была приятна; говорю об этом без всякого тщеславия, ибо ей хотелось с кем-нибудь поговорить, ее сердце было переполнено. В десять часов она предоставила себя всей прочей Франции, пришедшей ее поздравить. Все утро она ожидала новостей, но их не было. После ужина она проводила время, собственноручно украшая покои господина де Монпансье. Вы знаете, что случилось вечером.
На следующий день, то есть в пятницу, я отправилась к ней и нашла ее в постели. Увидев меня, она удвоила стенания, подозвала меня, обняла и всю замочила слезами. Она сказала: «Увы! помните, что вы сказали вчера? Какое жестокое предвидение! ах, это предвидение!» Она так рыдала, что и я расплакалась. Я возвращалась туда дважды, она в большом горе и все время обращалась со мной как с особой, сопереживающей ее страданиям, — она не ошиблась. В этих обстоятельствах я обрела чувства, которые обычно не испытывают по отношению к персонам ее ранга. Но это между нами двумя и госпожой де Куланж, ибо вы можете судить сами, что такая болтовня будет совершенно неуместна при других. Прощайте.
Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель
(1673)
Анонимное сочинение «Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель» традиционно приписывается Бюсси-Рабютену и Куртилю де Сандра, одному из самых плодовитых писателей XVII в. Как уже говорилось, после появления «Любовной истории галлов» все скандальные сочинения считались вышедшими из-под пера Бюсси, поэтому его авторство «Попугая» более чем сомнительно. В начале 1670-х гг. он прозябал в Бургундии и вряд ли мог быть столь хорошо осведомлен о парижских происшествиях. Кроме того, его не оставляла надежда на близкий конец опалы, и трудно предположить, что он был готов пожертвовать всем ради описания мало ему известных событий. Более правдоподобно выглядит кандидатура Гатьена де Куртиля де Сандра (1644–1712), оставшегося в истории литературы в качестве автора «Мемуаров д’Артаньяна» (1700). Он принадлежал к еще достаточно редкому для той эпохи типу профессионального литератора (даже скорее журналиста), работавшего для широкой публики и максимально заинтересованного в коммерческом успехе публикуемых текстов. Поэтому (и по некоторым другим причинам полицейского характера) ареной его деятельности была Голландия, в отличие от Франции пользовавшаяся свободой печати. Там он публиковал свои многочисленные псевдомемуарные повествования, политические размышления и истории различных войн. Но справедливости ради заметим, что расцвет его творчества приходится на более поздний период, нежели начало 1670-х гг.
Логика атрибутирования «Попугая» Бюсси и Куртилю де Сандра вполне ясна: оба автора балансировали на грани дозволенного. Действительно, типологически «Попугай» стоит в одном ряду с «Любовной историей галлов». Однако между ними было одно существенное для той эпохи идеологическое различие. За исключением непристойных куплетов с припевом «Аллилуйя», Бюсси не касался королевской фамилии, в то время как в «Попугае» одним из действующих лиц был сам Людовик XIV. В этом смысле «Попугая» стоит причислить к политическим памфлетам: как отмечает исследователь, «учитывая, что в XVII столетии политика носила сугубо личностный характер, любая критика личности монарха представляла собой по меньшей мере скрытый политический выпад».[274] К этому можно добавить, что в разряд критики попадали и тексты, на современный взгляд вполне нейтральные, но с точки зрения эпохи нарушавшие те или иные конвенции. Так, любовные переживания членов королевского семейства могли изображаться только иносказательно (как в уже упоминавшейся «Беренике» Расина). «Попугай», неоднократно перепечатывавшийся в составе сборника «Любовные похождения знаменитых дам нашего века», где рядом с ним фигурировали истории королевских фавориток («Любовные похождения госпожи де Монтеспан», «Королевские досуги, или Любовные похождения мадмуазель де Фонтанж», «Любовные похождения госпожи де Ментенон»), был скандален не столько содержанием, сколько самим фактом своего существования. Он не раскрывал никаких неприглядных секретов — нет сомнения, что ходившие по Парижу слухи и разговоры были куда откровеннее и циничнее, — скандалом была его печатная форма (вспомним аналогичный случай с «Портретом госпожи де Шенвиль»).
«Попугай» имеет любопытную структуру: рассказчик доводит свое повествование вплоть до расторжения брачного договора, затем приводит подлинное письмо, излагающее официальную версию событий (дело получило слишком большую огласку, и король посчитал необходимым разъяснить свою позицию, согласно которой он отказывал кузине именно потому, что граф де Лозен был его фаворитом, и могло показаться, что он сам был заинтересован в этом браке), и, наконец, две басни, «Орел, воробей и попугай» и «Ответ воробья попугаю». Как свидетельствует рассказчик, басни эти ходили по рукам сразу после описываемых событий, и в них под видом орла был изображен Людовик, орлицы — Мадмуазель, воробья — граф де Лозен, а попугая — муж младшей сестры Мадмуазель, герцог де Гиз (клан Гизов был более других заинтересован в расторжении предполагавшегося союза). Очевидно, что название всему сочинению дали именно они. Судя по отсутствию каких-либо намеков на последующую судьбу Лозена, все эти тексты были написаны до его ареста в ноябре 1671 г. Структура «Попугая» заставляет предположить, что подобное сочетание разнородных элементов — не что иное, как тематическая подборка материалов, циркулировавших сразу после описываемых событий, которая в 1673 г. попала в руки кельнских издателей.
В отличие от других связанных с этой драматической коллизией материалов, «Попугай» в большей степени интересуется графом де Лозеном, нежели Мадмуазель. Вернее сказать, в фокусе повествования находится разрабатываемая героем стратегия соблазнения, объектом которой являлась Мадмуазель. Степень ее достоверности весьма мала: «Мемуары» Мадмуазель показывают, что инициатива все же исходила с ее стороны и что Лозен ей как раз нравился своим необычным поведением, далеким от общепринятых стандартов галантности. Тем не менее «Попугай» — весьма любопытное свидетельство того, как, по мнению современников, должны были развиваться подобные отношения. Количество переизданий и перепечаток указывает на то, что такого рода тексты находили достаточно широкий круг читателей даже после утраты своей актуальности, из романа-репортажа превращаясь в исторический роман.
Попугай, или Любовные похождения Мадмуазель[275]
Вы, дорогой читатель, без сомнения, слыхали некоторое время назад разговоры о браке между графом де Сен-Поль и Ее Королевским Высочеством Мадмуазель, что, как бывает в подобных случаях, вызвало немало пересудов, особенно среди придворных, которые, будучи искушенными в этих материях, рассуждают о них решительно и по сути.
Тогда же собиралось некое общество, то ли в Париже, то ли еще где, точно не знаю, но мне известно, что это были близкие друзья господина графа де Лозена, как вы увидите по их речам, ибо, беседуя о разном, они дошли до свадьбы Мадмуазель, и, когда каждый высказал свое мнение и отметил, как мало она занимает Ее Королевское Высочество, один из собеседников обратился к господину де Лозену и сказал: «О чем вы думаете, господин де Лозен? Почему человек вашего ума забывает о себе, когда предоставляется такой прекрасный и благородный случай? Неужели вы полагаете, что дело не стоит того, чтобы над ним поразмыслить? Это была бы не самая пустая трата времени». Столь неожиданная речь так сильно удивила господина де Лозена, что человек менее обширного ума не знал бы, что ответить. «Как, — отвечал он на эти слова, отступив на два или три шага, — мне думать о Мадмуазель? Что вы такое говорите! Я слишком хорошо знаю, кто она и кто я, чтобы питать подобные замыслы, слух о которых меня ужасает, а одно помышление делает преступным. Я бы воздержался даже от того, чтобы представить себе такое намерение». «Почему нет? — возразил его друг. — Вы знаете, что многие теряют, потому что не ищут. Что дурного в том, чтобы испытать судьбу? Принцесса не столь уж недоступна, особенно для вас, мы знаем, что вы с ней на дружеской ноге, и она вас слушает охотней, чем других. Так чего дурного в том, чтобы прощупать почву?» «Я не решусь даже о том подумать, — отвечал граф де Лозен, — ответ, который я вынужден дать на ваши любезные речи, причиняет мне боль, ибо я вижу невозможность вами предложенного». «Когда бы вы пожелали, то поразмыслили бы об этом, — вскричала тогда вся компания, — все мы здесь ваши друзья и советуем вам, ведь с вашим умом и умением вести себя, да еще пользуясь благосклонностью короля, нет ничего невозможного: подумайте, поверьте, эта задача для вас, и мы будем крайне рады, если вы добьетесь успеха, поэтому не послушать нас глупо». Господин де Лозен отвечал им так же, как первому собеседнику, оправдываясь самыми убедительными и очевидными резонами, и на том эта достопочтенная компания разошлась. Но так как от природы нам любо то, что нам льстит, хотя приличия не позволяют этого обнаруживать, и мы часто открещиваемся и пылко отрекаемся от самого для нас желанного, и чем более рассудок человека способен распознать ценность и достоинство предлагаемого способа продвижения, тем более его воспламеняет жажда пустить его в ход.
Расставшись с друзьями, граф де Лозен вернулся к себе, и не успел он это сделать, как разговор о Мадмуазель вновь пришел ему на ум, и отвергнутое им как пустое и маловероятное показалось ему не столь непреодолимым и чуть более легким. Обладая большим умом, он начал питать некоторую надежду; конечно, ему были очевидны множественные трудности, но чем более трудным казалось дело, тем более разгоралась его отвага, ибо ему было ведомо, что величайшую славу часто приносит преодоление величайших препятствий. За ними он видел одну из величайших принцесс вселенной, презревшую многих властителей и королей, как будто природе оказалось не по силам найти сердце, ее достойное. Он знал, что нравом она из самых горделивых, а отвагой столь велика и возвышенна, как только можно вообразить. И все же эти доводы его не остановили; хорошо все обдумав на протяжении месяца, часто не зная покоя и отдавая все силы уже зародившимся великим замыслам, он поступил так, как поступали славные смельчаки былых времен, бравшиеся лишь за то, что казалось почти невозможным или, по крайней мере, весьма трудным; именно это многим принесло бессмертную славу. Наконец, тысячу раз перебрав идеи, толпой теснившиеся у него в уме, и поразмыслив о бесценной награде, которую ему сулили эти труды, он воспрял сердцем и принял твердое решение исполнить задуманное, хорошо понимая, что если не воспользоваться случаем, то другого в жизни не будет и ему не найти более славного средства возвыситься и утвердить свою фортуну.
И вот он принялся с удвоенным пылом служить Мадмуазель. Стать к ней вхожим ему было нетрудно: его ловкий ум давно ее очаровал. Он видел ее всякий день и оставался допоздна. Но беседы вел лишь о почтении, о долге, о новостях и изъяснялся с той учтивостью, которая вызывает всеобщее уважение. А так как обширный ум упивается прекрасным более посредственного, которому оно едва доступно и которому по нраву лишь заурядное, Мадмуазель с большим удовольствием и чудесным прилежанием слушала господина де Лозена; и наш граф, ведя свою игру тайком и незаметно для всех, находил все новые материи для новых бесед, а его светлый ум примечал, как благосклонно внимает ему принцесса, и постоянно снабжал его тем, что могло доставить ей удовольствие. И тут господин де Лозен начал замечать некоторые проблески надежды, хотя и очень слабые. Правда, его хорошо принимали, но так было и раньше. Если принцесса выказывала ему некоторое расположение, то это было и могло быть лишь следствием ее великодушия. Поэтому прочного основания для надежд не было. К тому же он видел огромную разницу положений, повергавшую его в отчаяние — в этом было величайшее препятствие. И все же он не оставлял своих замыслов. Так продолжалось некоторое время, затем ему пришла мысль, что пора сыграть решительней. Вот прекрасный урок для тех, кто стремится быть допущенным к своей возлюбленной: следует научиться подделываться под ее нрав, это — единственный истинный способ войти к ней в доверие.
А граф де Лозен решил во что бы то ни стало завоевать ум Мадмуазель — или умереть. В этом ему не помешала бы помощь, но он взял за правило полагаться лишь на самого себя. Что делать? Его гений принялся пристально изучать принцессу, со всей серьезностью и на протяжении некоторого времени; он подметил, что принцесса любит двор и остроумцев и по природе (как свойственно ее полу) любопытна; поэтому он решил пойти именно этим путем, проще всего ведущим к цели. Однажды он был у принцессы и после многих прекрасных речей, как бы служивших прелюдией к задуманному, ловко свернул в нужную сторону и заговорил о не столь гласных придворных делах. «Неужели, Мадмуазель, — сказал он ей, — Ваше Королевское Высочество желает вечно оставаться у себя и не иметь сношений со двором? Неужто в самом цветущем из дворов нет ничего для вас привлекательного? Ведь там можно видеть людей со всех четырех сторон света, постоянно приезжающих взглянуть на величие и великолепие Лувра, отдать дань восхищения нашему несравненному монарху и всему королевскому дому, прекрасней и чудесней которого, без сомнения, нет в целом мире. Возможно ли, что все это великолепие и утонченнейшие умы, которым там несть числа, ничем не привлекают Ваше Королевское Высочество? Конечно, лишь Вашему Королевскому Высочеству дано всегда находиться при дворе, не покидая своих покоев, ибо, лишив Лувр его лучшего украшения, каковым является присутствие вашей королевской персоны, вы можете воссоздать двор в Люксембургском дворце или в любом другом месте, где находитесь». «Вы изволите смеяться, господин де Лозен, — отвечала Мадмуазель, — ваш неизменно галантный ум и тут стремится быть галантным?». «Упаси Бог, Мадмуазель, — возразил господин де Лозен, — чтобы я переступил границы должного почтения! Мне слишком хорошо известно, как я обязан говорить с персонами вашего ранга, чтобы я мог позабыть о долге. И то, что я беру за смелость вам сказать, есть лишь малый избыток преданности в служении Вашему Королевскому Высочеству, которую я всегда ощущал и которая с каждым моментом все возрастает. О да, Мадмуазель, — продолжал он, — у меня есть желание, невыразимое желание видеть вас госпожой целого света, и, если бы мне посчастливилось хоть чем-то тому посодействовать, жизнь моя была бы ничтожнейшим из даров, которые я хотел бы вам вручить, ибо мое искреннее желание — служить интересам Вашего Королевского Высочества». «Господин де Лозен, вы слишком великодушны и учтивы; я хотела бы иметь возможность выразить вам признательность; но так как мои чувства слишком необычны и редкостны для нашего времени, мне следовало бы быть кем-то более могущественным, дабы достойно вас отблагодарить. Но знайте, что до конца дней я сохраню память о ваших добрых и великодушных побуждениях». «Мадмуазель, — сказал господин де Лозен, — не жажда фортуны побуждает меня к таким речам; мой единственный резон — Ваше Королевское Высочество, и ваше дело мне кажется столь славным и справедливым, что я готов на все, чтобы сдержать слово». — «Но, господин де Лозен, — сказала Мадмуазель, — что вы хотите от меня после столь благородного и великодушного признания? Как! Чтобы потом пошла молва, что принцесса моего ранга не смогла отблагодарить высокие стремления благородного человека? Прошу вас, удоволетворитесь тем, что было сказано, не торопите меня и ожидайте лучшего от времени и от фортуны, но помните о своем слове: если вы о нем не забудете, то буду помнить и я». — «Нет, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — я о нем не забуду, и, если Ваше Королевское Высочество окажет мне милость и потребует тому доказательств, вы увидите, как я исполняю задуманное. И чтобы показать свою искренность, я хочу немедленно дать вам средство меня испытать. Вы знаете, что я имею счастье быть на хорошем счету у короля, поэтому мало что происходит при дворе, о чем я не узнаю одним из первых; и, если вы, Мадмуазель, почтите меня доверием, я смогу вас обо всем оповещать. Я не буду говорить о соблюдении тайны: Ваше Королевское Высочество сохраняло осторожность и в более насущных обстоятельствах; так что на этот счет я спокоен. Король вас любит и полюбит еще более, если вы, Мадмуазель, проявите немного усердия; тогда вы будете сидеть за его столом и иметь первое место во всех развлечениях: король будет счастлив иметь вас рядом, вы — принцесса на выданье, и, без сомнения, он непременно устроит вашу судьбу в соответствии с вашим рангом, если не удастся найти равного вашим достоинствам. Что касается меня, то Ваше Королевское Высочество может рассчитывать на мою совершенную преданность, и уверяю, что, когда речь идет о ваших интересах, я не упущу ни малейшей возможности сделать все от меня зависящее, имей я дело с королем или с кем-нибудь другим; смею надеяться, что вскоре Ваше Королевское Высочество почувствует мою заботу».
Такое удачное начало предвещало графу де Лозену счастливый и славный конец: он говорил Мадмуазель о тайнах, доверии, удовольствии и затронул струну брака. Все это были важные вещи для принцессы, а тот, кто о них рассуждал, делал это так красноречиво и приятно, что она не могла противостоять дружной атаке стольких противников сразу и, внимательно выслушав господина де Лозена, до такой степени обрадовалась, что полностью поверила нежным речам, столь приятно ей льстившим. Первым тому свидетельством для господина де Лозена стали ее слова: «Хорошо, граф де Лозен, и как же следует поступить? Я готова исполнить то, что вы советуете, но как?» «Для начала, — отвечал он, — необходимо, чтобы вы доверились надежному человеку, на которого можете положиться». «И где же, — улыбнулась она, — мне взять такого?» «О, Мадмуазель, — ответил господин де Лозен, — как я был бы счастлив, если бы Ваше Королевское Высочество решили бы на меня положиться! Как бы я был вам верен! Если бы мне выпало это счастье, я скорей пожертвовал бы собой, нежели допустил неверность. И когда бы вы, Ваше Королевское Высочество, начали оказывать мне доверие, вы бы всегда знали, что происходит и о чем говорится даже в кабинете короля, независимо от того, при дворе вы или нет». «Хорошо, господин де Лозен, — молвила Мадмуазель, продолжая улыбаться, — раз вы считаете, что это необходимо, я решила избрать наперсника, которому я без прикрас открою свои мысли, дабы побудить его сделать то же самое. Но ему следует помнить: если узнаю, что он меня обманывает, то раньше или позже он будет наказан; напротив, если он будет поступать как человек галантный, то будет вознагражден больше, чем позволяет себе надеяться». — «Как, Мадмуазель, — отозвался господин де Лозен, — после столь чарующих слов, произнесенных Вашим Королевским Высочеством, найдется ли человек столь низкий, чтобы не исполнить свой долг? Быть такого не может, небо слишком праведно, чтобы допустить столь черную несправедливость. И ежели по несчастью такое произойдет, я прошу у Вашего Королевского Высочества милости дозволить мне надеяться послужить орудием наказания столь ужасного преступления или хотя бы принять участие в столь славном деле». «Что же, господин де Лозен, вы получите полное удовлетворение, если это способно вас удовлетворить, и вы единственный покараете виновного, если он таковым окажется. Но не надейтесь отказаться от своего слова, ибо особам моего ранга не следует обещать сверх того, что намереваешься исполнить». «Мадмуазель, я сдержу слово или расстанусь с жизнью», — отвечал господин де Лозен. «Но если в избранном мной наперснике вы найдете подлинного друга, или близкого родича, или союзника, одним словом, кого-то, кто вам дороже самого себя, то как вы поступите? Ибо надо вам разъяснить все, чтобы вы не могли сослаться на неожиданность…» «Ах, Мадмуазель, Ваше Королевское Высочество недооценивает мою отвагу, если мне дозволено так сказать со всем подобающим почтением, мой долг дороже мне родных и друзей, и жизнь для меня — ничто в сравнении с честью. Но, — продолжал наш несравненный граф, — дозволено ли будет спросить, кто этот счастливец, против которого Вашему Королевскому Высочеству любо меня воодушевлять, как будто мне предстоит биться с полчищем врагов?» «Враг, с которым вам сражаться, если он меня предаст, — сказала Мадмуазель, — силен и могущественен, хотя на вид невелик, и потому я хочу убедиться, что вы не станете колебаться, когда я его назову». «Мне, колебаться! — воскликнул господин де Лозен. — Вы всегда найдете меня непоколебимым». «Тем не менее я уверена, — сказала Мадмуазель, — что одно его имя не раз заставит вас задуматься и, возможно, он окажется достаточно силен, чтобы вы раскаялись в том, что тут наобещали». «Мне, раскаиваться! — отвечал господин де Лозен. — Никто на этой земле — даже сама смерть, не способен заставить меня отречься от сказанного, и, когда все силы света вооружатся на мою погибель, я буду взирать на них с отважной смелостью, ничуть не умаляя своего великодушного намерения». На это Мадмуазель отвечала ему следующим образом: «Готовьтесь тогда либо отказаться от своих слов, либо покарать самого себя за черное преступление, за которое вы намеревались наказать виновного, ежели вам выпадет несчастье провиниться, ибо лишь вам хочу я довериться и не знаю никого, кто лучше мог бы с тем справиться; подумайте хорошенько, перед тем как дать слово, готовы ли вы мне верно служить». «Да, Мадмуазель, — сказал граф де Лозен, — я готов на все, что потребует служение вам, и, поскольку Ваше Королевское Высочество оказывает мне честь, предпочтя меня множеству людей, более того достойных, я обещаю, что никогда не изменю данному слову».
Не успел граф де Лозен откланяться, как принялся размышлять об успехе своего предприятия; наконец-то он мог похвалиться, что выиграл с одной простой попытки, и потому он не преминул в точности придерживаться того, что обещал принцессе, которая, со своей стороны, была не менее рада положиться на единственного человека, который был способен приносить ей надежные известия обо всем, что творилось при дворе. Она видела его полную преданность и рвение, с которым он старался разузнать все самое тайное. И принцесса была до такой степени рада, что с трудом сдерживалась.
Так прошло некоторое время, и господин де Лозен, который продолжал гнуть свою линию и умножать усердие, наконец убедился, что достаточно завоевал ее расположение, чтобы, если судьба останется к нему столь же благосклонна, надеяться однажды завоевать еще больше; и его все более воодушевляло желание добиться успеха.
Однажды утром он явился раньше обычного — случайно ли, намеренно ли, или и вправду имея сообщить Мадмуазель какую-то новость, — и, поднявшись по лестнице и дойдя до самой комнаты принцессы, он, как всегда, хотел войти, но, приоткрыв дверь, заметил принцессу перед зеркалом, с приоткрытой грудью. Он отступил и прикрыл дверь, из почтения не решаясь войти. Мадмуазель, заметив что-то мельком и услыхав, как закрылась дверь, громко позвала и с большой поспешностью осведомилась о том, кто это был, а когда к ней подошли, спросила: «Разве это не господин де Лозен?» Особа, пошедшая взглянуть, ответила, что да. «Пусть войдет!» — несколько раз воскликнула принцесса. Господин де Лозен вошел и отвесил ей низкий поклон, а Мадмуазель сказала: «Сударь, почему бы не войти без этих церемоний? Как, — продолжала принцесса, улыбаясь, — разве за дамами ухаживают, убегая?» «До сих пор, — отвечал он, — я знал свой долг перед обычными дамами, но никогда не мог выучить, что подобает королевским особам, а если знал, то недавно все позабыл». «Что вы хотите сказать?» «Что я хочу сказать? — отвечал господин де Лозен. — Как! Ваше Королевское Высочество желает, чтобы, позабыв о почтении, я вступил в поединок, который, как предвижу, полностью меня погубит?» «Что вы опять хотите этим сказать, — повторила она, улыбаясь. — Я ничего не смыслю в ваших речах. Объяснитесь получше, если хотите, чтобы я вас поняла». «Ах, — откликнулся господин де Лозен, — боюсь, что я, к несчастью, и так объяснился слишком ясно, но если Ваше Королевское Высочество делает вид, что меня не понимает, то я объяснюсь открыто, когда мне будет на то дано позволение». «Я хочу, чтобы это было сейчас», — сказала она, продолжая улыбаться. «Раз Ваше Королевское Высочество повелевает, — ответил господин де Лозен, — я повинуюсь. Когда я приоткрыл дверь вашей комнаты и шагнул внутрь, то первое, что предстало перед моим взором, была ваша королевская особа, но в столь ослепительном виде, что мои глаза никогда не испытывали такого потрясения, и оно или же страх проявить непочтение и потерпеть крушение, заставили меня поспешно удалиться. Я не менее прочих люблю прекрасное, а войдя к вам в комнату, я издали заметил луч сияющего блеска вашей королевской особы, — я хочу сказать, Вашего Королевского Высочества, в котором собраны все грации и красоты, способные прельщать взор; ибо, хотя вы всегда очаровательны, лилейная белизна, которую вы скрываете под нитью или шелком, эта белоснежная грудь, которую вы не могли укрыть от моего взора, в соединении с величием вашей фигуры, оказали на меня то же действие, что и на высочайших владык мира. Соединение стольких чудес не может не вызывать желания их созерцать. Я знаю, что созерцание прекрасного приносит удовольствие, удовольствие разжигает желание, а желание стремится к наслаждению. Одним словом, мне было не уйти от этих чар, ставших моим несчастьем. Увы! Ныне я понимаю, сколь прекрасно и выгодно звание короля или правителя, ибо лишь им дано безнаказанно стремиться к обладанию этой красотой. Да, Мадмуазель, я утверждаю, что тот, кто вправе вздыхать по прелестям Вашего Королевского Высочества, — без сомнения, счастливейший человек на свете; конечно, блаженство того, кто станет их обладателем, будет еще большим». «Меньшего я и не ожидала от вас, господин де Лозен, — сказала Мадмуазель, — и предчувствовала, что представление, которое вы разыграли у дверей моей комнаты, закончится галантностью, прекрасно измышленной и воплощенной». «Ах, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — как же низко Ваше Королевское Высочество обо мне судит, так думая! Почтение, которым я вам обязан, и обет закончить свои дни в служении вам не принудят меня утаивать мысли, и если надо, то я готов поведать о том всему миру». «Так вы, сударь, думаете, — отвечала Мадмуазель, — что лишь короли и правители имеют законное право стремиться к прекрасному? Разве вам не ведомо, что на это может претендовать лишь достоинство и что ни кровь, ни титулы не прибавят ценности, если, кроме них, ничего нет? Вам известно, что бесчисленное множество людей, без поддержки рождения или крови, завоевывали право желать величия, исключительно благодаря собственным достоинствам. И я, не кривя душой, могу сказать, что первый среди них граф де Лозен, иначе господин де Пегилен, и если по своим качествам он отличается от людей заурядных, то это способно возвысить его, причем с полным основанием, до необычных высот. Не хочу говорить больше, но когда бы вы знали, как я вас ценю, то не завидовали бы другим титулам, если мое уважение для вас и вправду что-то значит». «Ах, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — как я счастлив, что имел честь вам понравиться! И вдвойне счастлив тем, что вы меня немного цените! Да, Мадмуазель, раз Ваше Королевское Высочество соблаговолили объявить мне о столь непомерном счастье, позвольте мне предаться сладким порывам, которые вызывает ощущаемая мной радость, и дать мой душе обнаружить своими движениями тот экстаз, в который погрузили ее ваши последние слова. Ибо, если это правда, — в чем невозможно сомневаться, зная искренность вашей души, — разве нет у меня оснований считать себя счастливейшим из людей? Что я могу сделать, дабы выразить свою признательность за все, чем обязан Вашему Королевскому Высочеству? Как я несчастен, что могу лишь этого желать, причем тщетно, вовеки не имея возможности расплатиться за самое ничтожное из ваших благодеяний!» «Я ничего от вас не требую, — сказала Мадмуазель, — лишь продолжайте этого желать и, если представится случай, исполните желаемое». «Да, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — я отважусь желать, предпринять и исполнить все, служа Вашему Королевскому Высочеству вплоть до последнего вздоха».
Вот неплохое продвижение для нашего новоиспеченного любовника; по моему мнению, ему никогда не доводилось проводить столь сомнительное и отважное предприятие с таким успехом, а последний разговор, позволявший ему надеяться, стал для него лакомой наживкой: из него он почерпнул отвагу следовать своей судьбе до самого конца. Некоторое время он провел в таком положении, продолжая с более чем обычным прилежанием служить Мадмуазель; и по мере того как замечал, что принцесса с удовольствием его терпела, не упускал ничего, на что способен острый ум, чтобы поддержать себя в ее добром мнении; он всегда находил случай для сотни любезностей, приходивших ему на ум; и во всех беседах с принцессой он своими поступками проявлял такую почтительность, а нравом — веселость, что в придачу к живости ума и силе суждений все это было слишком сильно, чтобы ему сопротивляться. И Мадмуазель, чей ум более других был способен судить о таких вещах, черпала в том слишком много удовольствия, чтобы ему не поддаться, тем самым утрачивая способность сопротивляться. Она бывала в восторге, когда видела, как он входит в ее покои, ибо считала его своим безусловным завоеванием, и бросала все занятия ради беседы с ним, ни в чем другом не находя такой отрады.
Так обстояли дела, меж тем как граф де Лозен, с каждым днем влюбленности в Мадмуазель становясь все смелее с ней и ближе, надумал способ узнать, подлинным или ложным, призрачным или реальным было его счастье. Как вы увидите, предприятие это было необычное, но чудесно ему удавшееся, поскольку он убедился в своем безусловном успехе.
Однажды он был у принцессы, ибо старался как можно меньше ее оставлять, и если он выказывал стремление остаться, то Мадмуазель не меньше стремилась его удержать; так вот, он был у нее, и после долгой беседы дал понять, что хочет что-то сказать ей одной. Мадмуазель без труда это заметила и, отведя его в сторону, сказала, что готова его выслушать, если у него есть что сказать. «Правда, — отвечал господин де Лозен, — я хочу попросить Ваше Королевское Высочество о милости, но не решаюсь это сделать без вашего дозволения». «Вы уже давно имеете его, сударь, вам стоит только сказать и смело просить всего, что от меня зависит, ни в чем не сомневаясь». «Хотя Ваше Королевское Высочество столь милостиво обещает исполнить мою просьбу, было бы несправедливо этим злоупотреблять, — продолжал господин де Лозен, — и, если бы я руководствовался иными мотивами, помимо ваших интересов, то, без сомнения, был бы менее смел и более осмотрителен». «Ваши интересы или мои, — отвечала Мадмуазель, — для меня это одно. Говорите и будьте уверены, что получите все, о чем попросите». Господин граф де Лозен отвечал на эти любезные речи глубоким поклоном, а затем продолжил так: «Уже несколько дней я взял себе в голову, что Ваше Королевское Высочество должны вскоре выйти замуж, и эта мысль столь сильно запечатлелась в моем уме, что я считаю ее верным знаком или, чтобы лучше выразиться, делом уже свершенным, и я так этому верю и радуюсь, что позволил себе вольность обратиться к вам со смиренной мольбой: по всей видимости, дело это неизбежное, ибо величайшие мира сего взыскуют этого счастья, а ваша слава повсюду поведала о силе вашей прелести, и среди посвященных в чудесные обстоятельства вашей жизни мало тех (вернее, их нет), у кого не был бы приятно смущен дух и кто бы не вздыхал по вам; если только небеса не решили сделать вас виновной в крайней несправедливости, из этой толпы воздыхателей вы однажды достанетесь одному, и я знаю, что это будет скоро. Я никак не могу выкинуть эту мысль из головы, и она так занимает мое воображение, что я давно уже ни о чем другом не думаю. Поэтому милость, о которой я прошу Ваше Королевское Высочество, состоит в том, что, будучи ранее почтен вашим доверием, я снова о нем умоляю». Тогда Мадмуазель, взирая на него с видом нежным и искренним, отвечала ему такими словами: «Сударь, это справедливо; раз избрав себе наперсника в одном, не доверять ему безоговорочно означало бы отречься от своего выбора. Что до меня, то я не собираюсь так поступать, и я хочу сделать вас единственным хранителем самых тайных моих мыслей; если случится, что, говоря о них, я допущу неосторожность, не забывайте: будучи человеком чести, вы обязаны хранить секрет, а умение молчать — не меньшее искусство, чем умение хорошо говорить. Кстати, скажите, что вы у меня просите; я не говорю о ваших галантностях; из уважения к вам я даже согласна терпеть, когда вы мимоходом мне их говорите, ибо знаю, что такой галантный и придворный ум, как ваш, не может без них обойтись. Лишь вы, сударь, способны так изящно льстить и выдавать обычную мечту за нечто надежное и неопровержимое, хотя на самом деле такое не всегда вообразишь». «Пощады, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — что вы такое говорите? Так вы полагаете, что я думаю не то, что только что сказал! Когда бы Ваше Королевское Высочество могли читать в моем сердце, вы бы увидели, как все в нем истинно, и не имели бы причин во мне сомневаться. Я настолько убежден в том, что сейчас изложил, что вы наверняка увидите следствия, и, если мои молитвы будут услышаны, в самом скором времени. А поскольку об этом деле раньше или позже узнает весь свет, я прошу у Вашего Королевского Высочества чести узнать первым…» «Что?» — прервала его принцесса. «Имя того из ваших воздыхателей, здесь при дворе или за пределами государства, — продолжал господин де Лозен, — к которому Ваше Королевское Высочество будет испытывать наибольшую склонность. Весь мир о нем однажды узнает, и с превеликой радостью. А раз я предан вам бесконечно больше всех прочих, то прошу о предпочтении, чтобы, когда ваши прекрасные уста объявят мне, кого вы собираетесь осчастливить, я смог первым вас поздравить и засвидетельствовать вам свою радость, видя приближение момента, когда вы вручите себя тому, кому окажете честь своим выбором и найдете достойным своей привязанности». Последние слова он закончил глубоким вздохом, который не прошел незамеченным со стороны Мадмуазель; ибо она слишком пристально за ним наблюдала, чтобы упустить малейший из его жестов. «Почему вы тогда вздыхаете, господин де Лозен? Вы мне предрекаете столь прекрасные вещи и тем не менее заканчиваете их вздохом? Где же обещанная вами радость? Мне кажется, что счастье и удовольствия не встречают вздохами. Как вы хотите, — продолжала с улыбкой принцесса, — чтобы я себе это объяснила?» «Ах, Мадмуазель, — отвечал он, — острый ум, подобный вашему, без труда найдет правильное объяснение, особенно вспомнив, что вздыхают обычно по тому, чего страстно желают». «Правда, — отвечала Мадмуазель, — но вы не можете не знать, что вздохи в не меньшей степени бывают вызваны страхом, нежели радостью или желанием. И сердце, испускающее вздохи, слишком замутняет ум, чтобы он смог разобраться в их истинной причине, ибо, на мой слух, они всегда одинаковы и по тону не различаются». «Вижу, — сказал господин де Лозен, — что Ваше Королевское Высочество хочет посмеяться; но что вы ответите на мою просьбу?» «Вы будете разочарованы, — прервала его принцесса, — если ожидаете отказа. Я обещала и хочу сдержать слово; можете быть уверены, что сдержу я его в точности и что вправду назову вам того, кто будет более мне по душе из всех тех, кто, как мне кажется, имеет право на меня претендовать». «Но когда это будет?» — отвечал господин де Лозен с неописуемым восторгом и поспешностью. Принцесса, которая, безусловно, догадывалась о причине, хотя открыто виду не подавала и лишь позволила себе проявить частичку радости, ощущаемой ею в глубине сердца, сказала, улыбаясь, что это случится через три месяца. «Ах, Мадмуазель, сколь долгим будет для меня это время! — воскликнул наш влюбленный. — И какому жестокому испытанию подвергнется мое терпение! Но неважно, — продолжал он, — подождем, раз такова воля Вашего Королевского Высочества».
Вот каково было первое действие этого средства, измысленного им, чтобы узнать, стоит ли ему надеяться или нет. Конечный результат вы увидите в дальнейшем.
Некоторое время спустя пошли разговоры о путешествии во Фландрию, и господин граф де Лозен, который думал лишь о том, как понравиться Мадмуазель, постоянно подыскивал для того новые средства, не изменяя чести и все время помня свой долг перед королем. Он почти все время проводил у принцессы или с ней, когда она бывала в Лувре; ни разу не забывал приносить новости и рассказывал о них с таким изяществом, что даже если они уже были известны и хотя он примешивал к ним серьезные соображения (его отличали быстрота ума и особая основательность суждений), тем не менее непринужденная манера, с которой он их излагал, и множество приятных вещей, им добавленных, заставляли их сиять новым блеском, убеждая принцессу, что он не так уж недостоин ее внимания. Можно сказать, что в одиночку он был способен приятно занимать любое самое блестящее общество. В общем, из всего этого есть один неоспоримый вывод: он сумел покорить один из самых тонких умов, которые только встречаются у женского пола. Но так как для любовника, который желает укрепиться в уме своего предмета, нет ничего хуже, чем уехать и скрыться из глаз, а разлука тем более опасна после удачного начала, ибо необходимо не только проникнуть в сердце, которым стремишься завладеть, но и не отпускать добычу, пока не станешь безусловным ее господином. Нам доводилось видеть, как обладавшие всеми этими преимуществами сохраняли их, пока были рядом, но стоило им уехать, как они утрачивали и предмет любви, и надежды, и никто не вспоминал об их отсутствии. Граф де Лозен был слишком предусмотрителен, чтобы этого не знать, и слишком следил за своим образом действий в этом вопросе, чтобы в будущем совершать ошибки; поэтому он нашел способ избежать столь гибельной и опасной случайности.
Наш несравненный любовник, видя, что ему придется следовать за королем и тем самым оставить свой замысел, столь быстро продвигавшийся вперед, решил добиться, чтобы Мадмуазель отправилась в путешествие вместе со двором: это была та самая поездка во Фландрию, которую король предпринял в 1670 году. Для этого господин де Лозен прибег к паре уловок, казавшихся ему безотказными, как оно действительно и вышло. Первой, кем он воспользовался, стала сама Мадмуазель, к которой он отправился. Сперва он постарался пустить в ход все средства, чтобы завести разговор о поездке. Наконец, найдя подходящий случай, он сказал принцессе: «Не стоит спрашивать, отправляется ли Ваше Королевское Высочество в путешествие во Фландрию: это слишком правильно и разумно, чтобы в том сомневаться». «Конечно, — сказала Мадмуазель, — если того пожелает король; я же не особенно к этому стремлюсь». «Что вы говорите, Мадмуазель, — отвечал он, — король, конечно, этого хочет, как и все прочие, и я уверен, что он того ожидает». «Я поеду, лишь если он мне скажет», — отозвалась принцесса. «Я знаю, — продолжал наш граф, — что двор повсюду, где вы, и только вам пристало казаться к тому безразличной. Но если мне позволено будет высказать свои мысли со всем причитающимся Вашему Королевскому Высочеству почтением, вы не можете пропустить эту поездку, не воспрепятствовав намерению короля явиться во Фландрию в полном блеске: будучи одним из прекраснейших и славнейших украшений двора, Ваше Королевское Высочество не может его покинуть, не забрав лучшей части великолепия. Кроме того, я знаю, что король слишком уважает Ваше Королевское Высочество, дабы дозволить вам остаться, если вы только не будете того желать изо всех сил; еще мне ведомо, что вы слишком любите короля, чтобы обмануть его ожидания». «Вы можете думать и говорить все, что вам заблагорассудится, господин де Лозен, — отвечала Мадмуазель, — но уверяю вас, я не поеду, не получив на то прямого повеления». «Хорошо, Мадмуазель, — сказал господин де Лозен, — если дело только в этом, я уверен, что мои желания исполнятся и Ваше Королевское Высочество увидит Фландрию». Тут он простился и, выходя из комнаты, с улыбкой сказал: «Я отправляюсь к королю за назначением меня кавалером, но не ордена Святого Михаила или Святого Духа». «Что же это может быть? — сказала Мадмуазель с улыбкой. — Во Франции нет других, кроме Мальтийского, но мне кажется, что вы не о нем помышляете».[276] «Вы правы, Ваше Королевское Высочество, — сказал господин де Лозен, остановившись в дверях, чтобы ответить, — назначение, о котором я буду просить короля, мне бесконечно более дорого и приятно, чем все перечисленное Вашим Королевским Высочеством». «И каково оно, — спросила Мадмуазель, приблизившись к нему и продолжая улыбаться, — можно ли узнать?» «Поскольку я намерен его получить, — сказал наш граф, — то Ваше Высочество будет первой, кому я его сообщу». «Значит, сударь, я вскоре увижу вас снова?» «Да, Мадмуазель, раньше, чем вы думаете, и с добрыми вестями». И, отвесив глубокий поклон, он прямо отправился к королю, у которого, после многих речей, спросил, не поедет ли во Фландрию Мадмуазель; король отвечал: если захочет. «Государь, — продолжал влюбленный граф, — вы знаете, что принцы и в особенности принцессы крови не путешествуют без приказа; так что Мадмуазель и в голову не придет двинуться с места, меж тем важно, чтобы она сопровождала королеву. При Дворе нет никого, чье присутствие приносило бы больше чести Вашему Величеству своим блеском и великолепием, и благодаря ее рангу первой принцессы крови, и благодаря ее состоянию, и в силу многих других причин. Поэтому пусть Ваше Величество соблаговолит рассудить: важно, чтобы Мадмуазель не расставалась с королевой, которой, без сомнения, будет неловко в этой поездке без принцессы. Я знаю, государь, что Мадмуазель сама не станет ничего решать из глубочайшего почтения к Вашему Величеству. Будет неприятно, если ей придется отправиться в путь, не имея времени, необходимого для особ ее звания, чтобы должным образом подготовиться, ибо, без сомнения, все должно быть соразмерно ее сану и стремлению полностью отвечать желаниям Вашего Величества. Поэтому, государь, если бы вы сообщили ей свое повеление, — а я совершенно убежден в покорности, с которой она всегда склоняется перед вашей волей, — то она примет его с радостью; решусь даже предположить, что, если Ваше Величество появится во Фландрии без принцессы, она будет безутешна, столь велика ее преданность вашим интересам». «Ну так ступайте и скажите ей, — сказал король, — что я прошу ее приготовиться сопровождать королеву и что я буду ей признателен». Тут повторять дважды не пришлось; господин де Лозен, видя, что его намерения так счастливо исполняются, тут же исчез, не задержавшись ни на секунду; он отправился к принцессе, которая, увидев его входящим в ее покои с веселым лицом, на котором читалось удовлетворение, сказала ему: «Вот и вы, сударь: по-видимому, вы получили от короля, что хотели». «Это правда, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, отвесив глубокий поклон и подойдя чуть ближе, — меня только что посвятили в рыцари, я исполнил утреннее обещание и получил свой первый приказ». «Так мы его наконец услышим?» — сказала Мадмуазель, смеясь и, без сомнения, догадываясь, о чем речь. «Да, Мадмуазель, — отвечал он, — я изложу его в немногих словах. Если угодно Вашему Королевскому Высочеству, то вы можете готовить боевые доспехи: король, имея намерение окончательно покорить фламандцев, решил атаковать их оружием, которому они не смогут противостоять. Именно за этим Его Величество предпринимает эту поездку, о которой я имел честь говорить вам утром. А поскольку за время последней кампании во вражеских землях он распространил свои завоевания на несколько новых провинций, то решил не покидать их, пока не станет там полным господином, и я получил от Его Величества повеление, чтобы вы готовились его сопровождать, ибо Ваше Королевское Высочество будет его решающей силой: я послан просить вас не оставлять его в столь великом и важном деле». Наш влюбленный граф объяснялся так приятно, что не было ничего очаровательней его речей, и Мадмуазель, которой они доставляли заметное удовольствие, слушала с отменным вниманием. Но, желая знать, к чему приведет эта галантность, ибо она прекрасно видела, что все это измышления господина де Лозена, она спросила: «Что вы имеете в виду, сударь, когда толкуете о войне? И разве королю была бы во мне нужда, если бы он задумал воевать? На такую службу более пригодны вы сами, ибо это — ваше ремесло». «О нет, Мадмуазель, — отвечал господин де Лозен, — ибо король желает атаковать этот народ отнюдь не шпагами и мушкетами; он хочет воспользоваться оружием более нежным, но куда более опасным: великим блеском и величием своего двора король хочет поразить умы, от природы любопытные до всего необычного. А коль скоро в Вашем Королевском Высочестве больше притягательности, чем во всех нас, вместе взятых, то от вас он ждет и большей помощи. Да, Мадмуазель, скажу, что воистину лишь вы умеете завоевывать приятностью не только самые грубые умы, но целый свет. Достаточно сказать, что величайший в мире король избирает вас главным и прекраснейшим оружием, которое должно упрочить уже свершенные завоевания и облегчить будущие, еще более великие. И если Ваше Королевское Высочество надеялись, что ваш почет может быть умножен извне, чем-то не от вас самой исходящим, то высокое уважение, проявляемое каждый день нашим славным и непобедимым монархом к вашим достоинствам, делает их еще более ценными, нежели любая неописуемая красота и приятность». «Что означает, — сказала Мадмуазель, — что господин де Лозен — человек, лучше всех в мире умеющий по любому поводу придумать нечто удивительно галантное; и сколько бы я ни просила меня от этого избавить, его острый ум не может себя к тому принудить. Возможно ли, что во всем мире есть лишь один Лозен, способный на столь редкую изобретательность, единственный, кто может похвалиться речами самыми прекрасными и изысканными, достойными беседы самых лучших умов нашего века? Что до меня, — продолжала она, — то я не понимаю, откуда вы берете все это, и не могу не удивляться новизне, которую вы выявляете во всем». «Совсем не сложно произносить и говорить красивые вещи, — подхватил господин де Лозен, — когда имеешь счастье видеть, с каким блеском они отражаются в Вашем Королевском Высочестве! Когда имеешь честь с вами беседовать, то легко и почетно превращаться в ученого!» «Оставим это, я знаю, что мне вас не обыграть, так что скажите, что вам сказал король». «Король просит вас, Мадмуазель, — продолжал господин де Лозен, — приготовиться отправиться вместе с королевой; и просит очень настойчиво. Я знаю, что требовалось повеление, дабы вы не остались здесь, — сказал он, улыбаясь и весьма радостно, — ибо мне было бы тяжело, а то и невыносимо сохранять душевное спокойствие, не имея возможности в любой момент вам засвидетельствовать свое покорнейшее почтение. И я буду всю жизнь благословлять тот момент, когда мне посчастливилось сделать так, чтобы двор не уехал без вас. Да, Мадмуазель, я трудился со всей горячностью и прилежанием, ибо моя должность и строгие обязанности требуют, чтобы я повсюду следовал за королем; и, когда бы Ваше Королевское Высочество остались здесь, быть вынужденным удалиться от места, где вы пребываете, для меня означало бы разорваться надвое. Тысячу раз прошу прощения, Мадмуазель, если я изъясняюсь слишком вольно и действовал без вашего дозволения, но я думал, что, служа самому себе, я вас не оскорблю и что вы не будете против поездки вместе с королем, который вас нежно любит и часто давал мне это понять своими искренними и страстными речами». «Я отнюдь не сержусь, — отвечала красавица, — напротив, я хочу вас поблагодарить, ибо это мне весьма приятно. Говоря откровенно, безразличие, которое я выказывала этим утром по поводу путешествия, отчасти было призвано выявить, так ли близко к сердцу вы принимаете мои интересы, как говорите, и как легко сможете вы меня оставить; ибо я знала, что, обладая привязанностью, которую вы уже давно мне выказываете, и вашим умом, вы обязательно что-нибудь предпримете по этому поводу; и я даже убедила себя, что вы возьметесь за дело всерьез и, имея более других свободный вход к королю, сможете добиться успеха; не знаю, смогла ли бы я вас когда-нибудь простить, если бы вы поступили иначе. Так что я вас благодарю, и помните, что я никогда не забуду оказанную услугу, чему вы увидите доказательства раньше, чем рассчитываете, которые вас удивят, и вы поймете, что вверили себя не самой неблагодарной особе, а той, что, быть может, заслуживает даже больших забот, чем вы ей рассыпаете».
Вот как бывает, когда нам сопутствует удача: все, что мы предпринимаем, идет нам на пользу.
Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье
Мемуары
(1677)
В 1653 г., закончив работу над «Жизнью госпожи де Фукероль» и прочитав «Мемуары» Маргариты де Валуа, Мадмуазель решила взяться за собственное жизнеописание. Как и многим участникам Фронды — кардиналу де Рецу, герцогу де Ларошфуко, герцогине Немурской и целому ряду других, — ей хотелось объяснить свой образ действий и изложить свою версию исторических событий. За время изгнания она успела рассказать о детстве и юности, о политических потрясениях 1648–1652 гг. и о последовавшей опале. Таким образом, первая часть ее «Мемуаров» была закончена в 1658 г., когда ей было дано позволение вернуться ко двору. Следующий импульс поведать о перипетиях своего существования возник у Мадмуазель в 1677 г. Снова взявшись за перо, она описала события своей жизни с 1658 по 1670 г., закончив историей несостоявшегося брака с Лозеном. В третий раз она вернулась к «Мемуарам» после 1688 г., уже окончательно порвав с Лозеном, чтобы поведать о тех жертвах, которые ей пришлось принести ради его освобождения, и о том, как он ей отплатил.
Таким образом, несмотря на кажущуюся целостность фигуры повествователя, на самом деле в «Мемуарах» мадмуазель де Монпансье друг друга сменяют три рассказчицы: первой от двадцати шести до тридцати лет, второй — за пятьдесят, третьей — за шестьдесят. Это сказывается на изменении тональности повествования, в котором сперва преобладает героическая интонация, затем — лирико-драматическая и, наконец, отстраненно-моралистическая. И хотя такое распределение не соответствует принятому в ту эпоху делению на возрасты, много раз упоминаемому самой Мадмуазель (пора женской молодости простиралась от шестнадцати до двадцати шести лет, все последующее считалось временем увядания), психологически оно не столь от него далеко. Вполне понятно, что проблема возраста является одним из лейтмотивов ее истории с Лозеном. Хотя, как уже говорилось, высокое положение внутри сословной иерархии освобождало ее от многих возрастных конвенций, она прекрасно отдавала себе отчет, что «великая принцесса» одновременно являлась «девицей сорока трех лет». Тут стоит уточнить, что волновал ее отнюдь не биологический возраст, хотя она не упускала случая похвастаться свежестью лица и крепким сложением (заметим, что Сен-Симон вполне допускал, что у нее с Лозеном могли быть дети).[277] Куда большую проблему представляли общественные ожидания. Дело было не в том, что «девице сорока трех лет» нельзя было выйти замуж, но в мотивации подобного брака. Случай Мадмуазель был сложен тем, что у нее не было ни одного убедительного (с точки зрения общества) резона стремиться стать женой Лозена: ее не подталкивала к этому ни экономическая необходимость, ни желание сословного продвижения, ни возрастные конвенции. Поэтому ей приходилось ссылаться на желание поумерить аппетиты своих наследников и иметь спутника, который мог бы скрасить ей остаток жизни.
Мемуарный жанр в XVII в. имел немаркированную, хотя вполне определенную позицию в системе исторических жанров, принадлежа к наименее нормативной ее части. Термин «мемуары» редко употреблялся сам по себе, без уточнения, имевшего ограничительный смысл (мемуары для составления будущей истории), или без конкретизации темы (напомним, что госпоже де Лафайет приписываются «Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы»). В целом мемуары считались подготовительным материалом, который должен был лечь в основу более сложной конструкции. В этом смысле они обнаруживали свое внутреннее сродство с «мемуаром» — памятной запиской или докладом по какому-либо конкретному поводу. Можно сказать, что для человека XVII в. мемуары были своего рода памятной запиской, подаваемой в некий департамент истории, чтобы жизнь автора была приобщена к общему своду. Соответственно, чаще всего автор мемуаров описывал ту часть исторического пространства, которая была доступна его взгляду (вспомним уже процитированный пассаж о «песчаных пустынях» бессознательного из мемуаров королевы Марго). Именно в этом заключался их личностный характер в противоположность интимному повествованию второй половины XVIII–XIX вв.
Мемуары XVII в. можно разделить на несколько категорий. Антуан Фюретьер указывал в своем словаре:
Мемуарами называются сочинения историков, написанные теми, кто принимал участие в важных делах или был их очевидцем, или же книги, содержащие всю жизнь автора или же ее важнейшие события.[278]
Иначе говоря, первый тип повествования был ближе к хроникальному. К нему относятся уже упоминавшиеся «Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы» госпожи де Лафайет и «Мемуары» герцога де Сен-Симона, представляющие широкую панораму жизни придворного общества. Второй тип мемуарного рассказа склонялся к автобиографии. В качестве примера здесь можно взять воспоминания кардинала де Реца или герцога де Ларошфуко. Конечно, отличить мемуары-хронику от мемуаров-автобиографии порой бывает трудно, и граница между ними остается зыбкой. Тем не менее, если сравнить повествования Сен-Симона и кардинала де Реца, то очевидно, что первый описывал события своего времени, вне зависимости от того, насколько они были значимы для него лично, меж тем как второй рассказывал прежде всего о том, что затрагивало его интересы.
С позиций современного изучения «эго-документов» можно предположить, что мемуары-хроники носили менее личный характер, нежели мемуары-автобиографии. На самом деле это не вполне так. Авторы первых описывали свою личную точку зрения на исторические события, свидетелями которых они были. Позиция вторых была более сложной, поскольку в их случае понятие «авторства» приобретало двойной оттенок: они были «авторами» собственной жизни, однако не обязательно авторами текстов, в которых она описывалась. Так, знаменитые мемуары герцога де Сюлли были составлены и написаны от лица его секретарей (что дало необычную для такого типа текстов форму повествования от второго лица). А мемуары Гастона Орлеанского представляли собой собрание документов, связанных с разными периодами его жизни и деятельности. Даже в написании столь личной автобиографии, какой являлись «Мемуары» кардинала де Реца, немалую роль играли его секретари и помощники. Чем выше было общественное положение мемуариста, тем больше шансов, что его жизнеописание собирали подчиненные. Тем не менее он продолжал считаться автором, поскольку речь шла о его собственной жизни.
Это, конечно, не исключало того, что многие мемуары-автобиографии носили сугубо личный характер и были действительно написаны теми, от чьего лица велось повествование. Их число возросло во второй половине XVII столетия, когда, по наблюдению Марка Фюмароли, мемуаристы стали излагать не столько личный опыт истории, сколько свой духовный путь (что до некоторой степени подразумевало и описание эмоциональной жизни).[279] Это определение в высшей степени подходит «Мемуарам» Мадмуазель. Наличие оригинальной рукописи свидетельствует о том, что если она и пользовалась услугами секретарей, то лишь на последнем этапе работы, когда надо было переписать текст набело. Нет причин сомневаться в искренности ее заверений, что этот труд не предназначался ей ни для публикации, ни для циркуляции в виде манускрипта. Мадмуазель писала для потомков и, даже в большей степени, для себя самой. Как в знаменитой сцене «Принцессы Киевской», где героиня дает волю своей страсти, глядя на портрет героя и украшая лентами его трость, [280] так и Мадмуазель нуждалась в вещественных напоминаниях о своей любви. Мемуары становятся тем предметом, который замещал и воплощал собой эмоциональную память.
Впервые «Мемуары» мадмуазель де Монпансье были опубликованы в 1728 г., через тридцать пять лет после ее смерти. На протяжении XVIII столетия они неоднократно переиздавались, однако в сильно отредактированной и стилистически видоизмененной форме. Полный оригинальный текст увидел свет лишь в 1858 г. усилиями Адольфа Шеруэля, заново расшифровавшего малочитабельный почерк Мадмуазель.
Мемуары[281]
Бог — хозяин наших состояний; Он оставляет нас в них столько, сколько способен вынести наш переменчивый дух. По Его дозволению я всегда считала свой жребий самым счастливым из тех, что можно избрать в этом мире: я должна была быть довольна своим рождением, богатством и всеми благами, которые позволяют проводить жизнь, не будучи ни в тягость самой себе, ни обузой другому. И все же, как уже говорилось, сама не зная почему, я скучала там, где все прежде мне было любо, и приохотилась к тому, что раньше было безразлично, без всякой задней мысли полюбив беседовать с господином де Лозеном. Проведя долгое время в таком беспокойстве, я решила обратиться к себе и разобраться, что мне приносит радость и что причиняет боль. Я поняла, что меня занимает другое состояние, нежели то, что до сих пор оставалось моим уделом; что буду более счастлива, если выйду замуж; что если я составлю чью-то судьбу, одарю кого-нибудь столь великим союзом, то этот человек будет мне благодарен, тронут, исполнится ко мне дружеских чувств и будет стараться делать все, дабы мне угодить. Что до сих пор мне предлагали великие союзы, которые бы меня возвысили, но не сделали бы более счастливой; что последнее возможно лишь при уважении к тому, кто стал бы мне другом; что мои наследники почитают мое добро своим и желанней всего для них была бы моя смерть, позволившая бы им всем распоряжаться. Тщательно перебрав в голове все, что могло явиться источником отвращения, я поняла: Господь дозволил мне почувствовать в самом сердце, что из всех возможных жребиев замужество — единственный выбор, способный принести мне покой, и я могу составить завидную судьбу своему избраннику, который будет мне благодарен до конца моей и своей жизни и с которым я буду проводить дни в тишине и единении совершенной дружбы. И тут я увидела, что мое беспокойство отнюдь не было неопределенным и что достоинства, которые я всегда находила в господине де Лозене, выгодное отличие его поведения от всех прочих, возвышенность души, возносившая его над обычным людом, приятность его беседы и множество других известных мне черт позволили понять, вернее, почувствовать, что он — единственный, кто способен выдержать величие, которое я на него возложу, и что только он достоин быть моим избранником и сможет лучше всех жить со мной. Я подумала, что мне никто никогда не оказывал дружеских знаков; что быть любимой — радость, и весьма чувствительная, и что куда как сладостно жить с человеком совершенно достойным, в котором я обрету друга, отзывчивого к моим радостям и страданиям, беседы с которым, как я начала замечать, мне более по вкусу, чем с кем-либо другим. Так я увидела в себе, что причиной моих радостей было удовольствие от бесед с ним; а мое малое усердие к прочим делам, отвращение ко всему миру и скука, когда я не находила его у королевы, открыли мне то, чего я до сих пор не ведала. У меня не было иных занятий и иного беспокойства, кроме тех, что породили эти размышления: то я хотела, чтобы он догадался о моем положении, а в другой раз — чтобы он о нем не узнал. Я по своей природе нетерпелива: признаюсь, что такое положение меня угнетало, все мне были невыносимы, а общество приводило в отчаяние; я хотела оставаться одна в своей комнате или видеть его у королевы или на прогулке, случайно или иначе; лишь увидев его, я успокаивалась. Я размышляла и о трудностях, которые могла встретить; мне было затруднительно завести об этом речь с королем: я желала дать ему [Лозену] понять мои чувства, чтобы он сам подсказал, как мне следует себя вести. Я была безутешна, потому что по его покорному и почтительному поведению видела, что он совершенно не догадывался о моих намерениях. Самым затруднительным делом мне казалось дать ему понять, что он более счастлив, нежели полагает; порой я не могла не думать о несоответствии его происхождения моему. Я читала историю Франции и почти все истории, что писаны по-французски; мне было известно, что в нашем королевстве бывали случаи, когда особы даже менее знатного происхождения заключали браки с дочерьми, сестрами, внучками или вдовами королей, о чем я еще скажу; и что от этих людей его отличало лишь то, что он по рождению принадлежал к более великому и славному дому и обладал большими достоинствами и душевным величием, нежели они. Это препятствие я преодолела с помощью множества примеров, которые пришли мне на память. Из всех только что приведенных доводов я составила план; и тут мне вспомнилось, что в комедиях Корнеля я читала о некой судьбе, сравнимой с моей, и я увидела Божий промысел в том, что этот поэт придумал, исходя из человеческих взглядов. Я послала в Париж купить все сочинения Корнеля, чтобы отыскать то, что, казалось, мне подходило. Пока мой курьер не вернулся, я говорила себе, что в мире нет человека более высоких чувств, чем господин де Лозен; порой я даже находила, что его достоинства превышали все, что я хотела для него сделать; и мне было тем легче убедить себя в этой истине, что вся Франция разделяла мое мнение, такова была его репутация человека необычного. Прибыли сочинения Корнеля, и я быстро нашла в них стих, который приведу здесь; я выучила его наизусть: за последние годы мне не раз приходилось над ним размышлять, и я считаю идущим от Бога то, на что большинство людей взирает с мирскими чувствами.
Стих Корнеля
Когда нас небеса судили друг для друга, Согласия достичь не надобна наука: Движеньем тайных сил, по милости Творца, Еще не видевшись, все ведают сердца, Влюбленных исподволь они готовят к встрече, При звуках имени душа уже трепещет. Увидеть — полюбить в один и тот же миг. И каждый думает, что истину постиг, И до пустых тревог им попросту нет дела, Не дожидаясь слов, летит на крыльях вера. Язык скупых речей так много говорит, Еще смелее глаз красноречивый вид, Но сколь влюбленные ни изъяснялись сами, Все ж слышит сердце то, что не сказать словами (IV, I).[282]После всего, что я поведала об охватившем меня беспокойстве, о нерешительности по поводу того, как следовало поступить, о естественной склонности, которую я в себе обнаружила, — видеть и говорить с господином де Лозеном, об отвращении, какое я всегда испытывала к браку, и о принятом мной решении выйти за него замуж, мне кажется, этот стих как нельзя лучше подходил к моему положению; в нем, если смотреть с божественной точки зрения, заключен нравственный смысл и к тому же есть нечто галантное для сердец, этому подверженных. Я должна благодарить Бога за сердце, каким он меня наделил, вложив в него отвращение ко всему, что именуется галантностью. Мне вспоминается, что, всерьез поразмыслив над тем, что скажет свет по моему поводу и по поводу тех невзгод, которые могут поджидать меня в этом браке, я решила беседовать с господином де Лозеном лишь в присутствии третьих лиц и хотела отдалить от себя случаи его видеть, чтобы выкинуть его из головы. Я принялась следовать такому образу действий и говорить с ним о вещах безразличных. Но я заметила, что сама не знаю, что говорю; что я не могла вымолвить три слова кряду, чтобы в них был смысл; и чем больше я старалась его избегать, тем сильнее хотела видеть. Мадам, [283] бывшая в числе его друзей и показывавшая, что хочет быть моим другом, часто говорила мне о его достоинствах. Множество раз я чувствовала соблазн открыть ей сердце, чтобы она искренне сказала, как мне поступить, и посоветовала, как себя вести. Сама я была на это не способна, ибо все время делала прямо противоположное тому, что хотела сделать, и днем не могла исполнить задуманное ночью. Вот как я жила, по сто раз на дню сама с собой в раздоре. Поразмыслив о невозможности выбросить все это из головы, об ожидавших меня препятствиях и о том, как мне преодолеть все, что по этому поводу можно будет сказать, я оказалась перед насущной необходимостью принять решение.
Я последовала за королевой к францисканцам, где происходило девятидневное молитвенное бдение в честь святого Петра д’Алькантара;[284] от всего сердца молила я Господа вдохновить меня на то, что должна была свершить. В день, когда была выставлена евхаристия, испросив Господней благодати на принятие решения, по своему состоянию я поняла, что все мое существование будет потревожено, если я буду пытаться изгнать из мыслей намерение, уже там утвердившееся. Когда я стремилась от него избавиться, то на деле была занята лишь средствами, к которым должно прибегнуть, чтобы господин де Лозен понял мои чувства к нему, и раздумиями, как добиться успеха: мне казалось, что сделать это очень просто; вспоминая, как говорилось выше, примеры, вычитанные мной из истории, и я не могла себе представить, чтобы кто-нибудь стал мне препятствовать, помимо тех, кто надеялся унаследовать мое состояние. На следующий день после принятия решения — это было 2 марта — я оказалась у королевы вместе с господином де Лозеном; я прошла перед ним: мне казалось, что по вежеству и веселости, с которыми я с ним беседовала, он должен был догадаться, что у меня на сердце; и хотя он по-прежнему не отступал от изъявлений глубочайшего почтения, но, вспоминая выписанный мной стих, я полагала, что он должен меня понять. Тем не менее меня мучила неопределенность; я хотела найти способ быть понятой. В это время пошел слух, что король вернет Лотарингию и что меня выдадут замуж за принца Карла;[285] я подумала, что это подходящий случай, дабы окольным путем дать возможность господину де Лозену уяснить мое положение, а мне — его изъяснить. Я послала за ним, попросив его зайти в мою комнату, которая была недалеко от его; когда я шла к королеве, то всякий раз проходила мимо его двери. Мне сказали, что его там нет. Он был большим другом Гитри и часто проводил время в потрясающих покоях, которые тот для себя обустроил; под предлогом, что мне любопытно их посмотреть, я туда зашла; я не сомневалась, что найду там господина де Лозена, но ошиблась. Спустившись к королеве, я увидела его беседующим с графиней де Гиш;[286] и, когда я дала понять, что хочу с ним поговорить, она мне сказала: «Дайте мне закончить дело, которое я к нему имею, этого господина мне не всегда удается найти по первому желанию, тогда как вам стоит только приказать ему явиться и выслушать ваши повеления». Этот ответ заставил меня вздрогнуть; сердце у меня забилось так, что мне казалось, все это заметят, и мне даже хотелось, чтобы его сердце заметило порывы моего и чтобы он почувствовал, что я не хочу сообщить ему ничего неприятного.
Когда графиня де Гиш его отпустила, я подошла к окну; он последовал за мной с тем горделивым видом, который заставлял меня видеть в нем владыку мира. Дрожа, я ему сказала: «Вы всегда показывали, что принимаете участие во всем, что меня касается, и вы были мне столь верным другом и человеком столь здравомыслящим, что я не хочу ничего предпринимать, не спросив у вас совета». С поклонами и обычной покорностью он мне отвечал, что крайне признателен за оказанную ему честь, что он навеки мне обязан, что он меня не обманет, как это покажет искренность, с которой он мне поведает свои мнения, и что он будет соответствовать моему о нем доброму мнению. Когда мы покончили с комплиментами, я ему рассказала о ходивших в свете слухах, что король намеревается выдать меня за принца Карла Лотарингского, и спросила, слышал ли он что-нибудь об этом. Он мне отвечал, что нет, но не сомневается, что король пожелает лишь того, чего я сама захочу, и что король слишком справедлив, а его сердце слишком поглощено воздаянием справедливости, чтобы к чему-либо меня принудить. Я ему сказала: «В мои годы не выдают замуж против воли. Мне предлагали множество партий; я всегда выслушивала тех, кто мне о них говорил; некоторые могли бы принести мне еще больше величия, но я была бы в отчаянии, если бы меня вынудили их принять. Я люблю свою страну, — сказала я ему, — я — знатная дама, руководствующаяся скорее разумом, нежели честолюбием, которое здраво ограничивать; надо уметь устраивать счастье в этой жизни, и я уверена, что его не обрести, живя с человеком, которого совсем не знаешь; которого, если он не окажется человеком достойным, нельзя будет уважать». Он мне отвечал, что мои чувства совершенно справедливы и что он может их только одобрить. Он мне сказал: «Вы так счастливы! Зачем вы думаете о браке?» Я ему ответила, что у него есть все основания считать меня счастливой и что я действительно счастлива; но я ему призналась, что число тех, кто рассчитывает на мое наследство и потому желает моей смерти, приводит меня в отчаяние и что одно это соображение толкает меня к браку. Он мне отвечал, что вопрос слишком важен и что я должна его тщательно обдумать, а после того, как он, со своей стороны, тоже над ним поразмыслит, то выскажет свое мнение и я увижу, что он не посоветует мне ничего, что не оправдывало бы доверие, которым я его почтила. Королева вышла, и мы отложили этот разговор до следующего раза. Признаюсь, что, хотя я ему ничего не сказала, что касалось бы его самого, я почувствовала большое облегчение оттого, что мы сможем еще поговорить об этом деле. Мне по-прежнему хотелось, чтобы он обо всем догадался по смущению, с которым я с ним беседовала; я не решалась взглянуть ему в лицо; я была очень довольна собой и строила самые приятные планы на следующий раз, когда мы к этому снова вернемся.
На следующий день, когда королева отобедала, я пошла с ним поговорить. Я ему сказала, что он должен безотлагательно высказать мне свое мнение; что я прошу его говорить со мной искренно и сказать, подумал ли он о том, что я ему сказала. С приятной улыбкой он мне отвечал, что можно составить целую книгу из того, что успело прийти ему в голову, но что там слишком много воздушных замков, и что придумать, как мне поступить — мое дело, он же со всей искренностью отзовется обо всем, что я предложу. Я сказала: «Я не меньше вашего предавалась возведению воздушных замков, но мои стоят на прочном фундаменте, и вы доставите мне удовольствие, если побеседуете об этом серьезно, как подобает другу, ибо я хочу обсудить с вами самое важное дело своей жизни». Он засмеялся и сказал: «Я должен гордиться званием главы вашего совета; вы мне внушаете весьма высокое мнение о самом себе». Я сказала, что буду весьма высокого мнения о советах, которые он мне даст, и обещаю им следовать, и что с еще большей уверенностью, чем ранее, я могу сказать, что буду справляться лишь с его мнением, ибо все прочие мне подозрительны и я уверена, что для меня хорошо лишь то, что он скажет. Он хотел приняться за выражения почтения и низкие поклоны. Я сказала: «Я вас прошу, сударь, вернемся к тому, на чем остановились вчера». «Вы помните, — сказал он, — что вчера мы остановились на беспокойстве, которое вам причиняют ваши наследники, желая вашего добра и вместе с тем вашей смерти, и это единственное, что побуждает вас думать о браке. Скажу откровенно, что на вашем месте я бы тоже так рассуждал. Жизнь нам в радость, и весьма печально знать, что есть люди, желающие нашей смерти. Я понимаю, что это единственная причина, побуждающая вас задуматься о браке, ибо до сих пор вы отвергали все предложения, что были вас достойны. Сейчас нет никого, кто мог бы вам подойти, поэтому вы вполне можете питать желание выйти замуж для того, чтобы вам перестали желать смерти. Но я не вижу того, за кого вы могли бы выйти, поэтому мне затруднительно дать вам совет и остается лишь сочувствовать вашему положению. Я не могу дать вам никакой отрады, кроме как помочь облегчить сердце. Я знаю, — сказал он, — что вы давно ищете человека, достойного вашего доверия, и я счастлив, что этот жребий выпал мне. Я крайне огорчен, что не могу убрать непреодолимое препятствие, которое должно причинять вам столько горя. Ибо, как я только что сказал, нет такого человека, на которого мог бы пасть ваш взгляд. Меж тем не могу не согласиться, что вы правы, желая выйти из неприятного положения, в котором находитесь, постоянно думая, что вам желают смерти. Когда бы не это, чего еще вам желать? Разве вам не довольно величия и богатств? Вас уважают и почитают за вашу добродетель, ваши достоинства и ваш сан. Мне кажется весьма приятным быть лишь себе обязанной тем уважением, которым вы окружены. Король с вами любезен, он вас любит, я вижу, что ему по нраву ваше общество, — чего же еще желать? Став императрицей или королевой чужой страны, вы скучали бы до смерти. Эти звания лишь ненамного выше вашего. Куда как тягостно подделываться под нрав одного человека и всех окружающих, с кем вынужден проводить жизнь, и я не представляю себе, какие радости могут эту тягость облегчить». Я ему сказала, что он прав и я не обманулась, выбрав его советчиком; и что это величие и богатство, о котором он говорил, могут быть использованы для возвышения человека во всем достойного; избрав такой образ действий, я последую велению своего сердца, которое не желает расставаться с королем; и мне думается, тот будет даже рад, если я возвышу одного из его подданных и дам ему средства еще лучше служить трону. Он мне отвечал: «Вы и вправду настроили воздушных замков, но я соглашусь, что у ваших фундамент прочнее, чем у моих. Все, что вы только что сказали, можно сделать, со славой и приятностью для вас. Кроме удовольствия вознести кого-то выше всех властителей Европы, вы можете быть уверены в его бесконечной признательности, в том, что он вас будет любить больше жизни, и, что самое важное, вы не расстанетесь с королем. Вот что я называю фундаментом. А воздушными замками я бы назвал трудность найти такого человека, чьи рождение, склонности, достоинства и добродетели были бы достаточно велики, чтобы отвечать тому, что вы для него сделаете. Вы не можете не видеть, — сказал мне он, — что именно это я нахожу невозможным». Я ему с улыбкой отвечала: «Что бы вы ни говорили, это возможно, и я хочу верить вашим советам. Раз ваши затруднения связаны не с самим замыслом, а с человеком, я позабочусь, чтобы найти такого, у кого имелись бы все названные вами качества». Этот разговор продолжался почти два часа и не закончился бы так скоро, если бы королева не вышла из своей молельни. Признаюсь, я была довольна всем, что ему сказала, и тем, что он мне ответил. Я решила, что он прекрасно понял, что я ему хотела сказать. Я видела его почти ежедневно. Он никогда не заговаривал со мной; мне приходилось подходить самой, и по большей части он ускользал, пуская в ход свою изобретательную почтительность. Такого образа действий он продолжал придерживаться со мной. Через несколько дней я ему сказала, что он, видимо, не желает беседовать о моем деле. Он ответил: «Я нахожу в нем столько для вас неприятностей и трудностей, что, откровенно говоря, советую вам об этом позабыть. Вам сейчас хорошо. Я был бы недостоин чести, которую вы мне оказали своим доверием, не сказав, что лучшая для вас доля — оставить все, как есть». Этот ответ меня задел, но не произвел впечатления. Я убедила себя, что он говорит не то, что думает, и что уже по этому можно судить, что он меня понял. И то, что сперва явилось для меня предметом огорчения, затем превратилось в источник немалого удовольствия. Наши беседы оставались крайне отвлеченными. Он избегал со мной говорить. Мне удавалось к нему подойти раз в две недели, и то он часто не давал мне времени сказать, что я хотела. Однажды я ему сказала: «Я хорошо обдумала ваш совет. И нашла средства поправить дело: если хотите, я вам их разъясню». Он мне ответил: «Если я не всегда с вами соглашаюсь, это не значит, что вы должны утратить ко мне доверие. Я не хочу вам льстить, ибо речь идет о вашем спасении и о спокойствии вашей жизни, поэтому я вынужден держать не слишком любезные речи, которые вам могут не понравиться. Согласен, было бы смешно провести жизнь, так и не избрав линии поведения, сколь бы ни был высок сан. В сорок лет не должно предаваться радостям, которые приличны девушкам с пятнадцати до двадцати четырех. Поэтому я обязан вам сказать, что вам стоит сделаться монахиней или обратиться к благочестию. Если вы выберете последнее, вам следует начать скромно одеваться, отказаться от светских развлечений, познав их избыточность, и, самое большее, из уважения к вашему званию, раз в год посещать Оперу, дабы угодить королю, и то следует, чтобы он вам это приказал; не выказывайте при этом удовольствия, ничего не хвалите, чтобы все поняли, что вас это не занимает. Вам надо будет не пропускать ни большой мессы, ни вечерни, ни проповеди; посещать собрания бедных, госпитали, творить много добра для обездоленных, помогать больным и нуждающимся семьям и радоваться богатствам, которые дал вам Господь, лишь раздавая их так, как было бы Ему угодно. Кроме этих обязанностей следует исполнять долг по отношению к королеве, ибо того требует ваш сан. Вот два образа жизни. Третий — замужество, при котором можно посещать любые развлечения и носить такие наряды, какие пожелаешь, ибо достойная женщина должна стремиться нравиться своему мужу; но последнего мне кажется весьма трудно сыскать. Даже если вы изберете кого-то по вашему вкусу, не обнаружатся ли в нем недостатки, вам неизвестные, которые сделают вас несчастной? Именно поэтому я не знаю, что тут вам посоветовать; как видите, я был прав, вас предупреждая, что, будучи вашим искренним другом, я вынужден держать неприятные для вас речи». Такое объяснение меня смутило; поэтому, когда нас прервали, я не так сожалела, как обычно. Тем не менее я заметила, что во всем им сказанном была своя правота, но мне все хотелось думать, что он меня понял, и что откровенность его ответов была следствием его рассудительности, и что он был готов забыть о собственном возвышении, дабы дать мне незаинтересованный совет, и что он чувствовал себя обязанным так поступить, оправдывая оказанное ему доверие. Я по-прежнему хотела с ним говорить. Он меня избегал и не хотел заходить в мои покои. Мое затруднение было связано не с выбором меж тремя жребиями: я уже избрала брак и не сомневалась, что он был в том уверен. Я была поражена его вниманием ко мне. Он прекрасно видел, что я достаточно сказала, дабы он мог объясниться; никогда человек не простирал свою почтительность столь далеко и не придерживался столь смиренного поведения, видя возможность фортуны, которой обычно предпочитают не рисковать, — а это всегда происходит, когда дело затягивается. Мне казалось, что он более думал о моей славе, нежели о собственном возвышении.
Вернемся ко двору, где отсутствие шевалье Лотарингского стало причиной склок между Месье и Мадам, у которых всякий день случалась новая ссора.[287] Одна из них была достаточно бурной, когда Месье принялся упрекать ее за то, что давно обещал простить. Королева, будучи дружна с Мадам, вмешалась, желая их помирить. Месье изложил ей свои резоны, по которым было необходимо объясниться, а затем пришел ко мне в ярости против Мадам. Мне вспоминается, что он раз десять повторил, что любил ее не более двух недель. Его горячность заходила так далеко, что мне пришлось ему напомнить, что у них были дети. Со свой стороны Мадам очень сетовала; она говорила: «Если я совершала ошибки, то почему он меня не придушил тогда, когда, по его словам, я была перед ним виновата? Я не могу переносить, чтобы он меня мучил ни за что». Говорила она об этом с достоинством, за исключением нескольких презрительных слов. В это время король дозволил шевалье Лотарингскому покинуть замок Иф и отправиться в Италию. Так Месье и Мадам примирились благодаря убеждениям короля, который открыл двери тюрьмы, надеясь успокоить беспорядки, ею вызванные. Но Месье всегда считал, что Мадам была причастна к этому заключению.
Заговорили о путешествии во Фландрию; и, хотя был мир, король, не передвигавшийся без войск, велел собрать армейский корпус под командованием графа де Лозена, которого назначил генерал-лейтенантом. Я была в Париже, когда мне сообщили эту новость, доставившую мне чувствительное удовольствие. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти его и поздравить; он отвечал, что был уверен, что это принесет мне неподдельную радость. Я привыкла почти всегда уезжать на Святую неделю в замок Э и проводить там две-три недели; в этом году я не заговаривала об этой поездке, и мои люди спрашивали, когда я отправлюсь в путь. Гийуар[288] заметил, что я об этом не думала; он хотел мне отчитаться, что было сделано по части построек и обустройства садов, но мне все было так безразлично, что я не захотела слушать; все, на что я могла решиться, это уехать из Сен-Жермен в пятницу после вечерней службы и провести Пасху в Париже. Король и королева предполагали приехать во вторник, потому что дофин вместе со мной должен был крестить мадмуазель де Валуа;[289] я осталась в Париже, с нетерпением ожидая этого дня. В пятницу во время службы я сделала так, что господин де Лозен подошел ко мне; мы беседовали лишь на благочестивые темы; ум его столь всеобъемлющ, что о каких бы материях ни шла речь, он добивается поразительного успеха, до такой степени он от природы красноречив и так умело пользуется словами с необычным смыслом и значением, хотя в нем нет никакой учености. Он прочел мне более полезные проповеди, нежели лучшие проповедники. Накануне Пасхи я отправилась ходатайствовать об одном процессе; госпожа де Рамбюр меня сопровождала и говорила только о нем; я ее слушала с большим удовольствием. На следующий день, в праздник Пасхи, я встретила его на улице; не могу выразить радость, которую я испытала, когда увидела, что его карета подъезжает к моей, и с какой любезностью я его приветствовала; мне показалось, что и он раскланялся со мной с большей ласковостью, чем обычно, — эта мысль доставила мне огромную радость. Король и королева прибыли во вторник; крестины состоялись, мы отужинали у Месье, а после ужина я вернулась с ними в Сен-Жермен. При первой же встрече с господином де Лозеном я ему сказала, что крайне скучала в Париже. Он мне заметил: «Отчего раньше вам было там по душе, а теперь, по вашим словам, не можете вынести и дня? Что касается меня, — сказал он, — я думаю, что в то время ваш ум был свободен, а теперь он полон тем, о чем вы решаетесь беседовать лишь со мной; поэтому вам естественно желать вернуться, дабы отвести душу. Послушайте меня, — сказал он, — заведите второго наперсника в Париже, дабы разнообразить удовольствия; вы будете облегчать ему сердце, и оно не будет вам докучать; а когда вы здесь, то, в свой черед, побеседуете со мной. Признаюсь, — сказал он, — что для меня слишком много чести быть вашим единственным наперсником. Как видите, я хочу быть непредвзятым даже в собственном отношении, во всем сохраняя искренность». Так он шутил со мной вплоть до начала путешествия, не желая затрагивать того, о чем я хотела говорить с ним всерьез. Я отправилась на три или четыре дня в Париж, чтобы перед отъездом из предосторожности пройти лечение. В день, когда мне пускали кровь, со мной были госпожа д’Эпернон, [290] де Пюизье[291] и де Рамбюр. Госпожа де Пюизье посмотрела на меня и сказала: «Из вас бы вышла славная жена, и тот, кто на вас женится, не будет несчастен». Госпожа д’Эпернон ей ответила, что, по ее мнению, этого счастья никому не изведать, ибо я никогда не выйду замуж, отвергнув самые выгодные партии. Госпожа де Пюизье ей ответила: «А я хочу ее выдать не за короля». И, обратившись ко мне со своей обычной властностью, сказала: «Не правда ли, о великая принцесса, что вам будет по душе вознести человека достойного?» Я ей сказала, что да; что до сих пор я была несчастлива и что, быть может, брак принесет мне счастье или, по крайней мере, удовольствие быть любимой. Госпожа д’Эпернон сказала, что не знала у меня таких мыслей. Госпожа де Пюизье резко бросила: «Выходите замуж за господина де Лонгвиля; старший — священник, а этот — совершенно достойный человек, хорошо сложенный, и жить он с вами будет божественно прекрасно. Госпожа де Лонгвиль будет в высшей степени чувствительна к той чести, которую вы окажете ее сыну. Ваша сестра вышла же за господина де Гиза, который, как граф де Лонгвиль, тоже младший сын, да и не столь знатен, как он».[292] Госпожа д’Эпернон сказала госпоже де Пюизье: «Коли вы взялись предлагать Мадмуазель таких персон, то я ей посоветую выйти замуж за моего племянника де Марсана».[293] Я ей сказала: «Поверьте, сударыня, есть разница между младшим отпрыском Лотарингского дома и господином де Лонгвиль: вы забываете, что его мать — принцесса крови». Госпожа д’Эпернон кислым тоном заметила: «Удивляюсь, что вы находите удовольствие в этих побасенках». Я ей ответила: «Они не оскорбляют ни Господа, ни ближних». У меня в голове по-прежнему был мой замысел; и я отнюдь не возражала против слуха об этом предполагаемом браке, чтобы при дворе и в обществе привыкли слышать о моем замужестве, это дало бы мне случай подготовить к нему короля; помимо этих двух резонов, был и третий: это был предлог побеседовать с господином де Лозеном и под видом совета о другом поговорить о нем самом.
Проведя три дня в Париже в смертельной скуке, я вернулась в Сен-Жермен и до самого путешествия лишь однажды после полудня съездила в Париж. При въезде на улицу Сент-Оноре я увидела проезжавший мимо экипаж господина де Лозена, многочисленный и хорошо снаряженный, что меня отнюдь не удивило, ибо он щедр во всем. Я ему рассказала об этой встрече; он принялся улыбаться с видом, показывавшим, что это ему не было неприятно. Когда мы двинулись, то сперва заночевали в Сенли, а на следующий день — в Компьене, где я улучила минуту с ним поговорить; это доставило мне меньше удовольствия, чем обычно, потому что третьим был Гитри. Я ему сказала: «Когда вы будете командовать, то не сможете бывать у короля?» Он мне ответил: «Иногда смогу заглядывать». На следующий день в Нуайоне мы побеседовали без свидетелей, и я ему сказала: «Вы хотите, чтобы мои дела оставались в настоящем положении вплоть до вашего возвращения, но следует ли мне столь долго пребывать в затруднении, которое, как вы говорите, вызывает у вас жалость?» Он мне ответил, что сейчас следует думать лишь о путешествии. Король прогуливался по саду и несколько раз предлагал мне присоединиться к нему; я хотела спуститься, но господин де Лозен, который был тут же и понял, что королева рассердится, если я ее оставлю, сделал знак, чтобы я не трогалась с места; так что мне пришлось удовольствоваться его лицезрением, перебрасываясь несколькими словами, когда он проходил под моими окнами; я говорила то с королем, то с ним, по очереди. Назавтра он отправился в Сен-Кентен на сбор войск; он встречал короля, окруженный множеством офицеров; в этот день он был наряден и выглядел так, что одно удовольствие было его видеть. Он был у дверцы кареты со стороны короля, и я все время поворачивала голову, чтобы его увидеть. Король, который знал, что я почти всегда и повсюду следую за королевой, сказал мне: «Кузина, мне будет приятно, если в краях, куда мы отправляемся, вы будете везде сопровождать королеву, и к мессе, и в прочих случаях, ибо тем самым вы окажете ей честь». Я вошла к королеве и увидела там необычайно нарядного господина де Лозена; с ним был Рошфор, [294] который умирал от зависти; я его подозвала и сказала: «Решусь ли я приблизиться к этому предводителю войск?» Он подошел к нам на минуту поболтать. Затем король отправился в лагерь; а я устроилась у окна и с большим удовольствием смотрела, как господин де Субиз, [295] со шляпой в руках, обратился с просьбой к господину де Лозену, который, весьма любезно его приветствовав, покрыл голову, ибо был выше по званию. Вечером я ему сказала, что заметила, как он умеет заставить обращаться с собой по-генеральски, и могу заверить, что власть ему к лицу.
Из Сен-Кентена мы отправились в ужасную погоду. Но какие бы неудобства мне ни приходилось испытывать, я была довольна, ибо каждый день видела тех, кого любила больше всего на свете. Король всегда был и остается моей первой страстью, а господин де Лозен — второй, и могу утверждать, что он так же относится к королю: у меня есть все основания так думать, исходя из той нежности и привязанности, которые он всегда проявлял к его особе, и того удовольствия, с которым мы о нем беседовали. Дурная погода и ужасающий дождь привели все экипажи в беспорядок; но меня ничего не трогало, кроме как вид господина де Лозена верхом, когда он подъезжал поговорить с королем. Когда он приближался со шляпой в руке, я не смогла удержаться и сказала: «Велите ему покрыться». Я также была озабочена длительностью пути, боясь, как бы за это не укорили господина де Лозена, и успокоилась лишь тогда, когда король сказал, что дорогу выбрал господин де Лувуа.[296] Когда мы были в полулье от Ландреси, сын Рошроля, тамошнего губернатора, прибыл сообщить, что река вышла из берегов и ее не переехать и что Буйнё едва не утонул. Мы безуспешно попытались переправиться выше по течению, поэтому пришлось заночевать в чем-то вроде риги; мы с королевой обе без своих фрейлин — она была обеспокоена, а я помимо этой печали еще тревожилась за свои драгоценности, которые были в моем экипаже вместе с фрейлинами. Мадам, чья карета была рядом, послала пригласить меня ее посетить; я нашла у нее господина де Вильеруа, [297] которому Месье говорил, что не видал ничего страшнее, чем господин де Лозен во время ливня со своим париком и шляпой. Маркиз де Вильеруа отвечал ему в том же духе; а я, ничего не говоря, подумала, что в каком бы он ни был состоянии, он смотрелся лучше, чем они. Месье его не жаловал из-за шевалье Лотарингского, с маркизом же он обошелся весьма высокомерно в ссоре, случившейся между ними из-за госпожи де Монако.[298] Мы отправились в дом, где находился король, чтобы съесть весьма скудный и совершенно холодный обед. Тем не менее он скоро закончился. Ромкур приготовил матрасы, которые расстелили на земле, чтобы лечь на них одетыми. Королева нашла это неприличным; король спросил мое мнение. Я ему ответила, что не вижу ничего дурного, если он, Месье и все прочие, числом пять или шесть, отдохнем одетыми на этих матрасах. Королева согласилась, и мы легли. Она была несколько сердита, что весь суп был съеден, хотя и сказала, что совершенно его не хотела. Никто не видел такого застолья: мы по двое брали курицу, один за ногу, а другой тянул, вместо того чтобы воспользоваться ножом. Общая путаница была забавна и из-за соседства постелей в одной комнате. Вельможи и офицеры короля были в соседней; там же устроился и господин де Лозен. Через нашу все время проходили люди, чтобы узнать его приказы. Король сказал: «Велите проделать дыру в задней стене и давайте приказы через нее, чтобы не ходить через эту комнату». В четыре утра господин де Лувуа пришел сказать, что мост налажен; все спали, и Бруйи, адъюнкт-майор гвардии, сказал ему, что король спит. Но мне было слишком неудобно, и я подумала, что в городе нам будет лучше, поэтому сказала королю достаточно громко, чтобы его разбудить, что господин де Лувуа хочет с ним говорить. Как только тот доложил, что мост закончен, мы сели в карету и отправились досыпать в город. Дамы, привыкшие румяниться, в то утро показались увядшими; я была обезображена менее прочих. Вечером, когда я поднялась, мои фрейлины сказали, что им не за что благодарить господина де Лозена, который остановил их экипаж, чтобы пропустить тот, в котором были мои камеристки; что он даже остановил войска, чтобы те смогли проехать, а для них не сделал ничего подобного. Я им отвечала, что он был прав и я ему благодарна, что он прислал камеристок, которые были мне необходимы, чтобы лечь, что этой мелочью он мне доставил удовольствие и я его за это поблагодарю. Вечером я пошла к королеве и там высказала ему благодарность. Он мне сказал, что я ему причинила смертельную неприятность, столь часто говоря королю, чтобы тот велел ему покрыться, что ему были мучительны мои жалобы на дорогу и на погоду, что я слишком беспокоила короля и что в следующий раз мне стоит сдержаться. Здесь он мне преподал множество уроков, оказавшихся для меня полезными, ибо я стала стараться быть более любезной. Он никогда не упускал случая поговорить со мной о короле, и всегда с такой нежностью, что моя к нему удваивалась. Я слышала один его разговор с Его Величеством о драгунском майоре по имени Ла Мотт, которого он хотел сделать гвардейским бригадиром. Король высказал какие-то возражения, но тот наговорил ему столько всего хорошего об этом человеке и настаивал так почтительно, что добился желаемого. Я заметила, что король к нему очень добр, и, признаюсь, мне это доставило большую радость, ибо я посчитала, что мой вкус хорош, раз совпадает с его.
Мы провели три или четыре дня в Ландреси, за это время съездив в Авен, но без экипажей. На выезде нам повстречался полк драгун; зная, что господин де Лозен их любит, я, несмотря на дождь, их рассмотрела и нашла что похвалить. Король подозвал господина де Лозена, чтобы отдать ему приказ, и заметил: «Моя кузина очень расхваливала драгун». Я была довольна, что толмачом мне послужил сам король: это должно было показать, что я не упускаю ни малейшей возможности заговорить о том, что, как мне известно, доставит ему [господину де Лозену] удовольствие. Король часто его подзывал; и, когда тот подъехал отчитаться в исполнении предшествующих приказов, а затем снова нас покинул, король нам заметил, что никогда не встречал человека столь основательного и хорошо понимавшего, что именно надо сделать; что он все делает не так, как прочие. Когда мы приехали в Авен, погода все еще была ужасной, и из страха, как бы господин де Лозен не отправился на ночь в лагерь, я попросила короля пожалеть войска, которые будут слишком измотаны, если оставить их разбивать лагерь, и лучше дать им войти в город. Король нашел, что я права, и приказал, чтобы их разместили под кровом. Вечером, когда королева начала играть, вошел господин де Лозен; я была у окна и с нетерпением ожидала, когда он придет, мне казалось, что мы не говорили с ним целую вечность. Он был с графом д’Эйеном[299] и имел вид человека принаряженного, только что напудрившего волосы. Я ему сказала, что он пришел очень кстати, чтобы не дать мне заскучать; что мне не с кем поговорить. «Вы можете удержать при себе графа д’Эйена, — сказал он мне, — я же здесь на минуту: мне нужно найти венецианского посла, который едет в моей карете и которого я оставил у себя в полном одиночестве». Этот посол был человек достойный, с которым он познакомился в Венеции, когда туда ездил; как хороший придворный, посол решил следовать за королем; господин де Лозен предоставил ему экипаж и поселил у себя. Но все твердя: «Сейчас ухожу», он продолжал беседовать со мной и с графом д’Эйеном, несколько раз повторив мне, что ему стыдно своего наряда, что его одежда и волосы насквозь промокли, что он переоделся и ему нельзя было не высушить волосы, что люди, подобно ему не имеющие никаких видов, не должны наряжаться и пудрить волосы, что у него нет никого резона находиться у королевы, что он сюда и не собирался, а зашел случайно, что ему надо вернуться к посланнику и удовольствию его бесед. Я ему сказала: «Не раскаивайтесь, что пришли, вы мне полезны; я была одна, вы меня развлечете». Он мне ответил: «Я на это не гожусь; вот господин граф д’Эйен, он справится лучше моего». Тот сказал: «Полагаю, вы забыли, что говорите с Мадмуазель». Господин де Лозен ему ответил: «Я знаю, что это Мадмуазель, но я не умею льстить и открыто говорю, что думаю; она же достаточно знает, каков я». Все эти побасенки меня рассмешили; не знаю, догадывался ли он, что я слышала о его предполагаемой женитьбе на госпоже де Лавальер.[300] Когда граф д’Эйен ушел, он заговорил со мной о дурной погоде и поблагодарил за то, что войска имели крышу над головой, ибо ему известно, что я попросила о том короля по сердечной доброте и из милосердия, заставлявшего меня сочувствовать бедам ближнего. Это был повод для красноречия: с одной стороны, он меня наставлял, с другой — наговорил много весьма приятного. Я отвечала, что полагаю весьма почетным для него в мирное время командовать армией. Он мне отвечал, что во время войны у него бы так не получилось и, по правде говоря, в этой должности его трогает лишь любезность, с которой король оказал ему эту честь. «В тех обстоятельствах, в каких вы меня видите, — сказал он, — я скорее склонен стать отшельником, нежели остаться в свете, и мне бы стоило так поступить; если бы такой поступок не выставил меня безумцем в глазах всех, кому неведомы его причины, я бы уже его совершил». Я сказала: «Я доверяю вам все свои дела; расскажите мне о ваших». Он мне ответил: «У меня их нет». Я сказала: «Разве у вас нет желания жениться и вам никогда этого не предлагали?» Он мне отвечал, что однажды ему предлагали брак, но он всегда был от этого далек, и что ежели он решит жениться, то побудить к этому его может лишь добродетель суженой. «Если у нее окажется хоть малейший изъян, — сказал он мне, — то владей она всеми сокровищами мира, я ее не пожелаю; скажу более, что даже если это будете вы, знатная дама, я женюсь, лишь если вы — честная девушка и ваша особа вызывает у меня дружеские чувства». Я спросила: «Это правда? Если да, то я вас буду любить еще больше, нежели ныне». «Да, — отозвался он, — я предпочту смерть браку с той, чья репутация была повреждена; ничто не может меня ранить так сильно, как слышать разговоры, что я способен жениться на особе запятнанной; еще раз повторяю, я предпочту жениться на камеристке, если полюблю ее и она окажется честной девушкой, нежели на всех королевах мира. Я запрусь с ней и не буду ни с кем видеться, и у меня, по крайней мере, будет то утешение, что я совершил ошибку, но не навлек на себя бесчестия». Я сказала: «Тогда я вам подойду. Я очень благонравна, и, кажется, во мне нет ничего, что должно вам не нравиться». Он мне ответил: «Прошу вас, не надо сказок из „Ослиной кожи“, [301] когда я говорю с вами о том, что важнее всего на свете». Я ему сказала: «Раз вы хотите серьезности, то я прошу вас объяснить, почему вы не хотите мне посоветовать оставить нынешнее положение, которое, как вы сами говорите, вызывает у вас жалость; скажите мне ваше мнение, заставьте меня принять решение и исполнить его». Он отозвался: «Я забылся; меня ждет посол, я не могу сейчас говорить о делах, надо идти». Когда мы были у дверей, вошел Рошфор. Господин де Лозен ему сказал: «Вы как раз вовремя, займите Мадмуазель, вы сможете сделать это лучше меня». При всем нетерпении уйти он пробыл почти три часа, что мне доставило немалое удовольствие. Я ему сказала, что утром слышала трубы, которые меня разбудили, и я была на них сердита; но что мгновение спустя услышала, что они шагают под сильным дождем, и более не жаловалась, сказав себе: «Я у себя в постели и в удобстве, а господин де Лозен на лошади в дурную погоду; я гораздо счастливей его, и было бы несправедливо сердиться, что он меня разбудил». Он выслушал это повествование с большим вниманием, а когда оно было закончено, сказал: «Вы шутите с моралью; лучше поговорим о чем-нибудь более серьезном: вам не пристало слушать всякий вздор». Я еще добрый час проговорила с Рошфором; он спросил, сколько времени провел со мной господин де Лозен, я отвечала, что около часа. Он мне сказал: «Он не мог вам наскучить: вы умеете извлечь толк из самых несхожих людей. Если бы он был в настроении беседовать, вы бы увидели, что в нем много ума, и когда он принимается за всякие выдумки, из которых ничего не понять, то это не более чем лукавство, и у него на то имеются свои резоны. Что он вам нынче поведал?» Я отвечала, что он имеет намерение однажды покинуть двор и стать отшельником. И что он все так ловко обернул, что эта тема послужила и началом, и завершением нашего разговора. Рошфор отозвался: «Поразительно, как он решается рассказывать вам подобные истории». Чтобы провести какое-то время с Рошфором, дабы никто не заметил, сколько я провела с господином де Лозеном, я стала расспрашивать о жизни последнего. Помимо уже упомянутой причины мне хотелось о ней знать то, что никто не знал лучше Рошфора и не поведал бы мне с большей откровенностью, ибо он ему слегка завидовал. Он мне наговорил много хорошего и сказал, что не думает, что у того есть интрижки, что он далек от ухаживаний за дамами и занимается лишь придворными делами, что порой он ездит к горожаночке по имени госпожа де Ла Саблиер и дал должность секретаря драгун ее брату, поскольку, видимо, она ему чем-то полезна, ибо собой стара, уродлива и уже имеет какую-то интрижку.[302] На следующий день я поинтересовалась у господина де Лозена, кто был человек, которого я заметила в его карете вместе с посланником; он сказал, что его зовут Эсслен, что он дал ему место секретаря драгунского полка и взял с собой, чтобы тот составлял общество послу. Так он чистосердечно подтвердил все, что мне сказал Рошфор. Назавтра я еще спала, когда услыхала трубы, трубившие сбор кавалерии; я быстро поднялась и вышла на балкон, смотревший на площадь, чтобы взглянуть на проходящие войска. Я не сомневалась, что господин де Лозен будет с ними, — и действительно, вскоре я его увидела, он на меня взглянул, но сделал вид, что не заметил, и то уходил, то возвращался, приготовляя войска к маршу. В конце концов он проехал так близко от меня, что не мог не заговорить, и сказал: «Вы рано встали: сейчас всего пять утра». Я ему ответила, что хотела посмотреть, как пройдут волонтеры, о которых нам вчера рассказывал король. Как только моя карета была готова, я занялась придворными обязанностями; мы отправились обедать в Лендреси, а оттуда — в Кенуа, где пробыли день.
Когда перед путешествием госпожа де Пюизье заехала ко мне проститься, то сказала, что передала госпоже де Лонгвиль наш разговор о женитьбе ее сына; и что та, подняв глаза к небу и сложив руки, произнесла: «На это я могу ответить только так. Я всегда говорю, что думаю, и мне кажется, что это подошло бы им обоим. Мне кажется, что это возможно, и страстно того желаю; и я знаю, что вы будете почитаемы и уважаемы всем домом». Поскольку, как уже говорилось, у меня были свои намерения, я ей отвечала: «Мне нечего вам на это ответить, кроме того, что я бесконечно люблю госпожу де Лонгвиль». Я свернула с пути, чтобы рассказать здесь то, что забыла упомянуть, когда говорила о госпоже де Пюизье. Вернемся к нашему путешествию в Кенуа: мы отправились в Като-Камбрези, а на следующий день в Катле, где я имела долгий разговор с господином де Лозеном. Я начала с того, что приняла твердое решение; что я хочу выйти замуж; что я рассмотрела и преодолела все трудности, которые он мне представил; и что я даже избрала того, кого, как он утверждал, мне не найти; и единственное, чего мне недостает, так это его одобрения. Он мне отвечал, что трепещет, видя, как я тороплюсь с делом, которое составит счастье или несчастье моей жизни; и что он бы мне советовал взять век на раздумия, перед тем как принять то или иное решение. Я ему сказала, что когда в сорок лет хотят поступить сумасбродно, то тут не стоит долго раздумывать, и что я столь уверена в своем выборе, что хочу поговорить с королем на первой же остановке, и что я хочу выйти замуж во Фландрии. Он мне отвечал: «Раз вы избрали меня главой вашего совета, я обязан сказать, что вы не должны так поступать, и, если вы хотите ускорить дело, я буду вам препятствовать, потому что вы все испортите. Пока вы оказываете мне честь просить моего совета, будет бесчестно позволить вам действовать так некстати». Все это было сказано серьезным тоном; я ему отвечала: «Я нахожу весьма забавным, что вы отговариваете меня от брака, потому что сами испытываете к нему отвращение!» Он мне сказал: «Это правда, я не чувствую подобной склонности, хотя составитель гороскопов однажды предрек, что брак вознесет меня на вершину фортуны. Одна любившая меня особа заказала мой гороскоп и была в отчаянии, услыхав то, что я вам сейчас рассказал». Я сказала: «Так она на самом деле вас не любила?» «Напротив, любила, и потому была в отчаянии, что не ей будет дано принести мне счастье». Я спросила ее имя, но он не захотел сказать и добавил: «Поговорим о другом, оставим в стороне астрологов и невероятные истории». Я ему сказала: «Раз я спрашиваю у вас советов и стремлюсь им следовать, то почему бы и вам не прислушаться к моим? Мне кажется, вы должны довериться этому предсказанию, и если вы меня послушаете, то начнете питать самые великие замыслы, — хоть я и не астролог, но понимаю в этом довольно, чтобы не сомневаться в вашем успехе, и прошу вас не терять времени». Он мне сказал: «Мы его тратим на разговоры о вещах бесполезных, по крайней мере это касается меня, которому надо исполнять приказы; я должен идти к королю». И, не желая продолжать, дабы не показать, что понял мои слова, он вдруг оставил меня. Назавтра он был в прихожей у короля, и мои фрейлины рассказали ему, что в Сен-Кентене умер мой офицер по имени Кабанес, парень молодой, крепкий и не без ума, и что весь мой дом о нем сожалел. При этом рассказе присутствовал и господин де Гитри; и вот господин де Лозен принялся морализировать на тему смерти и произносить прекраснейшие речи о необходимости быть к ней готовыми, ибо нам не дано знать, когда она нас заберет. Закончив проповедь, он обратился ко мне — я нарочно проходила совсем рядом с ним: «Мы говорим о смерти, вы ее боитесь; я решил почаще вам напоминать, что вы должны умереть, дабы приучить вас к этой мысли». Всякий раз, подходя ко мне, он говорил: «Подумайте о смерти» или «Помните, что умрете».
Мы поехали в Бопом, а на следующий день — в Аррас, где сделали остановку; для меня это была большая радость, ибо в такие дни он бывал более наряден, чем в дни похода. Был канун Вознесения, и мне было приятно слышать, что за своим столом, одним из самых лучших и изысканных в целом свете, он неизменно ел постное. Мы отправились в Дуэ, где Мадам и я присели, пока королева выслушивала приветственные речи; и, хотя мы были далеко позади нее, она это заметила и пожаловалась королю, который был рассержен.[303] Месье меня предупредил и сказал, что в том больше моей вины, чем Мадам, ибо я лучше знаю, как положено поступать. На следующий день мы отправились в Турне. Приехав туда, я увидела господина де Лозена у подножки кареты. Я хотела поговорить с ним обо всем этом и попросила подать мне руку. Вместо этого он отошел, а я, с одной ногой в воздухе, едва не растянулась во весь рост. Он часто совершал подобные поступки, вызывая насмешки тех, кто это замечал. Я же до такой степени была уверена, что у него есть на то особые причины, что даже не рассердилась. Назавтра мне удалось передать ему слова Месье. Он сказал: «Надо, чтобы вы сами поговорили с королем, но позаботьтесь, чтобы рядом никого не было. Вам следует изложить все самой, без оглядки на то, что по этому поводу говорит Месье или кто-нибудь еще». Сговорившись, что мне стоит сказать королю, я на следующий день поджидала его при выходе из кабинета королевы и спросила, правда ли то, что мне сказал Месье. Он мне ответил, что это так и что он находит предосудительным, что я присела. Я ему ответила, что, поступая так, я знала, что совершаю глупость, но, увидев, что села Мадам, не решилась ей сказать, что она должна встать. Мне подумалось, что королеве не придет в голову упрекать Мадам в недостатке почтения, и потому я тоже села, дабы королева смогла пожаловаться и тем самым дать понять Мадам, что у той не больше права садиться, чем у меня; что я всегда первая выказываю королеве все возможное почтение; что я знаю свой долг перед ней и всегда с огромной радостью готова засвидетельствовать ей свою покорность, и что у него нет причин быть недовольным моим сердцем. Тут король наговорил мне множество любезностей по поводу моей любезности. А когда я заверила его в своей нежности к нему, он сказал: «Не знаю, не забыл ли мой брат вам сказать, что я не менее сетовал на Мадам, нежели на вас». Я рассказала господину де Лозену о том, как поступила и что мне сказал король. В тех случаях, когда он знал, что я нуждаюсь в его советах или что мне надо рассказать ему о своих делах, он с таким же нетерпением искал встреч со мной, с каким избегал их, когда был уверен, что мне нечего ему сказать. Когда я не могла с ним поговорить, то обычно устраивалась у окна, выходившего на улицу или во двор, где, выйдя от короля, он садился на лошадь; и старалась громко говорить или произвести достаточно шума, чтобы он услышал и посмотрел на меня; я была рада, когда он поворачивал голову, чтобы взглянуть на окно, у которого я стояла.
Когда мы проезжали недалеко от вражеских городов, то слышали пушечный салют в нашу честь. Однажды вдали показалось несколько эскадронов, и господин де Лозен послал узнать, в чем дело. Их офицеры сказали, что их выслал губернатор Камбре, дабы гарнизонная кавалерия и крестьяне не грабили экипажи, отставшие от королевских войск. Комендант призвал к себе их начальника, а господин де Лозен представил его королю. Меж тем всю поездку Мадам была грустна: она была вынуждена пить молоко и уходить к себе, только выйдя из кареты, в основном чтобы лечь. Король заходил ее повидать и всегда выказывал ей большое уважение. Не то Месье: в карете он часто говорил ей неприятные вещи; однажды, когда речь шла об астрологии, Месье сказал, что ему предсказано несколько жен и что состояние Мадам заставляет в это поверить. Мне это показалось очень жестоким. Правитель Фландрии, он же коннетабль Кастилии, прислал своего незаконнорожденного сына дона Педро де Веласко, дабы приветствовать короля. Его сопровождало множество благородных людей и большая свита, среди которой был один знаменитый испанский инженер. Король хотел удержать его при себе и показать крепость Турне, которую велел перестроить. Мы отправились в Курте, где получили известия от короля Англии, который просил Мадам приехать в Дувр, где они могли встретиться и поговорить.[304] Месье был этим крайне недоволен, а Мадам весьма рада. Он хотел помешать ее путешествию. Но король сказал, что такова его воля, и все трудности исчезли. Она отправилась из Лилля, дабы сесть на корабль в Дюнкерке. Все с ней попрощались, и многие заметили, как она страдала от обращения Месье. Незадолго до ее отъезда король не вышел к столу, ибо был слегка нездоров, а королева пошла в свою молельню, так что мы остались вдвоем с Месье. Он с такой яростью говорил о Мадам, что меня это поразило и я поняла, что они вовек не помирятся. Она завоевала уважение короля, ибо имела достоинства и вела переговоры между своим братом и королем. Так что ее путешествие было в интересах короля и к личной радости самой Мадам.
Маршальша д’Юмьер устроила большой прием в честь короля, на котором присутствовали маркиза де Рисбург, жена губернатора Брюсселя, и ее сестра, мадмуазель де Вальфюзе, а также мадмуазель де Каллен — неплохо сложенная девушка, дочь господина де Рисбурга. Король много с ней болтал; неизвестно, говорил ли он ей нежности. Она совершенно не казалась смущенной и вела себя так, словно видела его всякий день. Хотя они были никому не известны, это не помешало их представлению королеве, которая хотела устроить им угощение. Они отговорились тем, что были одеты в серое. Хотя такой ответ показывал, что им известны светские приличия, и все нашли, что они отнюдь не лишены ума, тем не менее потом в карете их высмеяли. Мы ночевали в Сен-Венане, в Берге и в Дюнкерке, где провели пару дней. Мне удавалось перемолвиться словом с господином де Лозеном, когда он бывал у королевы. Мы отправились в Кале. Здесь короля приветствовал господин Кольбер, наш посол в Англии.[305] В утро его прибытия мне рассказали, что король Англии собирается расторгнуть брак, ибо его жена не может иметь детей, и многие знатные англичане поговаривают, что он женится на мне. Мне эта новость показалась смешна, и я совершенно не рассердилась бы, когда бы Месье, ехавший в карете вместе с нами, не сказал, обращаясь ко мне, что ему кое-что известно, но он ничего не скажет. Все переглянулись, обратив внимание на его таинственный вид. Король мне сказал, что, по мнению Кольбера, король Англии помышляет о расторжении брака и женитьбе на мне; не имея на то приказов, Кольбер никогда об этом не заговаривал, но многие влиятельные персоны, причастные к увеселениям короля, говорили об этом с полной уверенностью, и он не сомневался в их правдивости. Все, что было способно воспрепятствовать мной задуманному, причиняло мне чувствительное огорчение; я поняла, что дело такого рода все осложнит, и принялась плакать. Королева сказала: «Это ужасно, когда у человека две жены одновременно». Король обратился ко мне: «Что вы об этом думаете, кузина?» Я промолвила, что у меня для него один ответ, ибо я не имею собственной воли, и уверена, что он никогда не принудит меня совершить поступок, противный моей и его совести. Королева откликнулась: «Как! Если бы король того пожелал, вы бы подчинились из любезности?» Король ответил: «Ей прекрасно известно, что я не возьму греха на душу». Месье сказал, что все это замечательно и что он будет весьма рад. Госпожа де Монтеспан заметила: «Мадмуазель хорошо знает короля Англии, он был так в нее влюблен! Как это мило: она будет писать королю и слать тысячу подарков, а мы постараемся ответить ей тем же».[306] Чем больше все вокруг одобряли этот план, тем сильнее я заливалась слезами. Король сказал: «Не стоит так плакать из-за одного слуха». Я ответила: «Меня печалит мысль о том, что придется покинуть Ваше Величество». Это была удобная возможность изъявить свою дружбу к королю и показать господину де Лозену, что я ставлю его выше всех земных императоров и королей. Последнему я рассказала все только что описанное. Он сказал: «Я все знаю, как и то, что вы много плакали». Он сказал, что я была вправе страдать при мысли, что придется покинуть короля, и он в восторге, что я так нежно к тому привязана, и не сомневается, что именно это было причиной моих слез; ибо брак с королем, который готов отослать жену в отчий дом, дабы выбрать себе супругу по нраву, послужил бы к моей вящей славе, и он бы радовался вместе со мной. Мы переночевали в Булони и назавтра отправились в Эсден, где в утро нашего отъезда господин де Лозен выстроил войска в боевом порядке. Во главе их он приветствовал короля; затем войска были распущены по квартирам, за исключением гвардейцев и жандармов, которые остались при короле. Вечером в Аббервиле я нашла его у королевы; он мне сказал: «Вы видите перед собой человека, который счастлив наконец получить возможность обуть сапоги и приехать в карете». Я хотела его пожурить за леность и сказала, что когда бы он мог видеть, как был хорош во главе войска, то не слезал бы с лошади. Вечером у королевы я ему сказала: «Теперь, когда вам не надо отдавать приказы или отправляться ночевать в лагерь, я надеюсь, что вы останетесь вплоть до ужина короля». В тот момент, когда он вошел, я беседовала с Молеврие, [307] братом Кольбера, нашего посла в Англии. Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, «Я не хотел вас прерывать, — сказал он, — по-видимому, вы расспрашиваете брата посла об известиях касательно вашего брака. Вы избрали меня для совета; признаюсь, на вашем месте меня бы соблазнила возможность стать великой королевой, тем более в стране, где вы можете быть полезны королю. Поверьте, соглашайтесь без колебаний. Помимо интересов короля, которые вам должны быть чувствительней всего на свете, вы найдете приятность в браке с человеком в высшей степени достойным, который еще и близкий друг короля. Из этих соображений вы можете видеть, что весь мой совет ограничивается тем, что я могу лишь со всей страстью желать благополучного завершения этого дела». Он мне сказал: «К тому же я знаю, что вам нравятся неожиданные известия, — и это как раз в вашем вкусе». Я прекрасно видела, что он так говорит, дабы заставить меня объясниться; и хотя он всегда старался казаться человеком, не любящим долгих речей, что в каком-то смысле было правдой, когда он хотел проникнуть в мысли людей, то решительно ударялся в другую крайность, владея секретом на протяжении двух-трех часов болтать о самых разных вещах, казавшихся пустяковыми тем, кто его слушал и не постигал, какое приложение он мысленно всему этому делал. Я ответила: «Когда бы я действительно этого желала, как вы говорите, то вчера бы не плакала. Мне кажется, что вам я менее всего обязана объяснениями, ибо мне слишком часто случалось вести с вами речи, из которых легко понять, что у меня другие намерения. Вы были бы вправе, — сказала ему я, — посмеяться надо мной, если бы я пустилась в долгие рассуждения по поводу того, чего хочу и чего не хочу делать». И добавила: «Я не изменю ни образа действий, ни своего решения». Пока мы так беседовали у окна в покоях королевы, перед нашими глазами прошли почти все придворные кавалеры, и я принялась оценивать их фигуры, манеры, внешность и рассуждать об их уме. Когда я высказалась о каждом, он сказал: «Судя по тому, что я вижу, вы выбирали не из тех, о ком сейчас шла речь, ибо в каждом вы обнаружили что-то вам не нравящееся. Я бы хотел, — сказал он, — чтобы этот человек появился и вы бы мне его показали». Прошел Шаро, [308] затем граф д’Эйен. Он мне сказал: «Вот человек достойный; однако не думаю, чтобы это был счастливец, уже, как вы говорите, вами избранный». Я ему ответила: «Поищем; я вам обещаю, что он здесь, и, если вы немного мне поможете, мы его скоро найдем». Он заулыбался и сказал: «Поразительно, как долго можно вот так тешиться пустяками; если подумать, то мы с вами, что называется, порем чушь. Поговорим о чем-нибудь более серьезном». Он переменил тему и вскоре меня оставил. Во время этой поездки я свела знакомство с его сестрой, госпожой де Ножан. Как я уже говорила, она была принята в число фрейлин королевы в Бордо и с тех пор вышла замуж за графа де Ножан.[309] Я хотела иметь при себе кого-то, с кем можно было бы о нем беседовать. В ней были ум и достоинство, и я с удовольствием с ней болтала; и, хотя я уже оправилась от слухов, пущенных его врагами, что он собирается жениться на госпоже де Лавальер, я все-таки расспросила о них госпожу де Ножан, чтобы она подтвердила мое мнение, а еще чтобы поговорить о ее брате и услышать о нем что-нибудь хорошее. Она отвечала, что эти слухи приводят его в отчаяние и ее тоже.
Когда я вернулась в Сен-Жермен, то обнаружила, что в моих покоях работают каменщики, которые не закончат своего дела раньше, чем через неделю. Наперекор моему нежеланию и отвращению пришлось отправиться в Париж. Я бы там умерла со скуки, если бы король не решил провести несколько дней в Версале; я ринулась за ним со всей поспешностью. Однажды после мессы госпожа де Тианж, [310] оставшись со мной с глазу на глаз, сказала: «Я хочу вам рассказать об одном сумасбродстве, которое у меня на уме: почему бы вам не выйти замуж за господина де Лонгвиля?» И, расхвалив его на все возможные лады, она два или три раза повторила: «Что вы мне на это ответите?» Я сказала: «Ничего, ибо у меня нет желания выходить замуж». Мадам вернулась из Англии, где, казалось, обрела здоровье, такой красивой и довольной она выглядела. Месье не поехал ее встречать и даже упросил короля не делать этого. Но если тот и не оказал ей этой любезности, то принял ее со всеми выражениями величайшего уважения; Месье же и не подумал. Я посетила ее и расспросила о новостях; она сказала, что король Англии и герцог Йоркский поручили ей передать мне поклоны, что они оба числят себя моими друзьями и что королева ей показалась славной женщиной, не красавицей, но столь любезной и набожной, что ее все любят; что герцогиня Йоркская очень умна, что она всем чрезвычайно довольна и что она нашла английский двор по-прежнему в трауре по королеве-матери, которая незадолго до того скончалась в Коломбе. Королева-мать была очень хрупкой и постоянно болела; ей дали пилюли, чтобы она могла заснуть, и она заснула так крепко, что не проснулась.[311] Мадам была очень огорчена, ибо любила ее, а та старалась примирить ее с Месье, с которым они жили плохо. Я тоже была огорчена этой смертью. Мадам пробыла в Сен-Жермен лишь день, затем король отправился в Версаль, а Месье ни за что не желал за ним последовать, дабы досадить Мадам. Он поехал в Париж; я видела, что она была на слезах, и сколько бы ни старалась удержаться, они все же пролились. Перед тем как сесть в карету, Месье отвел меня в сторону и сказал: «Я слишком с вами дружен, чтобы не предупредить, что вчера королю сказали, что вы собираетесь замуж за господина де Лонгвиля». И что король отвечал, что ничего об этом не слышал и потому не думает, чтобы это было правдой; что госпожа де Тианж произнесла целую речь, дабы убедить короля, что раз он дозволил моей сестре выйти замуж за господина де Гиза, то нет ничего дурного в том, чтобы я сочеталась браком с человеком не менее знатного рода, на что король ответил: «Я не против», затем обернулся к нему и спросил: «Мой брат, я не понимаю, откуда все это идет; вы что-нибудь об этом слышали?» Месье мне сказал: «Господин де Лонгвиль из числа моих друзей, я буду очень рад. Скажите, что вы об этом думаете». Я ему отвечала, что в первый раз слышу, чтобы об этом говорили всерьез; что, когда со мной шутили на эту тему, я всегда отвечала одинаково; и что и для них, и для меня учтивей всего будет отвечать, что я не хочу замуж; именно так я всегда и говорила. Мне не терпелось пересказать этот разговор господину де Лозену; он был в Поршфонтене, в доме целестинцев, принимал там ванны. Я не знала, как его увидеть. Чтобы возбудить его любопытство и заставить прийти к королеве, я послала за Гитри, который тоже был там. Тот явился в мои покои, я его спросила, доходили ли до него слухи, о которых мне сказал Месье; он отвечал, что нет. Как только мы расстались, я отправилась к королеве, где, как и предполагала, обнаружила господина де Лозена. Он подошел ко мне и сказал: «Что у вас за дело к Гитри?» Я отвечала, что мне хочется оставить его в неведении; он сказал, что я долго не выдержу. И правда, мне не терпелось ему все рассказать; выслушав, он засмеялся и сказал: «Так вот кто этот господин! Как я глуп, что раньше не догадался». Он сказал: «Вы должны поблагодарить госпожу де Тианж, давшую вам возможность его мне назвать; а еще вы должны быть ей благодарны, ибо она хочет отдать вам того, кого любит больше всего на свете, или, по крайней мере, готова его с вами делить». Королева вышла, и он меня оставил, сказав: «Мне больше нечего вам сказать». Вечером, когда я прогуливалась из комнаты в комнату, занятая всем тем, что он мне ответил, то вдруг увидела его входящим и воскликнула: «Ах, как чудесно вас здесь видеть!» Он сказал: «Мне надо поговорить с господином де Лонгвилем». Он подошел ко мне, то же самое сделали Рошфор и господин де Лонгвиль, и мы поболтали о вещах безразличных. Когда эти двое нас оставили, «Вы заметили, — сказал он, — что у меня не было никакого дела к господину де Лонгвиль. Чистосердечно признаюсь, мне стало любопытно, действительно ли это ваш избранник, — я хотел это понять по тому, какой вы окажете ему прием. Уверен, вы мне больше не доверяете, ибо я слишком откровенно говорил, как, по-моему, вам следует себя вести; вижу, что вы действительно собираетесь за него выйти». По этому поводу он держал все более двусмысленные речи; я отвечала, что вправду собираюсь замуж, но не за господина де Лонгвиля. Я сказала: «Прошу вас, побеседуем завтра; я решила поговорить с королем; мне хочется с этим покончить до первого июля. Вы уедете с королем и не будете иметь времени дать мне совет, а вы — единственный, с кем я советуюсь». Это был почти самый конец июня; он мне сказал: «Завтра я еду в Париж, но я не премину быть здесь в воскресенье; и тогда выслушаю все, что вы пожелаете мне поведать, и дам вам совет, как подобает верному слуге. Мне хочется видеть вас избавленной от этого беспокойства». Когда мы расстались, то я много чего передумала, но ни одна мысль не способна была изменить мое намерение: меня тревожил лишь страх перед трудностями, которые способны помешать его исполнению. Короля я не опасалась, ибо он всегда был ко мне добр и оказывал знаки уважения господину де Лозену. Я размышляла над сдержанным поведением последнего и, вместо того чтобы его порицать, находила весьма мудрым, будучи уверена, что он не мог поступать иначе, не зная моих к нему дружеских чувств; я видела, что сомнения, которые он выказывал, были проявлением глубочайшего почтения. Кроме того, полагала я, он думает, что ежели я переменю намерение, а дело получит огласку, то это будет весьма стеснительно для нас обоих; поэтому хочет, чтобы я во всем была свободна. Признаюсь, что такая покорность и предусмотрительность, хотя и бесполезные при моем отношении к нему, заставили меня почувствовать, что он — единственный человек в мире, не пожелавший связать меня словом. За это я была благодарна и еще больше прониклась к нему уважением. Он казался мне самым необычайным человеком из тех, кого я знала, единственным достойным чести, которую я собиралась ему оказать, и способным с наибольшей честью выдержать величие, которое я на него возложу. Его почтительное и смиренное поведение меня живо занимало и заставляло видеть в нем человека, который хорошо понимал, что с такими людьми, как я, не следует торопиться, как с теми, с кем можно все от начала до конца обсудить.
В воскресенье у королевы я болтала с госпожой де Ножан; я с ней говорила часто и держала речи о вещах, связанных с ее братом, так что она не могла не догадываться о моих намерениях. Я ей много раз твердила, что у меня на уме одно дело, доставляющее мне немало беспокойства; что я недовольна своим положением и хочу его поменять. В тот день я сказала: «Вы будете удивлены, вскоре увидев меня замужем! Завтра я хочу испросить у короля дозволения, и все будет кончено в двадцать четыре часа». Она слушала меня с большим вниманием; я сказала: «Вы, наверно, гадаете, за кого я выйду; буду рада, если вы догадаетесь». Она мне сказала: «Без сомнения, за господина де Лонгвиля?» Я ответила: «Нет, за человека знатного и бесконечно достойного, который мне давно по сердцу. Я хотела дать ему понять мои намерения; он о них догадался, но из почтительности не решается о том сказать». Я ей сказала: «Посмотрите на тех, кто здесь есть, и поочередно назовите их; я вам скажу „да“, когда вы его назовете». Она так и сделала и перечислила мне всю знать, которая была при дворе, я же все время твердила «нет»; так продолжалось час, затем я внезапно сказала: «Вы теряете время, он в Париже и должен возвратиться нынче вечером». Сказав это, я на секунду спустилась в свои комнаты, где был господин де Лонгвиль, который очень хотел со мной поговорить. С тех пор как пошел слух, что я должна за него выйти, он усердно за мной ухаживал. Мне сказали, что королева выходит; он проводил меня до карет; я спешила, чтобы не заставлять королеву ждать. Граф д’Эйен сказал мне: «Мадам при смерти! Король приказал мне найти господина Вало[312] и спешно доставить его в Сен-Клу». Когда я поднялась в карету, королева молвила: «Мадам кончается и, что самое неприятное, считает себя отравленной». Я вскрикнула от удивления и сказала: «Какой ужас! Этот слух приводит меня в отчаяние!» И не думая, что говорю (род наш отличается добротой), я спросила, как это случилось. Она ответила, что Мадам была в салоне Сен-Клу в самом добром здравии; она попросила цикориевой воды, аптекарь принес, она выпила стакан и принялась кричать, что у нее в желудке огонь; она кричала не переставая, поэтому оповестили короля и послали за господином Вало. Королева принялась ее жалеть, немного поговорила о ее горестях, причиной которых был Месье, и о том, что она была вся в слезах, когда в последний раз уезжала [из Сен-Жермена], словно предвидя свою болезнь. Тут вернулся дворянин, которого королева послала в Сен-Клу; Мадам через него передала, что умирает и что если королева хочет застать ее живой, то она смиренно просит приехать поскорей; если помедлить, то она уже будет мертва. Мы были в аллее у канала, поэтому сели в карету и отправились к королю, который в то время обедал, ибо принимал воды. Маршал де Бельфон[313] сказал королеве, что ей лучше не ездить; она была в нерешительности, я попросила у нее разрешения немедленно туда отправиться. Она заупрямилась, но тут вошел король и сказал: «Если вы хотите ехать, то вот моя карета». С нами села еще графиня де Суассон.[314] На половине дороге мы встретили господина Вало; он сказал королю, что это колика и что болезнь не будет ни долгой, ни опасной. Когда мы приехали в Сен-Клу, то не нашли ни одного человека, который казался бы расстроенным; Месье выглядел сильно удивленным. Мы застали ее на небольшом ложе, устроенном в алькове, с растрепанными волосами, ибо страдания не давали перерыва, чтобы причесать ее на ночь, в распущенной на шее и на руках рубашке, с бледностью на лице и заострившимся носом, она была похожа на мертвеца. Она сказала: «Вы видите, в каком я состоянии». Мы заплакали. Тут прибыли госпожа де Монтеспан и де Лавальер. Она делала ужасные усилия, дабы вызвать рвоту. Месье говорил: «Мадам, постарайтесь, чтобы вас вырвало, иначе желчь вас задушит». С болью видела она всеобщее спокойствие, хотя ее состояние должно было вызывать живое сочувствие. Несколько минут она о чем-то тихо говорила с королем. Я подошла к ней и взяла за руку; она сжала мою и сказала: «Вы теряете доброго друга, который начал вас крепко любить и узнавать». Ответом ей были мои слезы. Она просила рвотного; врачи сказали, что не нужно, ибо такого рода колики порой длятся девять-десять часов, но никогда не более двадцати четырех. Король пытался добиться от них толку, но они не знали, что ему отвечать. Он им сказал: «Никогда еще женщину не оставляли умирать так, не пытаясь оказать ей никакой помощи». Они переглянулись и не вымолвили ни слова. Вокруг в комнате люди болтали, приходили и уходили, смеялись, как будто Мадам не была в таком состоянии. Я отошла в угол побеседовать с госпожой д’Эпернон, которая была тронута этим зрелищем. Я ей сказала, что меня удивляет, почему с Мадам не говорят о Боге, и что всем нам, находящимся здесь, должно быть стыдно. Она ответила, что та пожелала исповедоваться, пришел кюре Сен-Клу — человек, которого она совсем не знала, и она исповедовалась за минуту. Подошел Месье, я ему сказала: «Надо подумать о том, что Мадам может умереть, с ней надо говорить о Боге». Он мне ответил, что я права, но что ее исповедник — капуцин, годящийся лишь на то, чтобы сопровождать ее в карете, чтобы публика видела, что у нее есть исповедник; и что для того, чтобы говорить ей о Боге, нужен кто-то другой. «Кого бы найти, кого потом было бы не стыдно упомянуть в газете, как человека, бывшего рядом с Мадам?» Я ему ответила, что в такое время самым нестыдным исповедником должен быть человек достойный и сведущий. Он сказал: «Есть: аббат Боссюэ, получивший епископство Кондомское. Мадам порой беседовала с ним, так что решено». Он отправился предложить его королю, который отвечал, что надо было позаботиться обо всем раньше и что ей следовало уже быть соборованной. Месье сказал: «Я жду, когда вы уедете, ибо если это будет в вашем присутствии, то придется сопровождать Господа Нашего до храма, а это очень неблизко». Мадам переложили на кровать; король обнял ее и попрощался. Она сказала очень нежные слова ему и королеве. Я была у изножия ее постели вся в слезах и не имела сил к ней подойти. Мы вернулись в Версаль, и королева отужинала. Господин де Лозен прибыл, когда вставали из-за стола; я подошла к нему и сказала: «Вот несчастное происшествие, из-за которого я в замешательстве». Он ответил: «Я в этом уверен и полагаю, что оно разрушит все ваши планы». Я отвечала, что их осуществление может быть отложено, но что бы ни случилось, своих намерений я не изменю. Я пошла спать; королева сказала мне, что завтра поедет в Париж, а по дороге мы повидаем Мадам. Но та скончалась в три часа, о чем королю сообщили в шесть; он решил отказаться от вод и принять лекарство. Мне пришли сказать о смерти Мадам, которая была для меня чувствительным горем; я не спала всю ночь, размышляя, что если она умрет и Месье решит на мне жениться, то это окажется для меня большим затруднением, но что бы ни случилось, я не переменю принятого решения; для разрыва с Месье потребуется некоторое время, а затем придется еще подождать, перед тем как объявить о моих намерениях: когда я представляла, как долго это будет тянуться, то чувствовала отчаяние. Я была в этой неопределенности, когда мне сообщили о кончине Мадам; это удвоило мою боль, и, взволнованная, я отправилась к королеве, которая мне сказала: «Я иду на мессу к королю». Мы нашли его в халате; он сказал: «Я не решаюсь показаться перед кузиной». Я сказала: «Господину и двоюродному брату не стоит так церемониться». Он оплакивал Мадам. После мессы он говорил со мной о смерти; затем подошел к окну принять лекарство и сказал мне: «Смотрите, я разделался со всеми церемониями, которые вы устраиваете, когда вам нужно принять лекарство». Монсеньор Кондомский приехал известить королеву, как умерла Мадам. Он нам рассказал, что Господь послал ей не одну благодать и умерла она с самыми христианскими чувствами, что его совсем не удивило, ибо с некоторых пор она беседовала с ним о спасении и даже приказала ему приходить к ней беседовать об этом в те часы, когда у нее никого не было; что она хотела изведать глубины своей религии, которые до тех пор оставались ей неизвестны, и так она хотела начать дело спасения; что он нашел ее в хорошем расположении мыслей, что она ему сказала: «Я слишком поздно задумалась о спасении», — и что у него есть все основания быть довольным тем чувством раскаяния, с которым она скончалась.
Когда король отобедал и оделся, он пришел к королеве поплакать. Он мне сказал: «Кузина, идите со мной, мы поговорим, что должно быть сделано для покойной Мадам, перед тем как я отдам приказ Сенто», [315] — который был здесь же, в алькове королевы. После того как мы побеседовали о том, что следует сделать, и я дала свои советы, он сказал: «Кузина, вот освободилось место: не хотите ли его заполнить?» Я побледнела как смерть и отвечала дрожа: «Вы господин; у меня нет воли, кроме вашей». Он понуждал меня высказаться, но я лишь твердила, что не дам другого ответа. Он сказал: «Испытываете ли вы к этому отвращение?» Я ничего не ответила. Он сказал: «Я подумаю об этом и еще с вами поговорю». Королева пошла на прогулку, я последовала за ней. Все говорили только о смерти Мадам, о ее подозрении, что она была отравлена, и о том, как последнее время они жили с Месье. Все переговаривались, что он, наверно, женится снова; и многие поглядывали при этом на меня, но я делала вид, что не замечаю. Из-за слухов об отравлении пришлось собрать медиков короля, покойной Мадам и Месье, нескольких парижских врачей, лекаря английского посла и самых умелых хирургов, которые вскрыли Мадам. Они нашли все благородные органы совершенно нетронутыми, что всех удивило, ибо она была хрупкого здоровья и почти все время болела; они согласились, что умерла она от разлития желчи. Тут же присутствовал английский посол; они ему показали, что ее могла убить только колика, которую они назвали «cholera-morbus». Вот что нам рассказали у королевы; каждый по очереди расспрашивал врачей, которые давали ответы. Английский медик все же написал обо всем так, что это крайне не понравилось Месье, и того отослали обратно на родину. Король Англии протестовал, ибо полагал, что Мадам была отравлена; все эти глупые слухи причиняли мне немалые страдания. Как-то вечером у королевы я увидела господина де Лозена и сказала ему: «Я очень горюю о смерти Мадам и, уверяю вас, сожалею о ней тем больше, что, как мне известно, вы были с ней дружны». Он отвечал: «Никто столько не потерял, как я». Я отозвалась: «Что до меня, я сожалею о ней и поэтому, и потому, что я ее любила; но более всего меня огорчает, что эта смерть откладывает исполнение моего замысла, хотя и не меняет его; я хочу следовать своим склонностям и не отступлю от принятого решения, о котором вам говорила». Он сказал: «На это у меня нет ответа и нет времени, чтобы оставаться здесь с вами». И удалился. Я видела, что он придерживается такого поведения из духа мудрости, который, как мне казалось, сказывался во всех его действиях.
Глава шестая Смерть Мадам
В предрассветные часы 30 июня 1670 г. в замке Сен-Клу скончалась Генриетта-Анна Английская (1644–1670), в замужестве герцогиня Орлеанская. Ей только что исполнилось двадцать шесть лет, но современников потрясло не это — XVII в. был привычен к ранним смертям, — а внезапность и быстрый прогресс болезни. Как видно из отчета госпожи де Лафайет и из «Мемуаров» мадмуазель де Монпансье, по Парижу сразу поползли слухи об отравлении, тем более что сама Генриетта была уверена, что ей в питье подсыпали яд. Подозрения падали на ее мужа, Филиппа, и на его фаворита, шевалье Лотарингского, недавно изгнанного по просьбе Мадам. Насколько можно судить, подозрения отнюдь не беспочвенные. Яды были в ходу, хотя считались скорее итальянским способом решения политических и семейных проблем. Не случайно мадмуазель де Монпансье, рассуждая о собственном характере, вспоминала, что ее бабка, Мария Медичи (которая, не стоит забывать, приходилась бабкой и Филиппу, и Генриетте), происходила из рода отравителей. А Сен-Симон, безоговорочно веривший в то, что Мадам была отравлена, передавал, что убивший ее яд был прислан из Рима.[316] В пользу теории отравления свидетельствует и так называемое «дело о ядах», развернувшееся через несколько лет после смерти Мадам. В 1676 г. в Нидерландах была арестована и препровождена во Францию маркиза де Бринвильер, как раз в 1670 г. обвиненная в отравлении отца и брата. Дальнейшее расследование выявило существование целой сети хироманток, колдуний и алхимиков, торговавших ядами. Самой известной из них была повивальная бабка по имени Вуазен, помимо абортов промышлявшая различными средствами ускорить получение наследства. Ее публично сожгли в 1680 г., еще одну хиромантку повесили, маркизе де Бринвильер отрубили голову, однако Людовик почел за лучшее на том остановиться, поскольку в «дело о ядах» оказалась замешана его фаворитка, госпожа де Монтеспан, и целый ряд знатных дам — графиня де Суассон, маршальша де Ла Ферте и многие другие.
Иными словами, в 1670-е гг. отравления если и не были повседневной реальностью, то мысль о них витала в воздухе. Тем не менее Мадам, по-видимому, убил не яд, а аппендицит или какое-то кишечное воспаление. После нескольких беременностей и выкидышей, которые ей пришлось пережить за девять лет замужества, ее и без того хрупкое здоровье было сильно подорвано. Помимо физических тягот на нем не могли не сказываться и душевные волнения. О том, насколько плохи были ее отношения с Филиппом, можно судить по «Мемуарам» мадмуазель де Монпансье. Их бесконечные ссоры не раз требовали прямого вмешательства Людовика, который был склонен принимать сторону Генриетты. Не стоит забывать, что все трое были знакомы с детских лет: Генриетта выросла при французском дворе. Ее мать, Генриетта-Мария Французская, была сестрой Людовика XIII и после пленения ее супруга, Карла I, нашла приют на родине. Кандидатура Генриетты-Анны фигурировала в списке возможных партий, подыскивавшихся для Людовика XIV его матерью и кардиналом Мазарини, однако союз со Стюартами сулил мало политических выгод: английский королевский дом и так был в долгу у французского. Летом 1660 г. Людовик женился на другой своей кузине, испанской инфанте Марии-Терезии. Той же осенью в Англии была восстановлена монархия, и Генриетта-Мария вместе с дочерью вернулась в свои владения. Однако весной 1661 г. они вновь приехали во Францию, на сей раз ради свадьбы Генриетты-Анны с Филиппом.
Судя по некоторым свидетельствам, в первые годы брака Людовик сожалел, что женился не на той кузине. Мария-Терезия не могла привыкнуть и приспособиться к французским обычаям, почти не говорила по-французски и предпочитала проводить время в своих покоях. Все эти трудности были неведомы Генриетте-Анне, которая к тому же отличалась живым и веселым нравом, любила праздники и удовольствия и в придворных развлечениях составляла общество Людовику, который, безусловно, испытывал к ней слабость. Поддержка короля, с одной стороны, помогала Генриетте в ее бесконечных ссорах с мужем, с другой — лишь усугубляла их. Куда более образованный и светский, нежели старший брат, Филипп славился подозрительностью и раздражительностью нрава. Как единодушно свидетельствуют современники, его воля была порабощена фаворитом, шевалье Лотарингским, который, как пишет Сен-Симон, «вертел Месье до конца жизни как хотел».[317] Шевалье же был заинтересован в том, чтобы между супругами царил раздор. Кроме того, Филипп, по-видимому, не только и не столько ревновал жену к королю, сколько короля к жене. Генриетта стояла между ним и братом, отношения с которым имели первостепенную важность для Месье. Не случайно, что его отношения со второй женой, Шарлоттой Елизаветой Баварской, не пользовавшейся ни малейшей симпатией Людовика, оказались гораздо лучше и ровнее, хотя ей тоже пришлось страдать от притеснений шевалье Лотарингского.
Но придворные интриги и семейные неурядицы, которые могли послужить причиной смерти Мадам, в глазах современников представляли второстепенный сюжет по сравнению с тем, как она умирала. Культура XVII в. еще не избавилась от повышенного любопытства к последним минутам жизни человека. Хотя, как отмечал Филипп Арьес, именно в эту эпоху формировался комплекс новых представлений о «благой смерти»: «Смерть в новой модели — смерть праведника, который мало думает о собственной физической смерти, когда она наступает, но зато думает о ней всю предшествующую жизнь».[318] Более традиционная модель, придававшая повышенное значение предсмертному покаянию, способному искупить все грехи неправедной жизни, начала восприниматься как слишком формализованная (покаяния, конечно, никто не отменял, но оно не должно было быть разовым). В переносе акцента с момента смерти на постоянные мысли о неизбежности кончины важную роль сыграли так называемые руководства по искусству смерти, ars moriendi, получившие широкое распространение после Тридентского собора. Первое сочинение с таким названием появилось незадолго до изобретения печатного станка. Оно было разбито на несколько частей, в которых давались советы, как освоить искусство смерти; рассказывалось об искушениях, подстерегавших умирающих; перечислялись вопросы, которые им должны задаваться, и молитвы, которые следовало произносить; а также предписывалось, какого поведения следовало придерживаться окружающим и какие молитвы им нужно было читать. Непременными условиями «благой смерти» считались сознание близкого конца, достаточный запас времени для принятия последнего причастия и присутствие рядом с постелью умирающего священников, родных и близких.[319]
Все рассказы о смерти Мадам несут на себе отпечаток ars moriendi. По всей видимости, не только потому, что подобные руководства давали определенную модель восприятия чужой смерти и рассуждения о ней. Благодаря им сама Мадам прекрасно представляла, как ей следовало себя вести. Заметим, что в этом (если верить госпоже де Лафайет) она проявила больше проницательности, нежели ее окружение. Тогда как все вокруг считали болезнь неопасной, она избрала другую линию поведения, сразу решив, что умирает. Все ее последующие жесты соответствовали этому «сценарию»: равнодушие к покидаемому миру, пренебрежение физическими страданиями, желание исповедаться и причаститься, прощание с близкими, потребность в духовной поддержке, оказываемой умирающим людьми церкви. Как отмечали и госпожа де Лафайет, и Боссюэ, Генриетта умирала по всем правилам и этим дополнительно вызвала восхищение современников.
Как подобало особе королевской крови и супруге брата короля, Генриетта умирала при большом скоплении свидетелей. Помимо ars moriendi ее поведение и поведение окружающих регулировалось и этикетом. Если сравнить описание ее смерти с изобилующими у Сен-Симона повествованиями о кончинах других членов королевского дома, то можно заметить как значительные совпадения, так и целый ряд отличий. К первым относится порядок прощания: король всегда приезжал проститься с умирающим родичем, но удалялся, когда становилось понятно, что конец совсем близок (таков был обычай: ему не позволялось находиться под одной крышей с покойником). Обычно отъезд короля служил знаком ко всеобщему бегству, и умирающий оставался на попечении духовенства и слуг. Однако в случае Генриетты этого, по всей видимости, не произошло. Тут могла сыграть роль общая растерянность: мало кто до конца верил, что Мадам все-таки умрет. Поэтому ее смерть в большей мере оказалась зрелищем, нежели кончина ее супруга (умершего в шестьдесят один год) или даже короля (который нескольких дней не дожил до семидесяти семи лет).
Этот зрелищный аспект делал смерть Мадам идеальным примером для назидания. Как подчеркивал в своем надгробном слове Боссюэ, кончина особы ее ранга была своеобразным посланием, адресованным окружающим. Она побуждала их подумать о собственной смерти, в свою очередь оборачиваясь одним из инструментов ars moriendi. О том, до какой степени это был естественный ход мысли, свидетельствуют мемуары Луи де Понти, одного из «отшельников Пор-Рояля», записанные с его слов другим «отшельником», Дю Фоссе. Однажды Понти гостил у друзей; побеседовав с хозяином дома, он вышел из комнаты, чтобы не мешать тому закончить письмо.
Спустившись вниз, я встретил мальчишку-лакея и послал его в комнату господина, который мог иметь в нем нужду. Мальчишка взбежал наверх и, войдя в комнату, нашел его лежащим на спине на полу, рядом с огнем, со скрещенными на груди руками, совершенно бездыханным, как будто он умер сутки назад. Столь неожиданное зрелище страшно его напугало, и вместо того, чтобы войти в комнату, он бросился ко мне, совершенно вне себя, твердя:
— Сударь, мой господин умер, идите, идите скорее!
— Что ты говоришь! — воскликнул я. — Как умер?
Я со всех ног побежал и, войдя в комнату, обнаружил тело, лежащее, как уже было сказано, около огня.
— Боже мой, — сказал я тогда, — что же это такое?
Весть молнией облетела дом, и сбежались все домочадцы, рыдая, восклицая, почти вне себя из-за столь нежданной беды <…>.
Можно себе вообразить, какое смятение царило в доме. Все метались как безумные. Несли одно лекарство за другим, подкрепляющие составы и всевозможные целебные снадобья. Согрели полотенца и положили ему на грудь, надеясь привести его в сознание, как будто речь шла о преходящем недуге. Но все было бесполезно, он лежал как пень и был мертвее мертвого.
Тут его жена, от которой нельзя было утаить положение вещей, прибежала вся вне себя и хотела войти в комнату, где был мертвец. Но я бросился к ней навстречу, взял на руки и отнес в спальню, где положил на постель и сказал:
— Ваше место здесь, сударыня, а там вам делать нечего. Молите Господа о его душе: сейчас ему более всего необходимы ваши молитвы <…>.
Столь удивительная кончина произвела на меня необычное впечатление и заставила на досуге всерьез задуматься о ненадежности этой жизни и о непостоянстве всего земного. Часто я говорил самому себе:
— Как! Еще четверть часа назад этот человек прекрасно себя чувствовал, и вдруг он мертв. И я могу так же мгновенно умереть, как он. Сейчас я жив, но буду ли жив через четверть часа? И что тогда с тобой будет, несчастный? Что будет с тем, каков ты сейчас? Время начать серьезно об этом размышлять. Ведь может быть, что через эту смерть Господь говорит с тобой.[320]
Результатом этих раздумий стало решение удалиться от мира и заняться духовной подготовкой к встрече с Творцом: так Понти очутился в числе «отшельников» Пор-Рояля.
Иными словами, если заданное Тридентским собором направление духовной реформы лишало предсмертные ритуалы былой значимости, подчеркивая важность поведения человека в течение всей жизни, то это отнюдь не отменяло показательного характера самого события. Умирающий знал, что в духовном отношении значение имеет не то, как он умирает, а то, как он жил, однако на окружающих влияли именно обстоятельства смерти. Это расхождение внутренней и внешней точки зрения фиксировал не слишком ортодоксальный в своих взглядах Сент-Эвремон:
С точки зрения здравого смысла обстоятельства смерти касаются лишь тех, кто остается в этом мире. Слабость, решимость, слезы или безразличие — в последний миг все равно; нелепо думать, что они что-либо значат для человека, который утрачивает свое бытие.[321]
Судя по описаниям современников, смерть Генриетты Английской тоже была отмечена этой двойственностью. Окружающие (да и умирающая) не могли не чувствовать объективного драматизма ситуации, учитывая возраст и положение Мадам. В этом смысле ее смерть была красноречива еще до того, как стала предметом для красноречия. К тому же персона ее ранга должна была думать не только о себе (то есть о спасении своей души), но и о том впечатлении, которое ее кончина произведет на окружающих. Умирая «благой смертью», Генриетта исполняла свой последний долг перед обществом, с восхищением за ней наблюдавшим.
Мари-Мадлен Пиош де ла Вернь, графиня де Лафайет
Рассказ о смерти Мадам
(1670)
В «Надгробном слове Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской» Боссюэ, говоря о безвременной кончине Мадам, воспользовался не вполне обычным выражением: «Трудясь над ее историей, мы видели лишь все самое славное, что только подвластно воображению». И затем: «Такова радостная история, которую мы писали для Мадам; для завершения этого благородного замысла недоставало лишь долгой жизни, но об этом, казалось, можно было не тревожиться». Очевидно, что под «историей» Боссюэ подразумевал не уже написанный текст, а саму жизнь Генриетты, которая своим существованием закладывала основу будущего исторического повествования. Это повествование складывалось в общественном сознании, проходя сквозь фильтр устной обработки, а затем должно было обрести законченную форму под пером какого-нибудь историка. (Об этой динамике жизни и жизнеописания уже шла речь в предыдущей главе в связи с «Мемуарами» мадмуазель де Монпансье.)
Когда Боссюэ произносил эти слова, проект истории Генриетты Английской уже существовал, и принадлежал он самой принцессе. Как свидетельствует госпожа де Лафайет, впервые эта идея возникла в 1665 г., после изгнания графа де Гиша. Генриетта стала рассказывать ей подробности интриги и предложила записать их в качестве «истории», то есть связного фабульного повествования. Работа продолжилась в 1699 г., когда накануне очередных родов Генриетта была вынуждена вести относительно уединенный образ жизни. Она не только рассказывала, но и прочитывала написанное госпожой де Лафайет, с удовольствием наблюдая, как ее биография превращалась в небольшой роман. Потом политические и семейные заботы прервали эти занятия. Госпожа де Лафайет признавалась: «Смерть принцессы не оставила у меня ни намерения, ни вкуса к продолжению этой истории».[322] В оригинале эта фраза более двусмысленна, нежели способен передать перевод. Госпожа де Лафайет говорила о том, что смерть Генриетты лишила ее «dessein», то есть одновременно и намерения, и плана работы. Неоднозначно и упоминание о вкусе (gout), поскольку на языке эпохи слово служило для обозначения личной симпатии. Иначе говоря, госпожа де Лафайет констатировала, что после кончины Мадам она осталась без плана и без личного мотива продолжать это повествование, смысл которого был в соавторстве.
Идея соавторства отличает «Историю Генриетты Английской» от писавшихся приблизительно в те же годы «Мемуаров к истории Анны Австрийской» госпожи де Моттвиль (1621–1689), бывшей камеристки матери Людовика XIV. Близко наблюдая жизнь Анны на протяжении более чем двадцати лет, госпожа де Моттвиль взялась за работу после смерти своей покровительницы, тем самым отдавая ей последний долг. Напротив, госпожа де Лафайет могла писать только при участии Мадам. Не потому, что она плохо знала обстоятельства ее жизни (действительно, госпожа де Лафайет была не наперсницей, а собеседницей принцессы, и та излагала ей придворные интриги постфактум — но все же излагала). По всей видимости, с ее точки зрения, ценность «Истории Генриетты Английской» составлял субъективный фактор — то, что она была записана со слов принцессы и ею «авторизована». После смерти Генриетты госпожа де Лафайет не стала продолжать этот набросок, присовокупив к нему короткий «Рассказ о смерти Мадам», последнее свидетельство своих отношений с покойной.
«Рассказ о смерти Мадам» написан в сугубо прагматическом стиле «реляции» (relation) — сообщения о каком-либо «происшествии, истории или баталии».[323] Как правило, реляциями именовались военные сводки или отчеты путешественников. Отсюда стратегический уклон, ощущающийся даже в «Рассказе о смерти Мадам», где в первую очередь устанавливается последовательность и взаимосвязь событий (заметим, что словом «relation» также обозначалось соотношение между предметами или явлениями). Придерживаясь внешней точки зрения, госпожа де Лафайет уделяет много внимания перемещениям персонажей и тому, как от этого изменялось восприятие ситуации. К примеру, пока Мадам лежала на большой постели, то выглядела лучше, чем когда ее переложили на другое ложе; только присутствие короля заставило врачей признать, что состояние больной безнадежно, и т. д. Кроме того, госпожа де Лафайет регистрирует внешние проявления эмоций — слезы, вздохи, видимые изменения выражения лица, — при этом не утверждая, что персонажи действительно испытывали описываемые чувства: «Казалось, она вполне уверилась в собственной смерти… По всей видимости, мысль о яде утвердилась в ее уме… Месье, казалось, был в ужасе». Как подобает очевидцу, она придерживается зримых данных, истолковывая их самым конвенциональным и нейтральным образом. До некоторой степени этот принцип распространяется и на ее собственные чувства. Их спектр невелик: сперва она удивлена дурным видом Мадам, затем поражена и растрогана ее слезами, удивлена и растрогана словами Месье и в отчаянии от бездействия медиков. Однако не стоит принимать эмоциональную отстраненность повествователя за описание душевного состояния госпожи де Лафайет. В качестве персонажа собственного повествования она смотрела на себя тоже со стороны, говоря лишь о тех чувствах, которые полагалось проявлять в подобных ситуациях. Вспомним замечание госпожи де Севинье, признававшейся в письме Куланжу, что, будучи свидетельницей горя Мадмуазель, она по-настоящему ее пожалела: «В этих обстоятельствах я обрела чувства, которые обычно не испытывают по отношению к персонам ее ранга. Но это между нами…». Судя по всему, такова была позиция и госпожи де Лафайет. Будучи искренне привязана к Генриетте, она отдавала себе отчет, что любое отступление от конвенций могло быть воспринято отрицательно и навлечь на нее подозрение в лицемерии. Не случайно, что когда Мадам обращается к ней в последний раз, говоря: «Госпожа де Лафайет, у меня уже заострился нос», — то писательница отказывается от описания собственной эмоции, обозначая ее внешним образом, как бы с точки зрения окружающих: «Ответом были мои слезы, потому что это была правда».
Первое издание «Истории Генриетты Английской» вышло в 1720 г. в Амстердаме, но нет сомнения, что до этого она циркулировала в рукописном виде. На это указывает целый ряд сохранившихся манускриптных копий текста.
Рассказ о смерти Мадам[324]
Мадам возвратилась из Англии во славе и в радости, какие только может принести путешествие, предпринятое во имя дружества и увенчавшееся успехом. Король, ее нежно любимый брат, был необычайно к ней внимателен и полон почтения. Было смутно известно, что переговоры, в которых она приняла участие, должны были вскоре завершиться.[325] В двадцать шесть лет она зрела себя связующим звеном между двумя величайшими монархами сего века. В ее руках находился договор, от которого зависела судьба части Европы; причастность к важным делам принесла ей удовлетворение и уважение, которым сопутствовали приятность, дар молодости и красоты; все в ней было исполнено грации и мягкости, всех покорявшей, в чем она должна была находить тем большую усладу, ибо это была дань более ее особе, нежели сану.
Ее счастье смущало отдаление Месье после истории с шевалье Лотарингским;[326] но, казалось, расположение короля должно было помочь ей выйти из этого затруднения. Итак, она была в самой благодатной поре своей жизни, когда смерть, нежданная, как удар грома, оборвала это прекрасное существование и лишила Францию прелестнейшей принцессы.
24 июня 1670 г., через восемь дней после возвращения из Англии, она вместе с Месье отправилась в Сен-Клу. Приехав туда, она в первый же день пожаловалась на тяжесть в боку и боль в животе, к которой была склонна. Но стояла жара, и ей захотелось искупаться в реке. Господин Ивлен, ее врач, [327] сделал все, дабы этому воспрепятствовать, тем не менее, что бы он ни говорил, в пятницу она искупалась, а в субботу ей так занеможилось, что больше купаний не было. Я приехала в Сен-Клу в субботу к десяти вечера и нашла ее в саду; она мне сказала, что, наверно, плохо выглядит и не слишком хорошо себя чувствует; она отужинала как обычно, а затем до полуночи прогуливалась в лунном свете. Назавтра, в воскресенье, 29 июня, она рано поднялась и спустилась к Месье, который купался; пробыла у него долго и, возвращаясь из его покоев, заглянула ко мне и сказала, что хорошо провела ночь.
Минуту спустя я поднялась к ней. Она сказала, что не в духе, но ее дурное настроение у другой женщины считалось бы прекрасным, так велика была ее природная мягкость и так мала способность к резкости и гневу.
Пока она со мной говорила, пришли сказать, что сейчас начнется месса. Она пошла ее послушать, затем, возвращаясь, оперлась на меня и молвила со столь отличавшей ее добротой, что была бы в духе, если бы могла беседовать со мной, но что она устала от тех, кто ее окружает, и более не может их выносить.
После она пошла взглянуть, как прекрасный английский художник рисовал портрет Мадмуазель, [328] и принялась беседовать с госпожой д’Эпернон[329] и со мной о своей поездке в Англию и о короле, своем брате.
Этот разговор был ей приятен, и она повеселела. Подали обед, она поела, как обычно; после обеда прилегла на подушки, как довольно часто делала, когда выпадала возможность. Меня она усадила рядом с собой, почти касаясь меня головой.
Тот же английский художник рисовал Месье; разговор шел обо всем на свете, и тут она задремала. Во время сна она так сильно изменилась, что, разглядывая ее, я удивилась и подумала, что, вероятно, все дело в уме, который красил внешность, делая ее столь привлекательной в бодрствовании и малопривлекательной во сне. Я была не права, ведь спящей я ее видела много раз, и при этом она оставалась не менее прелестной.
Когда она пробудилась и поднялась с места, то выглядела столь дурно, что даже Месье удивился и обратил на это мое внимание.
Затем она пошла в салон, где какое-то время прогуливалась с Буафранком, казначеем Месье;[330] беседуя с ним, она не раз жаловалась на боль в боку.
Месье спустился, чтобы, как ранее решил, отправиться в Париж. На лестнице он встретил госпожу де Мекленбург[331] и вместе с ней взошел обратно. Мадам оставила Буафранка и подошла к госпоже де Мекленбург. Пока они вели беседу, госпожа де Гамаш[332] принесла ей и мне по стакану воды с цикорием, которую она уже давно спрашивала; госпожа де Гурдон, [333] ее придворная дама, его подала. Она выпила и, ставя чашку на блюдце, другой рукой схватилась за бок и сказала голосом, в котором слышалось страдание: «Ах, как колет в боку, ах, какая боль! Я больше не могу». Произнося эти слова, она покраснела, а секунду спустя покрылась мертвенной бледностью, всех удивившей; она продолжала кричать, прося, чтобы ее унесли, как будто не имела сил держаться на ногах.
Мы взяли ее под руки; она шла с трудом, вся согнувшись. Ее мгновенно раздели, я ее поддерживала, пока ей распускали шнуровку. Она не переставала жаловаться, и я заметила у нее на глазах слезы. Это меня поразило и растрогало, ибо я знала, что она — один из самых терпеливых людей в мире.
Я сказала, целуя ей плечи и продолжая поддерживать, что она, видимо, сильно страдает, она ответила: «Немыслимо». Ее уложили в постель, но стоило ей там очутиться, она начала кричать еще больше и метаться из стороны в сторону, как человек, испытывавший бесконечные мучения. Тут побежали позвать врача Месье, господина Эспри;[334] он пришел и объявил, что это колика, и прописал обычные средства, которыми лечатся такие недуги. Меж тем боль была неописуемая, и Мадам сказала, что ее болезнь серьезней, чем все думают, что она умирает и чтобы ей позвали духовника.
Месье был у ее кровати, она его обняла и мягко, с видом, способным разжалобить самое варварское сердце, сказала: «Увы! Месье, вы меня давно не любите, но это несправедливо, я никогда вас не подводила». Месье казался сильно растроганным, а все в комнате были до такой степени тронуты, что повсюду были слышны лишь звуки, исторгаемые рыданиями.
Все мной рассказанное произошло менее чем за полчаса. Мадам не переставала кричать, что у нее ужасная боль в желудке. Вдруг она сказала, что нужно проверить выпитую ею воду, не было ли там яду, что, может быть, кто-то перепутал бутылки, что она была отравлена и ей необходимо противоядие.
Я была в алькове рядом с Месье, и, хотя и считала его совершенно неспособным на такое преступление, как всегда, пробуждение свойственной человеку злой воли заставило меня пристально за ним наблюдать. Он не был ни взволнован, ни смущен мнением Мадам, и сказал, чтобы этой воды дали отведать собаке, и вслед за Мадам предложил послать за маслом и противоядием, дабы лишить ее столь черных мыслей. Ее первая камеристка госпожа Деборд, совершенно ей преданная, сказала, что сама приготовила воду и попробовала ее, однако Мадам по-прежнему просила масла и противоядия; ей дали и то, и другое. Сент-Фуа, первый камердинер Месье, [335] принес ей змеиный порошок. Она сказала, что примет снадобье из его рук, поскольку доверяет ему; ей дали принять множество лекарств против яда, которые, вероятно, скорее были способны ей навредить, нежели помочь. Выпитое вызвало рвоту: у нее уже до того, как она что-либо приняла, были позывы, но рвоты оказалась недостаточно, вышло лишь немного флегмы и часть съеденной пищи. Брожение этих лекарств и крайние боли, которые она испытывала, привели ее в состояние изнеможения, казавшееся покоем; но она сказала, чтобы мы не обманывались, боли остались прежними, просто у нее более не было сил кричать, и что от ее недуга нет лекарства.
Казалось, она вполне уверилась в собственной смерти; она так решила, как будто речь шла о чем-то ей безразличном. По всей видимости, мысль о яде утвердилась в ее уме, и, видя бесполезность лекарств, она помышляла более не о жизни, а только о том, чтобы терпеливо сносить мучения. Она начала чувствовать стеснение в груди. Месье позвал госпожу де Гамаш пощупать ей пульс, доктора об этом не подумали. Госпожа де Гамаш отошла от постели в испуге, сказав нам, что не может найти пульс у Мадам и что у нее похолодели конечности. Нас это напугало; Месье, казалось, был в ужасе. Господин Эспри сказал, что это обычный результат колик и что он отвечает за жизнь Мадам. Месье разгневанно заметил ему, что он говорил то же самое о господине де Валуа и тот умер, [336] и отвечает он за это или нет, но Мадам может умереть.
В это время пришел кюре из Сен-Клу, которого она велела позвать. Месье оказал мне честь, спросив, следует ли ей говорить о необходимости исповедаться. Я нашла ее в очень дурном состоянии. Мне казалось, что эти боли не походили на обычные колики, но я совсем не предвидела то, что должно было произойти, а мысли, приходившие мне в голову, относила на счет своей привязанности к ней.
Я отвечала Месье, что исповедь перед лицом смерти может быть только полезна, и он приказал мне сказать ей о приходе кюре из Сен-Клу. Я попросила его избавить меня от этой обязанности и заметила, что, поскольку она за ним посылала, надо просто дать ему войти. Месье приблизился к кровати, и она снова сама попросила об исповеднике, но без всякого испуга, как человек, который думал только о вещах, необходимых в его положении.
Одна из камеристок была у изголовья, поддерживая ее; Мадам не захотела, чтобы та отошла, и исповедовалась в ее присутствии. Когда исповедник удалился, Месье приблизился к ее постели, и она что-то тихо ему сказала, что именно — не было слышно, но, как нам показалось, что-то нежное и приветливое.
Стали говорить о том, что следует ей пустить кровь, но она предпочла бы, чтобы открыли вену на ноге, а господин Эспри настаивал на том, что это должна быть рука. В конце концов его мнение взяло верх. Месье сообщил об этом Мадам, опасаясь, что ей будет тяжело на это решиться; но она ответила, что ей по сердцу все, чего хотят другие, что ей все безразлично и что она прекрасно понимает, что уже не поправится. Мы приняли эти слова за последствие острой боли, которую ей раньше не приходилось испытывать, из-за чего ей казалось, что она умирает.
Прошло не более трех часов с того момента, когда ей стало плохо. Ивлен, за которым отправили в Париж, прибыл вместе с господином Валло, за которым посылали в Версаль.[337] Стоило Мадам увидеть Ивлена, пользовавшегося ее доверием, как она сказала, что очень рада его видеть, что она была отравлена и чтобы он ее лечил соответственно. Не знаю, поверил ли он этому, но, то ли считая, что спасения нет, то ли думая, что она ошибается и ее недуг не страшен, он стал действовать как человек, который либо не имеет надежды, либо не видит опасности. Он проконсультировался с господином Валло и господином Эспри; после долгой беседы все трое подошли к Месье и заверили, что готовы поклясться собственной жизнью, что опасности нет. Месье передал это Мадам. Она ответила, что знает свой недуг лучше медиков и что от него нет исцеления, но произнесла это с таким спокойствием и даже мягкостью, как будто речь шла о чем-то безразличном.
Господин Принц[338] пришел ее навестить, она сказала ему, что умирает. Все, кто было вокруг, стали возражать, говоря, что ее состояние не столь плохо. Но она выказывала некоторое нетерпение умереть, дабы освободиться от мучений. Тем не менее было похоже, что кровопускание помогло; все сочли, что ей лучше. Около половины десятого господин Валло отправился обратно в Версаль, а мы остались вокруг ее кровати, беседуя друг с другом, полагая ее вне опасности. Все были готовы примириться с перенесенными ею страданиями, надеясь, что ее состояние поспособствует примирению с Месье; он казался тронутым, и мы с госпожой д’Эпернон, слышавшие ее слова, с удовольствием указывали ему, сколь они ценны.
Господин Валло прописал клистир с александрийским листом; и даже ничего не смысля в медицине, мы рассудили, что ей не выйти из нынешнего состояния без опорожнения. Природа хотела пойти верхним путем, у нее постоянно случались позывы к рвоте, но ей ничего не давали, чтобы это осуществилось.
Господь ослепил врачей и не пожелал, чтобы они попробовали средства, способные хотя бы отдалить смерть, которую Он решил сделать ужасной. Услыхав, как мы говорили, что ей стало лучше и что мы с нетерпением ждем действия лекарства; «В этом так мало правды, — сказала она, — что не будь я христианкой, то покончила бы с собой из-за невыносимой боли. Никому не стоит желать зла, — добавила она, — но я хотела бы, чтобы кто-нибудь мог на миг ощутить, как мне больно, чтобы познать природу моих страданий».
Тем временем лекарство не возымело действия. Нас охватила тревога; были призваны господин Эспри и господин Ивлен, которые сказали, что надо еще подождать. Она ответила, что когда бы они испытывали ее страдания, то не ждали бы так спокойно. Два часа ушли на ожидание действия этого средства, — последние часы, когда ей еще можно было помочь. Она приняла много снадобий, постель была испорчена, ей захотелось, чтобы ее переменили и постелили рядом. Она смогла дойти сама, ее не пришлось нести, и даже обошла кровать кругом, чтобы не соприкасаться с испачканными местами. Когда она оказалась на этой небольшой постели, то ли она и вправду угасла, то ли ее стало лучше видно, ибо теперь свет от свечей попадал ей на лицо, но нам показалось, что ей намного хуже. Врачи хотели взглянуть на нее поближе и поднесли к ней факел — она велела их унести, когда ей стало плохо. Месье спросил, не причиняет ли ей это неудобства. «Нет, Месье, — отвечала она, — ничто более не приносит мне неудобства; вы увидите, к завтрашнему утру меня не будет». Ей дали бульона, ибо она ничего не ела с обеда. Стоило ей проглотить его, как боли удвоились и стали столь же сильными, как после воды с цикорием. Смерть появилась у нее на лице; было видно, что она мучительно страдает, но без малейшего движения.
Король многократно посылал узнать новости, и всякий раз она отвечала, что умирает. Те, кто ее видел, говорили ему, что она вправду очень плоха; а господин де Креки, [339] проезжавший через Сен-Клу по дороге в Версаль, сказал королю, что она в большой опасности; и король решил ее повидать и приехал в Сен-Клу около одиннадцати.
К моменту прибытия короля мучения Мадам удвоились из-за того, что ей дали бульону. Казалось, присутствие короля открыло глаза докторам. Он отвел их в сторону, чтобы узнать их мнение, и те же самые врачи, которые два часа назад отвечали за ее жизнь, которые считали, что похолодевшие конечности — результат колик, теперь сказали, что она безнадежна, что эти холодные члены и прерывистый пульс были признаком гангрены и что ее необходимо соборовать.
Королева и герцогиня де Суассон приехали с королем; госпожа де Лавальер и госпожа де Монтеспан — вместе. Я разговаривала с ними; Месье подозвал меня и, рыдая, сообщил мнение медиков. Я была удивлена и растрогана, как и подобает, и отвечала Месье, что врачи потеряли рассудок и не думают ни о ее жизни, ни о спасении души; что она лишь четверть часа беседовала с кюре Сен-Клу и что надо к ней кого-нибудь послать. Месье мне сказал, что послал за епископом Кондомским: я нашла, что нельзя выбрать лучше, но покамест стоит послать за каноником господином Фейе, [340] чьи заслуги хорошо известны.
Тем временем король был подле Мадам; она сказала, что он теряет самую верную свою служанку. Он ей сказал, что опасность не столь велика, но что он поражен ее твердостью и находит в ней много величия. Она отвечала, что, как ему известно, она всегда страшилась не смерти, но утраты его расположения.
Потом король поговорил с ней о Боге; затем он вернулся туда, где были медики, и нашел меня в отчаянии от того, что они не давали ей никаких лекарств, в особенности рвотного; он оказал мне честь, сказав, что они совершенно потеряли головы и не знают, что делают, и что он попытается привести их в чувство. Он поговорил с ними и, приблизившись к постели Мадам, сказал, что, не будучи лекарем, он предложил им тридцать различных средств, но они отвечали, что следует подождать. Мадам отвечала, что умирать следует по всем правилам.
Король, по всем признакам видя, что надежды нет, рыдая, простился с ней. Она сказала, что умоляет его не плакать, ибо это может ее растрогать, и что завтра первой новостью, которую он узнает, будет весть о ее смерти. Маршал де Грамон[341] подошел к ее постели. Она ему сказала, что он теряет доброго друга, что она умирает и что сперва ей казалось, что ее случайно отравили.
Когда король удалился, я была у ее постели, и она сказала: «Госпожа де Лафайет, у меня уже заострился нос». Ответом были мои слезы, потому что это была правда. Ее перенесли на большую постель. У нее началась икота. Она сказала господину Эспри, что это смертная икота. Она уже много раз спрашивала, когда умрет. Она спросила опять, и, хотя ей ответили как человеку, который еще далек от смерти, было видно, что никакой надежды у нее нет.
Она ни на мгновение не обращала свои мысли к жизни. Ни одной жалобы на жестокость судьбы, которая поразила ее в самом расцвете сил; ни одного вопроса врачам о вероятности спасения; никакого интереса к лекарствам, которые могли бы облегчить ее страдания; спокойный вид посреди полной уверенности в смерти; убеждение, что она была отравлена, и ужасные муки; наконец, не имеющая примера отвага, которую трудно изобразить.
Король уехал, и врачи объявили, что надежды нет. Пришел господин Фейе; он беседовал с Мадам с полной строгостью, но нашел ее в расположении, намного превосходившем его суровость. Она опасалась, были ли действительны ее прошлые исповеди, и попросила господина Фейе помочь ей совершить общую исповедь, что и сделала с большой набожностью и готовностью жить по-христиански, если Господь вернет ей здоровье.
После исповеди я подошла к ее постели. Рядом с ней был господин Фейе и капуцин, ее обычный исповедник.[342] Последний хотел с ней говорить и ударился в речи, которые ее утомляли: она смотрела на меня взглядом, в котором это читалось, затем, обернувшись к капуцину, сказала с восхитительной мягкостью, как бы боясь его обидеть: «Отец мой, пусть говорит господин Фейе, а вы скажете в свой черед».
В этот момент приехал английский посол.[343] Как только она его увидела, она заговорила с ним о короле, своем брате, и о том, какую боль ему причинит ее смерть; об этом она уже много раз твердила в начале болезни. Она попросила передать ему, что он теряет человека, больше всех его любившего. Затем посол спросил, не была ли она отравлена; не знаю, что она ему ответила, но точно знаю, что она просила ничего об этом не говорить брату, дабы не причинять ему и этого страдания и дабы он не пожелал отомстить; что король здесь ни при чем, а потому не следует его в этом винить.
Все это она говорила по-английски, но так как слово «яд» одно и то же во французском и в английском, то господин Фейе, услышав его, прервал их беседу, сказав, что следует принести свою жизнь в жертву Господу и ни о чем другом не думать.
Ее причастили; затем, заметив, что Месье удалился, она спросила, можно ли ей еще его увидеть; за ним побежали, он пришел и обнял ее весь в слезах. Она попросила его уйти, говоря, что он ее слишком растрогал.
Меж тем она все таяла, время от времени у нее случались приступы слабости, воздействовавшие на сердце. Прибыл господин Брейе, прекрасный врач.[344] Сперва он не отчаивался и начал консультироваться с другими медиками. Мадам велела их позвать, они отвечали, что им надо немного посоветоваться, но она снова послала за ними, и они подошли к ее постели. Речь шла о том, чтобы пустить ей кровь из ноги. «Если вы собираетесь это делать, — сказала она, — то не теряйте времени: в голове у меня мешается, а желудок наполняется».
Они были поражены такой твердостью и, видя, что она хочет, чтобы ей пустили кровь, сделали это; однако кровь не пошла, и первое кровопускание дало совсем мало. Она думала, что умрет, пока ее нога была в воде. Врачи сказали, что надо принять лекарство, но она ответила, что сперва она хочет собороваться.
Ее соборовали, когда прибыл епископ Кондомский:[345] он заговорил с ней о Боге так, как требовало ее положение, с тем красноречием и духом веры, которые звучат во всех его речах; он побудил ее совершить акты, которые посчитал необходимыми. С восхитительным рвением и присутствием духа она вникала во все, что он говорил.
Пока он говорил, ее первая камеристка приблизилась, желая подать ей что-то нужное; она ей сказала по-английски, дабы епископ не понял, даже в смерти сохраняя дух вежества: «Когда я умру, отдайте епископу Кондомскому изумруд, который я для него приготовила».
Он продолжал ей говорить о Боге, но ее охватило желание поспать, которое было следствием упадка природных сил. Она спросила, можно ли ей несколько секунд передохнуть; он ей отвечал, что можно и что он пойдет молиться за нее Богу.
Господин Фейе остался у ее изголовья, и через секунду Мадам попросила его позвать епископа, она почувствовала, что кончается. Епископ приблизился и подал ей распятие, она взяла его и с жаром поцеловала. Он не прекращал говорить с ней, и она отвечала ему так же здраво, как если бы не была больна. Ее губы были прикованы к распятию, одна смерть могла вырвать его. Ее силы подходили к концу, она выпустила распятие и потеряла способность говорить почти одновременно с жизнью. Ее агония продолжалась секунду, и после нескольких конвульсивных движений губами она скончалась в два с половиной часа утра, через девять часов после появления первых признаков недомогания.
Жак-Бенинь Боссюэ
Надгробное слово Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской, произнесенное в Сен-Дени в двадцать первый день августа 1670 года
В 1670-х гг. Сент-Эвремон писал своему другу маршалу де Креки по поводу французской словесности:
…мы имеем сочинения оригинального рода, восхитительной красоты и писанные по-французски: таковы речи епископа Кондомского, произнесенные над гробом королевы Англии и после кончины Мадам, причем последняя даже превосходит первую тонкостью мыслей и красотой выражений.[346]
Более полувека спустя ему вторил Вольтер, который в «Веке Людовика XIV» (1751) особо выделил жанр надгробных слов, отметив, что «в этом роде красноречия преуспели лишь французы».[347] Иначе говоря, хвалебные речи в честь умерших воспринимались как специфически национальная и современная разновидность ораторского искусства. Действительно, момент их расцвета приходился на XVI–XVII вв. и был обусловлен развитием католической Реформации. Как отмечают исследователи, изначально жанр обладал некоторым полемическим потенциалом, позволяя проповеднику напомнить пастве о том, какова должна быть жизнь праведника и какие поступки служат залогом небесного блаженства (и тем самым наглядно опровергнуть протестантскую доктрину предназначения).[348] После убийства Генриха IV надгробные слова получили широкое распространение, став непременной частью погребального ритуала особ королевской крови и представителей знатнейших домов. Это во многом предопределило структуру жанра: светский статус его героев позволял проповеднику касаться вопросов политики и общественной морали, тогда как основным предметом для рассуждений оставались их христианские добродетели.
В «Надгробном слове Генриетте-Анне Английской» мы видим аналогичное сопряжение мирской и духовной перспективы. Речь Боссюэ разбита на три части: во вступительной он излагает свой основной тезис (в человеке все суетно, если посмотреть на итог его земного существования; и все исполнено величия, если вспомнить о том, что он приносит Богу; жизнь Генриетты Английской служит нам примером человеческого ничтожества и человеческого величия), затем последовательно разбирает обе его составляющие. Такое разделение позволяет проповеднику выстроить две версии биографии Мадам, одна из которых имеет трагическое звучание (ни молодость, ни высокое рождение и разнообразные таланты не могли уберечь Генриетту от преждевременной кончины), другая же исполнена христианского героизма (доблесть и добродетели Мадам спасли ее от подлинной погибели). По сути, Боссюэ здесь намечает контуры своей исторической философии, затем изложенной в «Речи о всеобщей истории», работать над которой он начал как раз в 1670 г. (за год до этого король попросил его стать наставником дофина, поэтому «Речь», как и целый ряд других сочинений, была задумана Боссюэ в качестве учебного пособия). И история человечества в целом, и жизнь каждого человека в частности являются воплощением Божественного замысла и могут быть поняты только исходя из этой логики. Ужасная смерть молодой женщины трагична, если считать ее случайной; но на самом деле она исполнена глубокого смысла. Кончина Мадам превращает всю ее биографию в «exemplum» — назидательный пример, наглядно иллюстрирующий общий принцип (вот один из них: лучше умереть молодым, еще не погрязнув в грехе). Подобные примеры часто использовались проповедниками для более понятного изложения догматов. Однако у Боссюэ речь идет не о том, что смерть Мадам может служить в качестве «exemplum», а о том, что Провидение задумало ее как «exemplum». Иными словами, это драматическое происшествие — часть Божественной проповеди, обращенной к миру самим Господом (еще раз вспомним признание Понти о том, что смерть друга была воспринята им как послание, адресованное ему Господом).
Когда Боссюэ произносил «Надгробное слово Генриетте-Анне Английской», он уже обладал заслуженной славой одного из лучших проповедников. Его духовное поприще началось в Меце, более половины жителей которого были приверженцами протестантской церкви, что побудило молодого прелата с особым рвением оттачивать владение словом. С 1659 г. он проповедовал в Париже и при дворе, пользуясь поддержкой Анны Австрийской и святого Венсана де Поля. О его способности тронуть и взволновать аудиторию писали все современники. Позже Лабрюйер замечал, что Боссюэ и другой известный проповедник, иезуит Луи Бурдалу, породили толпу бездарных подражателей и, подняв церковное красноречие до уровня искусства, ослабили его духовное воздействие: «Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль».[349] Нет сомнения, что Боссюэ, Бурдалу, Флешье и целый ряд их собратьев говорили с образованной частью своей паствы на наиболее привлекательном и понятном для нее языке. Как можно видеть по «Надгробному слову Генриетте-Анне Английской», он был практически свободен от богословских терминов. Это тот же язык, на котором (за вычетом библейских цитат и ссылок на отцов церкви) говорили и светские моралисты. Его использование позволяло проповедникам удерживать внимание аудитории, чья языковая чувствительность была намного выше современной. Но, говоря о проповеди как о спектакле, Лабрюйер имел в виду не только это. В отличие от кабинетного богослова, проповедник воздействовал на слушателей силой и обаянием личности: «Как велико преимущество живого слова перед писаным! Люди поддаются очарованию жеста, голоса, всей окружающей их обстановки».[350] По мнению моралиста, в таком магнетическом воздействии — которым в высшей степени был наделен Боссюэ, — скрывался элемент шарлатанства. Однако это вряд ли справедливо по отношению к автору «Надгробного слова Генриетте-Анне Английской». Его речи даже в напечатанном виде оказывали сильнейшее влияние на современников. По признанию Сент-Эвремона, «в них есть особый дух, и потому их автор, даже если он лично нам не известен, восхищает не менее, чем прочитанное сочинение. Все его речи несут отпечаток характера, и, никогда с ним не встречавшись, я легко перехожу от восхищения его проповедью к восхищению им самим».[351] Иными словами, если на лицедействующих проповедников паства смотрела, не слишком обращая внимание на их слова, то с Боссюэ происходило обратное: его живой голос звучал даже сквозь письменный текст.
«Надгробное слово Генриетте-Анне Английской» было опубликовано в Париже в 1670 г., и несколько раз перепечатывалось с более ранним «Надгробным словом Генриетте-Марии Французской».
Надгробное слово Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской, произнесенное в Сен-Дени в двадцать первый день августа 1670 года[352]
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!
(Еккл., 1:2).
Монсеньор, [353]
Итак, мне выпал жребий отдать сей погребальный долг величайшей и могущественнейшей принцессе Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской. Ей, столь прилежно внимавшей, когда я отдавал этот долг королеве, ее матери, [354] вскоре предстояло стать предметом похожей речи; и на сие прискорбное служение назначен мой печальный глас. О суета! О ничтожество! О смертные, своей судьбы не ведающие! Думала ли она об этом десять месяцев назад? А вы, господа, предполагали ли вы, когда она проливала здесь слезы, что вскоре соберетесь, дабы оплакивать ее? Принцесса, достойный предмет восхищения двух великих королевств, разве Англия не довольно оплакивала ваше отсутствие, чтобы теперь быть вынужденной лить слезы о вашей кончине? А Франция, с такой радостью узревшая вас в сиянии нового блеска, разве не сулила вам иных торжеств и триумфов, когда вы возвратились из достославного путешествия, принесшего вам столько славы и прекрасных надежд? «Суета сует, — все суета». Это единственное слово, мне остающееся, единственное рассуждение, в столь поразительном происшествии дозволенное горем праведным и чувствительным. Поэтому я не перелистывал священные книги в поисках текста, который бы подходил к принцессе. Без исследования и поиска я взял первые слова, предлагаемые Екклесиастом, в которых говорится о суете, хотя, в моих глазах, недостаточно. В одном несчастье я хочу оплакать все злоключения рода человеческого, в одной смерти заставить увидеть гибель и ничтожество всего человеческого величия. Этот текст, пригодный для всех сословий и для всех дел нашей жизни, особо подходит к моему плачевному предмету: никогда земные суеты не бывали столь зримо явлены и столь громко изобличены. Нет, после увиденного нами здоровье — пустой звук, жизнь — не более чем сон, слава — видимость, а милости и удовольствия — опасные развлечения; все в нас суетно, за исключением искренней исповеди перед Господом в своей суетности и решения презирать свою сущность.
Но истинно ли я говорю? Неужто человек, созданный Господом по собственному подобию, — не более чем тень? Неужто то, что искал Иисус Христос, сойдя с небес на землю, и что считал возможным, не запятнав себя, искупить ценой собственной крови, — ничто? Признаемся в заблуждении. Без сомнения, печальное зрелище человеческой суетности сбило нас с пути, а надежды, внезапно оборванные кончиной принцессы, толкнули на крайности. Не следует дозволять человеку презирать себя целиком, из страха, что вместе с безбожниками он посчитает жизнь всего лишь игрой, где царствует случай, и, без разбора и без проводника, пустится вслед за слепыми желаниями. Именно потому Екклесиаст, начав свой божественный труд с процитированных мной слов и испещрив каждую страницу презрением к вещам человеческим, желает указать людям на нечто более надежное и заключает свою речь такими словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл., 12:13–14). Так, в человеке все суетно, если взглянуть на то, что он дает миру; но, напротив, все важно, если мы задумаемся над его долгом Богу. Скажем еще: в человеке все суетно, если взглянуть на ход его земной жизни, но все ценно, все важно, если мы поразмыслим над пределом, к которому она ведет, и отчетом, который там предстоит дать. Подумаем сегодня, глядя на сей алтарь и на сию гробницу, над первыми и последними словами Екклесиаста, одно из которых показывает ничтожество человека, а другое возвещает о его величии. Пусть гробница сия убеждает нас в нашем ничтожестве, но пусть сей алтарь, на котором за нас всякий день свершается столь драгоценная жертва, научит нас нашему достоинству. Оплакиваемая нами принцесса будет верным подтверждением и того, и другого. Взглянем же на то, что похитила у нее внезапная кончина, взглянем на то, что принесла ей святая смерть. И мы научимся презирать то, что она без труда оставила, чтобы почтительно приникнуть к тому, что она приняла с таким пылом, когда ее душа, очищенная от всех земных чувств и полная небес, к которым уже прикасалась, узрела свет. Вот истины, о которых я намереваюсь рассуждать, показавшиеся мне достойными быть предложенными столь великому принцу и этому блистательнейшему в мире собранию.
«Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать» (2 Царств, 14:14), — молвит женщина, чью мудрость хвалит Писание во второй Книге Царств. И правда, мы все похожи на утекающую воду. Какими бы гордыми отличиями ни льстили себе люди, их исток един, и этот исток мал. Их годы набегают, как волны, и беспрестанно утекают; и вот, произведя чуть больше шума или забежав чуть дальше, все мешаются в бездне, где не отличить ни принцев, ни королей, ни других гордых наименований, которые выделяют людей, — так прославленные реки утрачивают имя и славу, впадая в океан вместе с неизвестными речушками.
Но согласимся, господа, если что-то способно поднять людей над их природной слабостью, если, несмотря на общий для всех исток, можно провести прочное и основательное различие меж теми, кого Господь создал из одного праха, то в мире было не найти никого более выдающегося, нежели та, о которой я веду речь. Все, что способно возвысить принцессу — не только рождение и фортуна, но и величие духа, — было собрано в Мадам, а затем уничтожено. С какой стороны ни прослеживать ее славное происхождение, везде я нахожу одних королей, и мой взор ослеплен блеском высочайших корон. Я вижу королевский дом Франции, вне всяких сравнений, величайший во всем мире, которому без зависти уступают первенство могущественнейшие дома, стремясь извлечь свою славу из этого источника. Я вижу королей Шотландии, королей Англии, которые на протяжении веков правили одним из воинственнейших народов мира, и основанием их власти была более отвага, нежели почтение к скипетру. Но у этой принцессы, рожденной для трона, ум и сердце были выше ее происхождения. Несчастья ее дома не смогли сломить ее в ранней юности, и с тех пор мы зрели в ней величие, ничем фортуне не обязанное. Скажем с радостью, что небо каким-то чудом вырвало ее из рук врагов короля, ее отца, чтобы подарить Франции:[355] дар драгоценный, неоценимый, когда бы обладание им было более долгим! Но почему память об этом прерывает мою речь? Увы! Стоит нам остановить взор на славе принцессы, как тут же все омрачается тенью смерти. О смерть, уйди из наших мыслей, дай нам ненадолго обмануть горе воспоминаниями о радости! Вспомните, господа, какое восхищение вызывала английская принцесса при дворе. Ваша память лучше представит вам ее черты и несравненную мягкость, чем могут сделать мои слова. Она росла, осыпаемая благословениями народов, и годы приносили ей лишь новую прелесть. Королева, ее мать, чьим утешением она всегда была, любила ее так же нежно, как Анна Испанская.[356] Как вам известно, господа, Анна считала принцессу достойной всего самого высокого. И, наделив нас королевой, набожностью и прочими королевскими добродетелями не уступающей репутации своей блистательной тетки, [357] она пожелала соединить в своей семье все самое высокое и видеть Филиппа Французского, своего младшего сына, супругом принцессы Генриетты. Хотя король Англии, чье сердце столь же велико, как и мудрость, знал, что его сестра, к которой сваталось множество королей, могла почтить собою трон, он с радостью дозволил ей занять второе место во Франции, ибо, в силу достоинств этого великого королевства, оно равно первым местам прочих стран мира.
Но если ее выделял сан, не меньше оснований сказать, что еще больше ее выделяли достоинства. Я мог бы вам поведать о том, как она разбиралась в произведениях ума: понравившиеся ей считались достигшими совершенства. Я мог бы добавить, что самые мудрые и опытные восхищались ее живым и проницательным умом, без труда охватывавшим величайшие предприятия и с легкостью проникавшим в самые потаенные интересы. Но к чему долго говорить о том, что можно выразить одним словом? Король, чье суждение — надежнейшее мерило, уважал таланты принцессы и тем вознес ее выше всех наших похвал.
Меж тем ни это уважение, ни великие преимущества были не в силах нанести урон ее скромности. Будучи просвещенной, она не кичилась своими знаниями и не была ослеплена светом собственного ума. Засвидетельствуйте мои слова, о вы, кого эта великая принцесса почтила своим доверием. Можно ли было встретить ум более возвышенный? И притом более послушный? Многие, из страха показаться слишком уступчивыми, не склоняются перед разумом и ожесточаются против него. Мадам была далека как от самомнения, так и от слабости, и в равной степени заслуживала уважения тем, что была способна и давать мудрые советы, и их принимать. Мудрый совет легко распознать, если всерьез предаваться столь милому принцессе занятию — занятию новому, почти незнакомому особам ее возраста и положения. Она изучала свои недостатки, и ей нравилось, когда ее искренне наставляли, — безусловный признак сильной души, которая не становится рабой своих заблуждений и не боится рассматривать их вблизи, втайне полагаясь на ощущаемую ею способность их преодолеть. Именно намерение продвинуться в этом постижении мудрости приохотило ее к чтению истории, которую не зря именуют мудрой советчицей властителей. Там величайшие короли получают лишь тот ранг, какого заслуживают их добродетели; там, рукой смерти лишенные своего положения, без двора и свиты, предстают они перед судом народов и веков. Там обнаруживается, что создаваемый лестью блеск наружен и что поддельные прикрасы, как бы тщательно их ни наносили, долго не удерживаются. И там наша восхитительная принцесса постигала долг тех, чьи жизни составляют историю, постепенно утрачивая вкус к романам и к их бесцветным героям; стремясь учиться на правдивых примерах, она презрела эти тщетные и опасные выдумки. Так, под цветущим видом, под этим юным обликом, который, казалось, сулил одни забавы, она скрывала серьезность и рассудительность, удивлявшую тех, кто с ней беседовал о делах.
Поэтому ей можно было без опасения доверить величайшие тайны. Прочь от дел и общества людей, души бессильные, лишенные веры, не умеющие удержать свой нескромный язык! Мудрец говорит: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» (Притч., 25:28), [358] оказывающийся во власти первого встречного. Сколь выше подобной слабости была Мадам! Ни неожиданность, ни интерес, ни тщеславие, ни прельщение тонкой лести или тихой беседы, когда сердце, изливаясь, случайно выдает секрет, не могли понудить ее нарушить тайну; и эта надежность, обретавшаяся в принцессе, чей ум был столь пригоден для великих дел, побуждала доверять ей важнейшие тайны.
Не думайте, что, дерзкий толкователь государственных тайн, я собираюсь рассуждать о ее поездке в Англию или уподоблюсь этим умозрительным политикам, которые, следуя за собственными идеями, изображают Советы королей и, не имея ни малейших знаний, пишут хроники своего времени.[359] Об этом славном путешествии я скажу лишь, что оно принесло Мадам еще большее восхищение. Все с восторгом твердили о ее доброте, которая, несмотря на обычные для двора распри, склонила к себе все умы. Нельзя отыскать похвалы, достойные той непостижимой ловкости, с которой она обращалась с делами самыми деликатными, излечивала скрытое недоверие, нередко не позволявшее прийти к согласию, и разрешала споры, примиряя самые противоположные интересы. И можно ли без слез вспомнить знаки уважения и нежности, расточавшиеся ей королем, ее братом? Этот великий король, более чувствительный к достоинству, нежели к крови, без устали дивился великолепным качеством Мадам. О неизлечимая рана! То, что во время этого путешествия было предметом справедливого восхищения, ныне стало для него предметом страдания, не знающего границ. Принцесса, достойнейшая связь между двумя величайшими властителями мира, почему вы были так рано у них похищены? Благодаря заботам Мадам, они знали друг друга: благородные стремления примирят их умы, и бессмертной посредницей меж ними будет добродетель. Но если их союз и не стал менее прочен, все равно нам вечно предстоит оплакивать утрату, которую он понес, лишившись нежнейшего украшения, как и то, что столь дорогая всему миру принцесса сошла в могилу, когда доверие двух столь великих королей вознесло ее на вершину величия и славы.
Величие и слава! Можем ли мы расслышать эти звуки посреди триумфа смерти? Нет, господа, я не могу более терпеть эти громкие слова, которыми людская спесь стремится оглушить себя, дабы не замечать собственного ничтожества. Пора показать, что все смертное, чем бы снаружи оно ни украшалось, дабы казаться великим, по сути не способно возвыситься. Послушайте глубочайшее рассуждение — не философа, что дискутирует в школе, не монаха, что размышляет в монастыре: я хочу устыдить мир с помощью тех, кого мир более всего почитает, тех, кто лучше всего его знает, и, дабы его убедить, я обращусь лишь к восседавшим на троне мудрецам. Как вещал царь-пророк, «вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто перед Тобою» (Псал., 38:6). И это так, христиане: все, что имеет меру, конечно; и все, что рождено для конца, выходит из ничего, чтобы вновь туда погрузиться. Если наше бытие, если наша сущность — ничто, как назвать все то, что мы на нем возводим? Здание окажется не крепче своей основы, а случайности бытия — реальнее самого бытия. Когда естество держит нас в низости, на что способна судьба, дабы нас возвысить? Ищите, вообразите самые приметные различия меж людьми, и вы не найдете ни более явного, ни более ощутимого, нежели то, что возвышает победителя над побежденными, распростертыми у его ног. Меж тем придет черед, и этот триумфатор, кичащийся своими титулами, окажется в руках смерти. Тогда несчастные поверженные призовут к себе горделивого завоевателя, и из глубин их могил раздастся глас, громом разящий всяческое величие: «И ты сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам!» (Исаия, 14:10). Так пусть судьба не пытается извлечь нас из ничтожества и преодолеть низость нашего естества.
Но быть может, ежели не судьба, то свойства нашего духа, великие замыслы и обширные мысли могут отличать нас от других людей. Остерегайтесь тому верить, ибо все наши помыслы, когда они не о Боге, находятся под властью смерти. «Выходит дух его, — говорит царственный пророк, — и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают (все) помышления его» (Псал., 145:4) — а значит, и мысли завоевателей, и мысли политиков, в своих кабинетах лелеявших всеобъемлющие замыслы. Они окружают себя бесконечными предосторожностями, предвидя все, кроме смерти, которая в один миг уносит все их замыслы. Поэтому Екклесиаст — царь Соломон, сын царя Давида (ибо мне радостно показать вам, как на одном и том же троне наследовалась одна доктрина), [360] — именно поэтому, говорю я вам, Екклесиаст, называя заблуждения, которым подвержены сыны человеческие, причисляет к ним и мудрость. «И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался мудрым?“ И сказал я в сердце моем, что и это — суета» (Екклес., 2:15). Ибо есть поддельная мудрость, которая, оставаясь в круге смертных вещей, вместе с ними погребает себя в небытии. А потому я ничем не услужил Мадам, говоря вам о ее прекрасных качествах, восхищавших весь свет и подвигавших ее на высочайшие стремления, до которых дано подняться принцессам. До тех пор, пока я не поведаю вам о том, что воссоединяло ее с Господом, эта блистательная принцесса будет в моей речи лишь величайшим примером, способным убедить честолюбцев, что им не отличиться ни рождением, ни величием, ни умом, ибо смерть, перед которой все равны, во всем имеет над ними столько силы и ее рука столь молниеносна и всевластна, что поражает самые почитаемые головы.
Подумайте, господа, о великих властителях, на которых мы взираем снизу вверх. Меж тем как мы трепещем под их дланью, Господь поражает их, дабы нас предостеречь. Причиной тому возвышение; Он столь мало их щадит, что не страшится пожертвовать ими ради наставления остального человечества. Христиане, не ропщите, если для такого наставления выбор пал на Мадам. Для нее сей жребий не был жесток, ибо, как вы увидите, Господь ее спас, нас наставляя. Нам подобает иметь уверенность в собственном ничтожестве, но, ежели нашим очарованным любовью к миру сердцам потребны внезапные потрясения, это было самым великим и ужасным. О ночь гибельная, ночь страха! Когда внезапно, как громовой удар, повсюду разнеслась молниеносная весть: «Мадам при смерти! Мадам умерла!» — кто из нас не был поражен этим ударом, словно несчастье обрушилось на его собственное семейство? При первом же слухе о нем все устремились в Сен-Клу; все содрогнулись, кроме сердца самой принцессы. Повсюду слышались крики, повсюду были видны страдание, отчаяние и смерть. Король, королева, Месье, весь двор, весь народ, все поражены, все в отчаянии, и кажется, что свершилось слово пророка: «Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки» (Иезек., 7:27).
Но вотще стенали властители и народы, вотще Месье и сам король сжимали Мадам в тесных объятиях. Вслед за святым Амвросием оба могли сказать: «Stringebam brachia, sed jam amiseram quam tenebam» — «Я сжал руки, но уже потерял то, что держал».[361] Принцесса ускользнула от них, и среди нежных объятий могущественнейшая смерть исхитила ее из королевских рук. Как! Ей было суждено погибнуть столь рано? У множества людей эта перемена происходит постепенно, и смерть предуготовляет их к последнему удару Мадам же от утра перешла к вечеру, как трава полевая.[362] Утром она цвела, и вам известно, сколь прелестным цветом, ввечеру мы ее увидели засохшей, и все разящие слова Священного Писания, образно говорящие о непостоянстве всего человеческого, оказались для нее недвусмысленными и буквальными. Увы! Трудясь над ее историей, мы видели лишь все самое славное, что только подвластно воображению. Порукой будущему служили прошлое и настоящее, а ее высокие качества оправдывали самые смелые ожидания. Своей приятностью она только что покорила два могущественнейших королевства: всегда мягка, всегда спокойна, великодушна и щедра, в ее влиянии не было ничего ненавистного; она не стремилась к славе с нетерпеливым и поспешным пылом, но ожидала ее спокойно, словно имела в ней уверенье. Привязанность к королю, которой она осталась верна до самой смерти, была тому залогом. И правда, се — счастье наших дней, что уважение может сопутствовать долгу, а преданность особе и достоинствам властителя не уступает преклонению перед воплощенными в нем величием и могуществом. Не менее крепка была ее привязанность и к другому долгу. Она безгранично и страстно желала славы Месье. Когда этот великий принц шествовал по стопам своего непобедимого брата, во время фландрской кампании с отвагой и успехом поддерживая его великие и героические замыслы, радости принцессы не было предела. С этими великодушными устремлениями шла она к славе самым прекрасным в мире путем, и если ее счастье оставалось неполным, то она бы всего достигла мягкостью и своим образом действий. Такова радостная история, которую мы писали для Мадам; для завершения этого благородного замысла недоставало лишь долгой жизни, но об этом, казалось, можно было не тревожиться. Кто мог подумать, что юности, на вид исполненной жизни, не хватит лет? Но именно тут все рухнуло в один миг. Вместо истории прекрасной жизни нам приходится описывать достойную восхищения, но печальную смерть. Воистину, господа, ничто не сравнится с душевной твердостью, с этой спокойной отвагой, без усилий, по своему естественному расположению оказавшейся выше самых грозных обстоятельств. Как и со всем миром, Мадам была мягка даже со смертью. Это великодушное сердце не ожесточилось и не восстало против нее. Она не пыталась гордо ей противостоять, довольствуясь тем, что взирала на нее без волнения и приняла без растерянности. Грустное утешение, ибо, несмотря на это великое мужество, мы ее потеряли! Велика суетность всего человеческого. Когда мы последним усилием мужества, казалось, преодолеваем смерть, она гасит в нас и эту отвагу, которая бросала ей вызов. И вот, несмотря на всю доблесть, эта принцесса, которой мы так восхищались и дорожили! Вот какой ее сделала смерть; но и эти останки скоро исчезнут, и эта тень славы рассеется, и мы увидим ее лишенной даже сих печальных украшений. Она спустится в места мрачные, в подземные жилища, чтобы, как говорит Иов, лежать там во прахе с великими сей земли, меж минувших королей и принцев, где ей едва отыскалось место, столь плотны их ряды, быстро пополняемые смертью! Но наше воображение вновь вводит нас в заблуждение. Ибо смерть не оставляет нам довольно тела, которое могло бы занимать место; мы видим лишь гробы, влекущие наш взор. Наша плоть вскоре изменяет природу. Наше тело обретает иное имя, но, говорит Тертуллиан, даже трупом оно зовется недолго, пока сохраняет человеческое обличие, а затем становится чем-то не имеющим имени ни на одном языке;[363] воистину, в нем умирает все, вплоть до поминальных слов, которыми обозначают несчастные останки!
Так божественная сила в праведном гневе на нашу гордыню обращает ее в ничтожество, навеки уравнивая сословия и от всех оставляя лишь прах. Как возводить на этих руинах? Можно ли основывать великий замысел на неминуемых обломках всего человеческого? Неужто, господа, ни в чем нам нет надежды? Низвергая наше величие и обращая его во прах, оставляет ли нам Господь надежду? От очей Его ничто не скрыто, Ему видима каждая частица нашего тела, в какой бы отдаленный край их не занесло тление или случай, так дозволит ли Он бесповоротно погибнуть тем, кого создал способными Его познавать и любить? И тут передо мной предстает новый порядок вещей, смертные тени расточаются: «Ты укажешь мне путь жизни» (Псал., 15:11). Мадам уже не в могиле, смерть, которая, казалось, все разрушила, на самом деле все укрепила: вот в чем загадка Екклесиаста, на которую я указал вам в начале и суть которой теперь следует раскрыть.
Итак, христиане, следует полагать, что помимо телесной связи с природой изменчивой и смертной, мы пребываем в тесной близости и тайном сродстве с Господом, ибо Он вложил в нас нечто, способное исповедовать истину Его существования, преклоняться перед Его совершенством и восхищаться Его полнотой; нечто, способное склониться перед Его высшей властью, предаться Его высокой и непостижимой мудрости, довериться Его доброте, страшиться Его правосудия и уповать на Его вечность. И когда, господа, человек верит, что в нем есть нечто высокое, то в этом смысле он не заблуждается. Ибо необходимо, чтобы каждая вещь возвращалась к своему исходу, поэтому Екклесиаст говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был» (Еккл., 12:7); продолжим это рассуждение: все в нас, что имеет божественную отметину и способно воссоединиться с Господом, должно быть Им призвано. Но разве то, чему предназначено возвратиться к Господу, который есть изначальное и сущностное величие, не должно быть великим и возвышенным? Вот почему я говорил вам, что наши величие и слава — напыщенные слова, лишенные смысла и содержания, этим подразумевая дурное применение, которые мы им даем. На самом деле эти великолепные названия были измышлены отнюдь не заблуждением или тщеславием; напротив, мы бы их не обрели, не будь в нас их запаса, ибо откуда у ничтожеств столь благородные помыслы? Ошибка не в нашем использовании этих слов, а в их применении к недостойным предметам. Святой Хризостом познал эту истину, молвив: «Слава, богатство, благородство, могущество для людей сего мира пребудут словами; для нас, когда мы служим Господу, они подлинны. Напротив, нищета, стыд, смерть для них подлинны, а для нас — не более чем слова»;[364] ибо тот, кто предан Господу, не утратит ни благ, ни чести, ни жизни. Не будем же удивляться, когда Екклесиаст твердит: «Все суета», ибо он поясняет: «под солнцем» (Еккл., 1:2; 1:14), то есть суета — все, что измеряется годами и уносится стремительным временем. Стремитесь по ту сторону времени и изменчивости, взыскуйте вечности, и не будете рабами суеты. Не удивляйтесь, если Екклесиаст презирает в нас все, вплоть до мудрости, и не находит ничего лучшего, чем в покое наслаждаться плодами своих трудов.[365] Мудрость, о которой он здесь говорит, — мудрость бессмысленная, изобретательно себя мучающая, ловкая в самообмане, развращающаяся в настоящем и сбивающаяся с пути истинного в будущем, многоглаголаньем и великими потугами попусту себя растрачивающая, собирая лишь то, что уносит ветер. Как восклицает царь-мудрец, «и это — суета!» (Еккл., 2:19). И разве не прав он, предпочитая заботам и горестям скупцов и беспокойным мечтам честолюбцев сладость частной жизни, тихо и невинно вкушающей малую толику благ, отпущенных нам природой? «Но и это, — вещает он, — суета!» (Еккл., 2:1), ибо все омрачает и уносит смерть. Так не препятствуйте его презрению ко всем состояниям этой жизни, ибо в какую сторону мы ни обращаемся, повсюду оказываемся перед лицом смерти, омрачающей самые светлые наши дни. Пусть он уравнивает мудреца и безумца; я даже не побоюсь провозгласить с этой кафедры, пускай он уподобляет человека скоту: «Участь сынов человеческих и животных — участь одна» (Еккл., 3:19). Воистину, пока мы не обрели истинную мудрость, пока мы взираем на человека лишь глазами плоти, не угадывая в нем тайный принцип всех наших действий, который, будучи способен воссоединиться с Господом, должен непременно к Нему вернуться, что видим мы в жизни, помимо бессмысленных тревог? И что видим мы в смерти, помимо исчезающих испарений, иссякающих гуморов, разлаженных и испорченных пружин, и, наконец, разрушающейся и распадающейся на куски машины? Истомившись этими суетностями, обратимся же к тому, что в нас поистине велико и надежно. Мудрец указывает на это в последних словах книги Екклесиаста, Мадам же недавно показала последними действиями своей жизни. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Еккл., 12:13). Он как будто говорит: не думайте, я презираю не самого человека, но мнения, но заблуждения, через которые заблуждающийся себя бесчестит. Хотите знать, что есть человек? Его долг, его назначение, его природа в том, чтобы бояться Бога; я говорю, что все остальное — суета, но этот остаток не есть человек. Вот что истинно и надежно и что не сможет отнять смерть, ибо, добавляет Екклесиаст, «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» (Еккл., 12:14). Теперь нам легко свести все воедино. Псалмопевец речет о смерти: «В тот день исчезают (все) помышления его» (Псал., 145:4), — да, те, что были увлечены миром, чей образ проходит и расточается.[366] Ибо хотя наш дух по своей природе живет вечно, со смертью он оставляет все, что отдавал смертным вещам, так что наши мысли, нерушимые по своему принципу, оказываются тленны по своему предмету. Вы хотите уберечь что-нибудь среди этих неизбежных, всеобщих руин? Отдайте свою любовь Господу: никакая сила не лишит вас того, что вы отдали в Его божественные длани. Вы сможете смело презирать смерть, как наша христианская героиня. Но, дабы извлечь все назидания, которые способен нам дать столь прекрасный образец, рассмотрим, какими путями вел ее Господь, и в ее лице преклонимся перед таинством предназначения и благодати.
Вам ведомо, что вся христианская жизнь, весь труд спасения есть нескончаемая череда милосердных деяний; верный истолкователь таинств благодати — я имею в виду великого Августина — учит нас истинной и надежной теологии, согласно которой благодать являет себя в первой и в последней благодати; иными словами, в нашем призвании, к которому мы еще непричастны, и в последней стойкости, нас венчающей, бескорыстно и чисто проявляется доброта, нас спасающая. Воистину, наше состояние меняется дважды, сперва когда мы переходим от мрака к свету, а затем — от несовершенного света веры к окончательному сиянию святой славы; на веру нас вдохновляет призвание, стойкость веры ведет к святой славе, для того в начале каждого из этих двух состояний божественная доброта проявляется столь блистательно и ярко, дабы мы исповедовали, что все существование христианина — и когда он надеется, и когда он вкушает блаженство, — есть чудо благодати. Как эти два главных явления благодати зримо сказались в тех чудесах, которые Господь сотворил ради вечного спасения Генриетты Английской! Дабы предать ее истинной Церкви, необходимо было падение великого королевства. Величие дома, из которого она происходила, должно было тем крепче привязать ее к сектантству предков — или, оговоримся, последних в череде ее предков, ибо все, кто им предшествовал, начиная с самых древних времен, были благочестивейшими католиками. Но раз законы королевства были врагами ее вечного спасения, Господь потряс государство и освободил ее от них. Так Он ценит души, что потрясает небо и землю, дабы дать родиться праведникам; никто не может быть Ему дороже сих вечно любимых чад, неотделимых членов его возлюбленного Сына, и Он ничего не жалеет ради их спасения. Наша принцесса была гонима еще до рождения, покинута в момент появления на свет; чуть родившись, она была оторвана от благочестия матери-католички; от колыбели пленница непримиримых недругов ее дома и, что еще более прискорбно, врагов Церкви, она, сперва своим славным происхождением, а затем несчастным пленением была обречена на ересь и заблуждение. Но печать Господня была на ней, и она могла сказать вслед за пророком: «Отец мой и мать моя оставили меня; но Господь примет меня» (Псал., 26:10). Покинутая от рождения всей землей, «на Тебя оставлен[а] я от утробы; от чрева матери моей Ты Бог мой» (Псал., 21:11). Вот чьей надежной защите вверила мать сей драгоценный залог. И она не обманулась в своем доверии. Два года спустя нежданный поворот событий, подобный чуду, вызволил принцессу из рук бунтовщиков. Наперекор всем бурям океана и не менее грозному возмущению на суше Господь взял ее на крыло, как орел своих птенцов, и Сам перенес ее в это королевство, на грудь королевы-матери, вернее, в лоно католической Церкви. Там она узнала максимы истинного благочестия, не столько из наставлений, которые ей делались, сколько на живом примере этой великой христианской королевы. Она подражала ее набожной щедрости. Ее многочисленные милости прежде всего изливались на английских католиков, чьей верной покровительницей она оставалась. Достойная дочь святого Эдварда и святого Людовика, [367] она всей глубиной души прилепилась к вере этих великих королей. Как выразить сжигавшее ее рвение о восстановлении сей веры в английском королевстве, еще сохраняющем множество ее драгоценных памятников? Нам ведомо, что она не побоялась бы подвергнуть свою жизнь опасности во имя столь благочестивой цели, — но Небо у нас ее похитило! Господи, что нам уготовано Твоим вечным провидением? Дозволишь ли, о Боже мой, с трепетом предположить Твои святые и грозные решения? Значит ли это, что времена смут еще не завершены? Что преступление — отказ от Твоих святых истин во имя несчастных страстей — все еще перед Твоим взором и недостаточно наказано более чем вековым ослеплением? Не потому ли же Ты исхитил ее у нас, почему укоротил дни королевы Марии и ее правление, для Церкви столь благое?[368] Или Ты желаешь побеждать один? И, лишая нас средств, льстящих нашим желаниям, оставляешь за собой, в сроки, определенные Твоим извечным предназначением, тайное возвращение государства и английского дома? Как бы то ни было, о великий Боже, прими сегодня его блаженное начало в лице этой принцессы. Да последуют ее дом и все королевство примеру ее веры! Великий король, чьи добродетели украшают престол его предков и каждодневно заставляют нас восхвалять божественную десницу, почти чудом его туда вернувшую, не осудит наше рвение, если мы будем просить Господа, чтобы он и его народ стали подобны нам. «Молил бы я Бога, чтобы много ли, мало ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я» (Деян., 26:29). Это пожелание предназначено властителям; святой Павел, в оковах, первым высказал его царю Агриппе, но прибавил: «кроме этих уз». А мы — мы желаем, чтобы Англия, слишком вольная в своих верованиях, слишком распущенная в своих чувствах, была бы, как мы, скована блаженными оковами, препятствующими людской гордыне заблуждаться в своих мыслях, подчиняя ее власти Духа Святого и Церкви.
Представив вам первое действие благодати Господа нашего Иисуса Христа, мне остается призвать вас, господа, задуматься над последним, венчавшим все прочие. Силой благодати смерть для христиан меняет свою природу, ибо, казалось бы, призванная всего лишить, она, как говорит апостол, облекает нас в небесное и сулит вечное обладание истинными благами.[369] Пока мы заключены в эту смертную обитель, наше существование подчинено переменам, ибо таков закон сей юдоли; у нас нет ничего, даже в порядке благодати, чего бы мы не могли утратить в следующий миг из-за естественной изменчивости наших желаний. Но как только для нас перестают идти часы, отмеряя дни и годы нашей жизни, мы, покинув исчезающие видимости и рассеивающиеся тени, вступаем в царство истины, освобождающее нас от ига перемен. Нашей душе более не угрожает опасность, наша решительность не знает колебаний — смерть, вернее, благодать последней стойкости имела силу их укрепить; и как завет Господа нашего Иисуса Христа, отдавшего себя нам, навеки скреплен, по праву заветов и апостольского учения, [370] смертью божественного завещателя, так и со смертью верующего этот блаженный завет, согласно которому мы, со своей стороны, предаемся Спасителю, становится нерасторжимым. А потому, господа, когда я вновь представлю вам Мадам в схватке со смертью, не страшитесь за нее: сколь жестокой не казалась смерть, на сей раз она лишь завершает труд благодати и скрепляет извечное предназначение принцессы. Взглянем же на эту последнюю схватку, но на сей раз будем крепки. Не будем подмешивать слабость к отважнейшему подвигу и бесчестить слезами прекраснейшую победу. Хотите узреть, сколь могуча была благодать, даровавшая Мадам победу? — Взгляните, как ужасна оказалась ее смерть. Какой чувствительный удар для принцессы, которой было что терять. Скольких лет она лишила эту младость! Сколько радости исхитила у судьбы! Сколькой славы лишила эти достоинства! И разве могла бы она явиться более скорой и жестокой? Как будто она собрала все силы, объединила все, что в ней есть самого грозного, и добавила к этому живейшие страдания, причиняемые нежданностью нападения. Но хотя, без угроз и предупреждений, она заставила почувствовать себя с первого удара, она не застигла принцессу врасплох. Благодать, еще более быстрая, ее предупредила. Слава и молодость не исторгли у Мадам ни единого вздоха. Бесконечное сокрушение о своих грехах не оставило ей иных сожалений. Она попросила распятие, с которым она видела, как умирала королева, ее свекровь, словно надеясь почерпнуть стойкости и благочестия, которые сия поистине христианская душа оставила там вместе с последним вздохом. При виде этого великого знамения не ждите от принцессы надуманных и пышных речей: святая простота заменяет величие. Она вскричала: «Боже мой, почему не всегда я на Тебя полагалась?» Она сокрушается, ободряется, исповедуется, и все это с чувством глубочайшей боли, что лишь сегодня начинает узнавать Господа, именуя незнанием малейшее внимание к миру. Сколь выше явилась она всех тех трусливых христиан, которые считают, что исповедью приблизят свою кончину, и которых приходится соборовать силой: сколь достойны они осуждения, с отвращением причащаясь к сему таинству веры! Мадам позвала священников до врачей. Она сама потребовала священных таинств Церкви — покаяния с сокрушением, причастия со страхом и с верой, соборования с благочестивой поспешностью. Отнюдь не испытывая ужаса перед последним, она хотела исполнить его с пониманием: она внимала объяснениям святых обрядов и апостолических молитв, которые, подобно неким божественным чарам, утишают сильнейшие страдания и (я сам это неоднократно видел) заставляют позабыть о смерти тех, кто им внимает со всей верой: она за ними следила, им вторила, и спокойно подставила тело священному помазанию, точнее — крови Иисуса, которая струится в сей драгоценной жидкости. Не думайте, что чрезмерные, непереносимые страдания хоть сколько смутили ее душу. Я более не хочу восхищаться храбрецами и завоевателями! Мадам показала мне истинность слов Мудреца: «Долготерпивый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города» (Притч., 16:32). Как она владела собой! С каким спокойствием исполнила все, что подобало! Мысленно припомните, что она сказала Месье. Какая сила! Какая нежность! Слова, проистекавшие от полноты сердца, чувствующего себя над всем возвысившимся, слова, освященные присутствием смерти, и еще более присутствием Господа, искреннее порождение души, которая, вблизи от Небес, в долгу перед землей лишь истиной, вы будете вечно жить в памяти людей, но особенно в сердце этого великого принца. Мадам была более не способна сопротивляться слезам, которые он перед ней проливал. Непоколебимая во всем прочем, здесь она не могла не уступить. Она попросила Месье удалиться, ибо хотела ощущать нежность лишь к распятому Господу нашему, протягивавшему к ней руки. Что мы тогда узрели? Чему тогда внимали? Она подчинилась велениям Господа: она принесла Ему свои страдания как искупление заблуждений, громко исповедовала католическую веру и воскресение из мертвых, это драгоценнейшее утешение для всех умирающих с верой. Она воодушевляла рвение тех, кого призвала, дабы они воодушевляли ее, и не хотела, чтобы они на мгновение прекращали беседовать с ней о христианских истинах. Многократно она желала быть омытой кровью Агнца: этому новому языку научила ее благодать. Мы не увидели в ней ни хвастовства, которым стремятся обмануть других, ни движений испуганной души, которые обманывают ее самое. Все было просто, надежно и спокойно; все исходило из души покорной и из источника, освященного Святым Духом.
В таком положении вещей о чем, господа, могли мы просить Господа для принцессы, как не укрепить ее во благе и сохранить в ней все дары благодати? Эту нашу молитву Господь исполнил, но, как говорит святой Августин, отвечая на наши моления, Он нередко обманывает наше предвидение к лучшему. Принцесса укрепилась во благе гораздо более высоком, нежели мы ей желали. И, не желая более подвергать иллюзиям этого мира чувство столь искренней набожности, Господь, как говорит Мудрец, «ускорил» душу. Воистину, какое поспешание! За девять часов труд был свершен. «Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия» (Премудр., 4:14). Вот, восклицает святой Амвросий, в чем для христиан чудо смерти: на ней их жизнь не заканчивается, заканчиваются лишь грехи и опасности, которым они подвергались. Мы сетовали, что смерть, враждебная тем плодам, которых мы ожидали от принцессы, погубила их в самом цвету, что она, если можно так сказать, уничтожила еще не дописанную картину, которая невероятно быстро приближалась к совершенству и чье величие можно было видеть уже по одному наброску. Но изменим теперь язык и не будем более говорить, что смерть внезапно оборвала ход прекраснейшей жизни и столь благородно начавшейся истории; скажем, что она положила конец опаснейшим искушениям, которые только могут окружать душу христианина. Даже не вдаваясь в бесчисленные соблазны, на каждом шагу подстерегающие человеческую слабость, как опасна была для принцессы ее собственная слава! Слава! Есть ли что-нибудь более пагубное для христианина, более смертельное? Приманка более коварная? Дурман, более способный кружить лучшие головы? Возьмите принцессу, представьте себе этот дух, который, проявляясь во всем ее облике, делал ее столь прелестной: сплошные ум и доброта. С достоинством приветливая со всеми, она умела выказать уважение одним, не раздражая других, и, хотя заслуги были отличены, слабость не чувствовала себя презираемой. Когда с ней говорили о делах, казалось, что она не напоминала о своем ранге, дабы иметь опору лишь в собственном уме. Ее собеседник почти забывал, что говорит со столь высокой особой, в глубине сердца ощущая желание сторицей воздать ей за величие, от которого она столь любезно отказывалась. Верная своему слову, неспособная на притворство, преданная друзьям — сияние и прямота ее ума уберегали их от тщетных подозрений и заставляли бояться лишь собственных промахов. Всегда благодарная за службу, она любила предотвращать упреки своей добротой: она их живо чувствовала и легко прощала. Что сказать о ее щедрости? Она раздавала не только с радостью, но с душевной гордостью, которая одновременно показывала и презрение к дару, и уважение к человеку. Она умножала ценность своих даяний порой трогательными словами, порой молчанием, и это искусство быть отрадным дарителем, в котором она столь успешно упражнялась в жизни, не оставило ее даже в объятьях смерти. Кто мог отказать в восхищении стольким великим и приятным качествам? С ее влиянием, с ее могуществом, кто не хотел бы ей принадлежать? Разве она не завоевывала все сердца — единственное завоевание для тех, кому судьба и рождение, казалось, дали все? Но для христианина такое возвышение — ужасная пропасть, и разве я не могу сказать, воспользовавшись метким словом самого серьезного историка, что «ей предстояло низвергнуться в славу»? Ибо существовало ли создание более подходящее для того, чтобы стать кумиром всего света? Но эти кумиры, которым поклоняется мир, каким только изощренным соблазнам они не подвергаются! Правда, слава оберегает их от иных слабостей, но может ли она защитить от самой себя? Разве сами они не преклоняются перед собой, не стремятся быть предметом всеобщего поклонения? Разве им не следует опасаться себялюбия? И кто сможет отказаться от человеческих слабостей, когда мир дозволяет им все? Не так ли учатся пользоваться добродетелью, религией, именем Господа — ради честолюбия, величия, политики? Умеренность, которую выставляет напоказ мир, не подавляет порывов тщеславия, но только их скрывает; чем больше он занят внешними приличиями, тем больше оставляет сердце на откуп самому изощренному и опасному чувству ложной славы. Тогда считаются лишь с собой и в глубине сердца твердят: «Я, и никто кроме меня» (Исаия, 47:10). И тогда, господа, разве жизнь — не опасность? Разве смерть тогда — не милость? Что нам ожидать от своих пороков, если наши добрые качества столь опасны? И разве это не дар Божий, что Он укоротил соблазны и дни Мадам, оторвав ее от славы, до того, как избыток этой славы подверг бы риску ее воздержанность? Разве важно, что жизнь ее была коротка? Ведь конечное не может быть долгим. И, даже не считая ее регулярных исповедей, ее частых бесед о божественных предметах, ее усердной набожности в последние годы жизни, те несколько часов, проведенные самым святым образом меж жесточайших испытаний и исполненные чистейших христианских чувств, заменяют преклонный возраст. Я признаю: времени было мало, но действие благодати сильно, а преданность души — совершенна. Суметь уменьшить великое произведение до малых размеров — дело опытного художника, и благодать, превосходная мастерица, порой в один день достигает превосходства долгой жизни. Мне ведомо, что Господь не желает, чтобы мы ожидали таких чудес, но, если неразумная дерзость людей испытывает Его терпение, длань Его все так же длинна и могуча. С Мадам я полагаюсь на Его милосердие, о котором она так искренне и смиренно просила. Господь до последнего сохранил ей незамутненное суждение, кажется, затем, чтобы умножить доказательства ее веры. Она умирала с любовью к Спасителю нашему Иисусу, и руки отказали ей прежде, нежели страстное желание держать распятие; я видел, как ее слабеющая рука, соскальзывая, пыталась найти в себе новые силы, чтобы прижать к губам это блаженное знамение нашего искупления: разве это не значит умереть в объятиях и в поцелуе Господа? Мы можем завершить сие священнодействие по упокоению Мадам с набожным доверием. Иисус, на которого была ее надежда, чей крест она своими жестокими мучениями пронесла в собственном теле, еще помажет ее своей кровью, которой она уже омыта и пропитана, ибо она участвует в его таинствах и причастна к его страданиям.
Но, молясь о ее душе, христиане, подумаем и о нас самих. Чего мы ждем, чтоб обратиться? Какая черствость сравнится с нашей, если столь поразительное несчастье, которое должно было пронзить нас до глубины души, всего лишь на несколько моментов нас оглушило? Дожидаемся ли мы, чтобы Господь воскрешал мертвых нам в назидание? Нет нужды, чтобы мертвые возвращались и вставали из могилы: для нашего обращения должно быть довольно той, что сегодня туда спускается. Ибо, христиане, если бы мы могли знать самих себя, то признали бы, что истины вечности незыблемы, а то, что мы им противопоставляем, — неубедительно: мы осмеливаемся их опровергать не разумом, а страстью. И если что-то мешает этим святым и спасительным истинам нами править, так это наша преданность миру, очарованность чувствами, увлеченность настоящим. Какое еще зрелище нужно, чтобы разувериться в чувствах, в настоящем, в мире? Могло ли Божественное Провидение более зримо и сильно явить нам тщету всего человеческого? И если наши сердца пребудут в очерствении и после столь чувствительного предупреждения, Ему остается без всякого милосердия поразить нас самих. Предупредим же столь грозный удар, не будем ожидать чудес благодати. Нет ничего более противного верховной власти, чем стремление принудить ее силою примеров и возвести ее милости в ранг законов. Что же, христиане, может помешать нам немедленно им вдохновиться? Как! Неужто очарование чувств так крепко, что мы не способны ничего предвидеть? Обожатели человеческого величия, разве будут они довольны судьбой, когда увидят, что их слава разом переходит к имени, гербы — к надгробиям, достояние — к неблагодарным, а должности — порой к завистникам? И если мы твердо знаем, что настанет последний день, когда смерть принудит нас исповедоваться во всех наших заблуждениях, почему бы с полным сознанием не презирать то, что однажды мы будем вынуждены презреть насильственно? Каково же наше ослепление, если, постоянно приближаясь к концу и скорее умирая, чем живя, мы ожидаем последнего издыхания, дабы проникнуться чувствами, которые в каждый миг нашей жизни должна вызывать в нас одна мысль о смерти? Начните же с сего дня презирать блага этого мира и, всякий раз бывая в этих величественных местах, в этих великолепных дворцах, которым Мадам придавала блеск, все еще взыскуемый вашими очами, всякий раз взирая на почетную должность, которой она столь подходила, и ощущая, как вам ее недостает, думайте: эта слава, которой вы восхищались, в этой жизни была для нее угрозой, а в другой — стала предметом строжайшего рассмотрения, в котором опорой ей служит лишь искренняя покорность велениям Господа и святое уничижение покаяния.
Список иллюстраций
Обложка. Неизвестный художник. «Слух» (по одноименной гравюре Авраама Босса из серии «Пять чувств»).
С. 105. Авраам Босс. «Визит к роженице» (из серии «Городская свадьба»). 1633.
С. 162. Неизвестный художник. Портрет Маргариты и Катрин д’Анженн (из замка Роже де Бюсси-Рабютена).
С. 206. Клод Лефевр. Портрет маркизы де Севинье.
С. 251. Франсуа Шово. Карта страны Нежности. 1654.
С. 286. Авраам Босс. «Заключение брачного договора» (из серии «Городская свадьба»). 1633.
С. 369. Авраам Босс. «Клистир» (из серии «Ремесла»). 1632–1633.
Источники
Верджерио П. П. О благородных нравах и свободных науках / Пер. с итал. Н. В. Ревякиной // Образ человека в зеркале гуманизма: Мыслители и педагоги Возрождения о формировании личности (XIV–XVIII вв.). М.: Изд-во УРАО, 1999.
Гамильтон А. Мемуары графа де Грамона / Пер. с фр. М. Архангельской. М.: Московский рабочий, 1993.
Декарт Р. Рассуждение о методе / Пер. с фр. Г. С. Тымянского // Декарт Р. Разыскание истины. СПб.: Азбука, 2000.
Кастильоне Б. Придворный / Пер. с итал. О. Ф. Кудрявцева // Сочинения великих итальянцев XVI в. / Сост. Л. М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2002.
Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Пер. Ю. Корнеева, Э. Линецкой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де Сент-Дени де. Избранные беседы. Вовенарг Л. де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С. Максимы и мысли / Сост., вступ. статья и примеч. М. С. Неклюдовой. М.: НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2004.
Ларошфуко Ф. де. Максимы. Пер. М. С. Неклюдовой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де Сент-Дени де. Избранные беседы. Вовенарг Л. де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С. Максимы и мысли / Сост., вступ. статья и примеч. М. С. Неклюдовой. М.: НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2004.
Ларошфуко Ф. де. Мемуары / Пер. с фр. А. С. Бобовича // Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. Л.: Наука, 1971.
Лафайет М.-М. де. Принцесса Клевская / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург // Лафайет М.-М. де. Сочинения. М.: Ладомир; Наука, 2007.
Макиавелли Н. Государь / Пер. с итал. Г. Д. Муравьевой // Макиавелли Н. Избранные сочинения. М.: Худ. лит., 1982.
Макиавелли Н. Избранные письма / Пер. с итал. Г. Д. Муравьевой // Сочинения великих итальянцев XVI в. / Сост. Л. М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2002.
Мемуары королевы Марго / Пер. И.В. Шевлягиной. М.: Издательство МГУ, 1995.
Монтень М. де. Опыты / Пер. с фр. А. С. Бобовича. М.: Голос, 1992. Т. III.
Поэзия Плеяды / Сост. И. Ю. Подгаецкая. М.: Радуга, 1984.
Рец кардинал де. Мемуары / Пер. с фр. Ю. Я. Яхниной. М.: Ладомир, 1997.
Сен-Симон де Р. де. Мемуары / Пер. с фр. Ю. Б. Корнеева. М.: Прогресс, 1991.
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы / Пер. с фр. М. С. Неклюдовой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де Сент-Дени де. Избранные беседы. Вовенарг Л. де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С. Максимы и мысли / Сост., вступ. статья и примеч. М. С. Неклюдовой. М.: НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2004.
Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона / Пер. с фр. Г. Ярхо. М.: Правда, 1990.
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории / Пер. с фр. А. А. Энгельке. Л.: Наука, 1974.
Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Изд. группа «Прогресс Культура», 1994.
Balzac J.-L. G. de. Œuvres diverses (1644) / Ed. R. Zuber. Paris: Champion, 1995.
Bellegarde J. В. M. de. Modèles de conversations pour les personnes polies / Seconde édition augmentée. Paris: J. Guignard, 1698.
Bossuet. Œuvres / Textes établis par l’abbé Velat et Y. Champailler. Paris: Gallimard, 1961.
Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules / Éd. présentée par R. Duchêne avec collob. de J. Duchêne. Paris: Gallimard, 1993.
Bussy-Rabutin R. de. Mémoires / Nouvelle éd. par L. Lalanne. Т. I. Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1882.
[Castiglione B.] Le Parfait Courtisan du comte Baltasar Castillonois, de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau. Paris, 1585.
Courtin A. de. Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes-gens. Nouvelle edition. Paris: L. Josse et C. Robustel, 1728.
Le Courtisan Parfaict. Enrichi de plusieurs belles & rares lettres. Lettres de Compliments & d'un Bouquet de Marguerites, & Fleurs dʼélite, choisies dans leurs jardin. Finalement multiplié de plusieurs belles & equises Sentences, Propos, Rodomontades Espagnoles & Autres. Amsterdam, 1640.
[Della Casa G.] Galatée, ou L’art de plaire dans la conversation. Paris, 1666.
Dictionnaire de l’Académie françoise dedié au Roy. Paris, 1694.
Faret N. L’Honneste-Homme, ou L’Art de plaire à la Cour. Paris: T. du Bray, 1630.
Fléchier E. Mémoires sur les Grands-Jours d’Auvergne (1665). Paris: Mercure de France, 1984.
Furetière A. Dictionnaire Universel, Contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. Т. III. Rotterdam, 1690.
Furetière A. Le Roman bourgeois // Romanciers du XVIIe siècle / Textes prés. et annotés par A. Adam. Paris: Gallimard, 1958.
Gueret G. La Carte de la Cour. Paris: J. B. Loyson, 1663.
La Fayette M. de. Histoire de Madame Henriette d’Agleterre, suivi de Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689 / Éd. par G. Sigaux. Paris: Mercure de France, 2001.
La Guette C. de. Mémoires de Madame de La Guette, écrits par elle-même. Paris: Mercure de France, 1982.
Mancini H., Mancini M. Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini / Édition présentée et annotée par Gerard Doscot. Paris: Mercure de France, 2003.
Marguerite de Valois. Mémoires et autres écrits de Marguerite de Valois, la reine Margot / Édition présentée et annotée par Yves Cazaux. Paris: Mercure de France, 1971.
Le Mercure galant, contenant plusieurs histoires veritables, et tout ce qui s’est passé depuis le premier Janvier 1672 jusques au Depart du Roy. Paris: Th. Girard, 1672.
Monpensier duchesse de. Portraits littéraires / Présentation et commentaires Ch. Bouyer. Biarritz: Seguier, 2000.
Montpensier madmoiselle de. Mémoires // Nouvelle collection des Mémoires relatifs à l’histoire de France depuis le XIII siècle jusqu’à la fin du XVIII siècle / Par MM. Michaud et Poujoulat. Т. XXVIII. Paris: Didier, 1854.
Ormesson O.L. dʼ. Journal d’Olivier Lefèvre d’Ormesson, et extraits des mémoires d’André Lefèvre d’Ormesson, pub. par M. Chéruel. Т. II: 1661–1672. Paris: Imprimerie impériale, 1862.
Le Perroquet ou les Amours de Mademoiselle // Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules, suivie de La France Galante, romans satiriques du XVIIe siècle attribués au comte de Bussy / Nouvelle édition, précédée d’observations par M. Sainte-Beuve. Т.Н. Paris: Garnier Frères, 1868.
Pontis L. de. Mémoires de Monsieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV / Préfacés et annotés par Robert Laulan. Paris: Mercure de France, 1986.
Saint-Amant. Œuvres completes de Saint-Amant / Nouvelle édition par M. Ch.-L. Livet. T.I. Paris: P. Jannet, 1855.
Saint-Évremond. Œuvres en prose / Textes publiés par Rene Ternois. Paris: Librairie Marcel Didier, 1962.
Saint-Simon. Mémoires. Additions au Journal de Dangeau / Éd. par Yves Coirault. Т. I (1691–1701). Paris: Gallimard, 1983.
[Scudéry M. de.] Clélie, histoire romaine, dediée à Mademoiselle de Longueville. Par Mr. de Scudéry, Gourevreur de Nostre Dame de la Garde. Première partie. T.I. Paris: A. Courbé, 1660.
[Scudéry M. de]. Clélie, histoire romaine, dediée à Mademoiselle de Longueville. Par Mr. de Scudéry, Gouverneur de Nostre Dame de la Garde. Troisième partie. T.II. Paris: A. Courbé, 1657.
Scudéry M. de. Les Conversations sur divers sujets par Mademoiselle de Scudéry. Amsterdam: D. du Fresne, 1682.
Scudéry M. de., Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi, suivies de pièces diverses (1653–1654) / Éd. par A. Niderst, D. Denis et M. Maitre. Paris: Champion, 2002.
Segrais J. de. Œuvres diverses. Amsterdam: F. Changuion, 1723.
Sévigné Madame de. Correspondence. Т. 1 (mars 1646 — juillet 1675). Paris: Gallimard, 1972.
Sévigné M. de. Lettres. Т. II (1676–1684). Paris: Gallimard, 1955.
Tallemant des Réaux. Historiettes / Texte intégral, ét. et an. par A. Adam. Paris: Gallimard, 1967.
[Vaugelas C. F. de]. Remarques sur la langue françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrir. Paris: J. Camusat et P. le Petit, 1647.
Литература
Алябьева Л. Литературная профессия в Англии в XVI–XIX веках. М.: НЛО, 2004.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с фр. В. К. Ронина. М.: Изд. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995.
Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000.
Неклюдова М. «Живая и совершенная книга»: к вопросу об эпистемологическом статусе трактатов о вежестве XVII века // Теория и мифология книги: Французская книга во Франции и в России. М.: РГГУ, 2007. С. 30–44. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 53.)
Старобинский Ж. О Корнеле // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры / Пер с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002.
Стогова А. В. Метаморфозы «нежной дружбы»: к вопросу о создании и восприятии романов в XVII веке // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2005. № 15. С. 223–262.
Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии / Пер с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002.
Arditi J. A Genealogy of Manners: Transformation of Social Relations in France and England from the Fourteenth to the Eighteenth Century. Chicago; London: University of Chicago Press, 1998.
Bassy A.-M. Supplément au voyage de Tendre // Bulletin de bibliophile. 1982. № 1. P. 13–33.
Bluche F. La vie quotidienne au temps de Louis XIV. Paris: Hachette, 1984.
Burke P. A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity Press, 2000.
Chattier R. Lectures et Lecteurs dans la France d'Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil, 1987.
Constant J.-M. La noblesse française aux XVI et XVII siècles. Paris: Hachette, 1994.
Doubrovsky S. Corneille et la dialectique du héros. Paris: Gallimard, 1963.
Farid K. Antoine de Courtin (1622–1685), étude critique. Paris: A.-G. Nizet, 1969.
Fumaroli M. L’âge de lʼéloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique. Genève: Librairie Droz S.A., 2002.
Fumaroli M. La diplomatie de l'esprit. De Montaigne à La Fontaine. Paris: Hermann, 1994.
Génetiot A. Les genres lyriques mondains (1630–1660). Étude des poésies de Voiture, Vion d’Alibray, Sarasin et Scarron. Genève: Droz, 1990.
Goodman D. The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca, London: Cornell UP, 1994.
Grafton A. Forgers and critics: creativity and duplicity in Western scholarship. Princeton: Princeton UP, 1990.
Hazard P. La Crise de la conscience européenne: 1680–1715. Paris: Boivin, 1935.
A History of Private Life / Ed. Ph. Aries and G. Duby. Т. III: Passions of the Renaissance. Cambridge, Mass. & London: Harvard UP, 1989.
Jouhaud Ch., Merlin H. Mécènes, patrons et clients. Méditations textuelles comme pratiques clientélaires au XVIIe siècle // Liens de pouvoir: Terrain, oct. 1993. № 21 [].
Kantorowicz E. H. The King’s Two Bodies: a Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1957.
Klaits J. Printed Propaganda under Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion. Princeton: Princeton University Press, 1976.
Marin L. Le portrait du roi. Paris: Les Editions de Minuit, 1981.
Merlin-Kajman H. L’excentricité académique. Littérature, institution, société. Paris: Les Belles Lettres, 2001.
Mongrédien G. La Vie quotidienne sous Louis XIV. Paris: Hachette, 1957.
Morlet-Chantalat Ch. La Clélie de Mademoiselle de Scudéry. De lʼépopée à la gazette: un discours féminin de la gloire. Paris: Honoré Champion, 1994.
Ossola C. Miroirs sans visage. Du courtisan à l’homme de la rue / Trad. de l’italien par N. Sels. Paris: Seuil, 1997.
Pomian K. Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, 1987.
Ranum O. Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.
Saulnier L.-V. L’oraison funèbre au XVIe siècle // Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. 1948. № 10. P. 124–157.
Voltaire. Œuvres historiques. Texte prés. par R. Pomeau. Paris: Gallimard, 1957.
Именной указатель исторических лиц
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — 249
Августин Аврелий, святой (354–430) — 406, 411
Агриппа, еврейский царь, сын Аристобула — 408
Александр Македонский (356–323 до н. э.) — 120, 127, 135
Алигр Мари, дама д’, урожденная Арагонне, дочь Жанны Ле Жандр, дамы Арагонне — 276
Альбре Сезар-Феб дʼ, граф де Миоссан (1614–1676) — 300
Амвросий Медиоланский, святой (ок. 330/340-397), один из Отцов Церкви — 401, 411
Амьен Жан Хрисистом дʼ, исповедник Генриетты Английской — 387
Анна Австрийская (1601–1666), королева Франции (1612), регентша (1643–1651) — 20, 125, 170, 172, 187, 211, 234, 236, 288, 377, 392, 396, 397, 410
Аполлодор (2-я. пол. V в. до н. э.), древнегреческий живописец, изобретший технику светотени — 269
Арагонне Жанна, дама, урожденная Ле Жандр, подруга госпожи де Скюдери — 256, 276
Ариосто Лудовико (1474–1533), автор «Неистового Роланда» (1516–1532) — 185
Аристотель (384–322 до н. э.) — 30
Аркене Луиза-Изабель д’Анженн, мадмуазель д’, младшая дочь маркизы де Рамбуйе — 68–70
Аркур Генрих Лотарингский, граф д’ (1601–1666), военачальник — 126
Арпажон Жаклин д’, подруга госпожи де Скюдери — 275
Арпажон Луи д’, с 1650 — герцог, отец Жаклин д’Арпажон — 275
Бальзак Жан-Луи Гез де (1594–1654), прозаик — 19, 23–25, 28, 31, 86, 95, 279
Барбье, издатель — 214
Беврон Франсуа III д’Аркур, маркиз де (1627–1705) — 173, 186; под именем Ороондата — 173, 174, 176, 180, 186
Бельгард Жан-Батист Морван де (1648–1734) — 106, 107, 109, 121, 133–136, 144, 149, 241
Бельфон Бернарден Жиго, маркиз де (1630–1694) — 246, 365
Бельфон, маркиза де — см. Виллар Мари Жиго
Бенсерад Исаак (1613–1691), поэт, создатель придворных балетов (вместе с композитором Дж. Б. Люлли) — 192, 209
Бетюн-Шаро — см. Шаро
Биде де Ла Бидьер Жозеф, парламентский советник — 245
Блуа, мадмуазель де — см. Орлеанская Франсуаза-Мария
Бовилье Генриетта-Луиза, герцогиня де, урожденная Кольбер (1657–1733) — 84
Боке Анна, подруга госпожи де Скюдери — 256, 261
Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732–1799) — 121
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704), с 1669 — епископ Кондомский, наставник дофина, с 1681 — епископ Мо — 65, 101, 366, 367, 373, 376, 386, 388–393, 398
Брантом Пьер де Бурдей, сьер де (1540–1614), историк — 96–98, 166
Брейе Никола (1606–1678), врач — 388
Бринвильер Мари-Магдалена, маркиза де, урожденная д’Обре (1630–1676), одна из обвиняемых в «деле о ядах» — 370
Брут Луций Юний, основатель Римской республики — 280
Буало Никола, также именуемый Буало-Депрео (1636–1711) — 15, 144, 152, 280
Буаробер Франсуа Ле Метель, сеньор де (1592–1662), поэт, приближенный кардинала де Ришелье — 87
Буафранк Иоахим де Сеглие, сеньор де Буафранк и де Уэн, суперинтендант финансов Филиппа Орлеанского — 381
Бугур Доменик (1628–1702), иезуит, наставник принцев де Лонгвиль, литературный критик и теоретик — 133
Буйон Марианна, герцогиня де, урожденная Манчини (1649–1714), племянница кардинала Мазарини, жена Мориса, герцога де Буйона — 243
Буйон Морис-Годфруа де Ла Тур д’Овернь, герцог де (1639–1721) — 243
Буонаротти Микеланджело Младший (1568–1642), драматург — 36
Бураттини Тито Ливио, изобретатель — 266
Бурдалу Луи (1632–1704), знаменитый проповедник, член иезуитского ордена — 392
Бутвиль Франсуа де Монморанси, граф де (1600–1627), известный дуэлянт, казненный за нарушение королевских эдиктов против дуэлей — 47
Бэньян Джон (1628–1688) — 254
Бюсси Роже де Рабютен, граф де (1618–1693) — 57, 98, 100, 101, 109, 164–166, 168–172, 173, 175, 189, 196–198, 200, 222, 227, 231–234, 238, 241–249, 258, 265, 274, 294, 296, 297, 306, 307
Валло Антуан (1594–1671), с 1652 — первый медик Людовика XIV — 364, 365, 384
Валуа мадмуазель де — см. Орлеанская Анна-Мария
Валуа Филипп-Карл, герцог де (1664–1666), сын Филиппа Орлеанского и Генриетты Английской — 383
Вандомский Сезар де Бурбон, герцог (1594–1665), незаконнорожденный сын Генриха IV — 192
Вард Франсуа-Рене дю Бек-Креспен, маркиз де (1621–1688), активный участник придворных интриг 1660-х гг. — 170
Василий Великий (330–379), епископ Кесарийский, один из Отцов Церкви — 133
Венсан де Поль, святой (1581–1660), священник, проповедник, благотворитель, в 1737 канонизирован — 82, 392
Верджерио Пьер Паоло (1370–1444), итальянский гуманист — 30
Вивон Луи-Виктор де Рошешуар, герцог де Мортемар и де (1636–1688), брат госпожи де Монтеспан — 171
Виллайер Жан-Жак Ренуар, граф де (ум. 1691), основатель парижской почты — 263
Виллар Мари Жиго, маркиза де, урожденная де Бельфон, подруга госпожи де Севинье — 192, 246
Вилларсе аббат Рене де — 186
Вильдье Мари-Катрин-Гортензия Дежарден, именуемая госпожой де (1632/1640-1683), романистка — 163
Вильеруа Никола IV де Невиль (1598–1685), герцог де, воспитатель Людовика XIV, с 1646 — маршал Франции, с 1649 — государственный министр — 298, 302
Вильеруа Франсуа де Невиль, маркиз де (после 1685 — герцог) (1644–1730) — 347
Виней Луи Ардье де, секретарь герцога де Ларошфуко — 197, 198
Вожла Клод Фавр де (1585–1650), автор «Заметок о французском языке» (1647)- 162, 163
Вольтер Мари Франсуа Аруэ (1694–1778) — 10, 390
Вуазен Катрин Дезайе (ок. 1640–1680), повивальная бабка, вовлеченная в «дело о ядах» — 370
Вуатюр Венсан (1597–1648), светский поэт — 21, 23, 64, 65, 67, 209, 239, 265, 272
Гамаш Мари-Антуанетта, маркиза де, урожденная де Ломени де Бриенн (1624–1704), придворная дама Генриетты Английской — 381, 383
Гамильтон Элизабет, жена Филибера, графа де Грамон — 191
Гамильтон Энтони (Антуан) (1646–1719), автор «Мемуаров графа де Грамона» (1713) — 191
Гассенди Пьер (1592–1655), ученый и философ — 196, 199
Гваццо Стефано (1530–1593), автор трактата «Цивилизованная беседа» (1574)-58
Гемене Анна, принцесса де, урожденная де Роган-Монбазон (1604–1685), янсенистка, возлюбленная кардинала де Реца — 83
Генриетта-Мария Французская (1609–1669), сестра Людовика XIII и Гастона Орлеанского, вдова английского короля Карла I, мать Карла II, Якова II, Марии Оранской и Генриетты-Анны, герцогини Орлеанской — 361, 370, 390, 393, 396, 407
Генрих II (1519–1559), король Франции (1547–1559) — 21, 33, 253, 271
Генрих III (1551–1598), король Франции (1574–1589) — 42, 46, 53, 175, 323
Генрих IV Великий (1553–1610), король Франции (1589–1610) — 19, 42, 45, 88, 96, 175, 192, 213, 299, 391
Гере Габриэль (1641–1688), автор «Карты Двора» (1663) — 89
Гиз Генрих II Лотарингский, герцог де (1614–1664), участник заговора графа де Суассон; в 1644 убил на дуэли графа де Колиньи — 92
Гиз Луи-Жозеф, герцог де (ум. в 671), муж Елизаветы де Гиз — 308, 344, 345
Гиз Елизавета, герцогиня де, урожденная д’Орлеан, мадмуазель д’Алансон (1646–1696), младшая сестра мадмуазель де Монпансье — 301, 345
Гийераг Габриель-Жозеф де Лавернь, сеньор де (1628–1685), автор «Португальских писем» (1659) — 258
Гийон Жанна-Мари, госпожа де, урожденная Бувье де Ла Мотт (1648–1717), основательница квиетизма — 83, 84
Гитри Ги де Шомон де (ум. в 1671), главный королевский гардеробмейстер, друг графа де Лозена — 300, 336, 345, 354, 362
Гиш Ги-Арман де Грамон, граф де (1637–1673), поклонник Генриетты Английской, с 1664 по 1671 — в изгнании — 170, 336, 347, 376, 386
Гиш Маргарита-Луиза, графиня де, урожденная де Бетюн, жена графа де Гиша — 336
Годо Антуан (1605–1672), с 1635 епископ Грасский, с 1659 — Вансский — 81, 82, 87, 163
Гольдони Карло (1707–1793) — 227
Гонзага Елизавета, герцогиня Урбинская, жена Гвидобальдо Монтефельтро — 39
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — 152
Грамон Антуан III, герцог де (1604–1678), отец графа де Гиша, с 1641 маршал Франции — 386
Грамон Филибер, граф де (1621–1707), единокровный брат Антуана III де Грамона, герой «Мемуаров графа де Грамона» Антуана Гамильтона — 190, 191, 198; под именем шевалье дʼЭгремона — 190-195
Гриньян Луи-Прованс де, внук госпожи де Севинье — 296
Гриньян Франсуаза-Маргарита, графиня де, урожденная де Севинье (1646–1705), дочь госпожи де Севинье — 125, 207, 246, 296
Гуго де Гроот, известный как Гроций (1538–1645), нидерландский гуманист, автор трактата «О военном и мирном праве» (1625) — 119
Гурдон Елена де, придворная дама Генриетты Английской — 381
Давид (библ.) — 398, 400
Данте Алигьери (1265–1321) — 25
Дарий III, последний из персидских царей династии Ахеменидов (336–330 до н. э.) — 120, 127, 135
Декарт Рене (1596–1650) — 56, 121, 135
Делла Каза Джованни (1503–1556), автор трактата «Галатео, или Об обычаях» (1554) — 53, 58, 108
Демаре де Сен-Сорлен Жан (1595–1676), поэт и драматург — 87
Дидэ — см. Биде де Ла Бидьер
Домициан Тит Флавий (51–96 н. э.), римский император (81–96) — 268
Донневиль Жан-Жорж де Гаро-Дюранти де, знакомый госпожи де Скюдери — 260
Донно де Визе Жан (1638–1710), издатель «Галантного Меркурия» — 273
Дофин — см. Людовик Французский
Дюамель Жан-Батист (1624–1706), переводчик — 107, 108
Дю Белле Жоашен (1522–1560), поэт, член Плеяды — 98
Дю Буше Жан, маркиз де Сурш, граф, главный прево Франции, знаток генеалогии — 248
Дювернье де Оран Жан, аббат де Сен-Сиран (1581–1643), один из духовных столпов янсенизма — 83
Дюнуа Жан д’Орлеан, граф де Лонгвиль и де, прозванный Орлеанским бастардом (1403–1468), незаконнорожденный сын Людовика I Орлеанского, сподвижник Жанны д’Арк — 93
Дюпюи Пьер (1578–1651) и его младший брат Дюпюи Жак (1586–1656) — хранители библиотеки президента де Ту, основатели так называемой «Путеанской академии» — 22
Дю Фоссе Пьер Тома, сьер (1634–1698), воспитанник «малых школ» Пор-Рояля, мемуарист — 373
Жанна дʼАрк (1412–1431) — 93
Зевксис или Зевксид (464–398 до н. э.), древнегреческий художник — 40, 199, 269
Ивлен Пьер, придворный медик — 379, 384, 385
Изарн Самюель (1637–1672), поэт круга госпожи де Скюдери — 268, 276
Иоанн Хризостом (Златоуст), св. (347–497), один из Отцов Церкви — 404, 405
Йоркский герцог — см. Яков II
Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1691) — 203
Кандоль Луи-Шарль-Гастон де Ногаре, маркиз де Ла Валетт, герцог де (1627–1658) — 173, 175, 183, 196; под именем Кандоля — 173–176, 178–180, 182, 183, 185, 186, 188
Карл I Стюарт (1600–1649), король Англии (1625–1649) — 187, 361, 370, 396
Карл II Стюарт (1630–1685), король Англии, в 1649 был провозглашен королем (в изгнании), в 1660 взошел на престол — 356–358, 361, 368, 379, 397, 399, 408
Кастеллан Диана, маркиза де, урожденная де Жоанни де Руссан (ум. в 1667), в 1658 повторно вышла замуж за Шарля де Виссека, маркиза де Ганжа — 185
Кастильоне Бальдассаре (1478–1529), дипломат, автор трактата «Придворный» (1529) — 32, 33, 35, 37–41, 49, 53, 55, 58, 59, 151
Катон Марк Порций Цензорий (234–149 до н. э.) — 280
Колиньи Морис, граф де (ум. в 1644), старший сын герцога де Шатийона, убит на дуэли Генрихом II де Гизом — 92
Колонна Лоренцо, великий коннетабль Неаполитанского королевства, муж Марии Манчини — 85, 210
Колонна Мария, урожденная Манчини (1639–1706), племянница кардинала Мазарини, первая любовь Людовика XIV — 71, 85, 210, 290
Кольбер Генриетта-Луиза, вторая дочь Жана-Батиста Кольбера (1619–1683) — 299
Кольбер Жан-Батист (1619–1683), с 1661 — интендант финансов, с 1665 — генеральный контролер финансов, с 1669 — государственный секретарь по королевскому дому, морским делам и торговле — 88, 93, 94, 257, 287, 296, 299, 357, 359
Комартен Луи Франсуа Лефевр де (1624–1687), советник парижского Парламента, докладчик в Государственном совете, интендант Шампани, друг госпожи де Севинье и кардинала де Реца — 248
Конде Людовик II де Бурбон, принц де (1621–1686), первый принц крови, часто именуемый господином Принцем — 64, 82, 92, 94, 168, 171, 196, 212, 213, 220, 265, 287, 289, 301, 302, 384, 393
Конрар Валантен (1603–1675), один из основателей Французской академии, друг госпожи де Скюдери — 22, 87, 88, 257, 259, 260, 266–268
Конти Арман де Бурбон, принц де (1629–1666), младший брат принца де Конде и герцогини де Лонгвиль, участник Фронды — 94, 168
Кончини Космо-Джованни-Баттист, маркиз д’Анкр (1575–1617), фаворит Марии Медичи — 20
Коппе Даниель де Беллюжон, барон де, дворянин, оскорбленный Луи де Бурбоном, графом де Суассон — 50, 51
Корбинелли Жан (1622–1716), друг госпожи де Севинье — 243, 244
Корнель Пьер (1606–1684) — 24, 47–49, 95, 96, 147, 209, 249, 256, 290, 305, 333, 334
Креки Франсуа де Бонн, маркиз де, называемый маршалом де (1629–1687), друг Сент-Эвремона — 196, 299, 390
Креки Шарль III, герцог де (1624–1687), в 1662 — французский посол в Риме — 299, 300, 385
Кристина Шведская (1626–1689), королева Швеции, в 1654 отреклась от престола, в 1655 приняла католичество и поселилась в Риме — 119, 260
Крофтс Уильям, бывший паж Генриетты-Марии Французской — 187
Круасси Шарль Кольбер, маркиз де (1629–1696), брат Жана-Батиста Кольбера, в 1668–1674 французский посол в Англии — 357–359
Куланж Кристоф де, аббат де Ливри (1607–1687), дядя и доверенное лицо маркизы де Севинье — 231, 246, 248, 294
Куланж Мари-Анжелик, маркиза де, урожденная Дю Ге де Баньоль (1641–1723), жена маркиза де Куланжа — 299, 305
Куланж Филипп-Эмманюэль, маркиз де (1633–1716), кузен госпожи де Севинье — 294–298, 378
Куртиль де Сандра Гатьен де (1644–1712), автор «Мемуаров д’Артаньяна» (1700) — 306
Куртэн Антуан де (1622–1685), дипломат, автор «Нового трактата о вежестве» (1671) — 96, 106, 113, 119–121, 126, 134, 135, 149, 241
Ла Бом де Остюн Катрин, графиня де, урожденная де Бонн, знакомая Бюсси-Рабютена, обнародовавшая «Любовную историю галлов» — 239, 244, 245, 247
Лабрюйер Жан де (1645–1696) -65-67, 71, 72, 84, 85, 144, 163, 208, 263, 292, 392
Лавальер Франсуаза-Луиза де Ла Бом Ле Блан, герцогиня де (1644–1710), фаворитка Людовика XIV (1661–1667), в 1675 приняла постриг в монастыре кармелиток — 165, 171, 288, 299, 350, 360, 365, 386
Ла Гетт Катрин де, урожденная де Мердак (1613 — ок. 1681), автор «Мемуаров» — 76
Ла Кальпренед Готье де Кост, сьер де (1610–1663), романист — 272
Ла Мотт, драгунский офицер — 349
Ланкло Нинон (Анн) де (1620–1705), куртизанка — 196
Ларошфуко Франсуа VI, принц де Марсийак, с 1650 — герцог де (1613–1680), автор «Максим» — 57, 59, 82, 86, 91, 135, 188, 189, 197, 207–209, 214, 228, 248, 249, 328, 330
Ларошфуко Франсуа VII, принц де Марсийак, с 1680 — герцог де (1634–1714), сын Франсуа VI Ларошфуко — 46, 171, 187–189, 195, 197, 198; под именем Самилькара — 187–190, 193, 195
Ла Саблиер Маргарита, дама де, урожденная Эссен (1640–1693), хозяйка литературного салона, покровительница Лафонтена — 352
Лас Касас Бартоломе де (1474–1566), историк, автор «Кратчайшего донесения о разорении Индий» (1552) и «Истории Индий» (1560) — 133
Ла Тремуй Анри, принц Тальмонский и Тарентский, герцог де (1599–1674) — 213
Лa Тремуй Мари, герцогиня де, урожденная де Ла Тур д’Овернь, мадмуазель де Буйон (ум. 1665) — 213
Ла Тремуй, мадмуазель де — см. Саксен-Иенская Мари-Шарлотт
Лафайет Мари-Мадлен, графиня де, урожденная Пиош де Ла Вернь (1634–1693) — 21, 33, 41, 72, 86, 92, 95, 101, 221, 222, 226–228, 229, 297, 329, 330, 369, 372, 373, 376–378, 387
Ла Фейад Франсуа виконт д’Обюссон, герцог де Роаннес, герцог де (1625–1691) — 248
Ла Ферте Мадлен де, урожденная д’Анженн, супруга маршала Ла Ферте-Эмбо, Жака д’Этампа, и сестра госпожи д’Олонн — 370 Лафонтен Жан де (1621–1695) — 352
Ле Камю Этьен, аббат (1632–1707), в 1659 — участник дебоша в замке Руасси, с 1666 обращается к благочестию, в 1671 становится епископом Гренобльским — 170
Лели Питер (1618–1680), художник английского двора — 380
Лемуан Пьер (1602–1671), иезуит, писатель-моралист — 81
Леопольд I (1640–1705), император Священной Римской империи (1658–1705) — 336
Ле Пелетье Клод (1631–1711), с 1652 — парламентский советник, с 1668 по 1676 — купеческий старшина, 1673 — государственный советник — 302
Ле Телье Мишель (1603–1685), с 1643 — государственный секретарь по военным делам (с 1662 делил эту должность с Лувуа), с 1674 — канцлер — 296, 302
Ле Телье Шарль-Морис, сын Мишеля Ле Телье, в 1670 коадъютор архиепископа Реймсского — 302, 304
Лианкур Роже Дю Плесси, маркиз де, герцог де Ла Рош-Гийон (1599–1674), янсенист — 83
Лионн Юг де (1611–1671), с 1663 — государственный секретарь по иностранным делам — 302
Лозен Антонен Номпар де Комон, маркиз де Пегилен, граф де (1633–1723), с 1668 — драгунский полковник, с 1670 — генерал-лейтенант королевской гвардии, с 1692 — герцог и пэр — 17, 46, 73–75, 99, 113, 233, 286–292, 299–304, 307–326, 328, 329, 332
Лонгвиль Анна-Женевьева, герцогиня де, урожденная де Бурбон-Конде (1619–1679), старшая сестра принцев де Конде и де Конти, вторая жена Анри II, герцога де Лонгвиль — 82, 83, 91, 205, 207, 344, 353
Лонгвиль Анри II д’Орлеан-Дюнуа, герцог де (1595–1663), губернатор Нормандии, участник Фронды — 92, 94, 168
Лонгвиль Жан-Луи Шарль дʼОрлеан-Дюнуа, герцог де (1646–1694), сын герцога и герцогини де Лонгвиль, в 1669 принял сан, после чего герцогский титул перешел к его младшему брату, до этого именовавшемуся графом де Сен-Поль — 344
Лонгвиль мадмуазель де — см. Немурская Мария
Лонгвиль Шарль-Парис д’Орлеан-Дюнуа, граф де Сен-Поль, герцог де (1649–1672), сын герцогини де Лонгвиль и Франсуа VI, герцога де Ларошфуко — 248, 308, 344, 361–364
Лоре Жан, издатель «Исторической музы» — 272, 273
Лотарингская Маргарита — см. Орлеанская Маргарита
Лотарингская Элеонора-Мария Австрийская, сестра императора Леопольда I и супруга Карла V, герцога Лотарингского — 336
Лотарингский Карл IV, герцог (1604–1675), вассал короля Франции, был изгнан из своих владений за поддержку противников Ришелье и служил попеременно то императору Священной Римской империи, то королю Испании — 336
Лотарингский Карл V, герцог (1643–1690), племянник Карла IV Лотарингского, также состоял на службе у императора Леопольда I — 336, 337
Лотарингский-Арманьяк Филипп, известный как шевалье Лотарингский (1644–1702), фаворит Филиппа Орлеанского — 342, 347, 369, 371, 379
Лувуа Франсуа-Мишель Ле Телье, маркиз де (1641–1691), сын канцлера Мишеля Ле Телье, с 1662 — государственный секретарь по военным делам — 296, 347, 348
Лукреция, супруга Л. Тарквиния Коллатина — 280
Л’Эрмит Франсуа, сьер де Солье, именуемый Тристаном л’Эрмитом (1601–1655), поэт — 252
Людовик IX Святой (1214–1270), король Франции (1226–1270), организатор двух крестовых походов; в 1297 канонизирован — 408
Людовик XI (1423–1483), король Франции (1461–1483) — 323
Людовик XIII (1601–1643), король Франции (1610–1643) — 19, 20, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 73, 109, 172, 210, 211, 272, 370, 397
Людовик XIV (1638–1715), король Франции (1643–1715) — 9, 14, 15, 42–46, 61–63, 65, 71, 73, 75, 93, 100, 109, 111, 150, 165, 168–172, 181, 187, 192, 211–213, 233, 234, 236, 253, 286–290, 292, 294, 296, 299–303, 307–309, 311, 313, 314, 321–327, 333, 336, 337, 339, 341–343, 345–350, 354–368, 370, 371, 373, 377–379, 385–387, 391, 397, 401, 402
Людовик Французский (1661–1711), дофин, единственный сын Людовика XIV и Марии-Терезии — 249, 287, 343, 391
Люин Луи Шарль д’Альбер, герцог де (1620–1690), янсенист — 83
Люлли Джованни Баттиста (1632–1687), придворный композитор — 192
Мадам — см. Орлеанская Генриетта-Анна
Мадмуазель — см. Монпансье Анна-Мария-Луиза
Мазарини Гортензия, герцогиня де, урожденная Манчини (1646–1699), племянница кардинала Мазарини; ее супруг, Арман-Шарль де Ла Порт де Ла Мейере (1632–1713), унаследовал имя и состояние кардинала — 77, 257
Мазарини Джулио (1602–1661), с 1641 — кардинал, с 1642 — первый министр — 71, 192, 196, 212, 213, 243, 257, 287, 365, 371
Макиавелли Никколо (1469–1527) — 25–29, 31, 34–35, 37, 61–63, 65
Манчини Гортензия — см. Мазарини Гортензия
Манчини Марианна — см. Буйон Марианна
Манчини Мария — см. Колонна Мария
Манчини Филипп (1641–1707), племянник кардинала Мазарини — 170
Маргарита де Валуа, именуемая королевой Марго (1553–1615), дочь Генриха II и Екатерины Медичи, королева Франции, первая жена Генриха IV (1572, брак аннулирован в 1599) — 96–98, 253, 254, 328, 330
Маргарита Наваррская (1492–1549), сестра Франциска I, автор «Гептамерона» (опубл. 1559) — 96
Марийак Луиза де (1591–1660), сподвижница св. Венсана де Поля, основала конгрегацию дочерей Милосердия; канонизирована в 1934 — 82, 83
Марино Джамбаттиста (1569–1625), итальянский поэт, родоначальник маринизма — 53
Мария Медичи (1573–1642), королева Франции, вторая жена Генриха IV (1600), регентша (1610–1614) — 19, 62, 370
Мария-Терезия Австрийская (1638–1638), королева Франции, жена Людовика XIV (1660) — 301, 324, 326, 333, 335, 336, 338, 340–343, 346–349, 355, 357, 358, 360, 362, 364–368, 371, 386, 393, 397
Мария Тюдор, прозванная Кровавой (1516–1558), королева Англии и Ирландии (1553–1558) — 408
Марсан Шарль Лотарингский-Арманьяк, граф де (1648–1708), младший брат графа д’Арманьяк — 345
Марсийак — см. Ларошфуко
Мать Анжелика, в миру Жаклин-Мари Арно (1591–1661), с 1602 — аббатиса монастыря Пор-Рояль, ею реформированного — 83
Мезере Франсуа Юд де (1610–1683), историк — 272
Мекленбург Изабелла-Анжелика, герцогиня де, урожденная де Монморанси-Бутвиль (1626–1695) — 265, 381
Мекленбург-Шверин Кристиан-Людовик, герцог де — 381
Ментенон Франсуаза, маркиза де, урожденная д’Обинье (1635–1719), фаворитка и, возможно, морганатическая супруга Людовика XIV; первым браком была за поэтом Полем Скарроном (1610–1660) — 177, 300, 307
Мере Антуан Гомбо, шевалье де (ок. 1610–1684), автор «Бесед» (1668) — 57–59, 275
Меркер Лаура Виктория, герцогиня де, урожденная Манчини (1636–1657), старшая из племянниц кардинала Мазарини — 192
Меркер Луи де Вандом, герцог де (1612–1669), сын Сезара, герцога Вандомского, бастарда Генриха IV — 192
Месье — см. Орлеанский Филипп
Молеврие Эдуард-Франсуа Кольбер, граф де (1633–1693), младший брат Жана-Батиста Кольбера и маркиза де Круасси — 359
Мольер Жан Батист Поклен (1622–1673) — 18, 56, 70, 84, 86, 106, 107, 112, 149, 164, 207, 251, 252
Монако Катерина-Шарлотта, принцесса де, урожденная де Грамон (1639–1678), сестра графа де Гиша — 347
Монако Людовик Гримальди, герцог де Валантенуа, принц де (1642–1701), супруг Катерины-Шарлотты де Монако — 347
Монгла Сесиль де Шиверни, маркиза де, возлюбленная Бюсси-Рабютена — 243, 244, 246
Монже Никола Жанен де Кастий, барон де — 180; под именем Кастийанта — 180–183, 187, 190
Монлюк Блез де Лассеран Массажом, сеньор де (1502–1577), маршал Франции, автор «Комментариев» (опубл. посмертно в 1592) — 111
Монпансье Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де (1627–1693), также именуемая Мадмуазель или Старшая Мадмуазель, единственная дочь Гастона Орлеанского и Марии де Монпансье — 49, 73, 75, 76, 95, 99, 101, 102, 113, 125, 166, 191, 197, 201, 207, 209, 210–214, 232, 233, 252, 257, 286–293, 297, 299–306, 308–326, 328, 331, 334, 343–345, 352, 358, 361, 369, 370, 376, 378
Монтегю Уильям Ральф (1638–1708), с 1669 — английский посол во Франции — 387
Монтень Мишель Эйкем де (1533–1592) — 28–31, 61
Монтеспан Франсуаза, маркиза де, урожденная де Рошешуар де Мортемар (1640–1707), с 1668 — фаворитка короля — 288, 307, 350, 358, 361, 365, 370, 386
Монтефельтро Гвидобальдо (1472–1508), герцог Урбинский (1482–1508) — 39
Монтозье Жюли, герцогиня де, урожденная д’Анженн де Рамбуйе (1607–1671), старшая дочь маркизы де Рамбуйе — 67, 70, 71, 74, 75, 78, 81, 85, 274
Монтозье Шарль де Сент-Мор Пресиньи, герцог де (1610–1690), воспитатель Дофина, губернатор Сентонжа и Нормандии — 71, 74, 75, 78, 80, 85, 249, 300
Мор Анна, графиня де, урожденная д’Аттиши (ок. 1600–1663), подруга маркизы де Сабле — 259
Моро Мишель-Жером, знакомый госпожи де Скюдери — 277
Моттвиль Франсуаза, дама Ланглуа де, урожденная Берто (1621–1689), с 1643 камеристка Анны Австрийской, автор «Мемуаров к истории Анны Австрийской» — 377
Немурская Мария, герцогиня, урожденная д’Орлеан-Дюнуа, мадмуазель де Лонгвиль (1625–1707), дочь Анри II, герцога де Лонгвиль, и Луизы де Бурбон-Суассон (ум. в 1637) — 94, 272, 278, 281, 328
Ноай Анн-Жюль, граф д’Эйен, герцог де (1650–1708) — 349, 350, 360, 364
Ножан Диана-Шарлотта, графиня де, урожденная де Комон-Лозен (1632–1720), сестра графа де Лозена — 360, 364
Нуармутье Луи II де Ла Тремуй, маркиз де (1612–1666), фрондер, друг кардинала де Реца — 91
Обиньяк Франсуа Эдлен, аббат д’ (1604–1676), драматург, автор теоретического труда «Практика театра» (1657) и сатиры «Королевство кокетства» (1655) — 252
Овидий Назон Публий (43 до н. э. — 18 н. э.) — 25, 27, 133
Олонн Катрин-Генриетта д’Анженн, графиня д’, урожденная де Ла Лупп (1634–1714) — 98, 99, 101, 172–174, 197–201, 205, 227; под именем Арделизы — 98, 172–190, 193–195
Олонн Луи де Ла Тремуй, граф д’ (1626–1686) — 173; под именем Леникса — 173, 174, 176, 179, 180, 186
Орлеанская Анна-Мария, называемая мадмуазель де Валуа (1669–1728), младшая дочь Филиппа Орлеанского и Генриетты-Анны Английской — 343
Орлеанская Генриетта-Анна, урожденная Английская, именуемая Мадам (1644–1670), сестра Карла II Стюарта, первая жена Филиппа Орлеанского — 101, 166, 170, 303, 335, 336, 342, 343, 347, 355–357, 361, 364–373, 375–393, 396–399, 401–404, 406–415
Орлеанская Маргарита, герцогиня, урожденная Лотарингская (1612–1672), вторая жена Гастона Орлеанского — 210, 211, 286, 302
Орлеанская Мария, герцогиня, урожденная де Бурбон-Монпансье (1604–1627), первая жена Гастона Орлеанского, мать мадмуазель де Монпансье — 210
Орлеанская Мария-Луиза (1662–1689), старшая дочь Филиппа Орлеанского и Генриетты-Анны Английской, в 1679 стала испанской королевой — 73, 380
Орлеанская Франсуаза-Мария, герцогиня, урожденная де Бурбон, называемая мадмуазель де Блуа (1677–1749), незаконнорожденная дочь Людовика XIV и госпожи де Монтеспан, жена Филиппа II, герцога Орлеанского — 73
Орлеанская Шарлотта Елизавета, герцогиня, урожденная Баварская (1652–1722), вторая жена Филиппа Орлеанского — 371
Орлеанский Гастон-Жан-Батист, герцог (1608–1660), брат Людовика XIII, отец Старшей Мадмуазель — 22, 41, 73, 191, 210–212, 232, 331
Орлеанский Филипп I, герцог (1640–1701), также именуемый Месье, брат Людовика XIV — 192, 211, 299, 300, 301, 303, 335, 342, 343, 347, 348, 355–358, 361, 362, 365–371, 373, 378–386, 388, 397, 401, 402, 410, 411
Орлеанский Филипп II, герцог (1674–1723), сын Филиппа I, герцога Орлеанского, и Шарлотты-Елизаветы Баварской; при жизни отца носил титул герцога Шартрского — 73
Ормессон Оливье III д’ (1616–1686), парламентский советник, автор «Дневника» — 101, 292, 297, 298, 300
Отрив, госпожа де, урожденная де Невиль, сестра маршала де Вильеруа, вдова Анри-Луи д’Альбера, герцога де Шольна. Вторым браком замужем за Жаном Винье де Отривом — 298
Павел, апостол — 123, 408
Паже Жак, интендант финансов — 176; под именем Криспена — 176–180, 182
Паскаль Блез (1623–1662) — 83, 275
Пелиссон-Фонтанье Поль (1624–1693), автор «Истории Французской академии» (1653) — 10–18, 79, 101, 165, 228, 252, 254, 256–259, 261, 263, 265, 268, 275, 281; под именем Аканта — 16–18, 79, 80, 86, 258–260, 262, 263, 266, 267, 269, 275; под именем Эрминия — 279, 281-283
Пенн Рене де, урожденная де Форбен, подруга госпожи де Скюдери — 260
Перрике Женевьева, знакомая Поля Пелиссона — 260, 263
Перро Шарль (1628–1703), автор поэмы «Век Людовика XIV» (1687), положившей начало так называемому «Спору о Древних и Новых» — 144, 227, 351
Петрарка Франческо (1304–1374) — 25
Петр д’Алькантара, святой (1499–1562), испанский мистик, канонизирован в 1669 — 335
Пизани Леон-Помпей дʼАнженн, маркиз де (1615–1645), сын маркизы де Рамбуйе — 68, 69
Плиний Цецилий Секунд Гай Младший (61/62 — ок. 113) — 269
Поле Анжелика (ок. 1552–1650), посетительница особняка Рамбуйе — 79, 80
Помпей Великий (106-48 до н. э.) — 120, 127
Понти Луи де (1583–1670), один из первых «отшельников», поселившихся у монастыря Пор-Рояль, автор «Мемуаров» (1676), записанных с его слов дю Фоссе — 373, 374, 392
Принц — см. Конде Людовик II де Бурбон
Пюизье Шарлотта д’Этамп де Валансе, виконтесса де (ум. в 1677) — 344, 353
Рамбуйе Катрин, маркиза де, урожденная де Вивонн де Савелли (1588–1665) — 18–25, 31, 32, 41, 59, 60, 62, 64, 65, 67–70, 72, 74, 90, 91, 148, 162, 258, 266, 279; под именем Артенисы — 18, 86, 91
Рамбуйе Шарль дʼАнженн, маркиз де (ок. 1577–1652), супруг маркизы де Рамбуйе — 19
Расин Жан (1639–1699) — 15, 144, 274, 289, 290, 307
Рафаэль Санти (1483–1520) — 38
Ренодо Теофраст (ок. 1586–1653), издатель «Газеты» — 272, 273
Рец Жан-Франсуа-Поль де Гонди, кардинал де (1613–1679), участник Фронды, автор «Мемуаров» — 49, 88, 91, 92, 94, 95, 206–209, 211, 248, 249, 299, 328, 330, 331, 398
Рец Поль-Маргарита де Гонди, мадмуазель де, племянница кардинала и дочь герцога де Реца — 299
Рец Пьер де Гонди, герцог де (1602–1676), старший брат кардинала де Реца — 299
Рие Анна, графиня де, урожденная д’Орнано, графиня де Монлор — 275
Рие Франсуа Луи Лотарингский, граф де (1623–1694), младший сын герцога д’Эльбефа — 275
Ришелье Арман-Жан Дю Плесси, кардинал де (1585–1642), с 1629 — первый министр Людовика XIII — 14, 22, 23, 42, 51, 81, 87, 93, 147, 192, 210, 211, 257, 272, 344
Ригиле Пьер (1626–1698), автор толкового словаря (1680) — 61
Роаннес герцог де — см. Ла Фейад Франсуа
Робино Мари, подруга госпожи де Скюдери — 276
Роган Маргарита, герцогиня де (ок. 1617–1684) — 298
Роган-Шабо Анри, сьер де Сент-Оле и де Фонтене, герцог де (1618–1655), супруг Маргариты де Роган — 298
Рошфор Анри-Луи д’Алуаньи, маркиз де (ум. в 1676) — 346, 351–353, 362
Рувиль Франсуа, граф де, брат Луизы де Рувиль, второй жены Бюсси-Рабютена — 191
Сабле Мадлен, маркиза де, урожденная де Сувре (1559–1678), хозяйка литературного салона — 83, 259
Саксен-Йенская Мария-Шарлотта, герцогиня, урожденная де Ла Тремуй (ум. в 1682) — 213
Саннадзаро Якопо (1455–1530), итальянский поэт, автор пасторального романа «Аркадия» — 53
Саразен Жан-Франсуа (1614–1654), с 1648 — секретарь принца де Конти, бурлескный поэт — 94, 95, 151, 265; под именем Амилькара — 151, 153, 157, 158, 160, 161, 222
Саул (библ.) — 195
Светоний Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — 268
Севинье Мари, маркиза де, урожденная де Рабютен-Шанталь (1626–1696) — 49, 82, 83, 98, 101, 125, 197, 207, 209, 221, 222, 226–228, 231–234, 238, 239, 241–243, 246, 248, 249, 258, 287, 291, 292, 294–300, 346, 378; под именем принцессы Кларэнт — 221–225; под именем госпожи де Шенвиль — 231, 234–238, 241, 242
Севинье Шарль де (1648–1713), сын маркизы де Севинье — 248, 249
Сегре Жан Реньо, сьер де (1624–1701), с 1646 — секретарь мадмуазель де Монпансье, с 1665 — госпожи де Лафайет — 24, 95, 213, 214
Сегье Пьер (1588–1672), с 1635 канцлер Франции, с 1642 — покровитель Французской академии — 14
Сен-Поль граф де — см. Лонгвиль Шарль-Парис
Сен-Симон Луи де Рувуа, герцог де (1675–1755), автор «Мемуаров» — 44, 45, 62, 73–75, 83, 288, 291, 292, 296, 300, 329, 330, 370, 371, 373
Сен-Сиран, аббат де — см. Дювернье де Оран
Сент-Аман Антуан Жирар, сьер де (1594–1661), поэт — 240
Сенто Никола де Вемар де, помощник главного церемониймейстера — 367
Сент-Фуа Жак Тиволь де, первый камердинер Филиппа Орлеанского — 382
Сент-Эвремон Шарль де Маргетель де Сен-Дени, сеньор де (1613–1703) — 77, 84, 95, 101, 171, 186, 196–200, 227, 375, 390, 393
Сент-Эньян Франсуа Оноре де Бовилье, граф (с 1663 — герцог) де (1607–1687) — 299
Серси Шарль де (1649–1700), издатель — 214
Сийери Луи Роже Брюляр, маркиз де Рюизье де (1619–1691), деверь Франсуа VI, герцога де Ларошфуко — 187, 188
Скюдери Жорж де (1601–1667), поэт и драматург — 92, 94, 96, 147–149, 219, 256, 278
Скюдери Мадлен де (1607–1701), романистка — 15–17, 20, 22, 69, 77–81, 86, 92, 94, 96, 100, 101, 106, 107, 110, 147–152, 163–165, 199, 219–222, 228, 239, 241, 251–256, 259–261, 268, 271, 274, 278–281; под именем Валери — 151, 157, 160, 161, 279; под именем Сафо — 16, 79, 80, 81, 86, 151, 258–263, 266–269
Соломон (библ.) — 398, 400
Сорель Шарль (ок. 1599–1674), автор «Комической истории Франсиона» (1623) — 29, 32, 33
Суассон Луи де Бурбон, граф де (1604–1641), политический противник Ришелье — 50, 51
Суассон Евгений-Мориц Савойский, принц де Кариньян, граф де (1636–1674)-365
Суассон Олимпия, графиня де, урожденная Манчини (1638–1708), племянница кардинала Мазарини — 365, 370, 386
Субиз Франсуа де Роган-Монбазон, принц де (1631–1712) — 346
Сюлли Максимильен де Бетюн, барон де Росни, герцог де (1559–1641), сподвижник Генриха IV, автор мемуаров «Королевские экономии» (1638)-330
Таллеман де Рео Жедеон (1619–1692), автор «Занимательных историй» — 20, 21, 32, 59, 62, 68, 74, 79, 90–92, 97, 166, 257, 259
Тарентская Амелия, принцесса Тальмонская и Тарентская урожденная фон Гессен-Кассель (1625–1693) — 213
Тарентский Анри-Шарль де Ла Тремуй, принц Тальмонский и Тарентский (1620–1672) — 213
Тарквиний Гордый (ок. 534 — ок. 509 до н. э.) — 279
Тереза д’Авила, святая (1515–1582) — 335
Тертуллиан Квинт Септимий Флорент (ок. 160 — ок. 230) — 403
Тианж Габриэль, маркиза де, урожденная де Рошешуар де Мортемар (1643–1693), старшая сестра маркизы де Монтеспан — 361, 362
Тибулл Альбий (50–19/17 до н. э.) — 25
Тирсо де Молина (ок. 1583–1648) — 227
Траси Жан д’Эстю, сеньор де, знакомый госпожи де Скюдери — 275
Тристан Л’Эрмит — см. Л’Эрмит Франсуа
Ту Жак-Огюст де (1553–1617), историк — 22
Тюренн Анри де Ла Тур д’Овернь, виконт де (1611–1675), полководец — 248, 249
Фалейдер Фридрих Герман, автор трактата «Об искусстве летать» — 266
Фаре Никола (1600–1646), автор трактата «Достойный человек, или Искусство нравиться при Дворе» (1630) — 53–60, 87, 108, 120, 241
Фейе Никола (1622–1693), каноник Сен-Клу — 386–389
Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651–1715), с 1695 — архиепископ Камбрейский — 83
Фиеск Жильон, графиня де, урожденная д’Аркур (1616–1699), приближенная дама мадмуазель де Монпансье — 183; под именем Фезик — 183–186, 191-195
Филипп III Испанский (1578–1621), король Испании и Португалии (1598–1621) — 396
Филипп IV Испанский (1605–1665), король Испании, Неаполя (1621–1665) и Португалии (1621–1640) — 397
Флери Клод (1640–1723), историк — 111
Флешье Валантен Эспри (1632–1710), известный проповедник, с 1685 — епископ Лаворский, с 1687 — Нимский — 80, 392
Фонтанж Мари Анжелик де Сюрай, мадмуазель (с 1680 — герцогиня) де (1661–1681), с 1678 — фаворитка Людовика XIV — 307
Франсуа де Саль святой (1567–1622), с 1602 — епископ Женевский (с резиденцией в Аннеси), в 1665 канонизирован — 82, 83
Франциск I (1494–1547), король Франции (1515–1547) — 32, 53, 96
Фуке Никола (1615–1680), с 1653 — суперинтендант финансов и государственный министр, в 1661 арестован и после суда в 1664 приговорен к пожизненному заключению в замке Пиньероль — 15, 62, 180, 196, 243, 252, 292
Фюретьер Антуан (1619–1688), автор «Буржуазного романа» (1666) и «Словаря» (1690) — 60, 68, 69, 105, 162, 163, 220, 330
Хризостом — см. Иоанн Хризостом
Цезарь Гай Юлий (102-44 до н. э.) — 120, 127
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) — 31, 41
Шабо Анри де — см. Роган-Шабо Анри
Шалонский Жак де Нешез (1591–1658), епископ, родственник Бюсси-Рабютена и госпожи де Севинье — 243
Шанталь Селс Бенинь де Рабютен, барон де (ум. 1627), отец госпожи де Севинье — 125, 295
Шанталь Жанна-Франсуаза де, урожденная Фремио (1572–1641), бабушка госпожи де Севинье, сподвижница св. Франсуа де Саль, основательница ордена Визитации; канонизирована в 1767 — 82, 83
Шаплен Жан (1595–1674), поэт — 23, 87, 93, 94
Шаро Арман I де Бетюн, герцог де (1641–1717) — 360
Шатийон Гаспар IV, граф де Колиньи, герцог де (1620–1649), с 1622 — маршал Франции — 265
Шатийон Изабелла — см. Мекленбург Изабелла-Анжелика
Шеврез Жанна-Мари, герцогиня де, урожденная Кольбер (1650–1732) — 84
Шеврез Клод Лотарингский, герцог де (1578–1657), сосед госпожи де Рамбуйе — 90, 91
Шекспир Уильям (1564–1616) — 198, 199, 226
Шольн Анри-Луи д’Альбер д’Эйи, с 1649 — герцог (1621–1653), с 1650 — генерал-лейтенант — 298
Шольн Шарль д’Альбер д’Эйи, герцог де (1625–1698), младший брат Анри-Луи Шольна, с 1670 — губернатор Бретани, друг госпожи де Севинье — 300
Эдвард II Мученик, святой (ок. 963–978) — 408
Эдвард III Исповедник, святой (1000–1066) — 408
Эйен граф д’ — см. Ноай Анн-Жюль
Эпернон Жан-Луи де Ногаре де Ла Валетт, герцог д’ (1554–1642), фаворит Генриха III — 42, 46, 95
Эпернон Бернар де Ногаре де Ла Валетт, герцог д’ (1592–1661), сын Жана-Луи д'Эпернона — 175, 344
Эпернон Мари, герцогиня д’, урожденная де Камбу де Куаслен, племянница кардинала де Ришелье и вторая жена Бернара де Ногаре де Ла Валет, герцога д’Эпернона — 344, 345, 366, 380, 384
Эпиктет (ок. 50-ок. 130) — 133
Эпикур (342/341-271/270 до н. э.) — 199
Эпуасс Жермена-Луиза, маркиза д’, урожденная д’Ансьенвиль — 245
Эразм Роттердамский (1466–1536) — 120
Эспри Андре, врач Филиппа Орлеанского — 381, 383–385, 387
Юрфе Оноре д’ (1567–1625), автор пасторального романа «Астрея» — 91, 206, 253
Юстиниан I (482–565), император Восточной Римской империи (527–565) — 14
Юэ Ньер-Даниель (1630–1721), наставник Дофина, с 1692 — епископ Суассонский — 213, 214
Яков II Стюарт (1633–1701), брат Карла II, король Англии (1685–1688) — 361
Янсений Корнелий Янсен, известный как Янсений (1585–1638), епископ Ипрский, теолог, автор труда об Августине (опубл. в 1640), давшего толчок к развитию янсенизма — 83
Примечания
1
Mongrédien G. La Vie quotidienne sous Louis XIV. Paris: Hachette, 1957. P. 36–44.
(обратно)2
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы / Пер. с фр. М. Неклюдовой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де Сент-Дени де. Избранные беседы. Вовенарг Л. де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С. Максимы и мысли / Сост., вступ. статья и примеч. М. С. Неклюдовой. М.: НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2004. С. 475–476.
(обратно)3
Цит. по: Marin L. Le portrait du roi. Paris: Les Editions de Minuit, 1981. P. 50. Об этом проекте также см.: Ranum О. Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 246–277.
(обратно)4
Цит. по: Scudéry М. de., Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi, suivies de pièces diverses (1653–1654) / Ed. par A. Niderst, D. Denis et M. Maître. Paris: Champion, 2002. P. 28.
(обратно)5
Scudéry М. de., Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi… P. 160.
(обратно)6
Balzac J.-L. G. de. Œuvres diverses (1644) / Ed. R. Zuber. Paris: Champion, 1995. P. 75.
(обратно)7
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории / Пер. с фр. А. А. Энгельке. Л.: Наука, 1974. С. 150.
(обратно)8
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 142.
(обратно)9
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 163.
(обратно)10
Segrais J. de. Œuvres diverses. Amsterdam: F. Changuion, 1723. Т. I. P. 85.
(обратно)11
Макиавелли Н. Избранные письма / Пер. с итал. Г. Д. Муравьевой // Сочинения великих итальянцев XVI в. / Сост. Л. М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2002. С. 47–49.
(обратно)12
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995. С. 96.
(обратно)13
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение… С. 63.
(обратно)14
Монтень М. де. Опыты / Пер. с фр. А. С. Бобович. М.: Голос, 1992. Т. III. С. 52.
(обратно)15
Там же. С. 46.
(обратно)16
Монтень М. де. Опыты. С. 50.
(обратно)17
О значении подделок для научных методов гуманистов см.: Grafton А. Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship. Princeton: Princeton UP, 1990.
(обратно)18
Верджерио П. П. О благородных нравах и свободных науках / Пер. с итал. Н. В. Ревякиной // Образ человека в зеркале гуманизма: Мыслители и педагоги Возрождения о формировании личности (XIV–XVIII вв.). М.: Изд-во УРАО, 1999. С. 107.
(обратно)19
Обсуждение границ Республики словесности см.: Goodman D. The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca, London: Cornell UP, 1994. P. 15–22.
(обратно)20
Монтень М. де. Опыты. T. III. С. 170.
(обратно)21
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 141.
(обратно)22
Кастильоне Б. Придворный / Пер. с итал. О. Ф. Кудрявцева // Сочинения великих итальянцев XVI в. С. 231.
(обратно)23
Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона / Пер. с фр. Г. Ярхо. М.: Правда, 1990. С. 222, 301.
(обратно)24
См.: Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000.
(обратно)25
Макиавелли Н. Государь / Пер. с итал. Г. Д. Муравьевой // Макиавелли Н. Избранные сочинения. М.: Худ. лит., 1982. С. 351.
(обратно)26
Там же. С. 352.
(обратно)27
Ossola С. Miroirs sans visage. Du courtisan à l’homme de la rue / Trad. de l’italien par N. Sels. Paris: Seuil, 1997.
(обратно)28
Макиавелли Н. Государь. С. 342.
(обратно)29
Кастильоне Б. Придворный. С. 213.
(обратно)30
Цит. по: Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 141–142.
(обратно)31
Кастильоне Б. Придворный. С. 204.
(обратно)32
Кастильоне Б. Придворный. С. 186.
(обратно)33
Кастильоне Б. Придворный. С. 213.
(обратно)34
Там же. С. 244.
(обратно)35
См.: Constant J.-M. La noblesse française aux XVI et XVII siècles. Paris: Hachette, 1994. P. 43–53.
(обратно)36
См.: Элиас H. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии / Пер с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 234–236.
(обратно)37
Сен-Симон де Р. де. Мемуары / Пер. с фр. Ю. Б. Корнеева. М.: Прогресс, 1991. Т. II. С. 196.
(обратно)38
Сен-Симон де Р. де. Мемуары. С. 188.
(обратно)39
См.: Kantoroivicz Е. Н. The King’s Two Bodies: a Study in Medieval Political Theology. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1957.
(обратно)40
Элиас Н. Придворное общество… С. 242.
(обратно)41
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 120.
(обратно)42
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. 113.
(обратно)43
Пер. с фр. М. Лозинского.
(обратно)44
Пер. с фр. Вс. Рождественского.
(обратно)45
Старобинский Ж. О Корнеле // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры / Пер с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002. T. I. C. 199.
(обратно)46
О своеобразном «проигрыше» Химены см.: Doubrovsky S. Corneille et la dialectique du héros. Paris: Gallimard, 1963. P. 87–132.
(обратно)47
Tallemant des Réaux. Historiettes / Texte integral, ét. et an. par A. Adam. Paris: Gallimard, 1967. Т. I. P. 92.
(обратно)48
См.: Arditi J. A Genealogy of Manners: Transformation of Social Relations in France and England from the Fourteenth to the Eighteenth Century. Chicago; London: University of Chicago Press, 1998. P. 102.
(обратно)49
Le Parfait Courtisan du comte Baltasar Castillonois, de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau. Paris: N. Bonfons, 1585. (Без пагинации.)
(обратно)50
Faret N. L’Honneste-Homme, ou L’Art de plaire à la Cour. Paris: T. du Bray, 1630. P. 70–71.
(обратно)51
Ibid. P. 75.
(обратно)52
Faret N. L’Honneste-Homme… P. 193 — 194.
(обратно)53
Декарт Р. Рассуждение о методе / Пер. с фр. Г. С. Тымянского // Декарт Р. Разыскание истины. СПб.: Азбука, 2000. С. 84.
(обратно)54
Faret N. L’Honneste-Homme… P. 194.
(обратно)55
Пер. с фр. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)56
Faret N. L’Honneste-Homme… P. 20.
(обратно)57
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 151.
(обратно)58
Ларошфуко Ф. де. Максимы / Пер. с фр. М. Неклюдовой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. С. 49.
(обратно)59
Furetière A. Dictionnaire Universel, Contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. Т. III. Rotterdam, 1690 (статья «Privé»).
(обратно)60
См.: A History of Private Life / Ed. Ph. Aries, G. Duby. Cambridge (Mass.); London: Harvard UP, 1989. Т. III. P. 217–231.
(обратно)61
Bluche F. La vie quotidienne au temps de Louis XIV. Paris: Hachette, 1984. P. 24.
(обратно)62
См.: Элиас Н. Придворное общество… С. 56–85.
(обратно)63
См.: Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 142.
(обратно)64
Сен-Симон. Мемуары. Т. II. С. 185–186.
(обратно)65
См.: A History of Private Life. Т. III. P. 16–17.
(обратно)66
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 155.
(обратно)67
Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века / Пер. с фр. Ю. Корнеева, Э. Линецкой // Ларошфуко Ф. де. Максимы… С. 259.
(обратно)68
См.: A History of Private Life. Т. III. P. 69–109.
(обратно)69
Лабрюйер Ж. де. Характеры… // Ларошфуко Ф. де. Максимы. С. 281.
(обратно)70
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 146 (с изменениями).
(обратно)71
В существующем русском переводе (см. предшествующую сноску) речь идет о «чехлах», однако это, безусловно, ошибка: словарь Фюретьера недвусмысленно описывает «coeffe» (или «coiffe») как сменную подкладку, которую стирают, когда она пачкается. Кроме того, этим же словом обозначалась подкладка париков.
(обратно)72
Пер. с фр. Н. Яковлевой.
(обратно)73
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 404.
(обратно)74
См.: Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini / Ed. par G. Doscot. Paris: Mercure de France, 2003. P. 163–164.
(обратно)75
Лафайет М.-М. де. Принцесса Клевская / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург // Лафайет М.-М. де. Сочинения. М.: Ладомир; Наука, 2007. С. 314.
(обратно)76
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 403.
(обратно)77
См.: Constant J.-M. La noblesse… P. 136.
(обратно)78
См.: Saint-Simon. Mémoires. Additions au Journal de Dangeau / Ed. par Yves Coirault. Т. I (1691–1701). Paris: Gallimard, 1983. P. 32–39.
(обратно)79
См.: «Мадмуазель» — титул старшей «внучки Франции». Как поясняет Сен-Симон, поскольку у Людовика XIII долго не было детей, а у его брата — одна дочь, Анна Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье, то было решено дать ей особый статус, сопоставимый с «детьми Франции». На основании этого прецедента все отпрыски как Гастона, так и Филиппа Орлеанского имели статус «внуков Франции». Среди «внучек Франции» старшую именовали просто «Мадмуазель», и на протяжении долгого времени этот титул безраздельно принадлежал герцогине де Монпансье. Однако в 1662 г. у Филиппа Орлеанского родилась дочь, которую тоже полагалось именовать «Мадмуазель». Так за герцогиней де Монпансье закрепилось наименование «Старшая Мадмуазель» (см.: Saint-Simon. Mémoires. Additions au Journal de Dangeau. Т. I. P. 980).
(обратно)80
См.: Saint-Simon. Mémoires… P. 227.
(обратно)81
Лафайет М.-М. де. Принцесса Клевская. С. 227.
(обратно)82
Сен-Симон. Мемуары. Т. I. С. 106.
(обратно)83
Там же. С. 107.
(обратно)84
См.: Mémoires de Madame de La Guette, écrits par elle-meme. Paris: Mercure de France, 1982. P. 53–57.
(обратно)85
См.: Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 499.
(обратно)86
О концепции «нежной дружбы» у г-жи де Скюдери см.: Стогова Л. В. Метаморфозы «нежной дружбы»: к вопросу о создании и восприятии романов в XVII веке //Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2005. № 15. С. 223–262.
(обратно)87
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 147.
(обратно)88
Описанию этих событий посвящено «Сообщение о том, что недавно произошло в Нежности, с прибавлением речи, произнесенной правительницей тех мест перед обитателями старого города». См.: Scudéry М. de, Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi… P. 321–325 (цит. с. 322).
(обратно)89
См.: Tallemant des Réaux. Historiettes. Т. I. P. 475–476.
(обратно)90
Fléchier E. Mémoires sur les Grands-Jours d’Auvergne (1665). Paris: Mercure de France, 1984. P. 311.
(обратно)91
Scudéry М. de., Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi… P. 219–220.
(обратно)92
Ibid. P. 342n.
(обратно)93
Scudéry М. de, Pellisson P., et al. Chroniques du Samedi… P. 341–342.
(обратно)94
Сен-Симон де Р. Мемуары. Т. I. С. 443.
(обратно)95
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 470.
(обратно)96
Лабрюйер Ж. Характеры… С. 159.
(обратно)97
См.: Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini. P. 131.
(обратно)98
См.: Fumaroli М. L’âge de l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique. Genève: Librairie Droz S.A., 2002. P. 17–34.
(обратно)99
К примеру, см.: Рец кардинал де. Мемуары / Пер. с фр. Ю. Я. Яхниной. М.: Ладомир, 1997. С. 97–100, 136–141, 185–200.
(обратно)100
См.: Merlin-Kajman Н. L’excentricité académique. Littérature, institution, société. Paris: Les Belles Lettres, 2001.
(обратно)101
Gueret G. La Carte de la Cour. Paris: J. B. Loyson, 1663. P. 40.
(обратно)102
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 147.
(обратно)103
Рец кардинал де. Мемуары. С. 118.
(обратно)104
См.: Ларошфуко Ф. де. Мемуары / Пер. с фр. А. С. Бобовича // Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. Л.: Наука, 1971. С. 33–36.
(обратно)105
См.: Tallemant des Réaux. Historiettes. Т. II. P. 689.
(обратно)106
Об этом см.: Jouhaud Ch., Merlin Н. Mécènes, patrons et clients. Méditations textuelles comme pratiques clientélaires au XVIIe siècle // Liens de pouvoir: Terrain. Oct. 1993. № 21 [].
(обратно)107
Рец кардинал де. Мемуары. С. 354.
(обратно)108
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 486.
(обратно)109
Mémoires et autres écrits de Marguerite de Valois, la reine Margot / Éd. par Y. Cazaux. Paris: Mercure de France, 1971. P. 35–36. См. также рус. перевод: Мемуары королевы Марго / Пер. с фр. И. В. Шевлягиной. М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 33–34.
(обратно)110
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 35.
(обратно)111
Пер. с фр. В. Левика. См.: Поэзия Плеяды / Сост. И. Ю. Подгаецкая. М.: Радуга, 1984. С. 257.
(обратно)112
Génetiot A. Les genres lyriques mondains (1630–1660). Étude des poésies de Voiture, Vion d’Alibray, Sarasin et Scarron. Genève: Droz, 1990. P. 177.
(обратно)113
Furetière A. Dictionnaire Universel… Т. 1 (статья «Conversation»).
(обратно)114
Пер. с фр. Н. М. Любимова.
(обратно)115
[Della Casa G.] Galatée, ou L’art de plaire dans la conversation. Paris, 1666 (без пагинации).
(обратно)116
Об этом см.: Неклюдова М. «Живая и совершенная книга»: к вопросу об эпистемологическом статусе трактатов о вежестве XVII века // Теория и мифология книги: Французская книга во Франции и в России. М.: РГГУ, 2007. С. 30–44. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 53.)
(обратно)117
Пер. с фр. Н. Яковлевой.
(обратно)118
Перевод выполнен по изданию: Le Courtisan Parfaict. Enrichi de plusieurs belles & rares lettres. Lettres de Compliments & d'un Bouquet de Marguerites, & Fleurs d’élite, choisies dans leurs jardin. Finalement multiplié de plusieurs belles & equises Sentences, Propos, Rodomontades Espagnoles & Autres. Amsterdam: B. de Preys, 1640. P 3, 28–29, 73–78.
(обратно)119
Куртэну посвящено монографическое исследование: Farid К. Antoine de Courtin (1622–1685), étude critique. Paris: A.-G. Nizet, 1969.
(обратно)120
Пер. с фр. Н. М. Любимова.
(обратно)121
Перевод выполнен по изданию: Courtin A. de. Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes-gens. Nouvelle edition. Paris: L. Josse et C. Robustel, 1728. P. 51–73.
(обратно)122
В 1657 г. мадмуазель де Монпансье беседовала по этому поводу с Анной Австрийской. «Королева рассмеялась и сказала мне: „Удивительно слышать, как вы говорите „мой отец“; однако это правильно: „г-н мой отец“ звучало бы нелепо“. Я ей отвечала: „Теперь это выражение так распространено, что особы моего ранга не должны более им пользоваться…“» (Montpensier madmoiselle de. Mémoires // Nouvelle collection des Mémoires relatifs à l’histoire de France depuis le XIII siècle jusquʼà la fin du XVIII siècle / Par MM Michaud et Poujoulat. Paris: Didier, 1854. Т. XXVIII. P. 257). В январе 1676 г. г-жа де Севинье замечала дочери: «Вы с полной серьезностью пишете мне по поводу моего [предыдущего] письма: „Г-н ваш отец“, — можно подумать, что мы не в родстве; кем же, по вашему мнению, он вам приходился?» (Sévigné М. de. Lettres. Paris: Gallimard, 1955. Т. II (1676–1684). P. 13–14). Нет сомнения, что г-жа де Гриньян не хуже матери знала правила приличия. Ее стилистический промах мог быть связан с двумя обстоятельствами: с одной стороны, она вряд ли что-либо знала о деде (он погиб, когда г-же де Севинье было чуть больше года); с другой — именно он был представителем родовитого семейства Рабютен-Шанталь, родством с которым гордились и мать, и дочь. Именно поэтому она могла употребить столь формальное выражение. См. ниже главу 3.
(обратно)123
По всей видимости, речь идет о Генрихе Лотарингском, графе д’Аркур (1601–1666) — известном военачальнике, участнике французских кампаний в Италии, Испании и Фландрии. Это заставляет предположить, что трактат Куртэна был написан не позднее начала 1660-х гг. Об этом же свидетельствует упоминание Касале — итальянской крепости, долго бывшей в руках французов, но в 1659 г. вновь отошедшей Мантуанскому герцогству (событие, которое могло актуализировать тему минувших побед).
(обратно)124
Ларошфуко Ф. де. Максимы. С. 49.
(обратно)125
См.: Декарт Р. Рассуждение о методе. С. 72.
(обратно)126
Перевод выполнен по изданию: Modeles de conversations pour les personnes polies / Par М. lʼabbé de Bellegarde. Seconde éd. augm. Paris: J. Guignard, 1698. P. 342–368.
(обратно)127
Как мы видим, аббат де Бельгард считал необходимым высказаться по поводу знаменитого Спора о Древних и Новых, начавшегося еще в 1670-х гг. Напомню, что основным предметом спора была проблема подражания, вернее, выбора литературной модели: стоило ли во всем подражать античным авторам или французская словесность уже достигла достаточной зрелости, чтобы идти собственным путем. В числе защитников первой точки зрения были Расин, Буало, Лабрюйер. Ряды их противников возглавлял Шарль Перро, в 1688 г. выступивший с программным текстом «Сравнение Древних и Новых». Аббат де Бельгард подчеркивает тот факт, что подражание Древним мало соответствует вкусам светского общества и потому малоприемлемо с точки зрения искусства беседы.
(обратно)128
См.: Mongrédien G. La Vie quotidienne… P. 20.
(обратно)129
Об этом см.: Morlet-Chantalat Ch. La Clélie de Mademoiselle de Scudéry. De lʼépopée à la gazette: un discours féminin de la gloire. Paris: Honoré Champion, 1994. P. 357.
(обратно)130
Перевод выполнен по изданию: Les Conversations sur divers sujets par Mademoiselle de Scudéry. Amsterdam: D. du Fresne, 1682. P. 1–20.
(обратно)131
[Vaugelas С. F. de]. Remarques sur la langue françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrir. Paris: J. Camusat et P. le Petit, 1647. P 477.
(обратно)132
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 153 (с изменениями).
(обратно)133
Bussy-Rabutin R. de. Mémoires / Nouvelle éd. par L. Lalanne. Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1882. Т. I. P. 43.
(обратно)134
Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules / Éd. presentée par R. Duchêne avec collob. de J. Duchêne. Paris: Gallimard, 1993. P. 237.
(обратно)135
Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 5.
(обратно)136
Dictionnaire de l’Académie françoise dedié au Roy. Paris, 1694. Т. I. P. 645.
(обратно)137
Все эти события подробно изложены в «Истории Генриетты Английской» госпожи де Лафайет. См.: Лафайет М.-М. де. Сочинения. М.: Ладомир; Наука, 2007. С. 181–207.
(обратно)138
Перевод выполнен по изданию: Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules. P. 27–59.
(обратно)139
Людовика XIV иногда — особенно пока он был молод — именовали «Богоданным»: его рождение современники имели все основания считать чудом, так как он появился на свет в 1638 г., после двадцати трех лет брака Людовика XIII и Анны Австрийской. «Теодат» — греко-латинский эквивалент этого титула. Что касается войны, то имеется в виду конфликт между Францией и Испанией, начавшийся в 1635 г. и завершившийся Пиренейским миром в 1659 г.
(обратно)140
Катрин-Генриетта д’Анженн, мадмуазель де Ла Лупп (1634–1714).
(обратно)141
Луи де Ла Тремуй, граф д’Олонн (1626–1686), женился на мадмуазель де Ла Лупп 1 марта 1652 г.
(обратно)142
Франсуа д’Аркур, маркиз де Беврон.
(обратно)143
Луи-Шарль-Гастон де Ногаре, маркиз де Ла Валетт, герцог де Кандаль (1627–1658) был внуком знаменитого фаворита Генриха III и сыном незаконнорожденной дочери Генриха IV. Этого блестящего вельможи той эпохи уже давно не было в живых, когда Бюсси начал работать над «Любовной историей галлов», поэтому его имя практически не зашифровано, в нем изменена только одна буква.
(обратно)144
Отцом герцога де Кандаля был Бернар де Ногаре де Ла Валетт, герцог д’Эпернон (1592–1661). «Английским» Бюсси его именует из-за того, что в 1639 г. д’Эпернон был вынужден бежать в Англию, где оставался вплоть до смерти Людовика XIII в 1643 г. Вернувшись во Францию, он получил губернаторство Бургундии, а затем — Гиенны. Что касается Кандаля, то он управлял Овернью («Жерговинию»).
(обратно)145
Жак Паже, интендант финансов.
(обратно)146
Огромная сумма для той эпохи. Две тысячи пистолей были равны двадцати тысячам ливров: это больше, чем требовалось для содержания среднего дворянского дома. В 1679 г. госпожа де Ментенон считала, что ее брату будет вполне достаточно 12 тысяч ливров в год, чтобы достойно жить с женой в Париже.
(обратно)147
Никола Жанен де Кастий, барон де Монже, финансист из круга Никола Фуке, с 1644 г. исполнял обязанности казначея, в 1661 г. был арестован вслед за своим покровителем.
(обратно)148
То есть 30 тысяч ливров.
(обратно)149
Кандаль умер в Лионе 28 января 1658 г. Что касается Фезик, то это — Жильон д’Аркур (1616–1699), в 1643 г. вышедшая замуж за графа де Фиеск.
(обратно)150
Диана де Жоанни де Руссан (ум. в 1667), вдова маркиза де Кастеллана, как раз в 1658 г. вышла замуж за Шарля де Виссека, маркиза де Ганжа. Имя Армиды дано ей в честь другой соблазнительницы — волшебницы Армиды из «Неистового Роланда» Ариосто.
(обратно)151
У маркиза де Беврона (Ороондата) было несколько братьев, однако здесь под именем Танкреда упомянут лишь один, Ларри. Эдмон — Сент-Эвремон, а Тюрпен — аббат Рене де Вилларсе. Все они были родом из Нормандии.
(обратно)152
В 1658 г. Марди-гра пришелся на 5 марта. Грассар — Уильям Крофтс, придворный из свиты королевы Англии, после казни Карла I нашедший приют во Франции. Резильи — Луи Роже Брюляр, маркиз де Рюизье де Сийери (1619–1691).
(обратно)153
Франсуа VII, принц де Марсийак (1634–1714), после 1680 г. — герцог де Ларошфуко. Сын Франсуа VI, герцога де Ларошфуко, автора «Максим». В отличие от отца, безвозвратно скомпрометированного в глазах короля участием в событиях Фронды, был хорошо принят при дворе и пользовался неизменной благосклонностью Людовика XIV, за что получил прозвание «Друг короля».
(обратно)154
Сийери был женат на тетке Марсийака, родной сестре Ларошфуко, поэтому ему естественно было взять на себя роль наставника молодого человека.
(обратно)155
Герцог де Ларошфуко, напротив, считал, что «страсть часто делает человека бойкого дураком, а самых глупых — бойкими» (Ларошфуко Ф. де. Максимы. С. 25). Как видим, согласно Бюсси, пример Марсийака убеждал в обратном.
(обратно)156
Филибер де Грамон (1621–1707) был известен своей храбростью и злым языком. Из-за участия в ряде скандальных происшествий (по слухам, он не побоялся вступить в соперничество с королем за благосклонность дамы) он был вынужден в 1662 г. уехать в Англию, где женился на Элизабет Гамильтон. Брат его жены, Антуан Гамильтон, в 1713 г. опубликовал известные «Мемуары графа де Грамона» — полуисторический рассказ о похождениях своего свойственника (см.: Гамильтон А. Мемуары графа де Грамона / Пер. с фр. М. Архангельской. М.: Московский рабочий, 1993).
(обратно)157
Графиня де Фиеск была приближенной Мадмуазель, дочери Гастона Орлеанского. В октябре 1652 г., после событий Фронды, в которых Мадмуазель принимала деятельное участие, ей было приказано удалиться в свои земли. Опала распространялась и на ее приближенных.
(обратно)158
Франсуа, граф де Рувиль. В 1650 г. Бюсси женился на его сестре, Луизе де Рувиль.
(обратно)159
Герцогиня Виктори — племянница кардинала Мазарини, Лаура Виктория де Манчини (1636–1657). В 1651 г. она была выдана замуж за Луи де Вандома, герцога де Меркер, внука Генриха IV (его отец, Сезар, герцог Вандомский, был незаконнорожденным сыном этого монарха). Герцогиня де Меркер была известна своей набожностью и добродетелью; после ее внезапной смерти герцог де Меркер принял монашеский сан. Что касается Ларисы, то это Жиго де Бельфон (см. ниже сноску 32 на с. 246).
(обратно)160
Исаак Бенсерад (1613–1691), светский поэт, пользовавшийся большим успехом при дворе. Вначале ему покровительствовал кардинал де Ришелье, затем брат Людовика XIV, Филипп. Вместе с композитором Люлли он был автором многочисленных придворных балетов, которые очень любил Людовик XIV.
(обратно)161
Как библейский Саул филистимлян: у Марсийака был массивный подбородок, над которым потешались его недоброжелатели.
(обратно)162
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 466.
(обратно)163
Интересно, что в случае Винея в полной мере видно, как срабатывает двойная логика клиентелы: участник Фронды, он тоже оставил «Мемуары», которые долго публиковались под именем Ларошфуко.
(обратно)164
Пер. с англ. С. Я. Маршака.
(обратно)165
Изнеженность (лат.).
(обратно)166
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 468–469.
(обратно)167
Перевод выполнен по изданию: Saint-Évremond. Œuvres en prose / Textes publiés par René Ternois. Paris: Librairie Marcel Didier, 1962. T. 1. P. 19–26.
(обратно)168
Сюжет известной пьесы Кальдерона «Дама Привидение» (1629), где героиня, запертая суровыми братьями, осмеливается выходить лишь тайком, скрывая лицо под вуалью. На улице она случайно сталкивается с братом, который затем так описывает эту встречу: «К кружку друзей я направляюсь, / Они, я вижу, веселятся, / До глаз закутанная дама / Им много говорит острот, / И все они ей восхищались, / Наперебой хваля искусство / И меткость быстрых изречений» (пер. с исп. К. Бальмонта).
(обратно)169
Анна-Женевьева де Бурбон-Конде, герцогиня де Лонгвиль, в молодости славилась красотой и потому могла считаться экспертом в этой области. Как уже говорилось, после возвращения во Францию она стала важной фигурой салонной жизни.
(обратно)170
Saint-Évremond. Œuvres en prose. С. 118 — 119.
(обратно)171
Пер. с фр. Н. Яковлевой.
(обратно)172
Рец кардинал де. Мемуары. С. 118.
(обратно)173
Ларошфуко Ф. де. Максимы. С. 23.
(обратно)174
Там же. С. 30.
(обратно)175
По поводу этого наименования см. сноску 79 на с. 73.
(обратно)176
Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini. P. 119.
(обратно)177
Рец кардинал де. Мемуары. С. 119.
(обратно)178
См.: Montpensier m-lle de. Mémoires. P. 158.
(обратно)179
Перевод выполнен по изданию: Monpensier duchesse de. Portraits littéraires / Presentation et commentaires Ch. Bouyer. Biarritz: Séguier, 2000. P. 23–27.
(обратно)180
Цит. по: Morlet-Chantalat Ch. La Clélie de Mademoiselle de Scudéry… P. 53n.
(обратно)181
Furetière A. Le Roman bourgeois // Romanciers du XVIIe siècle / Textes pres. et annotes par A. Adam. Paris: Gallimard, 1958. P. 1095.
(обратно)182
Перевод выполнен по изданию: Clélie, histoire romaine, dediée à Mademoiselle de Longueville / Par Mr. de Scudéry, Gouverneur de Nostre Dame de la Garde. Troisième partie. Paris: A. Courbé, 1657. Т. II. P. 1324–1335.
(обратно)183
Перевод осуществлен по изданию: Montpensier duchesse de. Portraits littéraires. P. 161–163.
(обратно)184
См.: Элиас Н. Придворное общество… С. 86–99.
(обратно)185
Перевод выполнен по изданию: Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules… P. 152–157.
(обратно)186
О становлении авторского права см.: Алябьева Л. Литературная профессия в Англии в XVI–XIX веках. М.: НЛО, 2004.
(обратно)187
Œuvres completes de Saint-Amant / Nouvelle éd. par M. Ch.-L. Livet. Paris: P. Jannet, 1855. Т. I. P. 18–19.
(обратно)188
Les Conversations sur divers sujets par Mademoiselle de Scudéry. P. 80–81.
(обратно)189
Перевод осуществлен по изданию: Sévigné Madame de. Correspondence. Paris: Gallimard, 1972. Т. 1 (mars 1646 — juillet 1675). P. 91–95, 100–102, 103–104.
(обратно)190
Марианна Манчини (1649–1714), племянница кардинала Мазарини, в 1662 г. ставшая супругой Мориса-Годфруа де Ла Тур д’Овернь, герцога де Буйон. Хозяйка известного литературного салона, который посещали госпожа де Севинье и госпожа де Лафайет.
(обратно)191
Жак де Нешез, епископ Шалонский (1591–1658): госпожа де Севинье и дочери Бюсси от первого брака приходились ему родней. Бюсси предлагал в качестве залога их долю в будущем наследстве. Именно поэтому для подтверждения сделки было желательно согласие господина де Нешеза, брата и душеприказчика епископа.
(обратно)192
Жан Корбинелли (1622–1716), общий друг госпожи де Севинье и Бюсси.
(обратно)193
По-видимому, имеется в виду возлюбленная Бюсси маркиза де Монгла (см. сноску 28 на с. 244).
(обратно)194
Госпожа де Севинье была вовлечена в дело Никола Фуке (1615–1680): после ареста суперинтенданта в 1661 г. в его бумагах были найдены письма многих знатных дам, порой их компрометировавшие, в том числе и письма госпожи де Севинье.
(обратно)195
В Бретани были расположены земли госпожи де Севинье.
(обратно)196
С Катрин де Бонн, графиней де Ла Бом де Остюн, Бюсси свел знакомство в Лионе в 1660 г., приблизительно тогда же был набросан первый вариант «Любовной истории галлов». Ей же на короткое время была доверена рукопись окончательного варианта, и Бюсси полагал, что она успела снять с нее копию.
(обратно)197
Сесиль де Шиверни, маркиза де Монгла, чья связь с Бюсси продолжалась с 1653 г. вплоть до его изгнания в 1665–1666 гг.
(обратно)198
Бюсси был арестован и заключен в Бастилию 17 апреля 1665 г.
(обратно)199
Жермена-Луиза д’Ансьенвиль, маркиза д’Эпуасс.
(обратно)200
Правильно: Жозеф Биде де Ла Бидьер, парламентский советник.
(обратно)201
Мари Жиго де Бельфон, супруга маркиза де Виллара и одна из лучших подруг госпожи де Севинье. Среди новопроизведенных маршалов был ее племянник, Бернарден Жиго, маркиз де Бельфон (1630–1694).
(обратно)202
Речь идет о дочери госпожи де Севинье, Франсуазе-Маргарите (1646–1705), которой тогда было 23 года Госпожа де Севинье тревожилась о ее замужестве, отсюда и недовольство репутацией «прелестнейшей девушки». Через год Франсуаза-Маргарита стала графиней де Гриньян.
(обратно)203
Кристоф де Куланж, аббат де Ливри (1607–1687) — дядя госпожи де Севинье, с 1650 г. занимавшийся ведением ее дел.
(обратно)204
В письме графу де Бюсси-Рабютену от 6 июня 1668 г. госпожа де Севинье пошутила по поводу свалившегося ему на голову карниза (une corniche), заметив, что обычно мужьям на голову сваливаются куда более солидные рога (des cornes). Как мы видим, Бюсси было на что обижаться: с одной стороны, такая игра слов бросала тень на его честь, с другой — демонстрировала отсутствие сочувствия со стороны кузины, которая лишь посмеивалась над приключившимся с ним несчастьем.
(обратно)205
Жан, маркиз де Сурш, граф дю Буше, был главным прево Франции и известным знатоком генеалогии.
(обратно)206
Луи Франсуа Лефевр де Комартен (1624–1687), советник парижского парламента, докладчик в Государственном совете, интендант Шампани и друг кардинала де Реца.
(обратно)207
Кандия (современный Гераклион, один из городов острова Крита) до середины XVII в. находилась под властью Венеции, но в 1646 г. была осаждена турецкими войсками и пала в сентябре 1669 г. Французские силы участвовали в защите города под знаменами католической церкви. Что касается спутников Шарля де Севинье (1648–1713), то Франсуа, виконт д’Обюссон (ум. в 1691), в 1667 г. женился на сестре герцога де Роаннес и получил право носить этот титул. После кампании в Кандии он получил титул герцога де Ла Фейад. Шарль-Парис д’Орлеан-Дюнуа, герцог де Лонгвиль, до 1669 г. носивший имя графа де Сен-Поль (1649–1672), был незаконнорожденным сыном герцога де Ларошфуко (см. сноску 39 на с. 344).
(обратно)208
Шарль де Севинье советовался с близкими друзьями госпожи де Севинье: полководцем Анри де Ла Тур д’Овернь, виконтом де Тюренном (1611–1675), бывшим заговорщиком Жаном-Франсуа-Полем де Гонди, кардиналом де Рецем (1613–1679) и автором «Максим».
(обратно)209
Цитата из трагедии «Цинна» Пьера Корнеля: это реплика Августа, обращенная к неудавшемуся заговорщику Цинне. В переводе Вс. Рождественского ей соответствуют строки: «Ты милости презрел — я их удвою сам, / Ты много их имел — тебе их больше дам» (V: III). Шарль де Сент-Мор Пресиньи, герцог де Монтозье (1610–1690) отнюдь не был заговорщиком. Воспитателем Людовика Французского (1661–1711), наследника престола, он стал в 1665 г., однако его официальное утверждение в этой должности состоялось лишь в 1668 г.
(обратно)210
Пер. с фр. Н. Яковлевой.
(обратно)211
См.: Hazard P. La Crise de la conscience européenne: 1680–1715. Paris: Boivin, 1935.
(обратно)212
См.: Burke P. A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity Press, 2000. P. 132.
(обратно)213
Мемуары королевы Марго. С. 36–37.
(обратно)214
См.: Bassy А.-М. Supplément au voyage de Tendre // Bulletin de bibliophile. 1982. № 1. P. 13–33.
(обратно)215
См.: Pomian К. Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, 1987.
(обратно)216
См.: Tallemant des Réaux. Historiettes… Т. I. P. 520.
(обратно)217
Перевод «Субботних хроник» и «Газеты страны Нежности» выполнены по этому изданию: Scudéry М de., Pellisson P. et al. Chroniques du Samedi… P. 73–78, 126–130.
(обратно)218
Еще раз напомним, что «Сафо» — г-жа де Скюдери, а «Акант» — Пелиссон.
(обратно)219
Как уже говорилось, Валантен Конрар (1603–1675) был одним из главных созидателей профессиональной словесности, хотя сам почти ничего не писал. «Сафо» и «Акант» были многим ему обязаны: он побудил Пелиссона написать историю Французской академии и познакомил его с госпожой де Скюдери.
(обратно)220
Женевьева Перрике.
(обратно)221
Рене де Форбен, в замужестве де Пенн. Госпожа де Скюдери познакомилась с ней в Марселе.
(обратно)222
Жан-Жорж де Гаро-Дюранти де Донневиль.
(обратно)223
То есть суббота.
(обратно)224
Оба места названы не случайно. Вплоть до отречения Кристины, королевы Шведской (1626–1689) (в 1654 г.), один из самых притягательных в Европе для людей ученых. Что касается Лангедока, то историческое противопоставление северного парижского региона и «страны языка „ок“» еще не утратило своей актуальности.
(обратно)225
Госпожа де Скюдери была родом из Нормандии, поэтому — в соответствии с региональными стереотипами — была склонна забыть о данном слове. В современном французском уклончивый ответ до сих пор именуется «нормандским». Впрочем, Пелиссон мог иметь в виду и пресловутое непостоянство женского пола, хотя такая аллюзия скорее могла обидеть г-жу де Скюдери, нежели шутка по поводу «нормандских» черт ее характера.
(обратно)226
Анна Боке, соседка и подруга госпожи де Скюдери.
(обратно)227
В одном из предшествующих писем «Сафо» просила у «Аканта» шесть месяцев на то, чтобы обдумать его «загадку», содержащую объяснение в любви.
(обратно)228
Жан-Жак Ренуар, граф де Виллайер (ум. в 1691), советник и докладчик парламента, член Французской академии с 1658 г., был изобретателем не только почтового ящика, но и прототипа лифта. По мнению современников, в «Характерах» Лабрюйера он обрисован под именем Гермиппа: «Гермипп в рабстве у своих так называемых маленьких удобств: ради них он готов пренебречь установленными обычаями, модой, требованиями приличий. Везде он ищет удобств, ни одно не ускользает от его внимания, меньшие он отвергает ради больших; он превращает это занятие в настоящую науку и ежедневно придумывает какое-нибудь новшество <…> Он великий мастер по части пружин и механизмов — тех, по крайней мере, без которых все обходятся. Свет в его комнаты проникает не через окна, он нашел способ подниматься и спускаться у себя в доме не по лестнице и старается теперь найти возможность входить и выходить более удобным путем, чем через дверь» (Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 413–414).
(обратно)229
«Похороны господина де Вуатюра» — одно из самых известных произведений Жана-Франсуа Саразена (1614–1654). В 1656 г. Пелиссон принял участие в издании его сочинений.
(обратно)230
«Послание господину де Колиньи» Венсана Вуатюра (1597–1648) — отклик на скандальный брак между Гаспаром IV, графом де Колиньи, герцогом де Шатийоном (1620–1649), и Изабеллой де Монморенси-Бутвиль (1626–1695), заключенный без согласия их семей при пособничестве принца де Конде. Его обстоятельства — похищение невесты и участие Конде — описаны во второй части «Любовной истории галлов» Бюсси-Рабютена.
(обратно)231
Пелиссон был избран во Французскую академию 17 ноября 1653 г. Вопреки установленным правилам, ему заранее было обещано первое освободившееся место (число академиков ограничивалось сорока).
(обратно)232
Пелиссон был родом из Гаскони.
(обратно)233
По всей видимости, в салоне маркизы де Рамбуйе говорили о Тито Ливио Бураттини, который в 1648 г. в Варшаве изобрел летательную машину в виде дракона с восемью крыльями. Кроме того, в 1627 г. Фридрих Герман Фалейдер опубликовал целый трактат «Об искусстве летать».
(обратно)234
Этот первый авторский вариант Карты страны Нежности не сохранился.
(обратно)235
Самюель Изарн (1637–1672), поэт круга мадмуазель де Скюдери. Сколь тонка была грань между галантным воровством и настоящим грабежом, показывает история, напечатанная в первом номере «Галантного Меркурия», где кавалер крадет у спящей дамы жемчужное ожерелье стоимостью в двадцать тысяч франков. Когда она просыпается, то принимает это за галантную шутку, полагая, что ожерелье будет ей возвращено, однако воровство оказывается самым неподдельным и ей приходится прибегнуть к помощи друзей и слуг, которые силой выбивают из незадачливого кавалера драгоценность (См.: Le Mercure galant, contenant plusieurs histoires veritables, et tout ce qui s’est passé depuis le premier Janvier 1672 jusques au Depart du Roy. Paris: Th. Girard, 1672. P. 13–34).
(обратно)236
Госпожа де Скюдери написала Конрару («Теодамасу») записку, в которой надо было сложить окончания всех строчек и получить ключевую фразу. Послание не было рифмованным (так что это не вполне акростих), и Пелиссон «попался», так как не сразу смог расшифровать его истинный смысл.
(обратно)237
«Ни единой мухи» (лат.). Имеется в виду рассказ Светония — самого читаемого в XVII в. из римских историков — об императоре Домициане.
(обратно)238
Жаклин д’Арпажон, дочь Луи д’Арпажона, в 1650 г. возведенного в ранг герцога и пэра. В «Клелии» она выведена под именем Филонис. Что касается графини де Рие, то это Анна д’Орнано, графиня де Монлор, которая в 1645 г. вышла замуж за Франсуа д’Эльбефа, графа де Рие.
(обратно)239
Антуан Гомбо, шевалье де Мере (1610–1684) — писатель-моралист, один из собеседников Паскаля.
(обратно)240
Жан д’Эстю, сеньор де Траси.
(обратно)241
Имеются в виду Жанна Ле Жандр, дама Арагонне, ее дочь Мари Арагонне, дама д’Алигр, и Мари Робино: все они были соседками госпожи де Скюдери по кварталу Маре и принадлежали к кругам финансистов. Будучи первопоселенцами Нежности (то есть самыми давними из близких друзей писательницы), они враждебно относились к новоприбывшим «чужакам» (отсюда и разделение Нежности на «старый» и «новый» город).
(обратно)242
Мишель-Жером Моро.
(обратно)243
Поскольку речь идет о классической древности — известную историю о древнегреческом живописце Зевксисе или Зевксиде (464–398 гг. до н. э.), ученике Аполлодора, решившим создать идеальный образ женской красоты и для этого позаимствовавшем лучшие черты нескольких красавиц, рассказывает Плиний Младший в «Естественной истории» (XXXV, 64), — то мадмуазель де Скюдери предпочитает не проявлять излишнюю осведомленность, не подобающую светской даме.
(обратно)244
Сад Ренара располагался рядом с Тюильри и в итоге стал его частью.
(обратно)245
В XVII в. существовало три возможных написания слова «ласточка»: «arondelle», «hérondelle» и закрепившееся в современном французском «hirondelle».
(обратно)246
«С ветки на ветку, с цветка на цветок» (итал.).
(обратно)247
Libraire au Lecteur // Le Mecure galant, 1672 (без пагинации).
(обратно)248
Перевод выполнен по изданию: Scudéry М. de, Pellisson P. et al. Chroniques du Samedi… (1653–1654). P. 306–309.
(обратно)249
«Примеру „Клелии“ вам следовать не гоже: / Париж и древний Рим между собой не схожи. / Герои древности пусть облик свой хранят: / Не волокита Брут, Катон не мелкий фат» (Пер. с фр. Э. Линецкой).
(обратно)250
Перевод выполнен по изданию: Clélie, histoire romaine, dediée à Mademoiselle de Longueville / Par Mr. de Scudéry, Gouverneur de Nostre Dame de la Garde. Premiere partie. Paris: A. Courbé, 1660. Т. I. P. 390–407.
(обратно)251
В «Клелии» под этим именем обрисован Пелиссон. Эрминий влюблен в Валери, которая является alter ego госпожи де Скюдери. Поэтому его отношения с Клелией сводятся к галантному ухаживанию.
(обратно)252
Сен-Симон. Мемуары. Т. II. С. 413.
(обратно)253
Montpensier M-lle de. Mémoires. P. 452.
(обратно)254
Пер. с фр. Н. Я. Рыковой.
(обратно)255
Сен-Симон. Мемуары. Т. II. С. 397 — 398.
(обратно)256
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 264.
(обратно)257
См.: Constant J.-M. La noblesse française… P. 105–111.
(обратно)258
Франсуа-Мишель Ле Телье, маркиз де Лувуа (1641 — 1691), сын канцлера Мишеля Ле Телье, по существу был военным министром Людовика XIV и после смерти Кольбера пользовался огромным влиянием.
(обратно)259
Saint-Simon. Mémoires… Т. V (1714–1716). Paris, 1985. P. 803.
(обратно)260
Перевод писем госпожи де Севинье по изданию: Sévigné, Madame de. Correspondence. Т. 1 (mars 1646—juillet 1675). P. 139–141, 143–145. Перевод дневника д’Ормессона выполнен по изданию: Journal d’Olivier Lefèvre d’Ormesson, et extraits des mémoires d’André Lefèvre d’Ormesson, pub. par M. Chéruel. Т. II: 1661–1672. Paris: Imprimerie impériale, 1862. P. 603–605.
(обратно)261
Браки этих дам тоже были мезальянсами. Маргарита де Роган, наследница одного из знатнейших семейств, вышла замуж за простого дворянина Анри де Шабо, которому было позволено взять титул герцога де Рогана. Что касается госпожи де Отрив, она была сестрой маршала де Вильеруа и вдовой Анри-Луи д’Альбера, герцога де Шольна. Брак с Жаном Винье де Отривом поссорил ее с семьей и был предметом общественного скандала.
(обратно)262
Мари-Анжелик Дю Ге де Баньоль (1641–1723), в замужестве маркиза де Куланж, славилась своей красотой, остроумием и безупречной репутацией. В этот момент она с мужем гостила в Лионе в доме своего отца, так что госпожа де Севинье заранее предугадывает ее реакцию. О слухах по поводу возможной женитьбы Лозена на фаворитке короля, госпоже де Лавальер см. ниже.
(обратно)263
Судя по этому списку, в 1670 г. завидными невестами были Поль-Маргарита де Гонди, дочь Пьера де Гонди, герцога де Рец (то есть племянница знаменитого кардинала де Рец), Генриетта-Луиза Кольбер, вторая дочь всесильного министра Жана-Батиста Кольбера (в 1671 г. она вышла замуж за графа де Сент-Эньян: ее приданое включало 210 тысяч ливров наличными и на 190 тыс. ливров имущества), и мадмуазель де Креки (комментаторы затрудняются сказать, имелась ли в виду дочь герцога де Креки или маршала де Креки).
(обратно)264
Шарль д’Альбер д’Эйи, герцог де Шольн (1625–1698) был губернатором Бретани и другом госпожи де Севинье. Шарль III, герцог де Креки (1624–1687), в 1660-х гг. был королевским послом в Риме, где ухитрился спровоцировать громкий дипломатический скандал. Сезар-Феб д’Альбре (1614–1676) был одним из покровителей вдовы Скаррон, будущей герцогини де Ментенон. Ги де Шомон де Гитри (ум. в 1671) был любимцем короля, который, по свидетельству Сен-Симона, специально для него придумал должность главного королевского гардеробмейстера.
(обратно)265
Мадмуазель в это время жила во дворце Тюильри.
(обратно)266
Титул старшего принца крови. В это время его носил Людовик II, принц де Конде.
(обратно)267
Многократно целую ваши руки (итал.).
(обратно)268
Герцогиней де Гиз в то время была младшая сестра Мадмуазель, Елизавета (1646–1696), которая могла рассчитывать на часть ее наследства и потому была заинтересована в расторжении брака.
(обратно)269
Клод Ле Пелетье (1631–1711) в то время был парламентским президентом и купеческим старшиной, то есть одним из влиятельнейших магистратов Парижа. Как будет видно далее, согласно д’Ормессону, именно он составил письмо королю от имени Мадам — Маргариты Лотарингской, вдовствующей герцогини Орлеанской, мачехи Мадмуазель. Что до Никола IV де Невиля (1598–1685), маршала де Вильеруа, то его положение бывшего гувернера Людовика XIV и члена королевского совета позволяло ему выразить мнение большинства знати. Юг де Лионн (1611–1671) фактически был министром иностранных дел и направлял внешнюю политику Людовика.
(обратно)270
Мишель Ле Телье (1603–1685) был государственным секретарем. Но, возможно, речь идет о его сыне, Шарле-Морисе Ле Телье, коадъюторе архиепископа Реймсского, который, по слухам, неодобрительно отзывался о предполагаемом браке, из-за чего Мадмуазель и Лозен решили, что их обвенчает обычный кюре.
(обратно)271
Д’Ормессон прекрасно осведомлен: именно так описывает эту сцену в своих мемуарах сама Мадмуазель.
(обратно)272
Под «Лувром» подразумевается королевский двор.
(обратно)273
Слегка измененная цитата из трагедии «Полиевкт» (1643) Пьера Корнеля: «И все ж я не могу пенять на выбор ей: / Прославлен Полиевкт и крови королей» (II, 1). В переводе Т. Гнедич ей соответствует стих: «Что ж, выбор не плохой, достойный одобренья, / Но в горести моей — плохое утешенье! / Пусть царской крови он, но он владеет ей, / Он тот, что мужем стал возлюбленной моей».
(обратно)274
Klaits J. Printed Propaganda under Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion. Princeton: Princeton University Press, 1976. P. 22.
(обратно)275
Перевод осуществлен по изданию: Le Perroquet ou les Amours de Mademoiselle // Bussy-Rabutin R. de. Histoire amoureuse des Gaules, suivie de La France Galante, romans satiriques du XVIIe siècle attribués au comte de Bussy / Nouvelle édition, précédée d’observations par M. Sainte-Beuve. Paris: Garnier Frères, 1868. Т. II. P. 107–138.
(обратно)276
Граф де Лозен и Мадмуазель играют словами: речь идет о приказе (l’ordre), но это же слово обозначает «орден». Орден Святого Михаила был учрежден Людовиком XI в 1469 г., орден Святого Духа — Генрихом III в 1578 г. Кавалеры ордена Св. Духа становились и кавалерами ордена Св. Михаила. Что касается Мальтийского ордена, то происхождение этого военного и религиозного ордена восходило к эпохе Крестовых походов. Одним из условий вступления в его ряды был обет безбрачия, который, как намекает Мадмуазель, граф де Лозен явно не собирался приносить.
(обратно)277
См.: Сен-Симон. Мемуары. Т. II. С. 418.
(обратно)278
Furetière A. Dictionnaire Universel… Т. II (статья «Mémoires»).
(обратно)279
См.: Fumaroli М. La diplomatie de l'esprit. De Montaigne à La Fontaine. Paris: Hermann, 1994. P. 201–210.
(обратно)280
См.: Лафайет M.-M. де. Принцесса Клевская. С. 296.
(обратно)281
Перевод выполнен по изданию: Montpensier М-lle de. Mémoires. P. 409–426.
(обратно)282
Монолог из комедии Пьера Корнеля «Продолжение „Лжеца“» (1642–1643). Интересно, что героиня пьесы впервые видит героя в темнице, так что задним числом Мадмуазель могла считать это предсказанием будущей участи Лозена.
(обратно)283
Генриетта Английская, жена Филиппа, герцога Орлеанского.
(обратно)284
Испанский мистик Петр д’Алькантара (1499–1562) реформировал часть Францисканского ордена и был духовником Терезы д’Авила. Его канонизировали в 1669 г.: этим, видимо, и объясняется девятидневное бдение, так как день его поминовения приходился на 19 октября.
(обратно)285
В 1670 г. герцог Лотарингский Карл IV (1604–1675) воевал с Пфальцским курфюрстом, что вызвало недовольство у французов, которые пытались его похитить, а затем в который раз захватили его земли. Но скорее всего имеется в виду его племянник Карл V Лотарингский (1643–1690), изгнанный дядей из герцогства и находившийся на службе у Австрии. В 1678 г. он женился на Элеоноре-Марии, сестре императора Леопольда I.
(обратно)286
Маргарита-Луиза де Бетюн, супруга графа де Гиша, вплоть до 1671 г. находившегося в изгнании из-за слишком активного участия в придворных интригах. Ги-Арман де Грамон, граф де Гиш (1637–1673) был страстным поклонником Мадам, за что и поплатился заключением в Бастилию, а затем ссылкой.
(обратно)287
Филипп Лотарингский-Арманьяк, известный как шевалье Лотарингский (1644–1702), был фаворитом Филиппа, брата Людовика XIV. Обладая почти безраздельным влиянием на Месье, он постоянно ссорил его с женой, за что был изгнан королем.
(обратно)288
Доверенное лицо Мадмуазель.
(обратно)289
Анна-Мария (1669–1728), дочь Филиппа Орлеанского и Генриетты-Анны Английской.
(обратно)290
Мари де Камбу де Куаслен, племянница кардинала де Ришелье и вторая жена герцога д’Эпернон.
(обратно)291
Шарлотта д’Этамп де Валансе, виконтесса де Пюизье (ум. в 1677).
(обратно)292
Госпожа д’Эпернон предлагает Мадмуазель в качестве жениха Шарля-Париса д’Орлеан-Дюнуа, графа де Сен-Поль (1649–1672), сына герцогини де Лонгвиль, рожденного от ее незаконной связи с герцогом де Ларошфуко. Именно поэтому, когда речь заходит о знатности, Мадмуазель упоминает только его мать. Его старший брат, Жан-Луи Шарль д’Орлеан-Дюнуа (1646–1694), герцог де Лонгвиль, был рукоположен в конце 1669 г., после чего герцогский титул перешел к Шарлю-Парису. Что касается прецедента, на который ссылается госпожа де Пюизье, то одна из младших сестер Мадмуазель по отцу, Елизавета, мадмуазель д’Алансон (1646–1696), была выдана за Луи-Жозефа Лотарингского, герцога де Гиза. Мадмуазель своим ответом подчеркивает превосходство Бурбонов (к младшей ветви которых принадлежала герцогиня де Лонгвиль, урожденная де Бурбон-Конде) над Лотарингским домом, к которому принадлежал и род Гизов.
(обратно)293
Шарль Лотарингский-Арманьяк, граф де Марсан (1648–1708), младший брат графа д’Арманьяк.
(обратно)294
Анри-Луи д’Алуаньи, маркиз де Рошфор (ум. в 1676) тогда был бригадиром жандармерии. Судя по отзыву госпожи де Севинье, основной его страстью было честолюбие — чем объясняется мучительная зависть к Лозену. В 1676 г. она писала дочери: «Какой прекрасный повод для размышлений дает смерть маршала де Рошфора: честолюбец, чье честолюбие удовлетворено, умирает в сорок лет! Это достойно того, чтобы задуматься» (Sévigné М. de. Lettres. Т. II. Р. 109).
(обратно)295
Франсуа де Роган-Монбазон, принц де Субиз (1631–1712), по рождению принадлежал к одному из знатнейших родов, однако волей короля не столь родовитый Лозен был выше его по служебной иерархии: наглядный пример политики умаления аристократии.
(обратно)296
Маркиз де Лувуа (см. выше сноску 7 на с. 296), в это время управлял не только военными делами, но и почтовым ведомством, поэтому отвечал за дороги.
(обратно)297
Франсуа де Невиль, маркиз (после 1685 г. — герцог) де Вильеруа (1644–1730), друг детства короля, в 1670 г. еще не имел больших чинов, хотя они ожидали его в будущем. Пока же он, очевидно, завидовал находившемуся в фаворе де Лозену.
(обратно)298
Катерина-Шарлотта де Грамон (1639–1678), сестра графа де Гиша, в 1660 г. вышла замуж за Людовика Гримальди (1642–1701), носившего титул принца Монако и герцога де Валантенуа.
(обратно)299
Анн-Жюль, граф д’Эйен (1650–1708), более известный под титулом герцога де Ноай, который он носил с 1678 г.
(обратно)300
Франсуаза-Луиза де Ла Бом Ле Блан, герцогиня де Лавальер (1644–1710), в это время уже уступила место фаворитки госпоже де Монтеспан, но король еще не мог решиться окончательно с ней расстаться. Он не позволял ей уйти в монастырь (это произошло через несколько лет); возможно, что придворные видели в этом желание выдать ее замуж.
(обратно)301
Напомним, что имеется в виду сказка, позже (в 1695 г.) обработанная и опубликованная Шарлем Перро.
(обратно)302
Маргарита Эссен, дама де Ла Саблиер (1640–1693) была на тринадцать лет моложе Мадмуазель и, по свидетельству современников, недурна собой. В 1669 г. ее муж добился раздела имущества и они стали жить раздельно — но не потому, что у нее была «интрижка», а из-за того, что ее семья разорилась и он не хотел наследовать ее долги. Госпожа де Ла Саблиер стала центром литературного кружка, куда входил Лафонтен.
(обратно)303
Серьезное нарушение этикета: королева, скорее всего, слушала речи стоя, и в такой ситуации принцессы не имели права присаживаться.
(обратно)304
См. сноску 10 на с. 379.
(обратно)305
Шарль Кольбер, маркиз де Круасси (1629–1696), брат Жана-Батиста Кольбера, исполнял многие дипломатические миссии, и в частности в 1668–1674 гг. был французским послом в Англии.
(обратно)306
Франсуаза де Рошешуар де Мортемар, маркиза де Монтеспан (1640–1707) стала фавориткой короля в 1668 г.; ее слова напоминают о том, что в 1651 г. уже шла речь о браке Мадмуазель с будущим Карлом II, тогда жившим в изгнании во Франции.
(обратно)307
Эдуард-Франсуа Кольбер, граф де Молеврие (1633–1693), был младшим братом Жана-Батиста Кольбера и маркиза де Круасси.
(обратно)308
Арман I де Бетюн, герцог де Шаро (1641–1717).
(обратно)309
Диана-Шарлотта де Комон-Лозен, графиня де Ножан (1632–1720), стала фрейлиной королевы в 1663 г.
(обратно)310
Габриэль де Рошешуар де Мортемар (1643–1693), старшая сестра маркизы де Монтеспан, в 1655 г. вышла замуж за Клода-Леонора де Дама, маркиза де Тианжа.
(обратно)311
Генриетта-Мария Французская (1609–1669), вдова английского короля Карла I, продолжала жить во Франции и после того, как ее сын вернул себе отцовский престол. Она умерла 21 августа 1669 г. Мадмуазель излагает здесь ходивший в то время слух, что Генриетта умерла от слишком большой дозы опиума, данной ей врачами.
(обратно)312
Антуан Валло (1594–1671), с 1652 г. — первый медик Людовика XIV.
(обратно)313
Маршал де Бельфон (см. сноску 32 на с. 246), один из предводителей «партии благочестивых», опиравшихся на королеву. После смерти Мадам он был отправлен в Англию, чтобы рассказать Карлу II о смерти сестры.
(обратно)314
Олимпия Манчини, графиня де Суассон (1638–1708), племянница кардинала Мазарини, супруга Евгения-Морица Савойского, принца де Кариньян (1636–1674), для которого Людовик восстановил титул графа де Суассон.
(обратно)315
Никола де Вемар де Сенто был помощником главного церемониймейстера.
(обратно)316
См.: Сен-Симон. Мемуары. Т. I. С. 156.
(обратно)317
См.: Сен-Симон. Мемуары. С. 140.
(обратно)318
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с фр. В. К. Ронина. М.: Изд. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. С. 269.
(обратно)319
Об этом см.: Chartier R. Lectures et Lecteurs dans la France d'Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil, 1987. P. 125–164.
(обратно)320
Mémoires de Monsieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV / Préf. par R. Laulan. Paris: Mercure de France, 1986. P.314-316.
(обратно)321
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 467.
(обратно)322
La Fayette М. de. Histoire de Madame Henriette d’Agleterre, suivi de Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689 / Éd. par G. Sigaux. Paris: Mercure de France, 2001. P. 23.
(обратно)323
Furetière A. Dictionnaire Universel… Т. III (статья «Relation»).
(обратно)324
Перевод осуществлен по изданию: La Fayette М. de. Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, suivi de Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689 / Éd. par G. Sigaux. Paris: Mercure de France, 2001. P. 98–102.
(обратно)325
С 25 мая по 18 июня герцогиня Орлеанская была в Дувре, исполняя дипломатическое поручение Людовика XIV, который, готовясь к войне с Голландией, хотел заручиться поддержкой ее брата, английского короля Карла II.
(обратно)326
Шевалье Лотарингский был арестован в январе 1670 г.
(обратно)327
Пьер Ивлен был врачом короля и герцогини Орлеанской.
(обратно)328
Имеется в виду старшая дочь Генриетты и Филиппа, Мари-Луиза Орлеанская (1662–1689), которая в 1679 г. стала испанской королевой. Портрет ее, видимо, писал художник английского двора Питер Лели (1618–1680).
(обратно)329
См. сноску 34 на с. 349.
(обратно)330
Иоахим де Сеглие, сеньор де Буафранк и де Уэн, был суперинтендантом финансов герцога Орлеанского.
(обратно)331
Изабелла-Анжелика де Монморанси (см. сноску 23 на с. 265), в первом браке — герцогиня де Шатийон. Овдовев, она в 1664 г. вышла замуж за Кристиана-Людовика де Мекленбург-Шверин.
(обратно)332
Мари-Антуанетт, маркиза де Гамаш, урожденная де Ломени де Бриенн (1624–1704).
(обратно)333
Елена де Гурдон сохранит эту должность и при второй супруге герцога Орлеанского.
(обратно)334
Андре Эспри, врач герцога Орлеанского.
(обратно)335
Жак Тиволь де Сент-Фуа исполнял должность первого камердинера (всего их было четыре).
(обратно)336
Речь идет о сыне Генриетты и Филиппа, Филиппе-Шарле, герцоге де Валуа (1664–1666).
(обратно)337
См. сноску 61 на с. 364.
(обратно)338
Напомним, что так именовали принца де Конде.
(обратно)339
См. сноску 13 на с. 300.
(обратно)340
Никола Фейе (1622–1693), каноник Сен-Клу, известный оратор и теолог. Он также оставил рассказ о смерти Генриетты.
(обратно)341
Антуан III де Грамон (1604–1678), отец графа де Гиша.
(обратно)342
Его звали Жан Хрисистом д’Амьен.
(обратно)343
Уильям Ральф Монтегю (1638–1708), посол во Франции с 1669 г.
(обратно)344
Никола Брейе (1606–1678).
(обратно)345
Боссюэ стал епископом Кондомским 10 сентября 1669 г.
(обратно)346
Сент-Эвремон. Избранные беседы. С. 484.
(обратно)347
Voltaire. Œuvres historiques / Texte prés. par R. Pomeau. Paris: Gallimard, 1957. P. 1006.
(обратно)348
Saulnier L.-V. L’oraison funèbre au XVIe siècle// Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. 1948. № 10. P. 124–157.
(обратно)349
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 422 — 433 (цит. на с. 422).
(обратно)350
Там же. С. 431.
(обратно)351
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 484.
(обратно)352
Перевод выполнен по изданию: Bossuet. Œuvres / Textes etablis par lʼabbe Velat et Y. Champailer. Paris: Gallimard, 1961. P. 83–105.
(обратно)353
Боссюэ обращается к Конде, который официально представлял королевское семейство. На церемонии инкогнито присутствовала королева.
(обратно)354
Генриетта-Мария Французская скончалась 13 августа 1669 г., надгробное слово ей Боссюэ произнес в монастыре Шайо 19 ноября 1669 г.
(обратно)355
Генриетта увидела свет в Англии 16 июня 1644 г., в разгар войны между Карлом I и Парламентом. Через несколько дней ее мать бежала во Францию, оставив новорожденную на попечение доверенной дамы. Только в июне 1646 г. сторонникам короля удалось переправить ребенка в Париж.
(обратно)356
Анна Австрийская (1601–1666), старшая дочь Филиппа III Испанского и Маргариты Австрийской, могла именоваться как Испанской, так и Австрийской.
(обратно)357
Мария-Терезия Австрийская (1638–1638), супруга Людовика XIV, была дочерью Филиппа IV Испанского, брата Анны Австрийской, и Елизаветы Французской, сестры Людовика XIII.
(обратно)358
Мудрецом или царем-мудрецом Боссюэ именует библейского царя Соломона, царем-пророком — царя Давида.
(обратно)359
Одно из общих мест исторической критики эпохи. Ср. со сходной позицией кардинала де Реца, возмущавшегося «мелким тщеславием вздорных писак, которые, будучи рождены на задворках и ни разу не допущены в переднюю, похваляются тем, будто им известно все, что происходит в кабинетах» (Рец кардинал де. Мемуары. С. 361).
(обратно)360
Напомню, что богословская традиция XVII в. видела в Екклесиасте царя Соломона.
(обратно)361
Oratio de obitu Satyri fratis, I, 19.
(обратно)362
«Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет» (Псал., 102:1–5).
(обратно)363
«Разве не они [язычники и еретики] постоянно и повсюду поносят плоть за ее происхождение, состав, несовершенство, конечную погибель, за то, что она с самого начала нечиста, происходя от грязи земной, потом еще более нечиста от нечистоты своего семени, ничтожна, слаба, обременена, тяжела и потом, в довершение своего ничтожества, низвергается в землю, свое первоначало, под именем трупа, и наконец обречена потерять и это имя и остаться без всякого имени, также подлежащего смерти?» (Тертуллиан. О воскресении плоти / Пер. с лат. Н. Шабурова и А. Столярова // Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1994. С. 191).
(обратно)364
LVIII гомилия Иоанна Хризостома.
(обратно)365
«И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа» (Еккл., 1:17).
(обратно)366
«Ибо проходит образ мира сего» (1 Коринф., 7:31).
(обратно)367
В английской истории было два св. Эдварда, оба из англо-саксонской династии — Эдвард II Мученик (ок. 963–978) и Эдвард III Исповедник (1000–1066). Французский король Людовик IX (1214–1270) был организатором двух крестовых походов; во время второго скончался и вскоре (в 1297 г.) был канонизирован.
(обратно)368
Боссюэ вспоминает правление Марии Тюдор (1516–1558), прозванной Кровавой за жестокое преследование протестантов.
(обратно)369
«Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (2 Коринф., 5:2).
(обратно)370
«И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр., 9:15).
(обратно)Комментарии
1
* Mater et filia nomina pietatis («Мать и дочь — благочестивые наименования» (лат.)). — Здесь и далее звездочками обозначены авторские примечания.
(обратно)2
* Ni los ojos a las cartas; ni las manos a las areas. Refran (He заглядывай в карты, не запускай руки в шкатулки. Поговорка (исп.)).
(обратно)3
* [Приписка на полях]: Причина такова: она винила Аканта в любви к Альфизе и говорила, что влюбленный не может быть в числе ее нежнейших друзей, ибо она не желает занимать второе место в сердцах тех, кого нежно любит.
(обратно)4
*[Приписка на полях]: В предшествовавшую этой записке Субботу, после того как под аккомпанемент теорбы было исполнено несколько арий, Сафо стала побуждать Аканта, чтобы тот прочел вслух элегию, сочиненную им для Альфизы. Он сперва отказывался, не желая читать свои стихи перед всей компанией. При этом он ссылался на то, что Сафо, не допускавшая влюбленных в число своих нежных друзей, выслушав элегию, будет чуть меньше его любить. Сафо тут же сочинила куплет на мотив одной из прозвучавших арий:
О любви поведай нам, Пелиссон, О страданьях с рифмами В унисон; Ведаю, безвинен тот, Кто влюблен.Акант немедленно ей ответил:
Восхитительнее вас В мире нет, Но позвольте отклонить Ваш совет: На ушко я прошепчу Свой секрет. Только шепот задает Верный тон, И к нему без всяких рифм Слух склонен, Веря, что безвинен тот, Кто влюблен. (обратно)5
** [Приписка на полях]: Об этих шести месяцах говорилось выше, в одном из предшествующих писем.[227]
(обратно)6
*** [Приписка на полях]: Похоже, что через несколько лет уже никто не будет знать, что такое ящик для писем. Господин де Виллайер, [228] докладчик в Парламенте, придумал способ доставлять записки из одного квартала Парижа в другой и расставил ящики на углах главных улиц. Он получил привилегию от короля (или она была ему дарована), по которой только он имел право устанавливать такие ящики; затем во Дворце [правосудия] он открыл бюро, где за одно су продавали отпечатанные билеты, помеченные особым знаком. На них значилось лишь: «Доставка оплачена… дня… месяца года тысяча шестьсот пятьдесят третьего или пятьдесят четвертого». Чтобы ими воспользоваться, надо было вписать день и месяц, затем завернуть в один из них записку, которую вы написали другу, и бросить в ящик. Те, кому было велено открывать эти ящики три раза в день, разносили записки по указанным адресам.
(обратно)7
* [Приписка на полях]: Отсылка к сочинению господина Саразена, названному «Похороны господина де Вуатюра», [229] и к сочинению самого господина де Вуатюра по случаю брака госпожи де Шатийон:[230] оба описывают разные роды Любви.
(обратно)8
* [Приписка на полях]: Краткое предварение того, что следует далее.
В одной из субботних бесед, посвященных дружбе, Сафо провела различие между новыми, близкими и нежными друзьями; Акант ее спросил, к числу которых он принадлежит, и ему было сказано: «К близким». Тогда он вздумал поинтересоваться, как далеко от Дружеской Близости до Нежности и может ли усердно шагающий человек с ноября (когда происходил этот разговор) добраться туда к февралю (когда заканчивался отведенный ему Сафо шестимесячный испытательный срок). Ему было сказано, что это зависит от избранного им пути, ибо если он собьется с дороги, то не попадет туда никогда. Он спросил, сколько дорог туда ведет. Ему было сказано, что туда можно отправиться по воде, по суше или по воздуху и что он волен выбирать любой путь, какой пожелает; он сказал, что предпочитает последний как наиболее короткий и что вскоре он придумает способ летать. Тут он принялся рассуждать о многих людях, которые не считали это невозможным. А через два дня написал эту записку.
Эта галантность, потом продолженная, породила знаменитую Карту Нежности, которая была помещена в первый том «Клелии».
Здесь или после этого письма следует прикрепить первоначальный набросок Карты страны Нежности, которую после первой Субботы шутя начертила Сафо, [234] а также ту карту, что была затем отгравирована и напечатана, дабы бережно сохранить оригинал и показать, какие были сделаны изменения, которых, по правде, совсем немного.
(обратно)9
** [Приписка на полях]: Тразил. Его обвиняли в воровстве, ибо в качестве галантной выходки он срезал кошелек у одной дамы, дабы проникнуть в ее кабинет.[235]
(обратно)10
*** [Приписка на полях]: «Легче поймать, нежели меня» — это сказано из-за акростиха [Сафо], чье лукавство было еще совсем свежо.[236]
(обратно)11
**** [Приписка на полях]: Так сказано из-за того императора, что забавлялся, убивая мух, и когда однажды спросили, кто с ним в кабинете, то кто-то весьма забавно отвечал: «Ne musca quidem».[237]
(обратно)12
[Приписка на полях]: Здесь должна быть Карта страны Нежности, составленная после первой Субботы.
(обратно)13
* [Приписка на полях]: Мадмуазель д’Арпажон. Госпожа графиня де Рие.[238]
(обратно)14
** [Приписка на полях]: Шевалье де Мере.[239]
(обратно)15
*** [Приписка на полях]: Молодой Траси.[240]
(обратно)16
* [Приписка на полях]: Господин де Пелиссон.
(обратно)17
** [Приписка на полях]: По причине сочиненного им стихотворения «Каприз против Уважения».
(обратно)18
*[Приписка на полях]: Господин Изарн, иначе Тразил.
(обратно)19
* [Приписка на полях]: Филоксена, Теламира и Дорализа.[241]
(обратно)20
* [Приписка на полях]: Господин Моро, советник Большого Совета.[242]
(обратно)
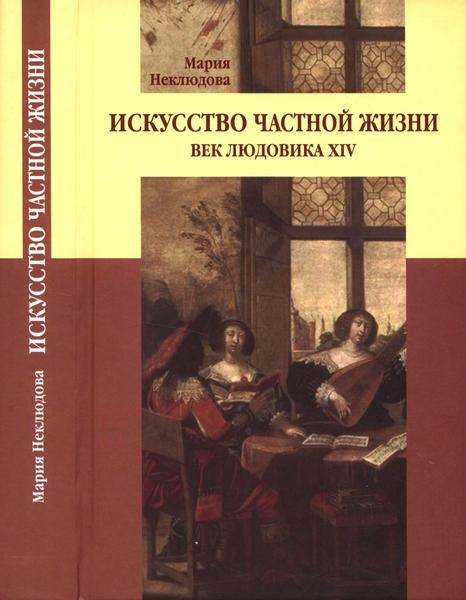



Комментарии к книге «Искусство частной жизни. Век Людовика XIV», Мария Сергеевна Неклюдова
Всего 0 комментариев