С.П. МЕЛЬГУНОВ
ТРАГЕДИЯ АДМИРАЛА
КОЛЧАКА
ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ВОЛГЕ, УРАЛЕ И В СИБИРИ
Часть III. Том 1
КОСТИТУЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
Часть III. Том 2
КАТАСТРОФА
УДК 94(47) ББК 63.3(2)611 М48
Оформление А. М. Драгового
В оформлении книги использован фрагмент картины В. В. Владимировой «А. В. Колчак — последний хозяин Сибири»
Мельгунов С. П.
М48 Трагедия адмирала Колчака: В 2 книгах. — Книга вторая: Часть III. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 496 с. + вклейка 8 с. — (Белая Россия).
ISBN5-8112-0547-3 (Кн. 2)
ISBN5-8112-0548-1
Заключительная часть книги С. П. Мельгунова «Трагедия адмирала Колчака» посвящена анализу тех причин, которые привели армию Колчака к поражению в противостоянии антигосударственным силам. Прямой и безукоризненно честный Адмирал, взявший на себя бремя Верховного правителя и мечтавший о восстановлении Великой России, столкнулся не только с явным противником в лице большевиков, но и с двурушнической политикой командования союзников, личными амбициями сибирских атаманов, не желавших признавать конституционного диктатора, действиями международных авантюристов, жировавших в условиях русской беды, и прямым предательством партийных функционеров, пошедших на сговор с большевиками.
История последних дней Адмирала Колчака — это история подлости и предательства национальных интересов России, о которой должны знать наши современники.
ББК 63.3(2)611 УДК 94(47)
ISBN5-8112-0547-3 (Кн. 2) ISBN5-8112-0548-1
© Указатель, оформление, Айрис-пресс, 2004
Часть III . Том 1 КОНСТИТУЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
ОТ АВТОРА
Третья часть (тома I и II) является основой моей работы. Перед читателями пройдут факты, которые для многих из них будут неожиданны. И мне хотелось бы, чтобы те, кто будут критиковать «Трагедию адмирала Колчака», свои возражения основали на фактах и фактам, приводимым мною, противопоставляли факты другие. Я пытался, насколько возможно, быть объективным, подразумевая под объективизмом то, что я никогда сознательно не скрывал фактов, мне известных и противоречащих устанавливаемым концепциям. Политику никогда не следует забывать о «слабости человеческого ума, который судит тем свободнее, чем меньше он связан знанием фактов». Эти слова В. А. Маклакова в письме из Парижа к членам Нац. Центра на Юг (2 мая 1919 г.) относятся к суждениям иностранцев, которые «не умеют молчать тогда, когда не понимают» [«Кр. Арх.». XXXVI, с. 22]. Я мог бы до некоторой степени их повторить по поводу пристрастной критики М. В. Вишняка (о первой части моей работы), напечатанной им в «Поел. Нов.» под своеобразным заголовком «Трагедия С. П. Мельгунова». Не сомневаюсь, что, если бы я осветил самарскую эпопею в том духе, как это сделал в «Современных Записках» мой критик, моя работа, с его точки зрения, носила бы характер и объективный и научный. Но это противоречило бы фактам, с которыми подчас весьма мало считается публицист, историк и политик эсеровского лагеря. В своей критике моей работы он не противопоставил одним фактам другие*. Он поступил проще. Он пытается аннулировать значение приводимых мною фактов голословным их отрицанием, ссылаясь на прекарность [от франц. ргесаіге — ненадежный. — Прим. ред.] моих источников: все это-де показания большевиков и ренегатов. Он нашел даже «нимфу Эгерию», которая меня вдохновила. Критику нет дела до того, что я всегда сопоставляю источники разного происхождения; каждый мало-мальски объективный читатель легко увидит, что у меня нет никакой особой приверженности к «показаниям всевозможных предателей и "ренегатов"». Для Вишняка это публицистический прием в целях подорвать доверие читателей к фактам, которые не могут быть приятны демократу, но которые тем не менее в действительности были.
Из песни слова не выкинешь. Негодуя на мою неопровержимую «тенденциозность», М. В. Вишняк не счел нужным отметить для читателей «Поел. Нов.» ту оговорку, которая красной нитью проходит через все мое изложение. Я не делаю ответственными самарских политических деятелей за те эксцессы, которые происходили на территории Правительства Комитета У. С. Не могу я также делать за аналогичное ответственным и Сибирское правительство. Вернее, если говорить об ответственности, то ответственность должна быть одинаковой. Регистрация этих эксцессов при «демократической» власти возбуждает наибольшее негодование моего критика. Почему? С М. В. Вишняком у меня был уже курьезный литературный спор в начале дней моей эмиграции — в 1924 г. Вишняк на столбцах «Дней» негодовал на умаление мною авторитета б. Учр. Собрания и считал такую критику (в области истории) несвоевременной, ибо ею могут воспользоваться политические противники. На столбцах «Поел. Нов.» я отвечал Вишняку в статье «Когда можно писать правду»? (20 марта). То же, в сущности, повторилось, когда я попытался «несвоевременно» реабилитировать память адм. Колчака в историческом экскурсе. Догма требует признания «диктатуры» Колчака реакционной, а Правительство Комуча par ехеіепсе демократическим. Это подход политический, а не исторический. Я старался в своем изложении держаться методов исторических. И здесь приходится уже руководствоваться принципом Герцена: «Когда бываешь принужден печатать только часть правды, есть всегда риск сказать неправду»...
Пока М. В. Вишняк сделал одно только фактическое возражение. Ему представляется «вымышленной» и «абсурдной» моя схема, вернее, попутно отмеченная мною несогласованность в действиях русских политических организаций, выдвигавших создание так называемого Восточного фронта. Я указывал, что Самарский фронт, созданный искусственно и преждевременно, возник, скорее, в противовес планам «Союза Возр.» и «Национального Центра». Этот центральный пункт «обвинения» — как утверждает Вишняк — «висит в воздухе», ни одним фактом не подтвержден, да и не может быть подтвержден. Нет, фактов у меня приведено достаточно. Но, в сущности, повод для спора почти исчезает, если мое «обвинение» формулировать словами самого Вишняка: «Чисто хронологически можно утверждать... что комбинация «С. В.» и «Н. Ц.» возникла в противовес и направлялась вразрез плану создания фронта У. С.». Я готов согласиться: партийному плану, выдвинутому, в сущности, еще в записке Чернова, представленной французской миссии в Москве, был действительно противопоставлен план общественный — план общенациональный. Те, кто создавали Правительство Комуча, не сочувствовали общественному договору и поэтому форсировали выступление. То, что Вишняку кажется в моей схеме абсурдным, просто является несомненным... Если бы это было не так, то почему было ген. Болдыреву не остаться в Самаре? — между тем он уклонился от принятия поста военного министра в Правительстве Колчака (ген. Болдырев в силу полученной информации иностранцами рассматривался как «эсеровский генерал» — так Гренар мне его и называл). Правильность моей схемы может быть доказана многочисленными свидетельствами, и Вишняк проявил лишь чрезмерную смелость в литературных суждениях, назвав мои утверждения «абсурдными». Косвенно я сам был одним из действующих лиц и мог бы рассказать о своих московских спорах и отношениях, установившихся с эсерами ориентации большинства ЦК, с момента, когда после Уф. Совещания была наконец установлена центральная власть и Комуч отошел формально в прошлое...
Убедить партийных политиков я все же не берусь, ибо знаю, что «человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе». Это вновь в свое время отметил еще Герцен. В третьей и четвертой части своей работы мне приходится затрагивать очень острые общественные вопросы. Я хотел бы слышать возражения, основанные на фактах, а не на теоретических рассуждениях, которые исходят притом исключительно только из традиционных догм и предрассудков. Много спорного и неясного имеется еще в истории гражданской войны. Полемика, ведущаяся в области фактов, может способствовать прояснению загадочного и недоговоренного. Такую критику и такую полемику можно только приветствовать и не бояться, что подлинная история может помешать сплочению «антибольшевицкой демократии» и созданию некоего средостояния между правым и левым флангами русской общественности. Хуже всего вуалированное прошлое.
Надо думать, что мои суждения о деятельности партии с.-р. в период колчаковской «диктатуры» вызовут еще более острую критику. В четвертой части, озаглавленной «Катастрофа», мне приходится много говорить об этой партии. Это естественно: сибирские эсеры были главнейшими противниками власти Верховного правителя, и их дезорганизаторская работа в тылу армии, которая сражалась с большевиками, являлась едва ли не основной причиной крушения того дела, которому служил Колчак. «Революционная» работа сибирских эсеров, как мы увидим, шла рука об руку с антиправительственной деятельностью внутренних большевиков. Здесь и нужна оговорка для того, чтобы автора не обвиняли в сознательном искажении исторической перспективы. Конечно, партия эсеров, как и вся русская социалистическая демократия, не была единой в своих настроениях — это уже много раз подчеркивалось в тексте. Напр., группа парижских лидеров с.-р. отнюдь не солидаризировалась с той тенденцией, которая отмечалась в Москве и Сибири. «Нам чужда, — писали парижане своему ЦК, — ваша все растущая терпимость к советской власти, ваша готовность идти с нею единым фронтом для борьбы с антибольшевицкой коалицией». Но «оппозиция» в партии, пытаясь даже организационно существовать самостоятельно, никогда, кажется, публично не протестовала против тактики, установленной Советом партии, — тактики, выдвинувшей лозунг прекращения гражданской войны и идейной борьбы с коммунистами. К тому же она сама существенно разнилась во взглядах. Отсюда и проистекает трудность формулировки оттенков партийной мысли. Мнения в разные хронологические даты были отличны и противоречивы. Таким образом, неизбежно, говоря о деятельности партии с.-р. в Сибири, приходится руководствоваться официальной тактикой, которой держались партийные органы. Читатель заранее должен принять во внимание эту оговорку в тех случаях, когда он в тексте встретится с обобщающей характеристикой.
В заключение еще несколько слов благодарности тем, кого мне так часто приходилось беспокоить в процессе работы, — в частности Н. Д. Авксентьеву, А. И. Деникину, В. В. Чернавину, б. московскому консулу г. Гренару, заведующему русским отделом библиотеки Musee de la guerre г. Лера и представителям Тургеневской библиотеки в Париже.
20 июля [1930 г.]
_______________________________
* Критика его полна искажений моего текста и собственных ошибок, на которых я не могу здесь останавливаться, равно как на политических заключениях и личных характеристиках, к которым г. Вишняк счел уместным прибегнуть в критике исторической работы.
ГЛАВА ПЕРВАЯ Диктатор
1. Черты для характеристики
Для биографа всегда целесообразнее дать общую характеристику личности после того, как перед читателем пройдет вся жизнь человека, жизнеописанию которого он посвящает свой труд. Но я не пишу биографии Колчака. Присущие его образу индивидуальные черты нужны мне лишь для обрисовки эпохи, нужны постольку, поскольку эти черты характера Верховного правителя накладывали свой отпечаток на текущие события. Вникнув в психологию того, кому суждено было принять на себя бразды правления, выпадавшие из ослабевших рук общественных группировок, пожалуй, отчетливее представишь себе и сам омский переворот 18 ноября.
Какими побуждениями руководился Колчак в своей сибирской деятельности?
Ярко и образно отвечает на этот вопрос бар. Будберг, сам подведший в дневнике итоги тех наблюдений и суждений, иногда резких и односторонне субъективных, которыми переполнены его записи о личности и деятельности Верховного правителя.
Оставив пост управляющего военным министерством и возвращаясь в Харбин «с разбитыми вдребезги иллюзиями о возможности скорого избавления России от навалившейся на нее красной погани и ее белой разновидности — атаманщины всех видов и калибров» [XV, с. 325], Будберг в записи дневника 26 31 октября 1919 г. дает такую общую характеристику Колчака1:
«Характер и душа адмирала настолько налицо, что довольно какой-нибудь недели общения с ним для того, чтобы знать его наизусть.
Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России; несомненный неврастеник, быстро вспыхивающий, чрезвычайно бурный и не сдержанный в проявлении своего неудовольствия и гнева... ради этой идеи его можно уговорить и подвигнуть на все, что угодно; личного интереса, личного честолюбия у него нет, и в этом отношении он кристально чист. Он бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол, но по несдержанности и порывистости характера сам иногда неумышленно выходит из рамок закона, и при этом преимущественно при попытках поддержать этот самый закон и всегда под чьим-нибудь посторонним влиянием. Жизни в ее суровом, практическом осуществлении он не знает и живет миражами и навязанными идеями. Своих планов, своей системы, своей воли у него нет, и в этом отношении он мягкий воск, из которого советники и приближенные лепят что угодно, пользуясь тем, что достаточно облечь что-нибудь в форму необходимости, вызываемой благом России и пользой дела, чтобы иметь обеспеченное согласие адмирала... Тяжело смотреть на адмирала, когда неожиданно он наталкивается на коллизию разных мнений и ему надо принять решение; видно, что он боится не ответственности решения, а принятия неверного, вредного для всепоглощающей его идеи решения...
Он... болезненно реагирует на все, что становится на пути осуществления главной задачи спасения и восстановления России, причем, как и во всем, тут нет ничего личного, эгоистического, честолюбивого...
Попав на высший пост военного командования, адмирал, со свойственной ему подвижнической добросовестностью, пытался получить не приобретенные раньше знания, но попал на очень скверных и недобросовестных учителей, давших ему то, что нужно было для наставления адмирала в желательном для них духе...
На свой пост адмирал смотрит как на тяжелый крест и великий подвиг, посланный ему свыше, и мне думается, что едва ли есть еще на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренно, убежденно, проникновенно и рыцарски служит идее восстановления единой, великой и неделимой России. Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств; вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жаждой личного труда, примера и самопожертвования; непонимающий совершенно обстановки и неспособный в ней разобраться; далекий от того, что вокруг него и его именем совершается»... [с. 331—333].
Действительно, нельзя отказать автору дневников в образности изображения. Его зарисовка как бы фотографически запечатлевается в восприятии. Но насколько она соответствует действительности под пером человека, чрезмерно любящего аналитически «разглядывать жизнь» и слишком уверенного в познании истины?
Одна черта преобладает во всей этой характеристике. Будберг приехал в Омск с некоторым предубеждением против Колчака; по харбинским рассказам и впечатлениям других, он думал встретить скорее «самовластного и шалого самодура». «Совершенно ошибся», — записывает он после первого же свидания [XIV, с. 281]. И во всех последующих отзывах он подчеркивает исключительный идеализм, которым веяло от всей фигуры «полярного мечтателя». Не один Будберг выносит такое впечатление. Вернувшийся из Омска в Харбин ген. Флуг передает Будбергу, что адмирал «чище, честнее, идейнее всех» [XIII, с. 284]. Эти свойства не могли не очаровывать тех, которые подходили к Колчаку не с мерилом формальных и трафаретных политических оценок и которые искали, как, например, беллетрист Ауслендер, прежде всего «подлинной человечности»... Подобное очарование отнюдь не являлось результатом искусного приема, примененного опытным charmeur'oм2, — увлекала та простота, внимательность, отзывчивость и непосредственность, с которой Колчак, внешне замкнутый даже в отношении близких, обращался к новому лицу [Иностранцев. — «Белое Дело». I, с. 106].
По-видимому, сама внешность подкупала. «Этот человек одной наружностью внушает доверие», — пишет в июне 1919 г. один солдат, впервые увидавший адмирала. Нервный, порывистый, с правильными, волевыми чертами лица, с подвижными, умными глазами (впечатление проф. Легра), с какой-то горькой и странной складкой в губах3 — Колчак не мог не привлекать к себе внимания и симпатий.
Колчак был человек порыва4 и повышенной нервозности, которую он сам в таких словах охарактеризовал на допросе: «Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь» [с. 121]. Он действительно был весь соткан из нервов. «Мне всегда казалось, — говорит Струве, — что у него слишком много нервов, слишком много того, что в научном физиологическом смысле называется чувствительностью» [«Возр.», № 252]. Другими словами, у Колчака был холерический темперамент. Он быстро переживал каждое свое ощущение и при отсутствии лукавства и скрытности бурно реагировал на события. Всякая неприятность отражалась на его внешности [Иностранцев]. «Жалко адмирала, когда ему приходится докладывать тяжелую и грозную правду: он то вспыхивает негодованием, гремит и требует действия, то как-то сереет и тухнет, то закипает и грозит всех расстрелять, то никнет и жалуется на отсутствие дельных людей, честных помощников» [Будберг. XIV, с. 260].
Все эти черты были бы пагубны для дела, если бы Колчак в эксцессах гнева терял чувство меры, принимая решения, диктуемые повышенностью восприятия — «рыцарь подвига» мог сделаться насадителем произвола и насилия. Этого не было. Колчак не только был отходчив, но с чрезвычайной легкостью признавал и свою неправоту (особенно если он нарушал своими действиями «закон») и шел на уступки, которые некоторые из окружавших склонны были приписывать исключительно слабости воли5. Ближайшие сотрудники адмирала, по-видимому, быстро приспособлялись к его неуравновешенности и не чувствовали моральной тяжести от бурных выходок своего шефа6. Он кромсал перочинным ножом ручки своего кресла, бурлил — «нахохлится, но терпеливо слушает», по выражению Будберга. Людей с таким характером легко можно полюбить — им охотно прощают излишнюю подчас резкость. Такие люди лести не любят, к интригам не склонны. Перед ними безбоязненно можно говорить откровенно. Будберг передает довольно характерный эпизод. Рассказан он им в целях показать «печальное воздействие старших военных начальников на адмирала», который принял орден Георгия III ст. за взятие Перми. «Я не знал этого пожалования, — рассказывает Будберг, — и, видя на адмирале шейного Георгия, думал, что он получил его во флоте в прошлую войну; поэтому, когда Лебедев в вагоне адмирала заговорил о пожаловании георгиевских крестов за какой-то бой, то я, не стесняясь в выражениях, высказал свой взгляд на позорность такого награждения во время гражданской войны. Только после, когда мне объяснили, в чем дело, я понял ошалевшие взгляды и отчаянные жесты присутствовавших, делаемые мне с соседнего с адмиральским стола» [XIV, с. 242]. Конечно, отношение адмирала к Будбергу не изменилось от невольной бестактности последнего.
Резкость адмирала шокировала иностранцев. Надо сказать, однако, тех из них, которые с самого начала встали в довольно враждебное отношение к Колчаку, как это было с представителями французской военной миссии во главе с ген. Жаненом7. Очевидно, здесь дело было не в экспансивности Верховного правителя, который не умел скрывать своих переживаний и с излишней откровенностью подчас их высказывал. Штефанек будто бы сказал: «Думал встретить диктатора, а нашел больного в 39-градусной горячке» [Драгомирецкий. С. 84]. Конечно, для руководителя высшей политикой это было минусом, ибо жизнь требовала часто уменья приспособляться к дипломатической фальши.
Нервность Колчака повышалась в связи с неудачами в Сибири. При его впечатлительности это было естественно. Колчак всего себя отдавал служению родине и готов был требовать такой же жертвенности и от других. Поистине Колчак душою болел о России. И не приходится издеваться над «расшатанными нервами» Верховного правителя, как это делает автор из «Чехосл. Дневника». Болезненность переживаний чрезвычайно усилилась к октябрю, когда началась сибирская катастрофа. Ген. Иностранцев, назначенный 19 мая генералом для поручений при Колчаке и отмечающий его «деловитость и понимание», в октябре уже не узнает адмирала — перед ним больной человек с воспаленными от бессонницы глазами. В дни эвакуации из Омска это «нравственно измученный человек» [Гинс. II, с. 112]. Почему? Это станет ясно, когда мы познакомимся с фактами, которыми отмечен первый год диктатуры Верховного правителя.
Ген. Жанен с легкостью утверждает, что Колчак был морфинистом [«М. S1.», 1924, XII, р. 238]8. Откуда получил он такие данные? Никто другой об этом не говорит. Все, кого я спрашивал, решительно отрицают это. Приходится думать, что шеф французской военной миссии вновь почерпнул информацию от одного из своих многочисленных «тайных агентов».
* * *
«Бедный и беспомощный идеалист»... Честный, искренний, прямой, этот человек — «мягкий воск», из которого можно лепить все, что угодно. «Сколько хорошего можно было бы сделать из этого вспыльчивого идеалиста, полярного мечтателя и жизненного младенца, если бы слабой волей руководил кто-нибудь сильный и талантливый, и руководил так же искренно и идейно, как искренен и предан идее служения России сам адмирал».
Будберг чрезвычайно субъективный наблюдатель с гипертрофией чувства критики. К его выводам надо относиться с большой осторожностью. Но уже то, что он так высоко ставил моральные качества характеризуемого лица, само по себе знаменательно. Слабоволие как-то не вяжется в моем представлении с образом Колчака. Это был человек, относившийся с большой доверчивостью к людям, увлекавшийся ими и, конечно, больно разочаровывавшийся в них. Доверчивость отнюдь не синоним слабости воли и податливости чужому влиянию9. Будберг старается провести параллель между Императором Николаем II и Колчаком. Между тем трудно себе представить более разные типы.
Другой наблюдатель, Гинс, имевший возможность близко подойти к интимным переживаниям адмирала в течение десятидневной совместной поездки в октябре в Тобольск, в конце концов, разочарованно замечает: «Человек корабельной каюты, не привыкший управлять живыми существами. Наивный в социальных и политических вопросах» [II, с. 369]. Да, это «редкий по искренности патриот, горячий, честный, не умеющий лукавить, умный по натуре, чуткий, темпераментный, но»... У Гинса, как было уже указано, особый подход — он отгораживается от того, что участвовал в проведении кандидатуры «неудачливого диктатора». Для политика Гинса Колчак как бы слишком примитивен. «Бонапарт не может появиться среди моряков», — устанавливает уже общий тезис мемуарист, — адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями» [с. 367]. Колчак был прежде всего моряк по привычке: «он добр и в то же время суров; отзывчив и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускною суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит — и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать».
Так ли это? Не придумана ли такая концепция? Колчак — прекрасный, по-видимому, оратор — не умел говорить с массами?.. А его выступления в Черноморском флоте в те тревожные дни, когда современник-очевидец записал: «Колчак один на высоте?» Колчак, поддержанный партией эсеров, усиленно выступает в ряде митингов. Предоставляю слово этому современнику10.
«Я помню один из колоссальных митингов в цирке, где собралось несколько тысяч матросов. Здесь в месте, где играл оркестр, собрался весь президиум Совета раб. и сол. депутатов. Цирк жужжал, как улей, когда раздался звук колокольчика и председатель Канторович отчетливо произнес: — Слово принадлежит командующему флотом товарищу адмиралу Колчаку...
Настала мертвая тишина, и когда во весь свой рост поднялся, опираясь на барьер ложи, адм. Колчак, то цирк разразился неистовыми аплодисментами, и не скоро адмирал мог начать свою речь.
В своей красиво построенной речи, понятным и простым языком адмирал нарисовал картину развала армии, нарисовал то печальное и позорное будущее, что ожидает страну при поражении... Он сказал, что, благодаря своей сознательности, во всей России только Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в революцию и преданность родине, и теперь — долг флота из своей среды выделить тех, кто сумеет увлечь за собой армию на подвиги, что «сказкой казарменной стали». Бесконечные аплодисменты раздались в ответ на слова адмирала. Был такой подъем, такой взрыв искреннего патриотизма, что снова поверилось в русский народ, снова казалось, что не все потеряно...
Тогда родилась «черноморская делегация», которая увлекла за собой полки на Галицийском фронте и в большинстве — погибла во главе этих полков»...11
Достаточно указать, что даже такие пристрастные исследователи, как большевицкие историки, должны признать, что Колчаку удалось, благодаря личному влиянию, добиться «огромных успехов» в Севастополе12.
Мы часто склонны считать людей, которых мы не понимаем, и наивными и элементарными. Если запальчивость — отличительная черта моряков, то Колчак — типичный моряк. Но он далеко не морской волк изображения Станюковича; это не шаблонный тип, который создает бытовая специфическая обстановка. Это моряк совершенно незаурядный. Человек очень определенных и своеобразных взглядов. Взгляды его можно не разделять, можно оспаривать, но нельзя им отказать в большой оригинальности.
Психология и миросозерцание Колчака многим из нас будут чужды. Их, во всяком случае, не поймут те, которые мерят только по признанному трафарету. Для иных достаточно прочесть свидетельство Гинса, что Колчак с интересом читал «Протоколы сионских мудрецов»13 и был пропитан антимасонскими настроениями, — и облик адмирала безнадежно потускнеет в их представлении; достаточно им узнать, что адмирал высоко ставил старый устав о полевой службе — одно из «самых глубоких и самых обдуманных военных положений», считая его настоящим «кодексом диктатуры», т. е. кодексом чисто военного управления [«Допрос». С. 150], — и адмирал станет для них уже не только «политически наивным», а прямым реакционером в общепринятом смысле этого слова. Между тем назвать адмирала реакционером, по образному выражению Будберга, было бы «подлостью» [XV, с. 311].
Колчак был, несомненно, прогрессивный человек, чуждый, правда, трафаретной политики. Он ее не понимал, ею не интересовался, потому что на первом плане для него стояла «великая военная идея». И он строит себе особую социологию в духе «Трех разговоров» Вл. Соловьева: война для него — «великое честное и святое дело». Война очищает человека и уничтожает того зверя, который господствует над миром, над человеческой массой14. Идеология социализма бессильна побороть эти исторически сложившиеся силы. Война в этих условиях приобретает высший, религиозный и метафизический смысл — она выше «справедливости», выше личной жизни... Эта иррациональная — по собственным словам Колчака — основа делает войну началом как бы очистительным, несмотря на то что война сама по себе связана со многими отрицательными явлениями. Так смотрел Колчак и на мировую войну. Для него она была подлинно «великой». Она дала ему полную компенсацию, даже «счастье и радость». Может быть, это была одна из тех «диких фантазий», которыми он «иногда» руководствовался в жизни15.
Колчака охватывает какое-то мистическое одухотворение, когда он думает о «живой душе войны». В Японии он часами сидит перед камином и наблюдает за клинком кинжала, который в его сознании начинает оживать внутренней в нем скрытой силой, здесь скрыта как бы часть этой живой души войны. Колчак начинает понимать сокровенный смысл старинного японского культа «холодной стали».
Колчак прежде всего «солдат». Он с гордостью чувствует себя офицером, который должен получать и отдавать приказания. Он с большим сочувствием отмечает слова одного японского деятеля: «Дисциплина есть основание свободы» — дисциплина истинное выражение свободы. Поэтому ему так трудно приказывать, не располагая силами для выполнения (Черном, флот в революционные дни). Это — «ужасное состояние».
Подобная концепция не случайна для Колчака. Она продумана им. Он вдумчиво и долго изучает вопрос. Метафизика для него не временное отвлечение от тяжелой действительности, не забава ума и воображения. Нет, вся система выработанных взглядов соответствует сущности его натуры. Мы узнаем, что полярный искатель, специалист в той отрасли науки, в которой как бы отсутствуют черты натурфилософии, тщательно читает Ф. Кемпийского и Тертуллиана. Это он делает во время поста. Уже в период первого своего плавания он занимается буддийской литературой и изучает философию Конфуция. Буддийские гностики соответствуют его душевным настроениям. В монашеских орденах воинствующего буддизма он находит ту дисциплину, которая одна укрепляет волю. И он вслед за буддийскими сектантами склонен видеть в дисциплине своего рода искусство, которое можно развить специальными приемами. Чтобы читать в подлиннике Конфуция — одного из «величайших мыслителей», Колчак изучает язык. Переводит Суна, которого считает одним из самых выдающихся военных мыслителей эпохи VI ст. до Р. X.
Мы видим, что все это несколько необычно для «узкого моряка».
«Мечтатель» об «общем благе» целиком погружается в свои мысли. Они его так захватывают, что свою практическую жизнь он строит в соответствии с догмой... В годы войны он почти фанатик идеи служения Родине. Только дикость Гойхбарга может говорить об «измене» России в момент поездки в Америку. Колчака чрезвычайно не удовлетворяют те взгляды на войну, с которыми он сталкивается в демократической стране.
Войну можно вести, только желая ее. Демократия войны не хочет. Америка ведет войну только со своей узкой национальной точки зрения. Такая психология в данный момент Колчаку кажется абсурдной «Мне нет места здесь, — записывает он. — Я оказался на положении, близком к кондотьеру, предложив чужой стране свой военный опыт, знания, а в случае надобности, голову и жизнь в придачу».
Интересы родины требуют, однако, действия. «Победа над Германией — единственный путь ко благу родины»... «Я считал, — говорит он в своих показаниях, — что то направление, которое приняла политика Правительства (Правительства чисто «захватного порядка»), которое начало с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев над нами, говорил за то, что это Правительство действует в направлении нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов» [«Допрос». С. 101]. Поэтому Колчак с «восторгом» принимает вновь предложение английского правительства ехать на Месопотамский фронт.
В записках Колчака, которыми мы пользуемся, имеется почти провиденциальная отметка по поводу одного сообщения о смерти от холеры: «Неважная смерть, но много лучше, чем от рук сознательного пролетариата, или красы и гордости революции». Этой судьбы не избежал Колчак. Слишком остро в нем было ощущение поруганной чести. «Испытал чувство, похожее на стыд, при виде порядка и удобства жизни», — говорит он о своем пребывании во время войны в Лондоне. Две войны и революция сделали нас инвалидами: «отцы социализма давно уже перевернулись бы в гробах при виде практического применения их учений». Колчак принимает гражданскую войну как неизбежное очистительное зло: нет другого пути возрождения нации. Для Колчака общество, не желающее бороться, не существует... Поэтому он сторонится беженцев в Японии и живет там одиноко. Все его помыслы направлены к отысканию путей служения стране.
Может быть, я невольно не всегда точно и ясно изложил чуждое мне миросозерцание Колчака. Для этих штрихов я заглянул в интимную переписку покойного «мечтателя»16.
* * *
Разрушение заложено в основание человека — так смотрел Колчак на революцию. Истерической толпой легко владеть. Но «я не создан быть демагогом». Поэтому и испытывает Колчак такое «отвращение» к политике. Но это «отвращение» вовсе не означает приверженности к старому дореволюционному режиму, о чем его с пристрастием допрашивала иркутская «следственная» комиссия. — Колчак ей ответил: «У вас под монархистом понимается человек, который считает, что только эта форма правления может существовать. Как я думаю, у нас (т. е. у офицеров) таких людей было мало... Для меня лично не было даже такого вопроса — может ли Россия существовать при другом образе правления. Конечно, я считал, что она могла бы существовать» [«Допрос». С. 101].
«Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли вы тогда монархистом или нет», — упрекнул Колчака председательствующий коммунист Попов.
Колчак. Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «Каковы у вас политические взгляды?» — никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю. Я считал себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 г. я считал себя монархистом... Попов. Какова была ваша общая политическая позиция во время революции?..
Колчак. Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Госуд. Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то Правительство, которое существовало предшествующие месяцы, — Протопопов и т. д. — не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал сам факт выступления Госуд. Думы как высшей правительственной власти... Я приветствовал перемену Правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал, и потому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет... Присягу я принял по совести, считая это Правительство как единственное Правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой стоял всегда, — что я, в конце концов, служил не той или иной форме Правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего... для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма не определенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего — и образа правления, и политических соображений...
... Я первый признал Временное правительство, считал, что как временная форма оно является при данных условиях желательным; его надо поддержать всеми силами; что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я считал, что монархия будет, вероятно, совершенно уничтожена. Для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают... Я думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления я считал отвечающим потребностям страны»16.
Можно ли думать, что Колчак о республике упомянул только потому, что стоял перед «социалистическими» следователями? Нет, у людей такого типа страха не бывает. Да и нужды не было у Колчака рядиться в чужое одеяние — он был все равно обречен. Но люди этого типа действительно довольно равнодушны к формам правления — и не видят в них панацеи от всех общественных зол. «Я не могу сказать, — говорит Колчак на допросе, — чтобы я винил монархию и сам строй, создавший такой порядок. Я откровенно не могу сказать, что причиной была монархия» [с. 44]. Что же, здесь проявилась только элементарность натуры? Политическая недоразвитость? Как-то трудно с этим довольно элементарным публицистическим критерием «левых» политиков подойти к сложному и своеобразному облику Колчака. Мне кажется, что, во всяком случае, уже в период гражданской войны Колчак к вопросу подходил приблизительно так, как один из персонажей в «Трех разговорах»: «Если с меня кто-нибудь дерет шкуру, я ведь не стану обращаться к нему с вопросом, а какого вы, милостивый государь, исповедания?»
Вращавшемуся в сибирских эсеровских кругах майору Пишону казалось при беседе с Колчаком в Харбине 24 апреля (1918), что адмирал высказывал реакционные взгляды. В чем они проявлялись, Пишон не говорит. Свое суждение французский наблюдатель, в сущности, аннулирует добавлением, что Колчак высказывался «в духе, господствовавшем в Сибири» [«М. S1.», 1925, II, р. 259]. Конечно, Колчак не был демократом в том смысле, в котором расцениваются партийные люди, но в нем было чрезвычайно мало того, что давало бы повод говорить о реакционности взглядов. Помилуйте, он на допросе заявил, что надо «в плюс» поставить большевикам разгон Учр. Собр. 1917 г., но в то же время признал, что только «воля У. С. или Земского Собора» может установить форму будущего правления и что «этому органу каждый должен будет подчиниться». Первая реплика неоднократно раздавалась в рядах эсеровской публицистики. Следует, однако, прежде всего помнить, что «стенографическая» запись показаний Колчаком, конечно, не просмотрена. Стенограммы — и особенно большевицкие — часто выкидывают изумительные кунтюшки17.
Но согласимся, что Колчак все это действительно говорил, и признаем употребленную им терминологию в высшей степени неудачной. Смысл его речи все же ясен. Он говорил: «Со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, это У. С. вызывало «отрицательное отношение» — оно было искусственно и партийно» [«Допрос». С. 104]. К тогдашним отзывам об У. С. 1917 г. всегда примешивается призрак того «охвостья», угроза восстановления которого стояла и которое фракция эсеров склонна была выдавать за подлинное У. С. Многие ли к этому относились сочувственно? «Только немногие об этом думают», — писал еще из Москвы в Париж один из авторитетных французских наблюдателей русской общественной жизни 1918 г., имевший широкие и довольно разнообразные связи в либеральных и демократических кругах. Идея эта мертворожденна — заключал он подробное письмо, копия с которого имеется в моем распоряжении. В позиции Колчака — допустим, даже ошибочной — ничего специфически реакционного, по существу, не было18.
Нет основания предполагать, что многократные утверждения Верховного правителя о передаче власти при установлении нормальных условий Учр. Собранию того или иного наименования являются тактической мимикрией, позой перед Европой и Америкой. Порукой была та «кристальная честность», которой отмечен характер омского «диктатора» [см., напр., у Грондижа. С. 522]. Колчак говорил о созыве Представительного Собрания в первом же интервью с представителями печати, он определенно подчеркнул это в речи 23 февраля на объединенном заседании Гор. Думы и земства в Екатеринбурге. Эта речь даже на Кроля произвела «прекрасное впечатление» — другие назвали ее «струей свежего воздуха в спертую и удушливую атмосферу тыловой жизни».
«...Население ждет от власти ответа, — говорил Верховный правитель, — и задача власти открыто сказать, куда и какими путями она идет и какими идеалами одухотворена борьба с большевизмом, — борьба, не допускающая никаких колебаний и никаких соглашений. Вот первая задача и цель Правительства, которое я возглавляю. Вопрос должен быть решен только одним способом — оружием и истреблением большевиков. Эта задача и эта цель определяют характер власти, которая стоит во главе освобожденной России, — власти единоличной и военной. Вторая задача Правительства, мною возглавляемого, — есть установление законности и порядка в стране. Большевизм слева и справа как отрицание морали и долга перед родиной и общественной дисциплины, справа базирующийся на монархических принципах, но, в сущности, имеющий с монархизмом столько же общего, сколько имеет общего с демократизмом большевизм, характеризующийся для своих адептов свободой преступления и подрывающий государственные основы страны, большевизм, который еще много времени после этого потребует упорной борьбы с собой. Законность и порядок поэтому должны составить фундамент будущей великой, свободной, демократической России. Я не мыслю будущего ее строя иначе, как демократическим, — не может он быть иным, и теперь, быть может, только суровые военные задачи заставляют иногда поступаться и в условиях борьбы вынуждают к временным мероприятиям власти, отступающим от тех начал демократизма, которые последовательно проводит в своей деятельности Правительство».
Основные положения екатеринбургской речи повторялись не раз в выступлениях Верховного правителя на земско-городских собраниях в Челябинске, Перми, на заседании Казачьего Круга и т. д. В Челябинске, на обеде, организованном местным самоуправлением, Колчак подчеркнул, что ...«счастливейшей минутой его жизни будет та, когда в освобожденной от злых насильников России он сможет передать всю полноту власти национальному Учредительному Собранию, выражающему подлинную волю русского народа». И в то же время Колчак твердо был убежден, что во время войны власть не может быть в руках народа. Такая концепция исходила из всей совокупности взглядов Колчака на войну и отнюдь сама по себе не означала отрицания принципа народовластия.
...«Я смотрел на единоличную власть совершенно, может быть, не с той точки зрения, как вы предполагаете. Я считал прежде всего необходимою единоличную военную власть — общее единое командование, затем я считал, что всякая такая единоличная власть, единоличное верховное командование, в сущности говоря, может действовать с диктаторскими приемами и полномочиями только на театре военных действий и в течение определенного, очень короткого периода времени, когда можно действовать, основываясь на чисто военных законоположениях...
... Единоличная власть, как военная, должна непременно связываться еще с организованной властью гражданского типа, которая действует, подчиняясь военной власти, вне театра военных действий. Это делается для того, чтобы объединиться в одной цели ведения войны» [«Допрос». С. 150].
«Знаете, — говорил адмирал Гинсу в октябре, — я безнадежно смотрю на все ваши гражданские законы и оттого бываю иногда резок, когда вы меня ими заваливаете. Я поставил себе высокую цель: сломить Красную армию. Я главнокомандующий и никакими реформами не задаюсь. Пишите только те законы, которые нужны моменту, остальное пусть делают в Учр. Собрании» [II, с. 345]. Гинс логически отвечал: «Но жизнь требует ответа на все вопросы»... В этом трагизм всякой временной власти. Подчас получался заколдованный круг. На гражданской войне тыл был не менее важным фактором, чем те или иные стратегические успехи на фронте. И в то же время успех на фронте определял настроения и тактику тыла. Выработать правильное взаимодействие между тылом и фронтом ни одна власть в период гражданской войны не сумела. Оттого ли, что у нее не хватало «государственного ума»? Чайковскому19 казалось, что Северное правительство нашло правильную форму взаимодействия военной и гражданской власти. Но, конечно, это только казалось так — Гинс, напр., находил «много ненормального» в конструкции Архангельского правительства.
Может быть, «военная идея» несколько поглощала внимание Колчака. Но она поглощала в те годы весь мир. Все шли в той или другой степени по пути милитаризации гражданской власти. «Даже в Америке, — отмечает Масарик [II, с. 124], — установилась особого вида диктатура». Демократия ограничивала «словоговорения», нарушала законы и права человека, «по всем умственным ценностям был объявлен мораторий», по образному выражению Алданова20. В атмосфере апокалипсических событий войны это кажется естественным, как казалось оно естественным и якобинской демократии XVIII в.: «Во время войны можно набрасывать покрывало на статую Свободы» (слова Геро де Сешеля). Но вопрос делался еще более сложным при полной государственной разрухе и при обостренных общественных и социальных отношениях. На упрек в «милитаризации», в распространении на тыл военного положения Колчак отвечал Гинсу: «Но вы поймите, что от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной» [II, с. 346]. «Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики или эсеры». Думаю, что Колчак был более чем прав21.
Для Колчака диктатура, во всяком случае, не была чем-то самодовлеющим. Он не держался за власть из-за личных побуждений. Он не был «самодержцем», как доказывал Гойхбарг в своем обвинительном заключении22. Он не стремился решать все сам (как склонен утверждать Милюков). Поэтому так раздражали Колчака «бесконечные разговоры» о необходимости чистой диктатуры, на которой настаивали недовольные двойственным олицетворением верховной власти, — той «конституционной диктатуры», которая появилась в Сибири в результате государственного переворота 18 ноября: Верховный правитель и Совет министров. Идеологами чистой диктатуры как раз были многие из членов партии народной свободы23.
Бывали у диктатора минуты отчаяния. С «потухшим взглядом» сидел он на заседаниях, когда вскрывалась интрига. «Мы строим на недоброкачественном материале. Все гниет. Я поражаюсь, как все испоганились», — говорил он Гинсу в октябрьскую поездку в Тобольск. «Нечего спасать Россию, когда 99 из 100 этого не хотят», — гласила одна из оппозиционных прокламаций, выпущенных от имени офицеров. Мог ли Колчак, по своей натуре, на это реагировать иначе, как «бурным протестом против происходящего»? Спасать Россию все-таки надо. «Знаете, не кажется ли вам, что диктатура должна быть действительно диктатурой?» — спрашивает он Пепеляева в одну из минут такого отчаяния.
«Маргариновый диктатор», — с презрительным сожалением скажут большевики, давшие миру образец еще небывалой деспотии. Колчак и не был диктатором в общепринятом смысле слова. Но не служит ли это и лучшим ответом на обвинение в диктаторском самодержавии?24 Своеобразный «самодержец», который казался англичанину проф. Пёрсу «насквозь демократом»; бескорыстным патриотом без малейшего честолюбия (беседа с Саблиным в Лондоне по возвращении из Сибири). И как-то даже странно читать в «дневнике» ген. Жанена утверждение, что Колчак был одержим манией величия [«М. S1.», 1925, III, р. 354].
«Важности никакой, — отмечает Будберг при первом же свидании. — Наоборот, озабоченность и подавленность ответственностью» [XIV, с. 226]. «Мании величия» просто не могло быть у того, кто сам готов был «взять винтовку и драться наряду с солдатами». «Я уверен, — записывает Будберг, — что он проклинает омскую работу, которая мешает ему устремиться на фронт» [XV, с. 278]. Колчак постоянно рискует при поездках на фронт — опасность и смерть ему не страшны. Он слишком привык к борьбе с суровой природой Севера, на каждом шагу грозящей гибелью смелому путешественнику. Для Колчака здесь нет рисовки — это обыденное; не была рисовкой и его «совершенно простая солдатская шинель с защитными погонами». «Он прекрасный солдат, но у него нет "государственного ума"», — скажет Дюбарбье [с. 74]. К сожалению, никто из иностранцев не определил содержания этого «государственного ума»25. По-видимому, «государственный ум» эти наблюдатели склонны приписывать только тем, которые преуспевают в гражданской войне. Не величайшая ли это ошибка плохого исторического прогноза? Философию истории, впрочем, мы можем оставить в стороне. Нас прежде всего интересуют факты. Непонятно, как люди, бывшие в Сибири, могли потом писать, что Колчак, одержимый манией величия, окружил себя помпой, почти царской. Вслед за Жаненом об этом говорит и ген. Рукероль. Последний, как очевидец, рассказывает французскому читателю уже подлинные сказки:
«Все эти люди, знавшие императорский двор, поспешили организовать в Омске такой же этикет вокруг диктатора, тщеславию которого льстило проявление почтения, которым была окружена его особа. Он причащался на Страстной неделе, и в газетах об этом было больше подробностей, чем бывало о Николае II» [с. 55].
Простота в быте и обхождении была отличительной чертой омского диктатора26. Гинс рассказывает, какое неприятное впечатление произвел на адмирала инцидент, имевший место во время поездки — после беседы Колчака с воткинцами.
«Они окружили его кольцом, и Колчак сказал им: «Воткинцы! Я должен сказать вам откровенно, что в последнее время ваша былая слава померкла. Я давно не слыхал о вашем участии в боях. Между тем ижевцы, ваши родные братья, за последнее время участвовали в ряде боев и показали такую доблесть, что я везу им георгиевское знамя. Я хотел бы, чтобы и вы не отставали от них».
Воткинцы кричали: «Ура!» Один пожилой мужичок упал на колени, выражая восторг, что видит Верховного правителя. Адмиралу это очень не понравилось, он насупился и поспешил уйти, сказав: «Встаньте, я такой же человек, как и вы»27 [Гинс. II, с. 364].
Этот человек не любил лести и «в действительности был чужд «наклонностей автократа» (интервью Вологодского в «Заре»), В нем была та своего рода «величественность», которая не достигается никаким внешним блеском одеяния и поз»28
И еще одну черту надо отметить для характеристики «кровавого» диктатора. По-видимому, по натуре это был удивительно мягкий человек, умевший нисходить к недостаткам других и всегда боявшийся быть жестоким по отношению к людям. Возможно, что сентиментальность вообще не подходила к суровому времени. Недаром большевики, вышедшие из недр интеллигенции и опровергшие всем своим существованием былой тезис «Вех» о неспособности интеллигенции держаться за власть, оказались в период гражданской войны победителями: они показали, каких внешних результатов можно достигнуть последовательным и циничным насилием. Для всех будущих диктаторов они дали показательный урок. Сибирская «деспотия» носила иной характер. И при ней были эксцессы. Пожалуй, слишком много. Повторяющиеся эксцессы становятся, конечно, системой. Но сам диктатор, более чем кто-либо, морально страдал от того, что давала сибирская жизнь — он так же «бурно» ненавидел и насилие. С горечью он сознавал, что это насилие творится все же его именем. У Гинса приведены показательные иллюстрации того, как самые благожелательные распоряжения Верховного правителя, преломляясь в призме сибирской действительности, отражались в своего рода кривом зеркале [с. 354—356].
Я не имею возможности с большими деталями остановиться на характеристике образа адмирала Колчака — этого, по мнению Гинса, «рокового человека», несшего с собой несчастье. Еще придет его биограф, который, опираясь на проверенные уже факты, нарисует незаурядный облик «мечтателя об общем благе».
«Колчак — хороший человек, патриот... К сожалению, ему приходится бороться с саранчой справа и слева», — писал один солдат с фронта 19 июня. Это наивно-грубое выражение неизвестного нам солдата дает, в свою очередь, ответ тем политическим противникам Верховного правителя, которые пытаются его сделать как бы символом «самой мрачной реакции»29.
2. Декабрьская драма
9 декабря на георгиевском параде адмирал, объезжая войска в своей обычной солдатской шинели30, простудился и заболел воспалением легких. «Этот случай, — говорит он в показаниях, — в дальнейшем в значительной степени повлиял на мою работу». Несмотря на простуду, Колчак первое время оставался на ногах — болеть он «не мог».
Наконец консилиум врачей уложил его в постель: у него обнаружилась «запущенная тяжелая форма пневмонии». Колчак проболел более шести недель. Насилуя себя, он вставал, одевался и, приняв кого нужно, вновь ложился в постель. Два раза в день Колчак продолжал принимать доклады о фронте. «За исключением нескольких дней, — говорит он, — когда у меня была такая высокая температура и такие боли, что я дышать не мог» [с. 197]. Естественно, что в период своей болезни Верховный правитель «не был вполне в курсе всех дел» — вернее, Правительство самостоятельно действовало от его имени. Поразительно, что обвинители Колчака никогда ни одним словом не обмолвились о том тяжелом положении, в котором находился Верховный правитель в дни декабрьских событий, разыгравшихся вновь на арене омской жизни.
Началось с восстания, организованного в ночь на 22 декабря большевиками. Оно было неудачно. Контрразведка своевременно получила сведения о готовящемся выступлении. В Омске находилось «достаточное количество войска», «гарнизон был надежен». Город заранее разбили на районы, составили расписание для войск на случай тревоги. Особых указаний не требовалось — «все делалось автоматически». Накануне выступления был арестован большевицкий штаб.
Большевицкий историк Парфенов пытается представить «восстание как горячий, необдуманный, неорганизованный порыв молодых солдат нескольких рот омского гарнизона, доведенных происходящим террористическим разгулом до крайнего физического и духовного раздражения» [с. 75]. В данном случае большевицкие «историки» не сговорились. Комментатор опубликованных в «Кр. Арх.» [т. VII] материалов под заглавием «Омские события при Колчаке», Константинов, прямо пишет в предисловии:
«Омское восстание, вспыхнувшее через месяц после колчаковского переворота, не было вызвано, как это изображали в свое время эсеры (имеется в виду, очевидно, Колосов), возмущением только против Колчака — оно назревало значительно ранее 18 ноября... Если это восстание вспыхнуло бы при Директории, оно тоже было бы потоплено в крови, как это сделали колчаковцы... Омское восстание, по предположению его руководителей, должно было начаться в рабочих районах г. Омска и по другую сторону Иртыша, на ж.-д. станции Куломзино, верстах в 6—7 от Омска. Затем оно должно было переброситься в некоторые части омского гарнизона и в лагеря, где содержалось очень много красноармейцев, военнопленных гражданской войны. О подготовке этого восстания была осведомлена колчаковская контрразведка, которая заблаговременно приняла меры к его ослаблению и ликвидации. 21 декабря начались массовые обыски и аресты, была арестована группа большевиков-рабочих в 42 человека. Это внесло дезорганизацию в восстание. Последнее было отменено, но провести эту отмену полностью помешали аресты, вследствие чего в некоторых районах восстание вспыхнуло и проходило разрозненно, частично. Куломзинские рабочие выступили, но оказались изолированными от Омска и потерпели поражение» [с. 202].
Другой сибирский деятель И. Смирнов в статье «На другой день после падения советов» [сб. «Борьба за Урал»] рассказывает об условной телеграмме, которую в декабре разослал Сибирский областной комитет по коммунистическим организациям о подготовке декабрьского восстания в Омске. «На местах, — добавляет он, — получили вслед за этим подтверждение этого решения от специально приехавших из Омска товарищей» [с. 198].
Нет, конечно, никаких сомнений в том, что попытка восстания входила в разработанный большевиками систематический план борьбы за захват власти. В статье «Большевицкое подполье при Колчаке» Вегман рассказывает подробно, как были организованы коммунистические силы по системе пятерок и десяток, как сносились они через курьеров с Москвой и как Свердлов снабжал их деньгами. Еще в августе в Томске была созвана сибирская областная конференция большевиков; 23 ноября состоялась вторая конференция, на которой было решено приступить к организации ряда планомерных «сепаратных» восстаний с целью расстроить «весь контрреволюционный тыл». Конференция постановила «бросить силы партии на помощь возникавшему тогда крестьянскому движению». Так как центр власти находился в Омске, то на этот город подпольная организация «обратила свое главное внимание» [«Хроника». Прил. 151].
Омская попытка восстания не была одинока. Надо сказать, что коммунистическая молодежь, к сожалению, упорно и фанатически боролась за советскую власть в Сибири. Она героически отдавала свою жизнь и гибла при подпольной работе.
Принимали ли какое-либо участие в организации восстания сибирские эсеры? Проф. Легра, подчеркивая, что он хорошо осведомлен о сибирских делах, считает омское восстание — восстанием эсеровским. Конечно, это было не так. Прямых связей с коммунистическими организациями у сибирских эсеров, по-видимому, еще не было — они появились позже. Отдельные агитаторы, естественно, сливались в своей подпольной работе с коммунистическими пропагандистами.
В ночь на 22 декабря в Омске, после неудачной попытки освободить красноармейцев из концентрационного лагеря, большевицкий отряд перешел на ст. Куломзино, где находилась вооруженная дружина железнодорожных рабочих. Восстание было, по словам Колчака, легко подавлено казачьими частями и чехословацким отрядом, причем в дело была пущена артиллерия31.
Своеобразный спор произошел на иркутском «следствии» между адмиралом и председателем комиссии Поповым по поводу куломзинских событий.
Попов. ...фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо, только вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они уже хватались и расстреливались...
Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, потому что были раненые и убитые в моих войсках, и были убиты даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же вы говорите, что не было боя?
Попов. Боев не было, могли быть лишь какие-нибудь стычки.
Колчак. То, что вы сообщаете, было мне неизвестно. Я лично там не мог быть, но верю тому, что мне докладывалось. Мне докладывался список убитых и раненых. Эта точка зрения является для меня совершенно новой.
Попов. Это не точка зрения, а это факт.
Колчак. Вы там были?
Попов. Нет, я сидел в тюрьме и не был там точно так же, как и вы, но я говорю со слов участников этого дела.
Колчак. Мне говорили, что в Куломзине за весь день боя было 250 человек потери, а в правительственных войсках было человек 20 убитых и раненых, кроме того, 3—4 чеха, но сколько убитых было в войсках, я точно не помню [с. 210].
«Восстание было подавлено с исключительной жестокостью», — утверждает Гинс [II, с. 96]. Понятие о жестокости в гражданскую войну очень относительно. «В Куломзине, — заявил Попов, — фактически было расстреляно 500 человек». «Человек 70 или 80» — по словам Колчака. По данным «Сибирской Речи» 28 декабря, при подавлении мятежа было убито 114; по приговору полевого суда — 117.
Попов утверждает, что в Куломзине практиковалась порка. Колчак отвечал: «Про порку я ничего не знал, и вообще я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания — следовательно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где-нибудь существовать. А там, где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, т. е. действовал карательным образом» [с. 209]...
* * *
Но омские декабрьские события трагичны не куломзинским выступлением железнодорожных рабочих. Одна группа поднявших восстание явилась в областную тюрьму и освободила всех политических заключенных. Среди них были и арестованные 2 декабря ««учредиловцы»». Арестованные эсеры не очень склонны были уходить из тюрьмы, чувствуя какую-то «провокацию» в этом освобождении. «Но не уйти нельзя было, — пояснял своей жене Фомин. — Ведь они — вооруженные освободители, еще озвереют и прикончат» [«Былое». XXI, с. 221]. По-видимому, обстановка была не совсем такая, как ее описывает Раков в письме (брошюра «В застенках Колчака»): «Солдаты по наивности говорили «учредителям», чтобы они шли в казарму и образовывали власть». Другие же свидетели из эсеров говорят, что молодые солдаты, настроенные большевицки, не хотели даже вначале освобождать «учредилыциков» [Показания Сперанского. - «Кр. Арх.». VIII, с. 181].
Днем появился довольно дикий приказ начальника гарнизона Бржезовского, которым предписывалось «всем незаконно освобожденным из тюрем» «добровольно явиться»: «всех неявившихся и задержанных после этого бежавших арестованных приказываю расстреливать на месте»; «все укрыватели бежавших арестованных будут преданы военно-полевому суду, а равно домохозяева и хозяева квартир, где таковые будут найдены». Одновременно Бржезовский объявил об открытии действий военно-полевого суда, который должен закончить суд над задержанными в трехдневный срок [«Хр.». Прил. 154].
Большинство политических арестованных, согласно приказу, вернулись в тюрьму. Ночью часть их по определенному списку была взята из тюрьмы конвоем, водившим арестованных в военно-полевой суд, и расстреляна на Иртыше. Первая группа взятых из тюрьмы — среди них был с.-д. Маевский — была доставлена в военный суд и, по позднейшему сообщению прокурора палаты, приговорена к смертной казни32. Взятые во вторую очередь Девятов и Кириенко были расстреляны конвоирами по дороге при попытке «склонить их на сторону мятежников». Последняя группа — Фомин, Брудерер и др. — «была доставлена в помещение военно-полевого суда по закрытии заседания» последнего.
«Ввиду этого, — свидетельствует справка военного прокурора 31 декабря, — доставивший арестованных поручик Барташевский, по его указанию, вывел этих лиц из помещения суда, с целью возвратить их в тюрьму, а также вывел и вышеперечисленных пять осужденных к смертной казни, с целью привести приговор в исполнение; так как конвоируемые, вопреки запрещению начальника конвоя не разговаривать между собою, продолжали переговариваться, то поручик Барташевский, опасаясь, как бы арестованные не сговорились учинить побег, а также ввиду малочисленности конвоя, решил привести в исполнение приговор суда, вывел арестованных на реку Иртыш, где и привел приговор в исполнение, причем при возникшей среди конвоируемых панике были расстреляны не только приговоренные к смертной казни, но и остальные арестованные» [«Хр.». Прил. 155].
Так погибло 15 человек.
Я не имею возможности остановиться подробно на этой жуткой странице омской летописи. Ей Колосов, пытавшийся самостоятельно произвести расследование по свежим следам, посвятил особый очерк («Как это было»), чрезвычайно яркий в отношении трагических переживаний близких погибшего Фомина. В «Кр. Арх.» [кн. VII, VIII] опубликованы показания действовавших лиц — поскольку последствия выявились в период работы двух следственных комиссий: одной, учрежденной постановлением Совета министров 14 января, под председательством сенатора Висковатого и другой при иркутском губернском ревкоме под председательством присяжного поверенного Попова, бывшего председателя омского Совета рабочих депутатов, который в момент расстрела был в тюрьме и лишь случайно избежал смерти вследствие болезни сыпным тифом.
Говорить о каких-либо правонарушениях там, где все было сплошь вопиющим беззаконием, конечно, не приходится. Двадцатилетний поручик Барташевский из красильниковского отряда, начальствовавший конвоем, начальник унтер-офицерской школы кап. Рубцов и их помощники, непосредственно виновные в кровавой расправе, председатель суда Иванов, которому предъявлялось обвинение даже в составлении подложных приговоров о расстреле 44 совдепщиков после уж фактического их расстрела, начальник гарнизона и начальник его штаба — все они проявили чрезмерно легкое отношение к расстрелу без суда и следствия заключенных в тюрьму большевиков. Некоторое объяснение можно найти лишь в сложной обстановке подавленного восстания. Администрация тюрьмы была новая, гражданская власть, по признанию Гинса, растерялась и предоставила действовать исключительно военным властям. В таких случаях в атмосфере озлобления всегда творятся беззакония и бывают невинные жертвы — об юридических обоснованиях забывают.
Сущность не в двадцатилетних Барташевских, действовавших чрезвычайно упрощенно и наивно, выдававших в тюрьме расписки о взятых арестованных и, может быть, искренно убежденных, что они расправляются с большевиками, которых полк. Сабельников (нач. штаба) приказал присоединить к расстреливаемым (показание Рубцова). Кто за ними стоял? Вот сущность вопроса, который и ставит сводка материалов о расправе в тюрьме, сделанная для Верховного правителя.
Читатель, обладающий чувством элементарной справедливости, выделит во всей этой истории Верховного правителя. Какая личная ответственность может быть у того, кто в этот час лежал в постели в 40-градусном жару, «еле дышал» и не мог даже «говорить»? Только «исследователь», у которого отсутствует всякое критическое отношение к формальным документам, перед ним лежащим, будет продолжать утверждать, что все выходившие в эти дни от имени Верховного правителя приказы, принадлежат личной инициативе Колчака. Подпись адмирала стояла в приказе 22-го с благодарностью гарнизону и с сообщением о предании виновных военно-полевому суду. Конечно, Верховный правитель отдал приказ о «беспощадном уничтожении всех лиц, пытающихся произвести беспорядки» — телеграмма ген. Лебедева по воинским частям [«Хр.». Прил. 154]. А вот что говорит сам Колчак в своих показаниях: «Лебедев мне заявил, что сегодня вечером должен начать функционировать суд по назначению командующего войсками и что город объявлен на осадном положении» [с. 199]. «Было ясно, — показывал Колчак, — что Барташевский и бывшие с ним — это исполнители, важно было узнать, по чьему приказу и с какими целями это было сделано». Потребовав к себе главного военного прокурора полк. Кузнецова, больной Колчак поручил ему произвести следствие и выяснить виновника распоряжения о предании «учредиловцев» военно-полевому суду. «Кузнецову, — добавляет Колчак, — так и не удалось выяснить. Он выяснил факт и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была поставлена эта задача, установить, от кого исходило это распоряжение, не удалось. Тогда я решил передать это дело в руки сенатора-специалиста и просил его произвести само расследование. Это было в феврале месяце. Следствие военное столь несовершенно, так медленно тянется, что я считал, что они просто не могут как следует разобраться» [с. 203]33. «Мое мнение и убеждение было таково, что это был акт, направленный против меня и совершенный такими кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглашение с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дискредитирования моей власти перед иностранцами и перед теми кругами, которые мне незадолго до этого выражали доверие и обещали помощь» [с. 205—206]34.
Колчак делал оговорку, что обвинять Красильникова у него не было никакого основания: «Зная его отношение ко мне... я не мог подозревать, чтобы Красильников мог сделать этот акт, направленный против меня» [с. 207]. Упоминаю об этом, потому что автор статьи «Два восстания», напечатанной в «Белом Деле», слишком определенно говорит, что «расследование следственных властей приводило неизменно к атам. Красильникову и другим казачьим военным начальникам как к виновным в расправе» [с. 195].
Колосов, ведший «свое» расследование и скрывавший в беседе с министром юстиции имевшиеся у него сведения, ссылается на намеки Старынкевича, что в деле Фомина замешан Иванов-Ринов, который соперничал с Колчаком и «сознательно бросил ему в лицо трупы «учредилыциков» как вызов и как залог кровавого сообщничества в дальнейшем. Колосов создает уже версию, что омское восстание нарочно было допущено и ставит его в связь с конфликтом с Семеновым, с которым договорился Иванов-Ринов. Власть прекрасно была осведомлена о подготовке омского восстания... «одновременно с этой подготовкой шла еще одна подпольная».
«Для монархистов наступал долгожданный момент, так как можно было, воспользовавшись смутой, получить для подавления мятежа всю фактическую власть в свои руки и, подавив мятеж, направить острие того же оружия в другую сторону, против «выскочки» Колчака... В таком виде, по крайней мере, передавали мне смысл разыгравшихся событий весьма осведомленные люди из тех, которые полагали, что Колчак и в самом деле почти что русский Вашингтон.
Однако справиться с Колчаком оказалось не так легко, как, напр., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся, что, конечно, не удивительно, но замечательнее и удивительнее, кем именно охранялся. Охранялся он английскими солдатами, выкатившими прямо на улицу все свои пулеметы35. Мы знаем, что там происходило между этими матадорами сибирских цензовиков, но кончилось тем, что в своем приказе от 22 декабря, расклеенном на всех заборах, ген. Иванов-Ринов заявил, что он признает власть адм. Колчака и не позволит никому ее свергнуть... Но, признав власть адм. Колчака, сибирские погромщики вместе с тем в виде компенсации решили его, болтавшего там что-то о Нац. Собрании (чуть ли не Учредительном), помазать на царство кровью этих самых «учредильщиков», забросать его их трупами, сделать это его собственным именем в расчете, что он не посмеет отказаться от солидарности с ними и все это свяжет его круговой кровавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов... Это была дьявольская, сатанинская программа, счет к уплате по векселю, выданному еще 18 ноября убийцам... а затем, чтобы скрыть истинных виновников, была пущена по всему свету лживая легенда о простом офицерском самосуде» [«Былое». XXI, с. 296].
Для таких смелых суждений и выводов, по крайней мере в настоящее время, материалов нет.
В предположениях можно идти еще дальше. И приезд Иванова-Ринова с Дальнего Востока приурочить специально к выступлению большевиков (кстати, оно намечалось на 20-е до возвращения Иванова-Ринова). Можно последовать за Уордом и в восстании 22-го усмотреть совместную деятельность большевиков и монархистов. Видеть в декабрьских событиях «заговор» со стороны военной партии, руководимой Ивановым-Риновым, едва ли возможно. Правда, многое неясно относительно Иванова-Ринова в эти дни. Колосов утверждает, что Иванов-Ринов получил в ночь на 23-е диктаторские уполномочия и будто бы от него исходило приказание о предании возвратившихся в тюрьму «учредиловцев» военно-полевому суду. Сведения эти Колосов получил от лиц, «бывавших на дому у ген. Иванова-Ринова». Кто передал эти «диктаторские уполномочия» Иванову-Ринову? Официально Иванов-Ринов в эти дни нигде не выступает, никаких приказов его я не нашел (об этом говорит и Гинс), если не считать заявления, напечатанного в «Правит. Вестнике», № 30, в котором Иванов-Ринов опровергает распространившиеся слухи о тайных намерениях его посягнуть на власть. Иванов-Ринов заявляет, что он «до последней капли крови решил поддержать Колчака». Очевидно, слухи, о которых упоминает Колосов, действительно ходили и основывались на недовольстве левым курсом Верховного правителя. «Заря» еще 19 декабря говорила о том остром моменте, который переживает Сибирь, и, намекая, что «неясные слухи бродят, как тени, призывала общество сплотиться перед Правительством, так как «реакция» мобилизуется. Не только в Омске, но и в Харбине говорят о необходимости передать звание Верховного правителя другому лицу. В Харбине это, естественно, Хорват [Будберг. XIII, с. 274].
Легко допустить, что закулисным дирижером, провоцировавшим, конечно, не восстание 22-го, а тюремную драму, был действительно Иванов-Ринов или кто-либо из его сателлитов. Иванов-Ринов, как мы знаем, с особым подозрением относился к членам Уч. Собр. Подозрение должно было усилиться с момента, когда выявилась екатеринбургско-уфимская тактика после государственного переворота и когда у группы эсеров начались переговоры о соглашении с большевиками для борьбы против сибирской «контрреволюции». Министр юстиции был, конечно, прав, указывая Колосову, что такая политика в отношении большевиков раздражает военные круги, воспитывает в их среде негодование на «учредиловцев» и порождает печальные инциденты «самосуда».
Ночная тюремная драма все-таки была «самосудом»; правда, самосудом специфическим, самосудом организованным. И «лживая версия» о самосуде, происхождение которой Колосов приписывает инициативе Омского правительства, остается во всей своей силе. Колосов забывает, что сам он должен был раньше признать, что вначале все были «загипнотизированы» этой версией, вплоть до жены Фомина (судьбе Фомина главным образом посвящен очерк Колосова). Колосов поставил своей задачей разбить эту версию. У него были свидетели, о которых он не захотел сказать министру юстиции Старынкевичу и которых он не назвал даже в своих очерках. Но дело вновь рассматривалось большевиками; вновь давали свои показания обвиняемые и свидетели, стараясь всю вину как бы возложить на покойного уже адмирала. Были и новые свидетели. Большевики не преминули бы воспользоваться ими, если бы нашелся хоть какой-нибудь материал, подтверждавший версию Колосова. И большевики говорят в обвинительном заключении о военном самосуде [«Кр. Арх.». VIII, с. 190]. Самосуд этот был «квалифицированный». В этом нет сомнений. Не поручику Барташевскому пришла идея расправиться попутно и с «учредиловцами». Но идея эта явилась, очевидно, вне непосредственной связи с омским восстанием. В показаниях перед большевицкой комиссией числившийся в эсерах36 Ан. Сперанский (он исполнял при Комитете У. С. обязанность заведующего охраной Съезда и лично Чернова и находился среди арестованных) рассказывал, что еще 16—17 декабря в тюрьму приезжала группа офицеров и требовала выдать им для допроса Фомина, Девятова и его, Сперанского. Начальник тюрьмы Веретенников без письменного ордера отказался выдать заключенных [VIII, с. 181]. 22 декабря Сперанский, освобожденный из тюрьмы среди других, явился во второй участок городской милиции, где дежурный помощник сказал ему: «Ночью в тюрьму отправлять вас не буду — там сейчас главенствуют военные власти». 25-го Сперанский был вновь переведен в тюрьму, там ему рассказывали, что «еще утром 22 декабря в тюрьму, занятую новым караулом, прибыла большая группа офицеров, расположилась внизу, в конторе, потребовала список заключенных и против целого ряда фамилий сделала отметку V (красным карандашом) и затем сбоку «отпр.». Освобожденный 27-го (по распоряжению прокурора были освобождены оставшиеся 14) Сперанский также «успел» собрать некоторые сведения о 22 декабря. (Он был вновь арестован 28-го.) «В качестве идейных руководителей дикого самосуда, — показывает он, — в обществе называли имена: Михайлова, Иванова, Бржезовского и коменданта Ставки кап. Деммера». Скоро в тюрьму попал сам Барташевский, арестованный Чрезвычайной следственной комиссией. Вместе с ним был арестован как обвиняемый и унтер-офицер Падарин37. Из рассказов в камере этих лиц Сперанский узнал, что утром 22 декабря в красильниковский отряд является Барташевский и сообщает: вечером нужны будут надежные люди. На приглашение Барташевского откликнулись охотники: Шемякин, Левенталь, Виленкин, Падарин и еще двое. Вечером вся эта группа отдает себя в распоряжение председателя военно-полевого суда Иванова.
Вот, в сущности, главнейшие намеки, которые можно найти по вопросу о предварительной организации самосуда. Он был, несомненно, какой-то группой организован, но Колчак моральной ответственности за него нести не может. По-видимому, организаторы самосуда действовали его именем для того, чтобы прикрыться и чтобы подвигнуть примитивных людей типа двадцатилетнего поручика, не отделявшего эсеров от большевиков, на кровавую расправу. Кап. Рубцов требовал от тюремной администрации выдачи арестованных — как он сам показал еще колчаковской следственной комиссии, — «основываясь на личном приказе Верховного правителя» [VII, с. 210]. Так же поступил Барташевский. Колчак, в свою очередь, показывает:
... «Мне кажется, что в этот же вечер, часов в 9 или в 10 примерно, я получил совершенно неожиданно для меня записку от Вологодского, который сообщал, что предаются военно-полевому суду члены Учр. Собр., которые никакой связи с восстанием не имели, а просто находились в тюрьме и были освобождены, и что он просит моего распоряжения о том, чтобы их суду не предавать. Я потребовал сейчас же бланк и написал на нем, что члены Учр. Собр. суду не подлежат и без моего ведома никакому суду их не предавать. Затем меня немножко удивило одно обстоятельство: мне доложили, что никого из членов Учр. Собр. нет, что они все разбежались, а потом вдруг они почему-то предаются полевому суду. Я, конечно, не мог быть в курсе дела тогда вообще и только потом узнал, что они добровольно явились, т. е. часть из них сама пришла обратно в тюрьму. Свою записку я приказал отправить срочно начальнику гарнизона, потому что полевой суд был при начальнике гарнизона назначен Матковским» [с. 200].
Напомним, что в свое время Колчак был недоволен, что члены Учр. Собр. держатся в тюрьме. «Наивный в политике», адмирал говорил министру юстиции:
«Что вы их держите? У меня нет в отношении их никаких обвинений, я ничего им не предъявляю, — все это люди, не имевшие никакого общественного значения, и держать «их в тюрьме — это только занимать место, и их свободно можно было бы всех отпустить, взяв от них подписку, чтобы они не вели борьбу против меня и жили где угодно, а следствие о них можно вести, не держа их в тюрьме». «Старынкевич имел в виду какие-то формальности, которые несколько задержали освобождение, — и они должны были быть выпущены» [с. 201].
Эта страница из истории гражданской войны показывает, как трудно быть в такие дни юристом. В свое время были указаны причины, побуждавшие министра юстиции после суда над заговорщиками 18 ноября задержать арестованных 2 декабря. Формально он был прав. По существу, можно было предвидеть то, что произошло в ночь на 23 декабря, и не формально относившийся к вопросам Верховный правитель оказался в своей «наивности» и «элементарности» правым.
Можно ли сказать, что Колчак покрыл погромщиков, «устроивших беспримерную бойню» в ночь с 22-го на 23 декабря. Это говорит Колосов. Колчак сделал все для того, чтобы выяснить истину. Он сам признавал (равно и Старынкевич в беседе с Колосовым), что расследовать это дело «чрезвычайно трудно» ввиду «острого противодействия со стороны всех прикосновенных лиц». Выполнители, в конце концов, бежали в Семипалатинск под охрану анненковского отряда (это было после первого допроса Кузнецовым) — бежали при содействии своего начальства. Потом вернулись. Барташевский был арестован и через некоторое время выпущен под ответственность «отряда Красильникова». Чрезвычайно показателен его допрос 3 апреля:
«После событий в ночь на 23 декабря 1918 г. я возвратился со своей командой в отряд и пробыл там безотлучно до явки на допрос к полк. Кузнецову; вместе со мною там же продолжали оставаться члены команды, т. е. Виленкин, Шемякин и др. ... При возвращении со своей командой в помещение отряда я явился к замещавшему начальника отряда шт.-кап. Егорову, но доклада официального не делал ему по существу исполненных мною в ту ночь поручений, а частным образом осведомил его обо всем... Когда Шемякин возвратился по этому вызову, то был предупрежден, не могу сказать, кем именно... — о том, что адмирал Колчак осведомлен обо всем нашем деле и военным властям отдано приказание скрыть всех нас... и нам было отдано распоряжение немедленно же отправиться в отряд Анненкова в г. Омск, причем мы были предупреждены, что будем числиться в бегах. В тот же день я и Виленталь поехали в названный отряд... мы явились к начальнику штаба Гештовту. Он объяснил, что немедленно же отдаст предписание о командировании нас в Семипалатинск, тогда же мы на руки получили проездные документы на трех офицеров один и на трех солдат другой; причем фамилии наши были переменены... кроме того, нам был выдан секретный пакет на имя полк. Сидорова, состоявшего нач. штаба в Семипалатинске... Содержание документа, находившегося в пакете, мне стало известно уже в Семипалатинске... припоминаю, что в нем была фраза: «Власти решили скрыть фамилии таких-то», и для исполнения сего мы направились в Семипалатинск. Мне кажется, что упомянутый документ был с № и за надлежащей подписью, но все-таки утверждать этого не могу... Так как за время своего пребывания в Семипалатинске обносились, то решили ехать обратно в Омск за своим имуществом... По прибытии сюда мы все трое явились к начальнику Драчуку, когда именно, точно не могу сказать, но в феврале месяце. Драчук сказал нам, что... нам следует ехать на фронт в свой же отряд по направлению через Иркутск. Туда же он предполагал командировать и Шемякина с Галкиным и Кукалевским, которые остались в Семипалатинске... О производстве меня в штабс-капитаны я знаю лишь из частного письма из Ставки ат. Анненкова... Мне точно известно, что начальник отряда Драчук представил как меня, так и остальных чиновников команды к производству в следующий чин на основании распоряжения, полученного по телефону от начальника гарнизона; такую телефонограмму я сам читал и даже спрашивал дежурного адъютанта, весь ли наш отряд должен быть представлен к производству или же только лица, участвовавшие в событиях 22 декабря [«Кр. Арх.». VII, с. 232—234].
Что мог при всей этой обстановке сделать Колчак? «С точки зрения закона, — говорит Ган, — следовало бы предать суду Красильникова и его сообщников, но для адмирала и для его Правительства это было бы совершенно невозможно. Пришлось бы пойти на конфликт с казачеством, объявить казакам войну. Это угрожало большой опасностью для едва укрепившейся власти, и еще неизвестно, чем бы такой конфликт окончился. Нельзя забывать и того, что в то время назревал острый конфликт с ат. Семеновым, не признававшим адмирала Колчака» [Два восстания. С. 161]38. Формальных данных для обвинения не было. Колчак мог сделать одно: уйти от власти. Уйти! Легко сказать. Кому передать власть? Иванову-Ринову, опиравшемуся на сибирскую атаманщину? Несуществующей демократии? Не значило ли это тогда же погубить все дело возможного освобождения России и отдать Сибирь большевикам? Где-то, казалось, все же брезжил луч солнца. Обвинять ли за эти иллюзии Колчака? «Мы — рабы положения», — сказал он. Трагична такая дилемма. Оставалось нести свой крест. Мрачные мысли, мрачные настроения все чаще охватывали Верховного правителя. Он более других отдавал себе отчет в окружавшей обстановке.
Можно ли сказать, что члены Учр. С. были расстреляны офицерами адм. Колчака, как сказал это Зензинов? «Фомин был замучен колчаковцами», — повторяет уже в 1927 г. Вас. Гуревич [«Вольн. Сиб.». II, с. 113]. Ведь с большим правом, пожалуй, можно назвать красильниковский казачий отряд «эсеровским» отрядом, ибо основная группа этого спаянного особой внутренней дисциплиной и круговой порукой отряда создалась в дни эсеровской власти в Сибири. Не Колчак создал в Сибири «атаманщину», ее создала жизнь и условия, при которых образовались первые антибольшевицкие военные кадры.
Свое отношение к декабрьским событиям Верховный правитель наглядно выявил посылкой своего представителя на «обставленные весьма торжественно» похороны Фомина [Кроль. С. 166]. Только большевикам приличествует выставлять мотивом убийства адм. Колчака — «расстрел членов У. С., учиненный по приказу адмирала, и награждение им убийц военным орденом».
Печальный эпилог декабрьских событий произвел чрезвычайно тяжелое впечатление в Сибири. Печать с большим единодушием клеймила «мрачное и позорное деяние расстрела девяти» [«Сиб. Жизнь»]. «Отеч. Вед.», сравнивая этот акт с убийством Шингарева и Духонина, говорили, что глубоко потрясена «общественная совесть» и что власти нанесено «тяжелое оскорбление». «Это грязное дело, — писала «Заря» 26 декабря, — говорит само за себя. Нет слов выразить негодование». Чего хотели достигнуть? Неужели думали «убить саму идею У. С.», снова провозглашенную верховной властью? Нашему национальному делу нанесен страшный удар. Газета требовала «удовлетворения возмущенной общественной совести». «В оценке этого ужасного факта двух мнений не может быть», — говорил иркутский «Свободный Край», в то же время негодуя на недостойный экивок новониколаевской «Нар. Сибири», напоминавшей «Заре», что здесь и ее «капля меду есть» [№ 150].
«Расправа с «учредиловцами» произвела «потрясающее впечатление» и на Правительство», — говорил Ключников в своем парижском докладе. «Блок» призывал все патриотические элементы сплотиться, обращал внимание на необходимость упорядочения административного аппарата, отмечал необходимость «решительно пресекать всякого рода выступления «справа» и «слева», невзирая на лица, причастные к антигосударственным деяниям [«Сиб. Речь», № 110]. Закупсбыт, членом правления которого состоял Фомин, письмом в газеты 1 января — это письмо я встретил не только в эсеровской «Народной Сибири» — обращался с призывом к общественному мнению: «Надо опомниться». Письмо это написано сильно.
«Погиб и Нил Валерьянович, один из могикан сибирской кооперации, государственный народоволец и народолюбец, защитник народоправства, один из могикан возрождения Сибири и России, поднявший вместе с немногими в Сибири восстание против власти советов, исказивших идеи и основы народоправства, введших тиранию, насилие над личностью и обществом...
И мы спрашиваем и взываем к обществу, к борющимся политическим группам и партиям, когда же наша многострадальная Россия изживет душащий ее кошмар, когда же прекратятся насильственные смерти? Неужели не охватывает вас ужас при виде беспрерывно льющейся человеческой крови? Неужели вас не охватывает ужас при сознании, что гибнут, убиваются самые глубокие и в то же время элементарнейшие основы существования человеческого общества: чувство гуманности, сознание ценности жизни, человеческой личности, чувство и сознание необходимости правового строя в государстве?
Неужели вас не охватывает ужас при сознании, что мы теряем, потеряли облик человека, носителя и служителя общественных начал правды, истины, добра и красоты? Услышьте наш вопль и отчаяние: мы возвращаемся к доисторическим временам существования человечества; мы на краю гибели цивилизации, культуры; мы губим великое дело человеческого прогресса, над которым трудились многочисленные поколения более достойных нас предков... Мы подавлены... Перед прахом нашего товарища по работе у нас немеет речь, стынут мозг и сердце...
Мы чувствуем свое бессилие выразить бездонность ужаса, который охватил всю многострадальную нашу родину, который давит кровавым кошмаром каждого сознательного человека, в котором теплится хоть атом человечности».
Трагична была смерть Н. В. Фомина. Письмо Закупсбыта отмечало в слишком повышенных тонах заслуги Фомина по освобождению Сибири от большевиков. Погиб Фомин потому, что его, члена «семерки», избранной Бюро Съезда Учр. Собр. для борьбы с новой властью, считали поддерживающим большевиков. Конечно, от большевиков Фомин был далек. Мог ли он пойти по стопам Вольского, Буревого и др.? Настроения его в тюрьме как будто бы дают отрицательный ответ. В. С. Панкратов (известный шлиссельбуржец), близкий «Заре», доставил в редакцию статью, написанную Фоминым в тюрьме. Она под заглавием «Слова и думы национального возрождения» была напечатана «официозом» колчаковского Правительства. Автор говорил о проснувшейся национальной чести и звал выявить волю к действию. Статья для Фомина знаменательна, она как будто намечала новую эволюцию в этом непосредственном, мятущемся и неустойчивом человеке. В октябре он был охвачен пессимизмом. Он едет на призыв партии в Екатеринбург, едет без веры в возможность успеха борьбы. Сам он на распутье [Колосов. С. 268]. Он говорит жене: «... Страшно сказать, что для меня несомненно, что завоевания революции погибли, как вообще-то жить дальше — трудно сказать» (из письма жены «товарищам-кооператорам»).
Судьба несправедлива и не считается с целесообразностью. Погиб и Маевский (Гутовский). Это был человек иного типа, чем кооператор Фомин. Последний все-таки продукт революционной стихии и потому колеблющийся, как колеблется сама стихия. Очень близко связанный до революции с некоторыми видными большевиками — это говорит его друг Колосов — после революции Фомин примыкает к Чернову. Октябрьский переворот 1917 г. настраивает его на другой лад, поэтому он так активен в деле свержения большевиков в Сибири. К концу августа у Фомина уже иное настроение, толкавшее его к прежним связям. Склонный сгущать краски, легко подчиняющийся влияниям других, порывистый, он готов совершить даже террористический акт против членов Сибирского правительства Михайлова и Гришина-Алмазова, которые казались ему «злыми гениями» грядущего освобождения.
Редактор «Власти Народа» Маевский — старый основатель сибирского союза соц.-демократов, человек анализа, умевший становиться выше партийных традиций и предрассудков. Разум должен был одержать у него верх над чувством, заставившим его столь резко и не всегда справедливо реагировать на события 18 ноября. Его не стало. Замученная тень взывала к мести. И люди отдавались этому порыву, забывая тот «голос пробудившейся национальной чести», которым говорил в своей статье Фомин и который должен был побудить представителей демократии подчинить чувство разуму. Разум заглушался тогда, когда политические единомышленники Колосова в феврале посылали А. Тома в Париж через французскую миссию телеграмму в 800 слов о результатах произведенного ими довольно тенденциозного расследования. Голос разума молчал у Зензинова, когда он 6 июня помещал статью в «La France libre» о расстреле «офицерами адм. Колчака», «вопреки честному слову» двух министров Правительства Колчака, девяти человек... Зензинов счел нужным воспроизвести эту статью в сборнике документов, выпущенном в конце 1919 г. В иностранной печати Зензинов свидетельствовал о бесчестности колчаковского Правительства. Зензинов утверждал, что освобожденные, боясь возвратиться в тюрьму, где «неистовствовали опьяневшие от победы казаки», получили по телефону гарантии неприкосновенности от Михайлова и Старынкевича. «Они доверились их честному слову... и были расстреляны». Откуда заимствовал Зензинов эти сведения? В июне, когда написана была статья, он мог бы знать все подробности декабрьской драмы, хотя бы в одностороннем освещении колосовского расследования: надо ведь предполагать, что единомышленники Колосова осведомили не только французского министра о подробностях печальных событий.
В письме к «товарищам-кооператорам» жена Фомина подробно рассказывает обстановку, при которой произошло возвращение ее мужа в тюрьму. Совершенно невероятно, чтобы она промолчала о той гарантии «честным словом» безопасности, которую Фомин якобы получил от официальных представителей власти. Дело в действительности происходило по-другому. Были большие колебания: возвращаться или нет соответственно приказу Бржезовского. Жена Фомина поехала к «товарищам-кооператорам». Последние «единодушно» высказались за то, что «необходимо сдаться в руки властей... горячо и с негодованием говорили о том, что все это освобождение — сплошная провокация, что завтра их должны были освободить, а теперь это освобождение — только предлог для расправы, указывали на необходимость немедленно же возвратиться». Колебания продолжались до вечера. Решающим мотивом были встревоженные «лица хозяев». Наконец Фомин сказал: «Ну, думать нечего. Поезжай, Наташа, к Сазонову (кооператору) и узнай, как сдаться надо — куда и как бы это вышло надежнее, чтобы нас не выдали за пойманных». Было уже 7 часов вечера. «Я застала, — продолжает Фомина, — только В. Г. Шишканова (члена правления Закупсбыта), Сазонова не было... Он сердито набросился на меня. Почему так медлили, почему не сдавались днем?»... После этого последовал телефонный разговор с Бржезовским о том, куда следует явиться...
Как это далеко от того, что рассказал иностранной печати Зензинов.
Публицист при отсутствии данных, если не преследует демагогических целей, должен быть осторожен. Но здесь было только средство дискредитировать враждебную власть накануне возможного ее международного признания. Это было только средство политической борьбы. «Те, кто поддерживали Колчака, — патетически спрашивал Зензинов в «Pour la Russie» [№ 10], — не чувствуют ли они теперь ответственности перед Россией?
Так творились легенды очевидцами, свидетелями, бытописателями. Не приходится удивляться, что проф. Легра записал в свой сибирский дневник: «Свидетели (?) утверждают, что их (12 членов «прежнего Уфимского правительства») потопили, бросая в проруби, пробитые во льду на Иртыше. Палачи называли это: "Отправлять в иртышскую республику"» [«М. S1.», 1928, II, р. 188]39. Вот откуда возникла та «легенда» проф. Легра, которую я настойчиво опровергал в «Гол. Минувшего».
Омские события подорвали авторитет колчаковской власти. По словам Кратохвиля это «было первое открытое выступление нового режима». «Чехосл. Дневник» писал 3 января о бессилии диктатора Колчака справиться с горстью безумцев «монархистов», которые убивают беззащитных людей. Союзники, «наверно, скажут, что невмешательство совсем не значит пассивно смотреть на убийства противобольшевицких деятелей демократических партий». Тюремная драма послужила поводом для нападок на чехов, которые приняли участие в спасении «кровавого» режима, выступив при подавлении восстания в Куломзине.
История, однако, по возможности должна быть более справедлива. Декабрьская драма была не символом «нового режима», а наследием проклятого, еще слишком живого прошлого40.
Примечания к первой главе :
1 Помещаю с некоторыми сокращениями.
2 «Ложной прямоты», которую склонен был усматривать в своем конкуренте Болдырев, конечно, не было.
3 Отмечает Будберг при первом свидании 19 апреля [ХГѴ, с. 226]. Эти плотно сжатые губы с опустившимися углами и двумя глубокими складками, бледное исхудавшее лицо и остро блестящие глаза— характерны для Колчака сибирского периода [ Сахаров. С. 92].
4 Один Жанен усмотрел в Колчаке «наивно-дьявольское лукавство».
5 Показательные примеры можно найти у Гинса. Колчак, между прочим, очень сочувственно отнесся к представленной ему докладной записке, в которой отмечались противоречия при издании правительственных актов Верховным правителем и Верховным главнокомандующим. Он вполне согласился, что все акты Верховного правителя должны быть скреплены подписью соответствующих министров.
6 Грондиж подчеркивает, что именно за эту черту его любили близкие [с. 923].
7 Жанен никогда не мог простить Колчаку недоверия, высказанного последним по поводу передачи под охрану союзников золота [Гинс. II, с. 332]. Сам Жанен на это указывал в позднейшей беседе в Иркутске с Червен-Водали.
8 За Жаненом повторяет это и Рукероль — со ссылкой уже на свидетельство якобы Дитерихса [с. 57].
9 Болдырев и Колосов отыскивают влияние Жардецкого на адмирала. Между тем сам Колосов [«Былое». XXI, с. 251] утверждает, что Жардецкий держался как бы «японской ориентации», т. е. противоположной Колчаку. Скорее, твердость в этом отношении Верховного правителя оказывала влияние на увлекающегося Жардецкого. Если на первых порах Ж. мог оказывать некоторое влияние на Колчака, человека совершенно нового в омской обстановке, то это объясняется тем, что при содействии именно лидера омских к.-д. произошло знакомство Колчака с общественными кругами. В значительной степени по инициативе Жардецкого было организовано то закрытое собрание (присутствовало 45 представителей различных общественных организаций), на котором Колчак делился своими впечатлениями о Дальнем Востоке. Лицо, близкое адмиралу, утверждает, однако, что по мере ознакомления Колчака с местной обстановкой влияние Ж. стало исчезать и с приходом адмирала к власти оно «свелось к нулю». Колчак с большой неохотой, по настоянию ген. Мартьянова, согласился на поездку Ж. в качестве «военного корреспондента» при объезде адмиралом фронта. Вообще никакого единого влияния на адмирала не было. Об этом свидетельствует, напр., доверие, которое Колчак имел к лидеру кооперации Сазонову[Кроль. С. 192].
10 Кришевский Н. В Крыму (1916-1918).— «Арх. Рус. Рев.». XIII, с. 92-93.
11 «Речь адмирала, — свидетельствует другой очевидец, — произвела огромное впечатление. Многие, слышавшие ее, "рыдали"». [Смирнов М. И. Адм. А. В. Колчак во время революции в Черном, фл. — «Ист. и Совр.». ГѴ, с. 21].
12 Генкина. Февральский переворот. В сборнике «Очерки по истории октябрьской революции». II, с. 164. О положительной роли Колчака в Черноморском флоте см. также и в воспоминаниях Керенского «La Revolution Russe» [изд. Payot. — Р. 202].
13 Знамение времени! «Все помешаны на сионских протоколах», — записывает Будберг 18 декабря, в Харбине. В эмиграции этим «документом» усиленно занималась прогрессивная печать. Были выпущены комментированные и некомментированные издания.
14 Как это ни странно, здесь Колчак очень близко подходит к философии Масарика с его представлением о примитивном диком человеке с врожденным стремлением к насилию.
15 Большевицкий обвинитель по делу членов «самозванного и мятежного Правительства Колчака» — Гойхбарг впоследствии патетически в своем заключении писал: «По его (т. е. Колчака) собственному, ужасающему мысль человека признанию, день начала войны был одним из самых счастливых и лучших дней его службы. Тот ужас войны, тот призрак кровавой бойни, который поверг в содрогание все человечество, оказался самым счастливым днем для заматерелого империалиста, который и не думал о потоках людской крови, о миллионах загубленных жизней, о миллиардных разрушениях» [сб. «Колчаковщина»), Демагог-обвинитель не разъяснил, конечно, своим примитивным слушателям всей сложности колчаковского «империализма».
16 Когда-то она была предложена мне для напечатания в «Голосе Минувшего». Я этого сделать не мог. Теперь переписка хранится в пражском Архиве. В моих слишком беглых карандашных заметках могли быть существенные упущения, которых ни проверить, ни восстановить я не мог.
16 К.-адм. кн. Трубецкой в статье «Александр Колчак» [«Возрождение», 15февр. 1930 г.] говорит, что Колчак «категорически отклонил сделанное ему предложение от вверенного ему флота послать телеграмму» об отречении Императора. Это утверждение повторялось некоторыми ораторами на парижском собрании, посвященном памяти А. В. Колчака в десятилетие со дня его гибели. Между тем известная телеграмма М. В. Алексеева 28 февраля непосредственно Колчаку и не посылалась. На подлиннике телеграммы помечены отправления: Главкосев, Главкозап, Главкоюз, Поглавкорум (главнокомандующим румынским фронтом считался румынский король) и, наконец, Главнокомандующий Кавказской армии в. к. Ник. Ник. Того специфического монархизма, который некоторые post factum хотят усмотреть в мировоззрении Колчака, просто не было. Вероятно, определенность восприятия Колчаком февральских событий 1917 г. и побудила в. кн. Ник. Ник. сказать при свидании с Колчаком 1 марта в Батуми: «Он прямо невозможен» [дневник в. кн. Андрея Вл. — «Кр. Арх.». XXVI, с. 197].
17 Знаю это на собственном опыте. Стенограмма по делу «Тактического Центра» в Москве 1920 г. приписывает мне бессмыслицы, которые я не мог говорить.
18 О целесообразности тактики можно спорить до бесконечности, напр., М. В. Вишняку [К истории гражданской войны. — «Совр. Зап.». XZ.] кажется непонятным, как «в России не оказалось ни «левого» Кромвеля, ни «правого» Монка, которые ухватились бы за У. С. или его «охвостье» как орудие борьбы против большевицких целей» [с. 482].
Мне лично эти лозунги для гражданской войны представлялись совершенно безнадежными — оттого ли, что население не обнаружило, как утверждал «Соц. Вест. [№ 4], готовности за него бороться, потому что этот лозунг не вошел еще в плоть и кровь народных масс, оттого ли, что Уч. Соб. 1917 г. дискредитировало себя в общественном сознании и главенствовавшая в нем партия не сумела поднять его авторитет, подорванный бесславным разгоном 5 января. Еще до этого акта У. С., «со священным трепетом» встреченное в начале революции, начало вызывать к себе холодное отношение — это в полном соответствии с действительностью отмечают составители «Хроники Революции» — Заславский и Канторович [с. 162]. Запоздала попытка М. В. Вишняка на страницах «Современных Записок» реабилитировать память неудачного У. С. 1917 г. Во всяком случае, нельзя объявлять реакционными те взгляды, которые не совпадают со взглядами непреклонно верующих в авторитет даже «охвостья» У. С. 1917 г., в сущности ни разу не собравшегося.
Вере нельзя противопоставлять реальность — бывш. председатель У. С. даже в 1921 г. на малочисленном парижском совещании эмигрантов б. членов У. С. заявлял, что он почтет своим долгом созвать старое У. С. на территории России, освобожденной от большевиков...
К вопросу об У. С. нам отчасти придется еще вернуться в связи с изображением попыток создания органа народного представительства в период «диктаторства» адм. Колчака.
19 См. письма А. И. Деникину и М. М. Федорову в гл. VII книги о Чайковском.
20 Похороны сверхчеловека (Клемансо). — «Посл. Нов.», 1 дек. 1929 г.
21 Нельзя, однако, не отметить, что Верховный правитель отнюдь не был фанатиком «милитаризации». Он не начинал своей деятельности объявлением военного положения. Только 1 марта в связи с нападением партизан оно было объявлено на железных дорогах. Общим требованием военных властей было объявление на военном положении всей территории гражданской войны. Н. Н. Головин мне рассказывал о противодействии, которое встречало такое всеобщее требование со стороны Верховного правителя. В августе на этой почве у него было столкновение с ген. Дитерихсом, назначенным главнокомандующим.
22 Смешно слышать эту аргументацию в устах большевицкого деятеля. Колчак — «самодержец», потому что подписывал: «Утверждаю». Каждый, сидевший во внутренней тюрьме Особого Отдела ВЧК в Москве, мог читать драконовские тюремные правила, на которых красовалась подпись Ягоды: «Утверждаю».
23 Как сибирский курьез можно отметить, что еп. Андрей (Ухтомский), недовольный конституционностью Верховного правителя, считал, что он попал в плен к кадетам [Будберг. XIV, с. 271].
24 «Распоряжаюсь заочно именем адмирала, ибо знаю, что он меня поддержит», — записывает Будберг [ХГѴ, с. 291].
25 Пожалуй, в этом отношении более определенен лишь Питон. Подлинную государственную мудрость он видел в тактике Наполеона эпохи консулата. Покойный Олар с демократической точки зрения едва ли с этим согласился бы.
26 По-видимому, французский генерал принял всерьез шутку. — Иностранцев рассказывает, что чиновник особых поручений, заведовавший хозяйственной частью у адмирала, назывался окружающими «гофмаршалом». Этот «гофмаршал» часто во время приемов и фал «роль хозяйки» [«Б. Д.». I, с. 105]. Я не знаю, что подразумевает Милюков, говоря, что Колчак был обставлен подходящим этикетом [с. 124].
27 Гинс приводит этот рассказ для иллюстрации холодности К. и неумения его говорить с солдатами.
28 Черта, отмеченная Ауслендером в брошюре «Верховный Правитель адмирал А. В. Колчак». Брошюра издания Рус. Бюро печати написана в несколько приподнятых тонах.
29 Напр., эмигрантский «Голос России» 14 сент. 1920 г. А. Ф. Керенский, повторяющий эту квалификацию во французском издании своих воспоминаний («ультрареакционный диктатор Сибири»), объясняет изменение психики адмирала тяжелыми переживаниями, через которые прошел Колчак в бытность еще командующим Черноморским флотом. Первое разочарование дало толчок к душевному кризису, который наложил отпечаток на всю последующую деятельность «блестящего моряка» [с. 203]. Такого кризиса, довольно обычного в эпохи революционных бурь, отбрасывающего человека в лагерь реставраторов, совершенно объективно в мировоззрении Колчака мы отметить не можем. «Благо родины, — писал один из коммунистических публицистов (Полонский в сб. «На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией»), — для Деникина и Колчака дороже «заветов» революции». Вот в чем их «реакционность». Но понятие «заветы революции» столь относительно, что надо прежде установить его содержание. Ясно, что «заветы революции» в коммунистическом понимании не совпадут с принципами, провозглашенными февральской революцией. И деятели февральской революции по-разному воспринимают и определяют эти лозунги демократии и народовластия, поэтому не приходится проводить тождества между «благом родины» и «заветами революции».
30 По словам И. И. Сукина, Колчак отказался надевать шубу до тех пор, пока армия не будет одета.
31 Начальник контрразведывательной части при главном штабе ген. Бабушкин в докладе 12 марта рисует менее оптимистическую картину. Он утверждает, что к 22 декабря коммунистам удалось организовать (т. е. внедрить коммунистические ячейки) «почти весь гарнизон, за исключением двух или трех рот казачьего полка и батальона Ставки Верховного правителя, в котором прочно обосновались социалисты-революционеры». Вооруженное выступление могло бы «принять грандиозные размеры» [Борьба за Урал. С. 236]. Сведения контрразведки явно преувеличены.
32 В сводке, позже составленной для адмирала, отмечалось, что Маевский был приговорен к каторжным работам [«Кр. Арх.». VII, с. 214].
33 Чрезвычайно характерно добавление Колчака: «Я всегда был бессилен, раз я обращался к легальной судебной власти. Это была одна из тяжелых сторон управления, потому что наладить судебный аппарат было совершенно невозможно» [с. 207-208].
34 Колчак имел в виду посещение представителей «блока»: «Я с ними не мог беседовать, но я заставил себя одеться и выйти к ним — они меня приветствовали и сказали, что поскольку я буду Держаться того пути, который я высказал в своих речах и декларациях, то я могу рассчитывать на их полную поддержку» [с. 201].
35 Недостаточно, может быть, осведомленный, передающий факт со слов пристрастных свидетелей, очень склонных в Омске к творчеству легенд, Колосов тенденциозно все поворачивает против Колчака. Так обстоит дело и с охраной Верховного правителя «английскими солдатами». «По расписанию» к Колчаку прибыла сотня казаков, которых утром уже он приказал отпустить домой [«Допрос». С. 198—199]. По собственной инициативе явился с охраной и энергичный Уорд [его воспоминания. С. 100—101].
36 Я употребляю этот термин, так как роль Сперанского до революции несколько двусмысленна. В период революции он был как бы начальником создавшейся «революционной охраны». После большевицкого переворота стал следователем революционного трибунала [«Былое». XXXIII, с. 227].
37 Характерно, что Колчак этого даже не знал, будучи убежден, что Барташевский бежал.
38 По существу, как военная сила красильниковская бригада была лучшей бригадой (отзыв ген. Иностранцева).
39 Версию Легра о гибели членов У. С. повторяет Грондиж [с. 516].
40 Коллективная телеграмма, посланная за границу и подписанная среди других Сазоновым, отмечала, что омская драма вызвана переговорами, которые велись группой эсеров с большевиками [«La Russie Dem.», № 1].
ГЛАВА ВТОРАЯ Вокруг фронта
1. Гражданская война
Для адм. Колчака теоретически военная сторона стояла на первом плане. Это, как мы видели, соответствовало всему его умонастроению. Гражданская сторона в значительной степени была придатком. Быть может, здесь крылась основная ошибка Верховного правителя, отмечаемая Гинсом1. Бесспорно, Колчак был прав, когда в успехах на фронте видел прочность гражданского быта, устойчивость общественных настроений и правительственного курса. Но военный успех в гражданской войне не определяется только стратегией и тактикой, талантом полководца.
Внутренняя война — нечто очень специфическое и отличается от обычной войны не только в области социально-политической, но и в сфере специально военной. Не знаю, может ли быть когда-нибудь построена особая теория гражданской войны с военной точки зрения, о чем усиленно стараются большевицкие военные историки. Думается, что нет. Конечно, я сужу, как профан. Мне кажется, что единственный реальный вывод, к которому пришел, напр., Какурин, — это установление факта, что во время имперской войны потери в войсках были в 2— 2 '/2 раза больше, чем во время гражданской войны; в то время как в отношении потерь населения пропорция устанавливается прямо противоположная [II, с. 396]. Вывод самоочевидный. Между тем Какурин много говорит о «поучительных примерах искусственного маневрирования и смелых решений со стороны красного командования», которые открывают «широкое поле теоретических выводов». Каких? Написавший по заданиям военно-исторической комиссии работу Подшивалов приходит, на основании опыта гражданской войны, к важному выводу: «Рабочие являлись единственной поддержкой и политической опорой советской власти» [с. 184], но к стратегии все это не имеет никакого отношения. Впрочем, одно: «пролетариат — лучший материал для создания современной армии»2 [с. 193].
Не менее глубокомыслен вывод и другого советского военного «исследователя» — Гусева [Гражданская война и Красная армия]: история, по его словам, «насмешливо прошла мимо... бешеных воплей против восстановления в армии военной дисциплины» [с. 39].
Из советских стратегов, пожалуй, Гусев делает из «опыта гражданской войны» все-таки наиболее интересные выводы, хотя их и трудно отнести в область военных итогов. Основной вывод касается «неустойчивости» войск — и в особенности когда «они не наступают, а обороняются». И у «белогвардейцев» и у «красных» мобилизованные крестьяне легко сдаются противнику. При победе «мелкобуржуазные элементы» стремятся вперед с надеждой покончить войну; при поражении дезертируют и сдаются в «той же трепетной надежде поскорее избавиться от войны» [там же. 58, с. 211].
Конечно, гражданская война имеет свои специфические черты. Едва ли не впервые на театре военных действий появилась «ездящая пехота». Мне трудно судить, какой опыт вынесет военная наука из операции пехоты на «тачанках». Не думаю, чтобы этот опыт оказался продуктивным3.
Военные специалисты любят давать схемы продвижения и сосредоточивания войск, согласно планам, выработанным по всем правилам военного искусства. Армии для военных как бы фигуры шахматной игры. А читатель как-то неизбежно всегда чувствует одно: не в этих планах скрыта на территории гражданской войны удача или неудача сторон, причины лежат где-то вне кабинетно разработанных фронтовых операций. Часто решающие исход операции даже нельзя назвать в точном смысле боевыми действиями. Яркий пример мы видели на захвате Самары, определившем зарождение Волжского фронта4. На конечном пункте пройденного пути будет стоять Иркутск в декабрьские и январские дни 1920 г. Мне скажут, что неудача всей военной колчаковской акции ясна была в дни эвакуации из Омска и, быть может, еще раньше. Ген. Головин, прибывший в Омск к концу августа и оставивший его через месяц, чувствовал уже безнадежность, которая охватывала временами и адм. Колчака. Допустим, что так это и было — конец тобольской операции (август), по мнению советского стратега Какурина, знаменовал собой конец организованного сопротивления со стороны колчаковских армий. В дальнейшем приходилось одолевать не сопротивление, а расстояние [II, с. 357]. И все-таки окончательно дело решалось в Иркутске. Вы узнаете, что Правительство с нетерпением ждет помощи со стороны войск ат. Семенова. И вот они прибывают на грузовых автомобилях — это первые части, которые могут перетянуть весы, склонившиеся было на сторону восставших под главенством Политического центра... Знаете, сколько их было? — 112 человек. Эти 112 подняли настроение правительственных войск и возбудили тревогу у повстанцев. 31 декабря несколько десятков человек последнего резерва повстанцев спасают иркутское восстание. Сражались друг против друга десятки подростков 14—16 лет, а сотни иркутян, собравшись на правом берегу Ангары, у здания университета, с разными чувствами следили за ходом боя [«Сиб. Огни», 1922, № 2, с. 41-43]...
Набросанная схематически картина в Иркутске, конечно, неполна и неточна. Это, может быть, даже до некоторой степени карикатура, верно, однако, передающая суть...
С великим самомнением ген. Рукероль утверждает:
«Боевая ценность обоих противников вообще была очень невелика, и офицеры нашей миссии, находившиеся на месте, были того мнения, что одна дивизия западноевропейских войск без больших усилий равно разбила бы обе стороны» [с. 110].
Как просто было союзникам разрешить дилемму гражданской войны. Но Рукероль прав в том отношении, что военные операции гражданской войны весьма мало напоминали собой операции европейской войны. «Армии» в несколько сот человек, иногда решавшие судьбу «самых сложных и обширных операций», не могли подчиняться научным законам академической стратегии... Эсеровский стратег Лебедев на своем экспансивном языке категорически заявляет: генштабисты ничего не понимают в гражданской войне [«Воля России». VIII, с. 169]. Для самого Лебедева, по-видимому, существовало одно только правило войны: действовать смело «на авось». «На Москву. Вперед и только вперед. Иначе выиграют более смелые. Революция всегда наступает, никогда не обороняется» — такова его запись после взятия Казани [с. 173].
Всякая крайность чревата последствиями — пример Казани это показал. Бесспорно, однако, своего рода авантюризм играет в гражданской войне большую роль, и подход к военным операциям должен быть особый. Отличные боевые начальники легко уступали пальму первенства случайным людям — «поручикам в генеральских мундирах», по выражению Гришина-Алмазова, который, в сущности, и сам принадлежал к их числу. «Вундеркинды на наполеоновский манер», — насмешливо называет их Будберг. Но именно их повсюду выдвигала гражданская война, — очевидно, действовал какой-то ее скрытый закон. Недаром в Сибири был так популярен ген. Гайда. Не менее типичной фигурой был другой сибирский герой, молодой 27-летний поручик европейской войны Пепеляев. В нем было меньше авантюризма и больше идейности, чем у «чешского корсиканца». Огромная энергия, энтузиазм, сибирская сметка и приспособляемость, простота быта и нравов делали из Пепеляева незаменимого вождя партизанских отрядов. Этот генерал в своей старой, поношенной солдатской шинели, не выделявшийся резко среди одетых в рванье солдат, является как бы символом гражданской войны. Вы замечаете всегда в отзывах о нем некоторую критику со стороны квалифицированных военных.
Это понятно. Но, быть может, такой генерал наиболее подходил для командования Сибирским корпусом при зимнем наступлении на Пермь, когда к армии присоединялись снабжаемые самим населением партизанские крестьянские отряды [Сахаров. С. 148]. И естественно, быть может, что этот близкий сибирскому областничеству демократический генерал гражданской войны не ввел в своей армии погоны5.
В определенных условиях эта армия могла совершать подвиги. При длительной выдержке она не могла конкурировать с другими колчаковскими армиями. Характерно, что «Сибирская» армия Гайды и Пепеляева, пополнявшаяся резервами из молодых, которые приходили из тыла — «с душком», по выражению одного пепеляевского офицера [«Пришимье», 19 июля], раньше всех разложилась при отступлении. Именно здесь свила себе гнездо «революционная крамола». Здесь с.-р. кап. Калашникову удалось создать оппозиционное ядро; здесь летом 1919 г. подготовлялся переворот, намечавший Гайду вместо Колчака; здесь происходила офицерская конференция, на которой был поднят вопрос об открытии фронта для пропуска в Сибирь советских войск. Дисциплина, действительно, имеет свои законы. Только недостаточное знакомство с материалом позволило Милюкову, следуя тенденциозным воспоминаниям Гайды, противопоставить «Сибирскую» (Северную) армию «Западной» и дать последней такую характеристику: «Ядром Западной армии была бывшая «Народная армия» Комуча, плохо дисциплинированная и деморализованная осенним отступлением от Волги. Чтобы подтянуть ее, в нее были назначены офицеры старого типа, не умевшие и не хотевшие сблизиться с солдатами и введшие старые военные порядки. Командиром был ген. Ханжин, старый царский генерал6, окруженный бюрократически настроенным штабом» [с. 128]. Это неверно. Едва ли есть сомнение в том, что «Западная» армия была наилучшей, наиболее выдержанной и стойкой армией адм. Колчака7.
Но суть в том, что в гражданской войне дело идет не на выдержку.
* * *
Полное изложение своих взглядов на гражданскую войну отвлекло бы меня слишком далеко в сторону — этого почти нельзя сделать на нескольких страницах. Гражданская война многообразна и ставит пока перед исследователем эпохи немало еще загадок.
Обычное изложение неудач «белого» движения обязательно переносит центр тяжести в область реакционной политики антибольшевицких правительств — неумения их осознать, с одной стороны, сложности российских национальных вопросов, а с другой — нежелания их считаться с настроением страны, масс. Гражданская война требовала всеобщего подвига, а порыва на долгое время не хватало. На фоне разнузданной «военщины» распускались махровые цветы насилия и как бы классовой реставрационной мести. Но насилий было еще больше со стороны большевиков. Между социальными лозунгами и действительностью была пропасть. И все-таки они победили. Основное население страны — крестьянство — реагировало на власть центра не меньшими восстаниями, чем это было на «белых» фронтах: к июню 1919 г., по выражению одного из большевицких исследователей, «весь тыл Красной армии превратился в клокочущий вулкан»8. Очевидно, не здесь лежит основная причина неудачи противобольшевицкой акции.
Мне кажется, что движение с периферии к центру почти всегда бывает обречено на крах (большевики наносили удары из центра к периферии). Центр определяет успех или неуспех революции9. Гражданская война — это революция. Здесь приходится учитывать не только важный психологический момент. В руках центра оказываются все технические преимущества, прежде всего в смысле налаженного административного аппарата, который почти заново приходится создавать на периферии.
Поскольку исторические параллели законны, в нашем же отдаленном прошлом можно найти примеры, как будто бы противоречащие этому общему тезису. Я имею в виду Смутное время, на которое любят ссылаться. Конечно, это было время и политической и социальной революции. Только бесконечно примитивнее были триста лет тому назад социальные отношения; не существовало в Московском государстве XVII в. более унитарном и сложных национальных вопросов. Освобождение и конец Смуты пришли с периферии. Этому движению могли содействовать децентрализация управления и система московской военной организации. А главное, в наличии было обстоятельство, пробудившее здоровые патриотические инстинкты, заложенные в чувствах и сознании каждого народа, — нашествие иноплеменной, искони враждебной силы. Это была оккупация чужой территории, интервенция в подлинном смысле слова. Такие события всегда вызывают национальный отпор и содействуют сложению разнообразных общественных сил. Почти не приходится сомневаться в том, что немецкая оккупация 1918 г., расширившись и утвердившись, вызвала бы в стране здоровую политическую коалицию и привела бы к созданию того общенационального комитета, отсутствие которого вызвало недоумение у проф. Масарика. Если в 1918 г. создалась все-таки некоторая видимость политического объединения, то, конечно, она появилась на почве большевицко-германской проблемы. Присутствие внешнего врага содействовало бы разрешению роковой дилеммы о взаимоотношениях военной и гражданской власти.
Польская власть в Москве создала двоевластие Минина и Пожарского. Не в силу отдаленности от нашего времени эпохи Смутного времени и разности социально-политических мотивов, а в силу разности внешних условий наши предки могли достигнуть того, чего не могли достигнуть мы.
И другая историческая параллель с событиями французской революции, внутренне чрезвычайно схожими с событиями, пережитыми нами, окажется несостоятельной. Там патриотический пафос тоже создан был интервенцией, которая превращала монтаньяров в защитников отечества от наступающего внешнего врага. Беспринципный демагог, каким был в действительности Дантон, сделался героем и вдохновителем защиты страны. Потомство поставило Конвенту — ему одному — памятник в Пантеоне, в парижской усыпальнице великих людей. Конвент олицетворил величие французской революции. А между тем Конвент эпохи монтаньяров — печальная страница французской революции, — страница насилий французского большевизма XVIII в., попрание всех принципов революционного сознания10. Если и был во французской революции пафос величия, то он принадлежал, конечно, только Учредительному Собранию. Европейская коалиция XVIII в. была коалицией против революции и носительницы ее принципов — Франции. Эта коалиция создала патриотический дух, перед которым отступил революционный дух монтаньярского разрушения — она породила благородных патриотов типа Гоша.
В нашу гражданскую войну пафос патриотизма был на стороне противобольшевицких сил. Но это был патриотизм квалифицированный, патриотизм отрешенного идеализма, далекого от эгоистических инстинктов, которые борьбу против нашествия Наполеона в 1812 г. превратили в Отечественную войну. Поднять стихии этот патриотизм не мог. Здесь в значительной степени прав был старый кооператор Сазонов, говоривший в своей владивостокской речи, что российские задачи убили местный сибирский патриотизм. Всероссийские задачи требовали чрезмерной жертвенности. Взывать к ней — пустое дело. Можно, возвращаясь ко времени Монтескье, говорить, что демократия и республика должны опираться на нравственность; можно вслед за Панкратовым повторить: «Не может быть социализма среди людей, если они сами плохи» (автограф в Уфе), — но это переносит вопрос в область отвлеченной общественной морали, которая не может служить лозунгом дня. Действовать приходится среди людей эпохи со всеми их недостатками, порожденными социальным строем и вековыми традициями. Колчак и Деникин возмущались российской «буржуазией», жертвовавшей гроши на противобольшевицкое движение накануне краха и легко отдававшей миллионы под угрозой чекистской расправы. Близорукая непредусмотрительность? Такова психология всего мира. Жертвенность порождается всегда узко понимаемым эгоизмом.
Пафос примитивного — пусть даже с оттенком зоологического — патриотизма могло создать только иностранное нашествие. Союзническая «интервенция» 1918-1919 гг. в России была, конечно, очень далека от раздражающей национальное чувство оккупации. Интервенция вначале вражды не встречала — наоборот, скорее полное и доброжелательное сочувствие. Большевицким историкам никогда не удастся доказать противное — все факты будут их опровергать. Как и все антибольшевицкое движение, так и интервенция не была направлена против революции как таковой. Одним словом, в интервенции 1918-1919 гг. не было признаков интервенции французской революции. Ее социальный смысл для России мог быть продуктивен, она могла бы содействовать установлению подлинной демократии наместо деспотической охлократии большевиков; она могла бы помочь преодолеть те трудности, которые возникали перед освободительным движением, начавшимся на периферии и двигавшимся к центру, захваченному удачливыми авантюристами. Бессистемность и двойственность интервенции свели ее на нет и, может быть, принесли скорее вред русскому делу, открыв путь для демагогии противников.
Говорят, что на стороне большевиков был социальный пафос. Не есть ли это мираж? Советские военные историки должны признать один знаменательный факт — добровольчество в Красной армии было крайне слабо. Под видом добровольчества собирались ненадежные деклассированные элементы [Какурин. I, с. 140]. При наличности социального пафоса картина должна быть иной11. Наряду с этим надлежит отметить и другой факт — добровольчество «белых» армий эти историки должны поставить высоко. Большевицкая разведка к 1 марта 1919 г. доброкачественность Добровольческой армии определяла в 98% (за исключением Донской армии). Надежность войск Восточного фронта исчислялась в 73% [там же. I, с. 163]. Это свидетельствует о том патриотическом пафосе, который был на антибольшевицкой стороне, и опровергает наблюдения В. Н. Львова, утверждавшего, напр., что гражданская война была «делом начальства» и что 3/4 офицеров в Сибири шли из-под палки.
Сила большевиков была в обладании центром. Мы увидим на примере Сибири, какие преимущества давало это коммунистической власти и в смысле технического вооружения, и в смысле административного аппарата и средств пропаганды. Русская провинция во всех отношениях слишком отставала от столичного обихода — и совсем позади была Сибирь, которой суждено было сделаться центром «Восточного фронта». С положением в центре совпало и другое огромное преимущество, которым обладали большевики и которое, может быть, главенствовало среди причин их внешнего успеха. Большевики — это партийный заговор, планомерно и умело осуществленный. Большевики показали себя хорошими партийными организаторами. Их единство, несмотря на разность взглядов, было удивительно в первые годы. Это прельщало толпу искателей авантюр и мишурных успехов. Это создавало силу и престиж власти в массе. Русская антибольшевицкая общественность представляла по сравнению с этой компактностью воли к действию рассыпанную храмину. Недаром Какурин специально отмечает «раздробленность антисоветской коалиции» как немаловажный актив в балансе советской власти [II, с. 397]. Большевики, с присущим им организаторском талантом, который шел у них всегда рука об руку с небывалым моральным цинизмом, не останавливающимся перед выбором средств и методов действия, учли с самого начала особенность гражданской войны. Они кричали: все на фронт; в действительности же 50% военной силы оставалось для господства в тылу. (Для июля—августа 1919 г. Какурин эти силы исчисляет в 180 тыс., причем 30 тыс. было одних войск ВЧК.) Это давало возможность легко и с жестокостью подавлять все сепаратные выступления. Большевицкая публицистика называет такую тактику «психологией революционеров». Большевики явили миру доказательство того, как можно, не стесняясь в выборе мер насилия, нивелировать общественные настроения. У их противников никогда не было нравственной смелости ввести насилие в систему. Эксцессы только порождают и усиливают оппозицию; система — подавляет протест. При наступлении белых население никогда не уходило — это лучшее доказательство того, что у белых не было «презрения» к тылу, которым отличалась советская власть.
Прирожденные демагоги, большевики учли роль, которую может играть демагогия. Это — фактор, к сожалению делающий историю. В этой области политика антибольшевицких правительств всегда была недостаточно гибка.
* * *
Эти общие соображения нужны были для оценки «стратегии» адм. Колчака, к которой подчас сурово относятся современники. Оценивать ее я, конечно, не чувствую себя компетентным. Но некоторые наиболее общие черты отметить необходимо.
Большевицкая военная историография пытается утверждать, что в техническом отношении между «Красной» армией и «белой» не было особо заметной разницы. Мало того, Какурин даже склонен признать, что первоначально Красная армия уступала своим противникам в отношениях «техническом и организационном». Это опровергается, однако, всеми данными, которые приводит тот же Какурин, и противоречит всем его утверждениям, которые он одновременно делает. Напр., он сам пишет: «Вначале в техническом отношении Кр. армия не только не уступала, а, пожалуй, превосходила силы внутренней контрреволюции» [I, с. 148]. Так и должно было быть, ибо «главным источником снабжения» Кр. армии, особенно в первый период гражданской войны, являлись «склады военного имущества старой армии». Вместе с тем Какурин должен признать, что «если Кр. армия в наследство от старой армии получила лишь остатки организационных боевых единиц..., то в отношении аппаратов центрального и местного управления дело обстояло иначе, так как они сохранились полностью» [с. 135]. «Белым» армиям все приходилось строить заново в условиях провинциального обихода. Хуже еще было дело снабжения. «Из изучения документов, относящихся к этому времени, — говорит Какурин, — можно прийти к выводу, что в отношении снабжения обмундированием и винтовками белая армия исключительно базировались на державах Антанты» [с. 184]. Наиболее плохо обстояло дело в армиях Колчака — оно было «крайне неудовлетворительно»12. К сожалению, я нигде не мог найти конкретных данных, в каком действительно размере колчаковские армии были снабжены иностранным обмундированием в момент официального начала «интервенции», т. е. прежде всего помощи русским борющимся силам13. Когда армией командовал еще ген. Болдырев, реальной помощи со стороны союзников не было оказано. Отсюда вытекали те горькие и подчас резкие замечания, с которыми мы постоянно встречаемся в дневнике Болдырева.
«Посетил, — записывает он 17 октября, — 2-й батальон 8-го кадрового полка. Картина потрясающая: люди босы, оборваны, спят на голых нарах, некоторые даже без горячей пищи, так как без сапог не могут пойти к кухням, а подвезти или поднести не на чем...
Солдаты сами по себе отличные, хорошо обучены и если не бунтуют, то это положительно чудо14.
Половина из тех, которых я видел в казарме, построились босыми, в одних исподних брюках, а на лицах ни тени злобы. Вечером те, которым удалось обуться, маршировали на площади; я слышал из вагона лихие песни сибирских стрелков» [с. 74].
Так было в Омске. А на фронте? Полк. Ц., специально командированный Болдыревым для ознакомления на местах с состоянием воинских частей, докладывал ему, что на Семиреченском фронте «масса людей без сапог» [с. 81]. «Половина солдат Пепеляева, одетых в лохмотья, с обмотанными тряпками ногами, — рассказывает Уорд [с. 79] при посещении в ноябре фронта, — ждут ружей от своих товарищей, которые могут быть убиты или замерзнут в снегу». «В Челябинске видел смотр и парад 41-го уральских горных стрелков полка, — вспоминает Сахаров про октябрь. — Спайка, хорошее знание боевой службы, но внешний вид очень жалкий: более чем у половины людей отсутствуют шинели и сапоги; на несколько человек одна пара сапог — по очереди ходят на учение и в столовую» [с. 22]. На военных раздражающе действовало то, что при такой бедности чехословацкие отряды выделялись своим довольством. «У чехов все есть», — замечает Болдырев. Союзники помогали только чехам и этим, по выражению Болдырева, искусственно создавали в отношении боевого снаряжения «унизительную зависимость русских войск» [с. 101]. Обеспеченность чехословаков объяснялась тем, что эти независимые части действовали самостоятельно, мало считаясь с общими нуждами. Эгоизм, может быть, и понятный, но затруднявший русское военное командование. «Был с докладом тов. мин. снабжения Молодых, — записывает Болдырев, — жалуется на своеволие чехов. Министерством заказаны 2000 полушубков по 80 р., чехи (из чужих средств) дают по 110, вообще распоряжаются вовсю» [с. 74].
В марте снабжение не улучшилось — «мы ничего не получали» [показания Колчака. С. 184]15. Если вслушаться в донесения с фронтов, то станет ясно, что вопрос о снабжении и позже оставался в катастрофическом положении. В мае на фронте «как будто бы не воинские части, а тысячи нищих, собранных с церковных папертей» [Сахаров. С. 102—103]. И тогда приходилось «винтовки отнимать у красных». Одно из солдатских перлюстрированных писем 1 июня 1919 г. говорит: «Теперь у нас раздор, половина за буржуев, половина за советскую власть». Причину этого раздора автор видит в том, что в армии «все босые и голые». Приходится «грабить крестьян». Отмечает автор и еще одно знаменательное явление — убеждения «левеют» от побывки в тылу. Оттуда приходят люди не с крепкими нервами и склонные к оппозиции16. В воспоминаниях ген. Иностранцева — мне пришлось с ними отчасти познакомиться в рукописи — указывается, что в 1919 г., благодаря деятельности Нокса (о ней мы скажем ниже), «по-видимому», снаряжения и обмундирования было уже достаточно и дело заключалось в плохом распределении. Повторяю, что конкретных данных никто не приводит17.
Нельзя отрицать и плохое распределение, которое объясняется, вероятно, не столько плохой организацией, сколько отсутствием транспортных средств. Единственная железная дорога была загружена часто не по вине русской администрации. Еще в ноябре 1918 г., по выражению Колчака, эвакуация чехов с Челябинского фронта «создала там ужасное положение»: «В Челябинске было забито несколько тысяч вагонов, так что всякое передвижение на этом фронте было чрезвычайно тяжело. Я думаю, что это оказало большое влияние на снабжение армии: не было предумышленного задерживания, но в это время почти ничего не могли подавать в Зап. армию благодаря забитости челябинского узла» [«Допрос». С. 189]. В июне Будберг пишет:
«...большие станции забиты чешскими эшелонами, что еще более затрудняет транспорт и не позволяет рассортировать задержанные составы и пропустить вперед наиболее для нас нужные; наш нищенский график сильно страдает еще и оттого, что хозяевами дороги являемся не мы, а многочисленные союзные опекуны, и в первую голову идут поезда чешские, польские, междусоюзные, а восточнее Байкала — японские и семеновские; нам же достаются одни только объедки» [XIV, с. 296].
Нарушала правильное снабжение и серия начавшихся восстаний вдоль железной дороги.
Мне кажется, можно вполне объективно сказать, что колчаковские армии со стороны технической были обслужены бесконечно хуже противника. Поэтому для успеха их требовалось гораздо больше волевого напряжения и готовности к жертве. Красная армия, вероятно, вся разбежалась бы, если бы ей приходилось сражаться «босиком», и не помогли бы те репрессивные меры, которые применил под Свияжском Троцкий, расстреляв даже 27 ответственных коммунистических работников18.
У активного меньшинства, переутомленного боями, жертвенность должна была иссякать19. И тогда, возможно, рождалась та психология, о которой говорит одна из большевицких разведывательных сводок: «Мобилизованное офицерство уверено в победе большевиков, боится фронта, стремится пристроиться в тылу» [Какурин. I, с. 163].
Это явление на фронте нельзя, однако, рассматривать изолированно. Оно тесно связано с общим планом войны, который зависел от других факторов, действовавших в Сибири — и прежде всего от «интервенционных» сил.
2. Чехословаки
Те, кто после 18 ноября сделались непримиримыми противниками Колчака, решительно утверждают, что омский переворот содействовал разложению фронта. И прежде всего перемена власти повела к оставлению фронта чехословацкими войсками. Это утверждение повторяют чехословацкие историки «легий» и некоторые русские историки (Милюков). «Колчаковский переворот, — пишет, например, Кратохвиль [с. 368], — сильно потряс боеспособность Сибирской армии и полностью отвратил от боев против советской власти чехословацкую армию».
Мы знаем, что Нац. Совет действительно пытался 18 ноября, минуя чешское военное начальство, отдать приказ об отходе войск с фронта, мотивируя его тем, что чехи не могут и не хотят поддерживать военную диктатуру. Нац. Совет не выполнил формально своего решения в силу протеста Пишона, указавшего, что такое решение выходит из компетенции Нац. Совета и не может быть принято в Челябинске в тот момент, когда в Сибирь прибыли уже ген. Жанен и ген. Штефанек [«М. S1.», 1925, И, р. 260]. Значение этого приказа по отношению к фронту имело более демонстративное значение. Гораздо более существенным был вопрос — вмешиваются ли чехи в омские дела или нет. На фронте чехов, в сущности, уже почти не было. 15 октября, т. е. за месяц до переворота, Болдырев сообщает: «Направление на Уфу почти открыто. Первая чешская дивизия оставила фронт и преспокойно застопорила своими эшелонами жел. дорогу» [с. 73]. Вот запись 2 ноября: «У чехов неладно. Со всего фронта они отведены в тыл для приведения в порядок. Фронт держится исключительно русскими войсками» [с. 90]. 3 ноября: «С чехами, по мнению Нокса, плохо. Они считают, что воевать за Россию довольно, пора ехать в свободную Чехию. Возникает вопрос об удержании их хотя бы в ближайшем тылу»20.
Едва ли кто станет теперь серьезно оспаривать, что к моменту острых внутренних событий в Сибири чехословацкое войско, потеряв, может быть, лучшие боевые силы и пополненное новыми сибирскими «добровольцами», роковым образом само переживало жесточайший кризис. Историко-публицистическая полемика, возникшая в чешской печати в связи с появлением драмы Медека, посвященной гибели героя чешского анабазиса полк. Швеца, и связанная, очевидно, с этой полемикой статья Богумилла Пршикрыла в журнале «Pritomnost», появившаяся в 1929 г. с дополнениями в отдельном издании [Сибирская драма], раскрывают довольно полно картину разложения чехословацких «легий». 25 октября начальник первой чешской дивизии полк. Швец, сообщив командиру фронта ген. Войцеховскому, что он не может выполнить боевого задания ввиду отказа солдат выступить на позиции, покончил с собой. Его предсмертная записка гласила: «Не могу пережить постигшего наше войско позора, виновником которого являются безответственные фанатики-демагоги, убившие в самих себе и в нас самое ценное — честь». Для Швеца это была моральная катастрофа, и он отдал свою жизнь как очистительную жертву. В книге Пршикрыла — автор отстаивает «левую» точку зрения — приведены протоколы следственной комиссии, учрежденной министром Штефанеком для расследования причин, повлекших самоубийство полк. Швеца. Материал следственной комиссии действительно говорит о «катастрофе» — о заразе, которая шла от роты к роте, от полка к полку, о постоянно растущем недостатке воли к военным действиям. Падает военная дисциплина, самовольно уходят с фронта целые части. Все стремятся на восток, подальше от фронта. Комиссия правильно устанавливает и причины такого настроения в армии: неудачи на фронте, новые, неустойчивые элементы «добровольцев», физическое и моральное утомление, отсутствие механической дисциплины, т. е. безоговорочного подчинения приказу, неисполнение обещаний союзниками, неимение общей, понятной всем идеи, за которую сражаются. На эту почву падала большевицкая организованная агитация, при общем настроении легко пожинавшая плоды. Чешские добровольцы и раньше были несколько затронуты пропагандой. Вначале она была незначительна21. К октябрю пропаганда значительно увеличилась. Напр., в письме сибирского партийного работника в Москву, от 29 октября, выдержка из которого приведена в «Хронике», определенно говорится: «Имеются у нас и чехи (до 3500 чел.), которые отказались идти на фронт и сидят в лагерях» [«Хр.». Прил. 122]22. Крепость чехословацких добровольцев базировалась как раз на том национальном чувстве, которое, как пытался я показать, является наиболее прочным ферментом при организации борьбы. Борьба против немцев соединила в одну революционно-национальную «когорту» добровольцев, среди которых в 1917 г. чуть ли не 60% причисляли себя к социалистам23. В этом как бы «инстинктивном» социализме, который, как мода, появляется в революционные эпохи, слишком много наносного и случайного. В период острой борьбы в первые месяцы выступления он был где-то на заднем плане. Над всем превалировал принцип национальной самозащиты. Конечно, на русской территории непосредственная германская опасность выдвигалась несколько искусственно. Союзники не приходили. Возникал естественный вопрос: если французы не идут, почему чехи должны сражаться? Без участия союзников чехословацкое войско не хотело сражаться [Пишон. — «М. S1.», 1925, II, р. 249]24. Не могла чехов удовлетворить та видимость участия союзников, которую пытались создать отправкою на фронт нескольких союзных солдат. «Чешские солдаты прекрасно сознавали, — говорит Пршикрыл, — что фронт, чем дальше, тем больше из противогерманского становился противосоветским, т. е. русским фронтом. Чешские легионеры, сами будучи революционерами, приходили к убеждению, что эта война не ихняя, война не против немцев, а против русской революции». Новое обоснование выступления чехословаков, данное сибирскими политиками, — помощь антибольшевицкой России — не могло удовлетворить некоторую часть легий, тем более что это обоснование так резко противоречило прежним официальным документам.
Теряя веру в союзников, чешский солдат начал чувствовать себя одиноким и покинутым25. Майское выступление произошло вопреки «Нац. Совету» — чешское войско через своих делегатов взяло судьбу эшелонов в свои руки. Это был, в сущности, «бунт» против официального представительства. Такой же бунт произошел в Аксакове 20 октября. На митинге, созванном делегатами полка, один из делегатов говорит: «Наступило то же, что было под Пензой, когда командование очутилось в тупике и когда только здоровый инстинкт сохранил наше войско. Солдаты должны, как и тогда, взять теперь власть в свои руки, так как теперешнее командование ведет лишь к гибели».
Отличие от майского положения заключалось в том, что было уже иное настроение. Бунт происходил во имя мира с большевиками, против русской акции и за возвращение на родину. Психологически это понятно (между прочим, таково было мнение Колчака). На митинге солдаты настаивали, чтобы им сообщали операционные планы, для выполнения которых требовалось их согласие. Начинается, другими словами, российская «совдепщина», опирающаяся на хорошо организованную подпольную агитацию. Знакомая картина!
С момента перемирия 11 ноября дилемма, о которой говорит Пршикрыл, должна была раскрыться во всей своей полноте. Война с Германией кончилась; оставался лишь противобольшевицкий фронт. Желания поддержать его — совершенно независимо от характера видоизменения власти в России — у Масарика не было. «Чехословаки добыли себе в Сибири, во Франции и Италии право на независимость», — сказал французский президент. За эту свободу было уже принесено 4500 жертв...
В самых верхах чешской политики начинается раздвоение, которое роковым образом должно было отражаться на состоянии войск, находящихся в Сибири. Если Крамарж убеждал «сибирские чешские войска принимать энергичное участие в подавлении большевизма в России, ибо этим самым помогается делу возрождения Чехии»26, то Бенеш телеграфировал другое: «Отечество не требует от вас больше жертв» [Жанен. — «М. S1.», 1924, XII, р. 233]. В свете документов можно отнестись спокойно к событиям, имевшим место в чехословацких легиях в Сибири. Совершенно ясно, что омский переворот, сам по себе по существу не внося ничего нового, дал лишь формальный повод завершить начавшийся отход чехословацких войск с фронта.
При обозначившемся в армии кризисе Нац. Совет лишь спешил отгородиться от омского переворота, боясь потерять свое влияние в армии. Вспоминали приказ Масарика 1 августа 1918 г.: «Наше войско демократическое и служит демократическим целям». Дальнейшее участие на фронте — помощь диктатору. «Возможна ли она, когда наши русские союзники, — пишет передающий психологию левых Пршикрыл, — находились в колчаковских тюрьмах, или организовывали восстания против Колчака, или переходили к большевикам, давая предпочтение «красной диктатуре против белой». Одно уже присутствие легий в Сибири поддерживало режим, который все «русские друзья» легий ненавидели».
Из изложенного можно видеть, сколь придумано позднейшее объяснение ген. Жанена, утверждающего в своем дневнике, что чехи «отказывались продолжать сражаться за русских, которые предпочитали веселиться в Омске, чем рисковать здоровьем и жизнью на больших фронтовых дорогах. Засевших в этом городе насчитывали около шести тысяч (например, 59 ч. в цензуре при главной квартире) [«М. S1.», 1925, IV, р. 22].
В критический момент в Сибирь с миссией ген. Жанена прибыл ген. Штефанек в качестве уже главы военного министерства нового Чехословацкого государства. Его задания были чрезвычайно сложны. Чехословацкое войско сражаться больше не хотело27, но формально оно составляло часть союзной армии, которая должна была помогать русской армии в ее антибольшевицкой борьбе28. С момента провозглашения чехословацкой независимости сибирские легии получили иное юридическое основание. Создавалось внутреннее противоречие между бытом и правовым статутом. Чеховойско в Сибири формально составилось из добровольцев, сражавшихся за свою национальную независимость. Она была достигнута. Как превратить этих добровольцев в регулярную национальную армию, дисциплинированную и подчиненную требованиям государства? Национально-революционная когорта до 28 октября организована была на началах как бы «братской» солидарности. Поэтому полковые делегаты имели такое большое значение в жизни войска. Это была особая дисциплина, которая покоилась на «сознании». Отпало это сознание, упала дисциплина, и «ценность нашего войска — признала комиссия, расследовавшая причины самоубийства Швеца, — спустилась ниже уровня средних регулярных войск вообще». Поднять дисциплину можно было только уничтожением «делегатчины», разлагавшей организм регулярной уже армии. Это было требование чешского военного командования.
То, что было в добровольческой когорте, не могло быть в армии29.
Штефанек, распустив комитеты и запретив созыв второго съезда делегатов, перевел добровольцев на положение регулярной армии. Институт полномочных, возглавляемый Нац. Сов., был заменен консулами и послами30. В отношении России Штефанек как будто был ближе к позиции Крамаржа, нежели Масарика и Бенеша. Подводя итоги изложения чешских мемуаристов и историков, Драгомирецкий пишет:
«По удостоверению многих писателей, ген. Штефанек горел желанием помочь русскому народу. Он жаждал освобождения России от большевизма и хотел, чтобы легионеры, следуя по этому пути, заслужили благодарность будущей России. Вместе с тем он был уверен, что без сильной России
Чехословацкая республика не будет могла (не сможет) мощно развиваться и выполнять роль славянского авангарда в средней Европе. Его манила возможность направить чехословацкие войска на родину через Европейскую Россию. Но, ознакомившись лично с состоянием войск, министр Штефанек пришел к заключению, что держать их дальше на фронте и заставлять сражаться представляется невозможным, и потому, по соглашению с Верх, правителем адм. Колчаком и союзниками, приказал стянуть всю армию в тыл и подготовлять ее к постепенной отправке на родину» [с. 89].
Кратохвиль приводит еще телеграммы, которыми обменялись Штефанек и Колчак. Они показательны для позиции безвременно погибшего первого чехословацкого военного министра. «Покидая землю великой России, — писал Штефанек, — посылаю вам пожелание всякого добра и надеюсь, что единение всех здравомыслящих людей при общем усилии вернет России ее престиж и даст возможность занять опять свое место среди славянства и целого мира» [с. 207]. Колчак ответил: «С радостью получил известие о благополучном проезде вашем до Харбина и счастлив, что все наши органы шли вам навстречу. Я очень тронут вашим горячим пожеланием и прошу принять выражение моего искреннего и глубочайшего пожелания успеха расцвета свободного чехословацкого народа, соединенного с русским народом узами дружбы и братства» (даю перевод).
В полном противоречии с тоном этих приветствий находится речь Штефанека 11 декабря делегации 8-го чехословацкого полка, приводимая Кратохвилем. В передаче последнего она производит довольно странное впечатление. Один из «братьев» спросил военного министра: «Брат-генерал, скажи нам наконец, в чем, собственно, нас упрекают?» Штефанек отвечал:
«Ставят вам в вину неучтивость к союзникам, над которыми вы насмехаетесь. Это подтверждается со многих сторон. Затем о войске в Сибири утверждают, что оно находится в состоянии разложения, что оно забывает основное положение, что война — одно дело, а политика — другое. Ставят в вину, что в войсках распространяется большевизм, что войско участвует в грабежах и убийствах, что ряды его недисциплинированны — не только единицы, но и целые части не повинуются приказам начальников. Ясно, что кое-кому не нравится и то, что развитие чехословацкого народа идет по направлению слишком демократическому»... «Я демонстрировал (в отношении Колчака), — говорил Штефанек, — более вразумительно. Когда приехал сюда, не заехал в Омск. А это говорит достаточно за себя, раз представитель государства, которое имеет здесь больше всего войска, минует только что провозглашенную власть»... «Не смотрите на омские события, — поучал военный министр, — односторонне. Переворот не был подготовлен только в Омске, главное решение было в Версале. Вы смотрите на вещи слишком радикально. Я вас извиняю, но я сам министр и потому не могу быть радикалом»31 [с. 249].
Эта речь, если содержание ее верно передано, является, бесспорно, продуктом демагогии. Метод воздействия ошибочный, но, по-видимому, у Штефанека были большие сомнения в возможности перебороть наступивший в чехословацкой армии кризис. Гинс рассказывает, что, когда члены Омского правительства выражали Штефанеку благодарность за помощь, оказанную чехами в начале борьбы, Штефанек сказал: «Я привык судить о заслугах только по окончании дела. Пока же ничего не сделано, и никто не знает, каков будет конец» [II, с. 523]. По словам Гинса же, из Шанхая Штефанек прислал на имя Павлу ободряющую телеграмму, которая заканчивалась словами: «Передайте им (соколам на фронте), чтобы они были верны себе, своему хорошему прошлому и чтобы они не забывали, что только по дороге чести они вернутся в свободную, счастливую и дорогую нашу родину» [II, с. 93].
* * *
Чехословацкие войска были отведены в тыл, и на них возложена была охрана Сибирской магистрали от Омска до Иркутска. Чехи сознавали, что вернуться на родину можно только через Владивосток и что возвращение это не может быть на другой день — пароходы во Владивостоке были еще проблематичны [Дюбарбье. С. 87]. Охранять железную дорогу было в интересах самого войска, судьбою занесенного в глубокую сибирскую тайгу и расположенного по линии магистрали32. «Охрана ее, — говорит Драгомирецкий, — представляла "крупную важность для стоявших на фронте русских добровольческих войск"». Это было бы несомненно так, если бы охранявшие магистраль иностранные войска не стали фактически распорядителями всего транспорта. При господствовавшем в чехословацком войске настроении здесь была и угроза. Ее предвидел Будберг и предлагал увести чехословаков в Приморскую область. Но Колчак лишь посмеялся над этой горячностью» [XIV, с. 290].
Распоряжения Штефанека осуществлялись не без осложнений. Оппозиция переходила временами в прямой бунт. Так было в Екатеринбурге в связи с запрещением делегатского съезда. Протест шел под лозунгом, что только «вооруженная чехословацкая демократия может говорить о судьбе чехословацкого войска». Одна ли подпольная большевицкая пропаганда действовала в данном случае? В свое время Святицкий рассказал нам о надеждах, которые возлагали «учредиловцы» на «делегатчину». «Наши русские друзья» после 18 ноября повели усиленную агитацию в рядах митинговавших чехословацких солдат. Они, по выражению Колосова, помогали «формированию политического образа мышления чешских солдат». Для пропаганды Колосов постарался конспиративно связаться с несколькими полковыми комитетами. Какой смысл был ему этим заниматься? Колосов видел в чешской армии «могущественную союзницу Колчака при всем, быть может, недоброжелательном отношении к нему как к правителю государства». И вся цель его и его политических единомышленников заключалась в том, чтобы как-нибудь помешать такому союзу. В верхах Колосов не рассчитывал встретить поддержки. Д-р Павлу, бывший председатель Нац. Совета, назначенный послом республики, был для него непримиримым «врагом». Против этого врага Колосов искал союзников в «солдатской массе», опираясь на которую «можно было иначе разговаривать с русскими властями и с самим чешским послом». Предоставим слово самому Колосову, начинающему свой рассказ с того, как он разлагал чехословацкие войска после екатеринбургского собрания по поводу текущих событий представителей их гарнизона. На собрании была создана «инициативная ячейка», которая должна была «сформировать лозунги движения и созвать на основе их общеармейский съезд». На съезде могли быть «выбираемы представители только от солдатской массы, а не от командного состава». «Самочинно» созываемый съезд должен был сделаться «исключительно органом солдатской массы». Съезд состоялся в том же Екатеринбурге, в апреле, но ввиду недостаточной полноты состава он «постановил считать себя «конференцией», неполномочной выносить «общеармейские решения, обязательные для всей солдатской массы», и созвать новый съезд с полным уже представительством всех частей армии. Так как Павлу предупредил, что съезд не будет допущен, инициаторы решили созвать его «конспиративно и нелегально» где-нибудь в районе «наиболее густо» сосредоточенных чехословацких войск». Обработку этих делегатов и начал Колосов.
«Позже один из членов делегации д-р Крейчи (в октябре 1919 г.)33, — пишет Колосов, — выставил против меня обвинение, что, на основании моих отзывов о политическом настроении чешских солдат, у чешской дипломатии составилось убеждение, что среди чехов есть много «большевиков» и что это в некоторых случаях привело к печальным последствиям. Это было очень не точное изложение моих взглядов на чехословацких солдат. Я действительно находил на основании того материала, который проходил через мои руки, что у солдат-чехов безусловно наблюдается временами очень яркое проявление большевицкого настроения. Ненависть, иногда очень обостренная, и недоверие, порой очень глубокое, к собственному командному составу были широко распространены в это время у чехов и питались самыми разнообразными источниками. Этим настроение их принимало оттенок большевицкого. Но в смысле политического мировоззрения, поскольку его можно было уяснить по тем данным, какие проходили через мои руки, картина получалась несколько иная. Чешские солдаты того времени в своей массе были убежденные и сознательные демократы, правда, порой очень «крайние» и «левые», но все же демократы. Из этого прежде всего и приходилось исходить в сношениях с ними и в выработке линии политического поведения. Здесь были их сильные и слабые стороны...
Чехословацкая армия стояла в общем на точке зрения «пассивного» протеста, тогда как вся обстановка требовала от них — протеста хотя бы с известной долей активности. Пассивный характер протеста у чешских солдат я видел в том, что у них основным лозунгом являлось требование ухода домой, требование увода войск через Восток на родину. Но чехи не могли своими средствами выехать домой..., а союзники не желали их вывозить из Сибири. Удерживая же там чехов, они возлагали на них тяжелую задачу поддержки Правительства Колчака путем охраны железной дороги от нападений повстанцев. Очевидно, надо было искать какой-нибудь выход из этого положения...
Пока мы искали с чешскими делегатами выход из этого положения, события шли своим чередом».
События заключались в том, что Колосов выступил с критикой деятельности начальника 3-й чешской дивизии полк. Прхала, — документ этот должен был заключать материалы для будущей резолюции на съезде. Прхал уведомил Колосова, что «всякая пропаганда в чехословацкой армии со стороны посторонних лиц строжайше воспрещена». Вместе с тем до Колосова дошли сведения о возможности его ареста по распоряжению ген. Розанова. Колосов предпочел тогда оставить агитацию среди чехословаков в Красноярске и перенести ее в крестьянскую толщу Алтайской области: «там можно было переждать грозу»...
В воспоминаниях Масарика говорится: «Через некоторое время более обширные сообщения начали нам приносить печальные сведения о моральном состоянии нашей армии в Сибири; началась большевицкая пропаганда, смешанная с пропагандой всех наших врагов [II, с. 79]. Сам Колосов рассказал нам, что пропаганда велась не одними только большевиками. И уже трудно определить, где кончались эсеры и начинались большевики. Иркутская контрразведка доносила генерал-квартирмейстеру штаба местного военного округа 17 июня:
«Учтя все слабые стороны в армии чехов, их политическое положение, трения между солдатами и офицерами, а также усталость от войны солдат, агитаторы и шпионы повели широкую разрушительную работу теми же самыми старыми методами, какими пользовались они у нас в армии в 1917—1918 гг. Подойдя ближе к психологии усталого солдата, они выдвинули те же излюбленные лозунги: «Война не нужна чехам», «Скорее на родину, там свои непорядки», «Долой офицеров — союзнических наймитов» или «Чехословаки — игрушка в руках союзников, которые сами не воюют, а шлют на бой только чехов» и т. д. в этом духе» [Партиз. движение. С. 156—157].
Русская контрразведка считала, что происходящее в чешских войсках «есть как будто повторение пройденного урока в русской армии в период революции, а особенно в октябре 1917 г.». По мнению чешского полукоммунистически настроенного автора, Кратохвиля, разложение армии свидетельствовало лишь о том, что под гнилым, слепым механизмом вставал живой человек. Но характерно то, что по прошествии десяти лет Пршикрыл в полемике с Медеком — и притом в журнале «Pfitomnost» — становится на сторону «бунта».
Из агитации, как всегда, рождались активные действия. 8—11 июня — самый критический момент. В Иркутск стали съезжаться делегаты нелегального съезда. На ст. Иннокентьевская арестуются офицеры, захватываются паровозы для отправки вооруженных солдат в Иркутск охранять делегатов. В самом Иркутске прибывшие делегаты, арестованные сохранившей дисциплину частью, освобождаются «революционным батальоном», причем производится обыск в редакции «Чеходневника». Грозит вооруженное столкновение «братьев» между собой. Но все же вооруженная демократия не поднялась против официальной власти. И конфликт, благодаря энергичным мерам ген. Сырового и авторитету командующего союзными войсками ген. Жанена, окончился благополучно. Делегаты «съезда революции» подписали заявление, что признают законную силу всех приказов Правительства, и Сыровой счел «все внутренние недоразумения ликвидированными» [телеграммы штаба Ирк. округа. — Партиз. движение. С. 154— 159]. Делегаты «для раздумья» были направлены на Русский остров во Владивостоке.
Этим конфликтом кризис, конечно, не был окончательно изжит. «Бунт» был подавлен, но чехословацкое командование не было уже хозяином положения.
* * *
Когда происходил «конфликт» в чеховойсках Иркутска, Верховным правителем был отдан приказ не вмешиваться в чешские дела. Но положение было серьезно. Русская контрразведка указывала, что агитаторы из повстанческого штаба Кравченко «имеют связь с теми чешскими частями, которые стоят на Красноярском фронте». Следовательно, перед русским командованием стояла реальная угроза возможности соглашения «революционных» солдат чехоармии с повстанческими отрядами. Можно было ожидать, что иностранные штыки, охранявшие магистраль и не всегда выдержанно соблюдавшие «нейтралитет», неожиданно окажутся на стороне противников Омского правительства, каковыми могли быть не только большевики, но и конспирирующие эсеры. У Колчака не было предубежденности против чехословаков, как это пытаются представить многие из чешских мемуаристов. По словам Будберга, у Колчака было, скорее, благожелательное к ним отношение. Он называл «чехоедом» Будберга, который являлся решительным противником поручения чеховойскам охраны Сибирской магистрали. Колчак понимал психологическое состояние армии, которая не хотела больше воевать в России. По его мнению, это было естественно. Но вопрос шел уже о том, чтобы не мешать русским противобольшевицким силам. Отсюда вытекало стремление по возможности содействовать скорейшей эвакуации чехословаков из России и влиять в этом отношении на союзников.
В книге Субботовского приведен документ, в сущности касающийся финансовых вопросов, но попутно подтверждающий эту тенденцию Омского правительства. В обращении мин. ин. дел к французскому военному комиссару 16 июля отмечается, что из месячных затрат французской миссии в сумме 50 млн фр. лишь 18 млн тратятся непосредственно на русскую армию «в качестве уплаты по некоторым закупкам снабжения на Дальнем Востоке». Остальные расходы «производятся главным образом на содержание чешских и прочих не русских войск. Российское правительство по этому поводу уже высказывало мнение, что чешские войска должны быть постепенно эвакуированы, а что касается содержания войск другой из названных категорий, в особенности значительных польских контингентов, то оно не преминуло неоднократно обращать внимание французского военного комиссариата на бесполезность сохранения этих войск, которые, не принимая активного участия в борьбе, вызывают лишь неоправдываемые расходы» [с. 78— 79]. Командующего союзными войсками такая «заносчивость» Омского правительства приводила в «бешенство»34:
«Эти люди, кажется, забывают, что без чехов и меня они недолго бы существовали» [«М. S1.», 1924, XII, р. 235]. «Взбесило» ген. Жанена главным образом указание мин. ин. дел Сукина в беседе 4 июля (по записи Жанена) на необходимость разоружить чехословаков и поляков в связи с имевшими место беспорядками. Жанен высокомерно ответил: «Я был послан сюда, чтобы командовать этой армией, а не для того, чтобы ее разоружать». Беседа 4 июля была длительной, и указание на желательность разоружения, со ссылкой на адмирала, было сделано Сукиным после ответа Жанена, что ни чехословацкие войска, ни польские не могут быть двинуты на фронт. Не может быть отправлен на фронт без разрешения соответствующих правительств даже корпус добровольцев.
Из изложения Жанена не совсем понятно, почему Сукин явился к нему с такой миссией и почему, собственно, заговорил об отправке хотя бы «добровольцев на фронт».
«Я не мог и думать, — говорит Жанен, — о посылке своих войск в гущу беспорядочного отступления, где они увязли бы. Особенно моральное состояние, которое я констатировал в армии и о котором сообщил в Европу, не допускало и мысли об этом. Мы были солидарны, Павлу, Сыровой и я, что приказ в этом смысле, будь он даже из Праги, повлечет за собой беспорядки, размеры которых я не мог учесть» [там же. С. 232].
Приходится предположить, что ген. Жанен или плохо информировался своим правительством, или в «дневнике» его очень неточно записано то, что было в действительности. Среди документов «из архива Колчака», доставшегося большевикам, имеется телеграмма Клемансо от 2 июля с проектом отправки чехословацкого корпуса через Пермь на родину, используя его попутно как боевую силу: 30 тыс. человек из состава этого корпуса по проекту должны принять участие в операциях на правом фланге армии адм. Колчака с тем, чтобы «установить связь с архангельской группой в Котласе, откуда они были бы возвращены на родину до конца текущего года». «Моральное состояние этих войск, — говорил Клемансо, — в настоящий момент очень низко, и удача этого плана зависит, очевидно, от числа людей, склонных бороться против большевиков с убеждением, что возвращение их на родину явится наградой за их успех» [Какурин. II, с. 278].
Неужели Жанен не был осведомлен об этом проекте? Ясно, что посещение Сукиным командующего союзными войсками стояло в непосредственной связи с указанной телеграммой. При сопоставлении разговора 4 июля с телеграммой становится понятным и ход рассуждения Сукина. Также очевидна и утопичность парижского плана. Жанен с полным основанием замечает:
«Прежде всего он сказал мне, что перевозка чехов через Владивосток невозможна: совершенно необходимо, чтобы чешская армия шла без промедления на фронт в направлении Архангельска или Царицына, чтобы принять участие в наступлении, подготовляемом на август. Это было мнение англичан (план Винстон Черчилль — Нокс), а также американцев и г. Крамаржа. Я без обиняков ответил, что ничего обо всем этом не знаю. Военные решения относительно моих войск касаются меня больше, чем кого-либо, впрочем, это никоим образом не соответствует директивам, полученным от Штефанека при посредстве маршала Фоша. Так как он мне сказал, что не знает этих директив, я ответил, что это были указания внутреннего порядка» [XII, с. 232].
Таким образом, выхода из заколдованного круга, в который попало чехословацкое войско в России, найдено не было. Все оставалось по-старому. Рождались новые осложнения и новые недоразумения. В сибирских бытовых условиях, при финансовом и хозяйственном кризисе, отражавшемся постоянно на снабжении русской армии, привилегированные иностранные армии, которые не могли эвакуироваться и не могли двинуться на фронт, не могли не вызывать к себе критического отношения в довольно широких кругах. Прежний энтузиазм сменялся чувством глубокого неудовольствия. Иронические частушки, появившиеся в изобилии в Сибири, свидетельствуют об этом в достаточной степени.
Чехословацкая армия самоснабжалась. В связи с этим она развила широкую экономическую деятельность на принципе кооперативного сотрудничества. Имущественный вопрос становился одним из факторов взаимных недоразумений. Эвакуировалось не только войско, но и скопленное им имущество. Раздраженное чувство редко бывает справедливо. И в той обильной «обличительной» литературе, которая имеется уже в нашем распоряжении, правда перемешана с тенденциозным вымыслом. По поводу этих обличений возникла и полемика. Мы оставим ее в стороне. Достаточно, однако, просмотреть записи управляющего военным министерством Будберга для того, чтобы судить о некоторых ненормальностях, практиковавшихся при самоснабжении.
По инициативе заведывавшего финансовой частью чехословацкого войска полк. Шипа, был учрежден специальный «Банк чехословацких легионеров», с капиталом в 14 миллионов французских франков, акции которого были разобраны вкладчиками ранее возникшей сберегательной кассы — сбережения составились из остаточных сумм получаемого солдатами от союзных держав содержания в валюте35. Часть этих денег пошла на приобретение необходимого имущества и товара для обмена. Банк должен был при эвакуации заняться ликвидацией этого имущества и в то же время гарантировать интересы солдатских масс от обесценивания русского рубля. Правительство предложило закупить хлеб и сырье для чехословацких заводов. Драгомирецкий, подводящий итоги полемики, должен признать, что по существу такая деятельность, «быть может, не свойственна регулярным армиям», но она диктовалась «крайней необходимостью» [с. 174].
Главная ненормальность заключалась, конечно, в другом. Возражая ген. Сахарову, Драгомирецкий замечает:
«Реквизиции... всегда составляли и будут составлять прискорбную необходимость каждой войны. Они имели место и в Сибири, но производились в одинаковой степени как чехословацкими, так и русскими частями всегда с ведома и разрешения местных властей исключительно для надобностей армии» [с. 175]. Реквизиция — начало государственное, а не частноправовое. В этом все дело, поскольку речь идет о деятельности Легиобанка. «Реквизиции» не всегда происходили с согласия местных властей, они производились иногда вопреки этому согласию. Нельзя предполагать, что в окружавшем беззаконии гражданской войны36 только представители чехословацких войск олицетворяли принципы строгой законности. Еще доклад Гришина-Алмазова ген. Деникину отмечал, что молодых чешских начальников нельзя было убедить обращаться к русским властям за нуждами [Деникин. III, с. 92]. Молодые начальники предпочитали действовать самостоятельно и иногда слишком «своеобразно» распоряжались «военной добычей» [Кроль. С. 82].
Если в период пребывания на фронте эти методы приводили к столкновениям с представителями Правительства, то в момент оставления фронта они теряли под собою теоретическую почву «крайней необходимости». В житейских условиях того времени и «товарообмен» приобретал подчас принудительный характер — прап. Алексеенко 7 декабря 1919 г. доносит из Минусинского уезда: «Чешский полк в уезде реквизирует скот, хлеб по самым низким ценам без согласия крестьян. Последние недовольны и готовы к вооруженному сопротивлению» [«П. Дн.». С. 74].
3. Миссия Жанена и Нокса
Не раз приходилось указывать, что левый сектор русской общественности, поскольку он был в активных антибольшевицких рядах, как это психологически ни странно, все свои надежды возлагал на помощь союзников. «Пока не будут двинуты иностранные войска, на успех рассчитывать нельзя» — так определенно, напр., писал с.-р. полк. Махин в начале июля 1919 г. из Парижа Болдыреву [с. 246], передавая не свое индивидуальное мнение. Адмирал Колчак, как мы видели, вопрос об «интервенции» с самого начала ставил по-иному — он желал иметь помощь не людьми, а только снаряжением [беседа с Грондижем. С. 526]. Но «междусоюзные господа», по выражению Будберга, больше «учили», чем реально помогали. И не столько даже «учили», сколько в большинстве случаев давали широкие неисполнимые обещания, а потом критиковали.
Эта политика, конечно, в значительной степени объяснялась неуверенностью самих правительств в Зап. Европе, которая, по выражению Маклакова в письме «Нац. Центру» на Юг 2 мая 1919 г., чувствовала себя «на вулкане». Он писал, напр., о демонстрации 1 мая, которая проходила под лозунгом отказа от «какого бы то ни было вмешательства в русские дела» [«Кр. Арх.». XXXVI, с. 8]. Отсюда политика влияния, шаркания направо и шаркания налево37. Так или иначе живая сила на помощь чехам не приходила. 14 сентября Пепеляев в своем дневнике отмечает, что японцев высадилось 70 тыс., американцев — 10 тыс., французов— 1 тыс., англичан— 1 тыс. [Субботовский. С. 24]. Японцы не собирались идти в глубь страны, следовательно, реальная помощь была совершенно ничтожна. Но претензии у союзников были большие. В Сибирь для объединения военных действий в руках союзного командования ехала специальная миссия во главе с ген. Жаненом, считавшимся «другом России»39. По соглашению с Англией ген. Жанен должен был принять командование над всеми союзными войсками, в том числе и русскими39, к западу от Байкала — на востоке командование предоставлялось японцам; ген. Ноксу поручался тыл — снабжение. Эти функции окончательно были распределены телеграммой 13 декабря (?) Клемансо и Ллойд Джорджа. Жанену, по словам Рукероля, были даны весьма широкие полномочия — французский генерал должен был немедленно двинуть войска на Урал и создать против немцев (?) фронт от Белого моря до Черного [с. 35].
В таком ореоле предстал ген. Жанен в Омске 16 декабря.
Когда Болдырев во Владивостоке узнал о назначении миссии Жанена, он писал: «Это новый удар достоинству России. Как-то вывернется из этого положения Колчак?» [с. 124]. Союзники принимали свои решения, не считаясь ни с образовавшейся всероссийской властью, ни с мнением русского командования, которое не могло быть им неизвестно40. Появление Жанена нарушило установившееся уже в Сибири status quo. С чехами — единственной реальной союзнической силой — Болдырев уговорился уже о подчинении их единому верховному русскому командованию. Ген. Сыровой, подчиняясь русскому верховному командованию, сохранял за собой руководство чешскими и русскими войсками в центре и на правом фланге общего фронта. По поводу этого соглашения Болдырев замечает: «Подчинение чехов состоялось без особого соглашения с французами. Их военный представитель... заявил, что чехи в их подчинении. Это, конечно, не изменило принятого решения»41. Но одновременно Болдырев заключил «конвенцию» с бывшим уже с сентября в Сибири ген. Ноксом. Последний очень скоро усвоил себе сибирскую обстановку. Как сообщал мин. ин. дел Правительства еще автономной Сибири 29 августа (на основании беседы в Токио), ген. Нокс первоначально думал объявить мобилизацию от имени союзников. «Я сказал ему, — пишет Петров, — что только тогда мобилизация будет успешна, когда она произойдет по распоряжению Сиб. пр.» [Субботовский. С. 25]. Нокс согласился и, согласившись, идет уже по пути помощи только Всероссийскому правительству, ие делая никаких сепаратных шагов. 23 октября Нокс («само олицетворение энергии и решительности», по характеристике Иностранцева) предложил Болдыреву пять пунктов, «ясных и понятных», на основе которых он готов «сделать все», что в его власти, в целях «оказать помощь русскому правительству в деле формирования русской армии». Эти условия говорили, что новая русская армия должна быть настоящей армией без комитетов и комиссаров; что русское правительство будет требовать от союзных представителей оказания помощи не разным русским военным начальникам, а только русскому правительству; что германские военнопленные будут заключены в концентрационные лагеря и что будут приняты меры по упорядочению железных дорог. «Пять» пунктов Нокса заключали в себе и шестой, выражавший общее пожелание: «Мы имеем право требовать, чтобы все личные и партийные интересы были бы устранены и сильное правительство сформировано, которое бы не препятствовало в создании армии для спасения России» [прил. к тексту Болдырева. С. 524—525]. Болдырев подписал это условие. Одновременно, по инициативе военных кругов, было сделано обращение к союзным державам от имени всероссийской власти. В нем подчеркивалось, что создание русской армии возможно лишь при условии высшего над ней самостоятельного единоначалия в лице русского генерала и что необходимо установить правильные взаимоотношения с чехословацкой армией. Очевидно, утверждение Дюбарбье, что предусмотрительная Директория хотела подчинить все сибирские силы иностранному командованию и что только в силу этой просьбы была послана миссия ген. Жанена [с. 87], мало соответствует действительности. Дюбарбье красочно описывает, что было бы: не было бы борьбы с атаманами, не существовало бы чешского вопроса. Было бы триумфальное шествие по Сибири. Но свергнувший Директорию Колчак, как ставленник англичан, не мог поставить себя в подчинение французскому генералу (поистине фантазии мемуаристов неограниченны — оказывается, все дело заключалось в заинтересованности англичан в богатствах Туркестана).
16 декабря произошло первое свидание Колчака с Жаненом. Последний описывает его в своем дневнике:
«...Колчак полагал, что его вступление во власть заставило державы отказаться от их проекта относительно Нокса и меня. Радиотелеграмма неприятно вывела его из заблуждения. Он в резкой форме делает нам разнообразные и длинные возражения сентиментального порядка. Смысл его власти в военном действии, и, если бы главнокомандование отделялось от власти диктаторской, последняя утратила бы свою основу. (Общественное) мнение не поняло бы ее и было бы оскорбительно. Армия питает к нему доверие, она утратила бы его, если бы ее передали в руки союзников. Она создана и боролась без них. Как объяснить теперь эти требования, эту подмену? "Мне нужны только сапоги, теплые вещи и припасы. Если нам в них отказывают, пусть оставят нас в покое, мы сумеем снабдить себя сами, взять у врага. Это гражданская война, а не военная; иностранец не был бы способен ею руководить. Чтобы после удачи Правительство стало прочно, надо чтобы во время борьбы командование было русским"» [с. 227]42
На другой день происходило новое свидание.
«Перед этим мы окольным путем узнали, что собирался Совет министров, где высказывалось мнение прямо отказаться от нашей помощи... Постановили, что адм. Колчак в качестве Верховного правителя, естественно, является верховным вождем русских сил, что я являюсь таковым для сил союзников, что адмирал может меня уполномочить заменить его на фронте и быть его помощником»... [с. 228]43.
Ген. Нокс в своей критике дневника Жанена отмечает наивность идеи поручить иностранцу общее командование в Сибири:
«Первоначально была мысль поручить ген. Жанену командование всеми войсками — русскими и союзными — в Сибири. Между тем даже вначале, что вполне естественно, не было ни малейших шансов, что русские, увлеченные войной за освобождение земли своей, согласятся возглавить иностранцем свою армию. Тот факт, что они совершенно отказались участвовать в этих планах, задел самолюбие генерала»... [«М. S1.», 1925, IV, р. 20].
Жанен возражает, что он никогда и не желал подобного командования и что при последовавшем объезде фронта убедился в опасности для престижа Франции непосредственного командования гнилым организмом [там же. С. 21]44. Однако раздраженность чувствуется в каждом слове записи Жанена, и, вероятно, она объясняется не только экспансивными манерами Колчака, которые шокировали «эффектного французского генерала» [Гинс]45. По словам Гинса, по приезде в Омск Жанен был тароват на обещания — через 15 дней Советская Россия будет окружена [I, с. 302]46. От такого увлечения Жанен должен был быстро излечиться. По меткому слову Дюбарбье, в сущности, Жанен был только начальником чехословацких войск, которые не хотели больше сражаться на русском фронте [с. 123]. В этом Жанен, конечно, не был виноват. И, может быть, его нельзя обвинять в том, что он не сумел дисциплинировать подчиненные ему войска — разнородный конгломерат из всех народов. Нокс так формулировал свое заключение по поводу обвинительного акта Жанена: «Много факторов привели к заключительной сибирской трагедии. Может быть, среди них следует указать на тот факт, естественно замолченный в дневнике, что французский генерал был неспособен дисциплинировать, как бы следовало, союзнические части, находившиеся под его командой».
Немногие имеют мужество, отбрасывая самолюбие, признаваться в своем бессилии, и, к сожалению, французский автор сибирского «дневника» все время становится в ненужную позу. В Сибири он склонен был признавать свое полное бессилие в отношении чехов (беседа с ген. Иностранцевым). В мемуарах он подчеркивает, что чехи всегда выполняли его приказания — единственный случай неподчинения приказу было нежелание 6-го чешского полка эвакуироваться из Омска до выезда оттуда самого Жанена [«М. SI.», 1925, IV, р. 23]47. Только наивное впечатление производит его исторический экскурс о Барклае де Толли, роли которого в Отечественной войне он косвенно уподобляет свою роль в Сибири [III, с. 342]. Русские искони отличались, в силу своей ксенофобии, неблагодарностью к иностранцам [там же. С. 349].
Но за что требует к себе благодарности ген. Жанен? За его донесения, дискредитировавшие Верховного правителя? [Дюбарбье. С. 127]. За его позднейшее раскаяние в том, что он не поддался искушению произвести переворот?
«Хотя мое поведение и согласовалось с полученными инструкциями, — пишет Жанен, — я раскаиваюсь, что косвенно поддерживал Правительство, ошибки и преступления которого видел, падение которого предвидел; раскаиваюсь и в том, что устранил мысль о его ликвидации, которая была бы нетрудна. Драгомиров прав: "Солдат должен уметь ослушиваться"»... [24, XII, с. 239].
Дюбарбье пытается все первые успехи приписать Жанену. Но мемуарист безнадежно путает: инициативе Жанена приписывается им реорганизация армии и взятие Уфы [с. 88] — в то время как Жанен сам говорит, что чехи покинули фронт по его предписанию48. Мы знаем, что и здесь нужна поправка: Жанену и Штефанеку пришлось только санкционировать свершившийся факт.
Веселый, жизнерадостный и обходительный французский генерал (вероятно, искренний «друг России»), не обладавший большой волей, — такова характеристика одного заслуженного русского генерала, имевшего в Сибири непосредственные отношения с французским командованием, — по-видимому, не очень склонен был входить в medioeres49. Не очень он разбирался и в сибирской обстановке, о которой судит подчас с излишней категоричностью. Нельзя же серьезно обвинять Колчака в том, что он отверг, будучи в состоянии невменяемости, предложение кооператоров 12 декабря дать 40 тыс. добровольцев и 300 млн руб.: Колчак-де их выгнал [III, с. 355]. Такого фантастического предложения, конечно, вообще не было, да и не могло быть. Очевидно, до Жанена дошли слухи о том обращении Сазонова, в котором он призывал сибиряков идти в добровольцы [«Св. Кр.», № 368].
С Жаненом мы встретимся еще в самый трагический момент в жизни Колчака, и здесь трудно будет отметить какие-нибудь положительные черты деятельности миссии ген. Жанена.
Совсем иной характер носила деятельность ген. Нокса. Он искренне помогал Правительству. В момент неудач и у него подчас опускались руки. Будберг 29 июля записывает по поводу совещания с союзниками:
«Со стороны союзников прибыли Эллиот, Моррис, граф Мартель и Моцусима; генералы Нокс, Греве, Жанен и Такаянаги; мы сидели в очень жалком положении бедных родственников персидской категории, ожидающих решения своей участи. Нокс высказался очень резко, что, собственно говоря, нам не стоит помогать, так как у нас нет никакой организации и большая часть оказываемой нам материальной помощи делается, в конце концов, достоянием красных. Нокс очень обижен, что после разгрома каппелевского корпуса, одетого в новое с иголочки английское обмундирование и снаряжение, перешедшее к красным, тупоумные омские зубоскалы стали называть его интендантом Красной армии и сочинили пасквильную грамоту на его имя от Троцкого с благодарностью за хорошее снабжение.
Сукин очень сдержанно, но с достоинством ответил Ноксу, что, конечно, это дело союзников решать, стоит ли нам помогать, но данное совещание собрано не для этого, а с определенной целью получить от нас определенные сведения, что нам нужно для продолжения борьбы по восстановлению русской государственности, и мы готовы дать эти сведения...
Нас выслушали и заявили, что высокие комиссары рассмотрят наши заявления. Вернулся домой взбешенный: все более и более начинаю верить, что нас нарочно водят за нос и кормят завтраками.
С нами все беседуют и нас изучают, а через 1 '/2 месяца зима, и у нас нет ничего суконного; мы все надеялись на заморских дядюшек, заваливавших нас обещаниями, и теперь близки к тому, чтобы очутиться в самом скверном положении» [ХГѴ, с. 334-335].
Позже Нокс, отвечая в печати на нападки в сторону союзников, подводил итоги размеров помощи, оказанной Великобританией.
«Английские офицеры, — сказал генерал, — помогли и продолжают помогать при обучении более 1500 молодых русских офицеров и такого же количества унтер-офицеров. Далее, наша помощь выражалась в посылке громадного количества военного материала в Сибирь, хотя это количество меньше того, которым Великобритания снабдила Деникина. Мы доставили в Сибирь сотни тысяч винтовок, сотни миллионов патронов, сотни орудий и тысячи пулеметов, несколько сот тысяч комплектов обмундирования и снаряжения и т. д. Каждый патрон, выстреленный русским солдатом в течение этого года в большевиков, сделан в Англии, английскими рабочими, из английского материала, доставленного во Владивосток английскими пароходами. Мы сделали, что могли. Некоторые русские говорят нам откровенно, что эта помощь недостаточна и что мы должны прислать еще большую армию. Кто винит Великобританию в непосылке войск, тот забывает, что Великобритания — свободная демократия и правительство не может отправлять войска в другие страны без согласия народа»50 [Гинс. II, с. 385].
Нокс придавал большое значение формированию молодого офицерства в Сибири; он был прав, так как офицеров в Сибирской армии было мало, и с самого начала иногда прапорщики командовали батальонами [Иностранцев]52. Ноксом была создана на Русском острове во Владивостоке специально русско-английская школа для подготовки молодых офицеров и создания «образцового корпуса»52.
* * *
Между Ноксом и Жаненом уже тогда не было добрых отношений. Это отмечают и мемуаристы (Уорд, Легра), и сводки русской разведки. Как говорит, напр., сводка 19 июня, Жанена раздражало «властное поведение» Нокса. Взаимоотношения союзников были, вообще, довольно натянуты, и это, конечно, отражалось на реальном деле, которое надлежало обслуживать.
На примере американцев в Сибири можно отчетливо увидать ненормальные формы, в которые выливалась «интервенция». После долгих колебаний она была принята в Америке. Тем не менее «общественное мнение» страны продолжало недоумевать, почему «русская интеллигенция ведет борьбу с такой передовой партией, как большевики», — так говорил Вологодскому владивостокский корреспондент американской газеты. Эта неопределенность общественного мнения, может быть, и ведет к тому, что американская акция в Сибири на первых порах приобретает своеобразный характер. Все без исключения источники в этом согласны. Вот запись «опального» Болдырева во Владивостоке 16 декабря:
«Теперь мне до некоторой степени понятен отказ американцев от посылки их войск на фронты: в их ротах до 40 человек в каждой — русские эмигранты, которые и в эмиграции остались русскими и, видимо, довольно благосклонно слушающими проповедь большевизма. Были случаи разных столкновений с офицерами. Кроме того, американские солдаты сильно пьют. При низком курсе русских денег они настоящие крезы, получая чуть ли не по 80 долларов (более 170 руб.) в месяц. И американцы принуждены осмотрительно выбирать свои войска для посылки на запад Сибири!
Их солдаты и матросы, угостившиеся русской водкой, уже поют: «I am а bolshevik, to hell...» (я большевик, к черту...) и т. д. Тяжелое положение может получиться в случае ухода иностранцев, особенно японцев; тогда большевизм неизбежен» [с. 126].
Непосредственный Уорд готов уже прямо сказать, что американцы поддерживают большевиков [с. 155—157]. В Сучане, в Уссурийском крае, где американцы охраняли железнодорожный путь «по соглашению», происходит «братание» американских солдат с противниками. Сучанский округ объявляется даже «нейтральной зоной».
«Американцы продолжают поддерживать большевицкую агитацию в Приморской области и в Забайкалье», — утверждает октябрьский военно-политический обзор ген,-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем [«П. Дн.». С. 103]. Отмечают это сочувствие большевизму и сами большевики. Так, в Хабаровске коммунисты связываются с «передовыми ребятами американского отряда интервенционных войск» [Центросибирцы. С. 83]. О Сучанском округе местные антиколчаковские партизанские деятели рассказывают: «Среди американских солдат были эмигранты из царской России. Нам удалось установить с американцами смычку в том смысле, что мы имели возможность понемногу получать патроны и даже шел сговор о доставке нам винтовок, револьверов, бомб и, наконец, пулеметов53... У партизан кое-где появились американские винтовки и револьверы системы Кольта... Рудничный профком рабочих-шахтеров, с которыми тесно был связан ревштаб, однажды использовал эти дружественные отношения так, что, получив два вагона подарков... передал их в распоряжение ревштаба...» Это «незаконное сожительство» и добрососедские отношения американского командования с ревштабом приводили к «договорам» с партизанами и содействовали их усилению и дезорганизации колчаковского тыла54.
Естественно, что Колчак поднимал вопрос об удалении американских войск еще в апреле 1919 г., а Сукин, сторонник американцев, сообщает Сазонову, что «отозвание американских войск является единственным средством для сохранения дружественных отношений с Соединенными Штатами» [Субботовский. С. 103].
Излишняя нейтральность и лояльность американских отрядов к большевизму привели к хорошему уроку, данному им большевиками в Приморской области. Партизанские отряды, руководимые энергичным коммунистом Лазо, решили поскорее спеть «Лебединую песнь» дружественных отношений с интервентами, так как продолжающаяся чрезмерно долго передышка притупляла «остроту революционных устремлений». Они захотели «дать битву» интервентам, спокойно жившим в «нейтральной зоне». В первое же неожиданное столкновение 24 июня выбыло из строя 50 американских солдат (убитых)55. «Тогда, — говорит обзор штаба, — американцы совместно с русским отрядом стали очищать от коммунистов Приморскую область». С другой стороны, боязнь расширения связи Японии с дальневосточными атаманами побуждает Соединенные Штаты занять более определенную позицию в отношении Омского правительства. С прибытием в июле посла Морриса начинаются переговоры с Америкой о признании финансовой и железнодорожной помощи в случае ухода чехов [Субботовский. С. 121]. Но отношения все-таки не налаживались, как видно хотя бы из сентябрьской записи Пепеляева: «Поведение Америки возмутительно. Она предъявила нам требование убрать Семенова, Калмыкова. Ген. Гревс (командовал американскими отрядами на Д. В.) задержал направленное нам оружие, за которое заплачено золотом»56.
* * *
Чехи, французы, итальянцы, румыны находились под общим командованием ген. Жанена. Все славяне с приездом женевской миссии стали организовывать свои «национальные части». Жанен считал подчиненными себе и латышей и эстонцев57. Эти «национальные части» не очень склонны были сражаться за Россию. «Поляков мало трогает, — свидетельствует Кенэ, автор мемуаров в «Monde Slave» под заголовком «L'ariere Siberien» (1926), — аргумент, что, сражаясь против большевиков, они сражаются против общего врага. В польскую армию они идут для того, чтобы избежать русской мобилизации» [XI, с. 332]58. Получался нонсенс. Командующий союзными войсками не считал себя вправе двигать на фронт национальные войска без разрешения национальных правительств; а что могло сказать польское правительство, которое, по характеристике Масарика было решительным противником интервенции ввиду того, что усиление России могло только воспрепятствовать компенсационной политике Варшавы, стремившейся захватить Литву, Белоруссию и часть Украины [II, с. 53]59.
Русская общественность с теплым чувством должна вспомнить попытку соорганизоваться в Сибири для помощи России со стороны югославян. С этой целью 9 декабря был созван в Томске специальный съезд, на который не явились только представители югославянского полка, состоявшего в частях чехословацкой армии [«Пр. Вест.», № 32]60.
На съезде была произнесена речь о «великой, сильной России, которая поддержит всеславянскую федерацию, начало которой положило объединение Югославии» [«Отеч. Вед.», № 35]. Но значительны были не эти слова. Значительна была декларация и протест против недопущения на мирную конференцию представителей России, «нашей старшей сестры и исконной защитницы славянства». «Великая, ничем не заслуженная обида, — гласила декларация, — нанесена России и в ее лице всему славянству». Декларация говорила о «подвижнической борьбе лучшей части русского народа» [«Н. Заря», № 39].
Предложили свои услуги и карпатороссы. В сентябре их отправили на фронт, и здесь они были захвачены в плен61.
* * *
Все войска, находившиеся под командой ген. Жанена, никакого реального боевого значения в деле борьбы с большевиками в период «диктатуры» адмирала Колчака не имели. «Когда русские офицеры, — пишет в своих воспоминаниях Уорд, — прочли в январских английских газетах о том, как чехи, итальянцы, французы и союзные войска нанесли поражение большевикам при взятии Перми, это вызвало на их лице только саркастическую улыбку. Ни один ни чешский, ни итальянский, ни французский, ни вообще какой-нибудь союзный солдат не дал ни одного выстрела62 после того, как адм. Колчак принял на себя высшее командование. Необходимо отметить только одно исключение. Броневые поезда с корабля «Суффольк» под командой кап. В. Муррея «продолжали сражаться на Уфимском фронте до января 1919 г.» [с. 130]. Между тем, когда вы читаете иностранных мемуаристов, в большинстве случаев они поражают вас своей претенциозностью. И легко себе представить, что эта претенциозность в жизни должна была раздражающим образом действовать на непосредственных ее наблюдателей. Подчас мемуары становятся каким-то обвинительным актом некультурной и развращенной страны. К большей культуре предъявляются и большие требования. Между тем нетрудно было бы составить контробвинение — чего стоит, напр., одно закрытие владивостокского «Голоса Приамурья» за статью «Янки», которая не понравилась демократическим американцам, и арест редактора начальником международной милиции [«Сиб. Речь», № 203; телеграмма Сукина Сазонову у Субботовского. С. 125].
И росла не ксенофобия, о которой говорят Жанен, Рукероль и другие мемуаристы, а обостренное национальное чувство и действительное разочарование в помощи союзников. Общественные круги в Сибири остро ощущали заинтересованность союзников в «интервенции» [Дюбарбье. С. 124]. Помощь и с материальной стороны не была так уже жертвенна. Может быть, потому, что здесь правительствам постоянно приходилось считаться с «парламентскими выпадами» (письмо Маклакова 25 июля). При недостаточной помощи раздражали и претензии, которые казались необоснованными, напр. выработанный Соед. Шт. и Японией проект международного контроля над железной дорогой — «единственной линией сообщения с посланными в Сибирь войсками». Допускавший целесообразность такого контроля кн. Кудашев писал из Пекина 14 февраля (1919): «Всякое оправдание такого контроля отпадает, если интервенция прекратится или останется в настоящем неопределенном виде» [«Кр. Арх.». XXXVIII, с. 93].
За обострение национального чувства в период трагедии, которую переживала Россия, судить нельзя63. Насколько было обострено это чувство в первые уже месяцы «интервенции», видно из рассказа Болдырева о том шумном успехе, который вызвала его речь на банкете в Челябинске 5 октября, когда он высказал то, что «хотелось сказать многим» в ответ на «заносчивость» в речах союзных представителей.
«Я сказал им, — говорит Болдырев, — ...пока все гости и хозяева, восхищенные парадом, шли сюда, я, по старой командирской привычке, поехал посмотреть солдата в его будничной, казарменной обстановке. И мне стало стыдно и больно за русского солдата: он дома бос, оборван, живет в убогой обстановке, стеснен... Больно особенно потому, что, несмотря на все, в лице солдата я увидел то же выражение готовности к жертве, с которым он шел в Восточную Пруссию спасать от смертельного нажима Францию, с которым взбирался на обледенелые Карпаты, чтобы братски выручить Италию; увидел то же выражение, с которым он, почти безоружный, лез на проволоку, чтобы обеспечить временную передышку дерущимся на западе союзникам. Русский солдат стоит иного внимания, чем то, которое звучало в речах говоривших здесь ораторов. Не милости просит он, а требует того широкого, безоговорочного содействия, на которое дают ему право пролитая им кровь и все затраченные им для общесоюзного дела усилия»... [с. 65].
Болезненное чувство всегда отзывчиво на слова. В том же Челябинске бурную овацию делают Пишону, вспомнившему роль России в начале мировой войны [Болдырев. С. 117].
4. План кампании
«Незадачливые диктаторы держатся лишь силою иностранных штыков», — говорил Керенский в лондонском докладе Комитету английской рабочей партии 2 января 1920 г.64 Власть адмирала Колчака держалась только русскими силами. Исключительно русские войска были на антибольшевицком фронте. Успех, которым отмечены первые месяцы, показывает, что омский переворот сам по себе не отразился на фронте. 23 декабря войсками ген. Пепеляева была взята Пермь при крайне тяжелых условиях продвижения по глубокому снегу, при больших морозах. «Суворовский поход», — сказал Андогский. Двигаясь вперед, 1-я армия к апрелю очищает от большевиков правый берег Камы. 2-я армия 14 марта возвращает Уфу и быстро продвигается на Волгу. В феврале Верховный правитель предпринимает большую поездку по фронту и посещает передовые позиции от Троицка до Перми.
Это были для него дни триумфа. «Повсюду, где проезжал Верховный правитель, — рассказывает Гинс, — ему подносили хлеб-соль и адреса, засыпанные подписями. Подносили рабочие, крестьяне, купцы, духовенство. Все выражали восторг по поводу избавления от страшного ига и в самых искренних и теплых выражениях благодарили за спасение» [с. 125]. Доброжелательное отношение встречал Колчак у пермских и златоустинских рабочих. («Они не изменили Правительству до конца», — замечает Гинс.) В установлении этого факта нет преувеличений со стороны официальных и официозных хвалителей власти. Так, секретная сводка контрразведки главного штаба за март, отмечая враждебное или настороженное отношение рабочих в ряде мест в Сибири, особо указывает, что в Златоусте «рабочие в большинстве стоят на стороне Учр. Собр. и настроены в духе правых эсеров, но к существующей власти относятся довольно доброжелательно, особенно после посещения Златоуста Верховным правителем» [«Пар. Дн.». С. 165]65. Позже, 26 мая, 46 уполномоченных общества потребителей рабочих и служащих Пермской ж. д. самостоятельно выражали «чувство глубокой благодарности освободителям» [« С. Р.», № 110].
Наступление армии производило впечатление не только в Сибири. Оно отразилось во всей России. Большие надежды возбудило оно на Юге. Для единства действия и увеличения авторитета российской власти А. И. Деникин 30 мая подчинил себя Верховному правителю, причем с своей стороны адмирал назначил его своим преемником66. В Москве считали дело коммунистов тоже проигранным67.
... В июне начались неудачи. В чем причины? Незнакомство «с существом сухопутной войны» адмирала, окружавшего себя или бездарными полководцами или молодыми неопытными людьми? Непродуманность плана наступления безграмотных и честолюбивых «вундеркиндов» Ставки, неудержимо двигавших армии от Урала к Волге и допустивших «хищническое расходование бедных средств снабжения?» Обнаружившаяся к лету 1919 г. реакционная сущность Правительства и в связи с этим развал тыла? Эти суждения Будберга охотно принимает Милюков в своих оценках на страницах истории гражданской войны.
Контрразведка сибирская дает иное освещение, которое покажется необычайно убедительным некоторым большевицким историкам68. Будберг записывает 2 июля:
«Секретные донесения с фронта сообщают нечто, что с первого взгляда может показаться совершенно невероятным, а именно что одной из причин переворота военного счастья в пользу красных была девальвация керенок, так как одним из импульсов наступления была возможность добывать при успехах керенки пудами по весу и сотнями тысяч по ценности; с их девальвацией исчезла возможность получить реальное дополнение к невесомому успеху, а вместе с тем исчез и наступательный порыв.
Мне думается, что это басня, рожденная острым неудовольствием против этой идиотской реформы, кем-то выдуманная и быстро подхваченная, всюду расползшаяся и сделавшаяся как бы несомненной; все, что выдумывается в пику и в ущемление сидящего сзади тыла этого стозевного, лающего и доставляющего столько неприятностей чудовища, воспринимается и усвояется очень быстро и охотно» [XIV, с. 307].
Нельзя все-таки чрезмерно опошлять русский народ. Борьба на фронте в большинстве случаев шла не за страх, а за совесть. В этом отношении характерны солдатские письма. «Иногда слышим, — пишет «стрелок» из Челябинска в июле, — что война идет за власть, за погоны офицеров, за деньги буржуазии... За погоны и за деньги голову подставлять едва ли кто согласится». «Подумайте сами, за что... воюют рабочие златоустинские, ижевские, рабочие пермские»... Фронт заражает своим настроением. На нем исчезает мрачное настроение, которое проскальзывает в письмах солдат, пришедших из тыла. Тот «душок», который отмечал нам пепеляевский офицер в «Пришимье» (Курган) у сибиряков, на собственном опыте не познавших большевиков, исчезает после бесед с крестьянами фронтовых деревень. Поэтому так крепки зауральцы. Они отстаивают свой край. «Освобождение страны», — справедливо замечает ген. Сахаров [с. 74], — для них прежде всего освобождение собственных очагов, своих близких, своей земли». Лозунг, понятный для масс. Поэтому так легко обрастает пепеляевская армия добровольческими партизанскими крестьянскими отрядами — кап. Кириллов насчитывает их под Пермью до 40 тыс. человек [«Вольн. Сиб.». ГѴ, с. 64]. При добровольческой мобилизации в Красноуфимском и Златоустинском уездах в июне чуть ли не все мужчины, способные носить оружие, идут в ополчение [«Отеч. Вед.», № 137]. Здесь жертвенность неразрывно связана с эгоизмом69.
Начальник большевицкой «железной дивизии» Гай должен признать, что «почти все мужское население» в районе Уральска и Оренбурга (казаки и инородцы) мобилизовалось или уходило при приближении красных [Первый удар по Колчаку. С. 26].
«Басня» контрразведки о роли «керенок» должна быть отвергнута. К таким объяснениям и не прибегают более серьезные советские военные историки, к числу которых, несомненно, относится Какурин. Он видит главную причину поворота военного счастья не в людях, а в том общем плане военных действий, который был принят: «Мы считаем, что на всех операциях колчаковских армий роковым образом тяготела ошибка их первоначального развертывания, когда второстепенное пермское операционное направление было посчитано за главное» [II, с. 238]. «Поперли на Пермь и погубили всю операцию», — записывает еще в Харбине 15 февраля Будберг [XIII, с. 286].
Кто повинен в такой стратегической «ошибке»? Милюков, без критики отнесшийся к воспоминаниям Гайды, легко и безоговорочно нашел единственного виновника — это Ставка Колчака и начальник штаба Лебедев. По воспоминаниям Гайды, Милюков рассказывает о совещании в Челябинске в январе 1919 г. «командиров армий с генералами Ставки в присутствии Колчака с его начальником штаба ген. Лебедевым для обсуждения общего плана военных операций»70 [с. 128—129]. «План Ставки» заключался в наступлении на севере по линии Пермь—Вятка—Вологда71.
«Я был, — говорит Гайда, — решительно против этого, указывая на то, что поход к Вологде растянет нас по длинной северной линии и подвергнет опасности наш тыл, так как большевики, сконцентрировав свои силы в любом месте, смогут отрезать всю мою армию от пути на Урал и Сибирь. Я пытался, вместе с ген. Дутовым, провести план наступления левым крылом фронта, т. е. Южной армией, чтобы соединиться с армией Деникина, который тогда был от нас в небольшом расстоянии, около 90 километров (?)72. Таким образом было бы достигнуто объединение фронтов. Ген. Лебедев горячо выступал против моего предложения. Он говорил, что если мы соединимся с ген. Деникиным, то возникнут споры о первенстве, которые поведут к гибельным последствиям. (Тогда ген. Деникин еще не заявил о своем подчинении Колчаку.) Поэтому мы должны идти на Москву. Того же мнения были и все другие, кроме меня и Дутова. Адм. Колчак вмешался только в конце спора: кто первым придет на Москву, тот будет господином положения. Это были его подлинные слова. Меня поразили эти рассуждения — а еще более то, что Колчак мог пойти на честолюбивые планы своего начальника... штаба. Это было новое проявление его слабости. Я начал бояться вредного влияния ген. Лебедева. Но все же должен был подчиниться решению большинства и приложить все силы, чтобы приготовить свою армию к его выполнению».
«Сообщение Гайды подтверждается свидетельством Будберга», — добавляет Милюков. Обратимся к подлиннику, который Милюков цитирует неточно. 11 мая Будберг записывает:
«Касаткин дал мне доклад Ставки, составленный согласно решению совещания высших чинов Ставки, на котором все высказались за преимущество северного направления. Оказалось, что в Ставке (как говорят, со слов Лебедева) не верят в силу и устойчивость армии Деникина и считают ее ненадежной; я лично никогда не поверю, чтобы южные формирования были хуже наших сибирских.
Затем в докладе указывается, что население южных губерний по нижнему течению Волги тоже малонадежно, так как там много рабочих и бродячей вольницы; жел. дороги Юга считаются также очень потрепанными и лишенными подвижного состава, что делает невозможным базирование на них при общем наступлении к Москве. Казанско-Вятский фронт ставочными стратегами оценивается по той же схеме несравненно более благоприятным; считают, что население здесь крестьянское, более спокойное и, как уверяют, чуть ли не монархическое. Оценка Ставки однобока и могла убедить только очень малограмотных людей...
Маленькие люди в Ставке говорят, что северное направление избрано под влиянием настойчивых советов ген. Нокса, мечтавшего о возможно скорой подаче английской помощи и снабжении через Котлас, где существовало прямое водное сообщение с Архангельском...
Мне ясно, что проект Нокса о северном наступлении не был проанализирован; за него схватилась Ставка, так как это давало наиболее близкий путь к заветным стенам Кремля; его поддержала Сибирская армия и ее импульсивные и честолюбивые начальники, ибо это давало им блистательные перспективы к отличиям и славе... Злые же языки Ставки шепотом, чтобы не услышала контрразведка, шипят, что главным козырем северного направления была возможность избежать соединения с Деникиным, ибо младенцы, засевшие на все верхи, очень боятся, что тогда они все полетят и будут заменены старыми опытными специалистами» [XIV, с. 240—242].
Отбросим сплетни, которым Будберг не верит. Что же он подтверждает? Прежде всего то, что именно Гайда поддерживал северное направление — ведь он был начальником Северной армии. Доклад Ставки, который видел Будберг, лишь формулирует решение совещания высших чинов Ставки (возможно, в Челябинске). Милюков знает рассказ Гинса о беседе его с Гайдой, в которой последний объяснил свой военный план: «Спустя десять дней он возьмет Вятку и разобьет Северную армию противника. С полной уверенностью в успехе он показал мне на карте, как он загонит красных в болота. Потом он стал жаловаться на неясность общего плана кампании. Ставка тянет на юг, на соединение с Деникиным, а он, Гайда, считает, что Москву надо брать с севера. Соединение с Архангельском сразу улучшит снабжение армии, англичане гарантируют большой подвоз всего необходимого» [II, с. 195]. По мнению Милюкова, показания Гайды и Будберга заслуживают предпочтения, как мнение сторон в начале операции. Обратим внимание, что Гайда рассказывает о совещании в январе; беседа Гинса была в апреле; запись Будберга относится к маю (в январе Будберг был еще в Харбине и, следовательно, никак стороной быть не мог)... Милюков допустил еще смелое обобщение, утверждая, что «русские источники» подтверждают правильность точки зрения (изложенной в мемуарах) Гайды. В действительности русские источники все без исключения противоречат изложению Гайды. Иначе не могло и быть, ибо, вопреки тексту воспоминаний,
Гайда был самым горячим и настойчивым проводником северного плана.
План этот не был изменен ни Ставкой в январе, ни самим Гайдой. Он был принят к осуществлению еще Болдыревым. В общем введении к своему дневнику Болдырев, отмечая разрыв между фронтами Юга и Поволжья и «сепаратизм» добровольцев («страх опоздать с торжественным въездом в покоренную Москву») и противопоставляя этому горячее стремление Архангельска связаться с Директорией, возможность подойти к «богатым источникам боевого снабжения», говорит: «Эти обстоятельства в связи с большей возможностью усиления екатеринбургской группы сибиряками и подходящими с ген. Гайдой чехами... все это указывало на целесообразность пожертвовать более выгодным южным направлением в пользу северного» [с. 61]. 15 октября Болдырев записывает: «Послал телеграмму главнокомандующему союзными силами в Архангельск — англ. ген. Пулю, где сообщалось о принятом мною решении: искать связь с архангельской группой через Вятку, овладев предварительно районом Перми». На решение Болдырева, очевидно, повлияла и речь Эллиота (в Екатеринбурге, 3 октября), категорически заявившего, что войска в пути, скоро будут на фронте и что помощь «снаряжением» идет тоже от Котласа.
20 ноября в Екатеринбурге происходит военный совет. Гайда, Пепеляев, Голицын, Вержбицкий вырабатывают план наступления, которое и начинается 30 ноября при пассивном еще участии некоторых чехословацких частей. Успех наступления и взятие Перми окрылили надеждами. Все общественное внимание направляется на север. «Заря» пишет 4 января по поводу сдачи Уфы: «Ее можно было бы сохранить, но пришлось бы отказаться от операций на Пермь, отказаться от собственной инициативы и отдать ее противнику... Пермь приближает нас к заветной цели соединения с русско-союзной армией на севере [№ 3].
* * *
Мы могли бы, в сущности, оставить без рассмотрения омские «сплетни» о мотивах, которые якобы заставили Колчака продолжать осуществление плана, избранного Болдыревым. Низкие, честолюбивые, эгоистические мотивы, по-видимому, были чужды этому благородному энтузиасту. С напряженным вниманием следила Сибирь за продвижением Деникина, открывающим «дорогу на Москву» (из дневника Пепеляева).
Слишком честным и открытым характером обладал и «соперник» Колчака для того, чтобы его заподозрить в тех личных соображениях, которые склонен был приписать ему ген. Врангель: «Ухо Деникина улавливало уже трезвон московских колоколов, поэтому он не стал развивать операции вдоль Волги, которые должны были привести к соединению с Колчаком»73. Ошибочен, может быть, был и здесь путь на запад. Иллюзией оказался значительный десант союзников, который ожидался в Одессе. Путь на запад втянул Добровольческую армию в сложный украинский вопрос, что вызывало большое беспокойство Колчака. Но я не рассматриваю сейчас стратегию ген. Деникина, которая определялась сложными взаимоотношениями бытовых, политических и военных... факторов. Можно сказать только одно, что стратегия эта не была вызвана какой-то проблематической конкуренцией с адм. Колчаком, которому так просто, без аффектации подчинился 30 мая Деникин. В переписке с Деникиным Колчак с самого начала поставил вопрос открыто:
«Необходимо полное согласование наших действий и соблюдение принципа Единства Верховной власти и неотделимого от нее Верховного Командования. Я считаю долгом сказать Вам откровенно мнение, что проведение этого принципа есть вопрос будущности нашей Родины. Решение этого вопроса зависит теперь от нас, но необходима связь с Вами и возможность практического установления Единства Власти. Я считаю, что этот вопрос должен быть решен в зависимости от политического значения Сибирской Правительственной Власти и той, которую Вы возглавляете, принимая в основание стратегическое положение армий, подчиненных мне и Вам, территорию и общее политическое ее состояние. Как только установится прочная связь между армиями моей и Вашей, необходима наша личная встреча для решения вопроса о Единой Власти и Командовании и о соединении правительственных органов в одно целое и, во всяком случае, о согласовании их деятельности. Я не сомневаюсь в том, что Вы вместе со мной решите эти вопросы независимо от личностей, руководствуясь одним благом Родины нашей и государственными соображениями о Ее выгодах и интересах» [V, с. 87].
На письмо это, полученное на Юге в апреле, Деникин ответил: «Даст Бог, встретимся в Саратове и решим вопрос о благе Родины». В апреле же Деникин через курьера получил письмо от Лебедева, помеченное 23 января. Лебедев писал: «Адм. Колчак исповедует те же идеи, что и в Добровольческой армии. Мы считаем, что в России есть в настоящее время два центра: Вы и адм. Колчак. Эти два центра при соединении и дадут общую для России единую власть. И я докладываю, что трений никаких не будет» [II, с. 90].
На этом можно остановиться. Версия, данная Гайдой в воспоминаниях, достойна тех обличительных памфлетов, которые распространял высланный из Омска за интриги Завойко [Деникин. V, с. 11 б]74.
Северное направление, как центральное, было сохранено Ставкой, очевидно, вне каких-либо политиканствующих соображений. В записке одного из министров Омского правительства, цитируемой Деникиным75, выставляются следующие соображения, которые заставили командование склониться к северному пути:
«1. Замечалось большее сочувствие национальному делу со стороны населения сев. губерний — Пермской, Казанской, Ярославской, нежели южных — Уфимской и Саратовской. 2. Были соображения о возможности быстро установить новый путь подвоза снабжения из-за границы: по речной системе через Котлас и Двину.
3. В этом же смысле высказывались иностранные военные авторитеты, в частности англичане... Нокс, имея, вероятно, инструкции из Лондона, настойчиво указывал на непосредственные и легче достижимые выгоды соединения с Архангельском и в то же время обнаруживал скептицизм в отношении возможности осуществить в короткий срок соединение с Деникиным. В английской политике в этот момент уже сквозило желание подготовить эвакуацию английских войск из Архангельска, для чего выход сибирских армий на север был весьма желателен.
4. Наконец — честолюбие Гайды» [V, с. 91].
При многих, допустим, положительных сторонах этого пути пространственность театра военных действий и климатические условия становились большим минусом. Полная пассивность «интервенции» из Архангельска придает черты реальности остроте Уорда. Рассказывая о посещении Кунгурского фронта в начале ноября, он пишет: «Мы обсуждали возможность наступления в направлении на Пермь... мы могли бы освободить войска ген. Пуля, которые забрались на свои зимние квартиры где-то около Архангельска» [с. 74]. Гайда не только не противился, но настойчиво поддерживал перед Ноксом правильность избранного пути. Он был окружен ореолом героя, которого сопровождала удача, — героя, которого склонны были поддерживать всесильные в смысле снабжения русской армии «интервенты».
У Гайды был прекрасный начальник штаба ген. Богословский (общий отзыв). Под обаянием личности Гайды в первое время находился и Колчак. Сахаров уверяет, что в одно из свиданий адмирал будто бы даже сказал: «Я верю в Гайду и в то, что он многое может сделать. Если меня не будет... то пусть Гайда заменит меня» [с. 80]. Нокс, прямо захлебываясь, доказывал необходимость принятого плана: «Гайда так уверен, он прямо по дням рассчитал всю операцию... В первой половине июня Гайда будет в Москве» [там же. С. 91].
Советский историк до некоторой степени имел право сказать о несамостоятельности Ставки в оперативных решениях [Какурин. II, с. 397] — союзники неизбежно оказывали сильное давление на сибирское командование. У Деникина приведен в высшей степени показательный отзыв английской военной миссии в донесении в Лондон 20—30 июня: «К величайшему несчастью, Гайда принужден был подать в отставку... миссия боится, что эта смена отвлечет внимание русской главной квартиры от севера на юг»... [Деникин. V, с. 91].
5. Соперники
Для истории Восточного фронта гражданской войны еще не проделана та работа, которую так блестяще выполнил для своего фронта ген. Деникин. Касаясь Юга, историк может опираться на проверенные материалы и делать выводы, не боясь на каждом шагу впасть в ту или другую ошибку. В военно-технических вопросах приходится быть сугубо осторожным. Для иллюстрации я вновь возьму текст Милюкова (Гинс избегает касаться стратегической стороны).
Милюков так изображает события на Восточном фронте. Необдуманное наступление Западной армии привело к прорыву, после которого «Западная армия в панике покатилась назад» (май76). «Напрасно Сибирская армия пыталась отвлечь часть Красной армии на себя, начав наступление на север в направлении Глазова... Западная армия в своем беспорядочном отступлении обнажила левое крыло Сибирской армии. А из Ставки шли приказы ген. Лебедева — наступать, совершенно не считавшиеся с положением на месте» [с. 130]. Если вы заглянете в дневник старого генерала Будберга, то увидите, что он в данном случае обвиняет Ставку в противоположном, в том, что она не вмешивается и не одергивает Сибирскую армию [XIV, с. 232]. Я мог пользоваться только печатными материалами для усвоения военной стороны вопроса, и мне кажется, что вывод из них совпадает с заключением Деникина:
«Все усилия Ставки свернуть главные силы ее (Сибирской армии) на юг — вначале для развития успеха Зап. ар., а потом для выручки ее — не увенчались успехом, встречая противодействие и прямое неповиновение со стороны Гайды» [V, с. 93].
Когда Уфа была оставлена, Гайда перешел в наступление в направлении Вятки и взял Глазов77. «Впечатление получилось сильное, — пишет Сахаров, — так как казалось, что все слова и предсказания Гайды оправдываются; в Омске загорелись надежды на новый успех в новом направлении. Словно действительно это было сделано только для того, чтобы произвести эффект. Еще 8 мая, будучи с Колчаком в Екатеринбурге, Будберг при оперативном докладе в штабе армии был «ошеломлен и подавлен тем, что в тоне докладывавших (...ген. Богословский и сам Гайда) сквозило несдерживаемое удовольствие по поводу неудач в Западной армии и усердно подчеркивались свои, довольно проблематичные при общем положении фронта, успехи... За оперативной сводкой последовал совершенно абсурдный доклад о развитии наступления безостановочным движением на Москву, куда ген. Пепеляев обещается и обязуется вступить не позже чем через полтора месяца... Пришлось убедиться, что руководство операциями целых армий находится в руках младенцев, очень дерзких и решительных, но смотрящих на дело со ступеньки ротного командира и думающих только о своем приходе и о своих фантазиях. Им совершенно все равно, что фронт Зап. армии трещит; они забывают даже свою собственную невысокую оценку боевых качеств этой армии, расстроенной, разбитой, истомленной длительным зимним походом и неспособной остановить наступление красных; им и в голову не приходит, что при таком стратегическом положении невозможно и мечтать о продолжении фантастического полета через Вятку в Москву» [XIV, с. 235].
Ген. Сахаров утверждает, что он в качестве генерала для поручений при Верховном правителе и Лебедев прилагали все силы, чтобы доказать необходимость наступления на Поволжье и соединения с Добровольческой армией: «иначе вставала угроза, что Зап. армия не выдержит»78. «Сибирская армия, — пишет в своих воспоминаниях Сахаров, — была очень сильна числом, имела к тому же лучшее снабжение, была и одета и обута и понесла мало потерь за весеннее наступление»... Надо было отказаться от наступления на Вятку и «всеми силами вести наступление на Волгу... Все эти соображения докладывались в те дни Верховному правителю и Ставке; они соглашались, но сделать ничего не могли. Ген. Гайда и его штаб не хотели и слушать о перемене операционных направлений. Поддержку в этом они находили у некоторых влиятельных представителей иностранной интервенции, которым казалось важнее всего бить на север к Архангельску. Так и не было достигнуто взаимодействие двух армий, даже и тогда, когда на Волжском фронте, в Зап. армии, начались неудачи» [с. 76—77].
В действительности произошло так, как пишет Сахаров: «Большевики, навалившись всей силой на Зап. армию, сокрушив ее наступление на Волгу и оттеснив за реку Белую, начали... переброску своих сил отчасти на Южный фронт ген. Деникина, а частью на север против Сибирской армии. Почти одновременно с занятием Глазова начались неуспехи на казанском направлении. Повторились те же события, что и в армии, но гораздо в большем размере» [с. 107].
* * *
Северный фронт — это Гайда. Это как бы основной стержень борьбы. Сам Гайда — человек самонадеянный, избалованный успехом и головокружительной карьерой, которая привела его от звания фармацевта к чину генерал-лейтенанта русской службы; человек весьма решительный и не останавливающийся перед средствами для достижения поставленной цели... Красочная фигура, рожденная революцией и гражданской войной! С отходом чехов, Гайда не склонен отказаться от честолюбивых замыслов — он переходит на русскую службу, сохраняя, однако, иммунитет, который давало в Сибири звание иностранца.
Очевидно, у Гайды было то природное понимание военного дела, которое отмечают ген. Иностранцев и Жанен. Энергия, ясность ума, открытый характер, по мнению Жанена, отличали Гайду [«М. S1.», 1925, III, р. 340]. Были люди, которые склонны были считать Гайду почти «гениальным полководцем». Мне кажется, что вернее всего определил Гайду Будберг, назвав его представителем «своеобразной фронтовой атаманщины», — с безрассудностью, смелостью, заносчивостью, самолюбованием и авантюризмом, с бытовым демократизмом, любовью к внешним эффектам, с самовластием, которое трудно ввести в правовые нормы.
«Брат-генерал» окружил себя большой помпой. Свой конвой Гайда одел в фантастическую форму (коричневый кафтан, расшитый галунами), приближающуюся к форме прежнего императорского конвоя79. Особый ударный «бессмертный» батальон имени Гайды имеет на погонах вензеля Гайды и отличительные нашивки. «Военный» гайдовский герб демократичен — три поверженных орла. Бесподобную сцену рисует Будберг при посещении Колчаком штаба Гайды 8 мая: «Ехали на автомобиле, а за нами довольно расхлёстанно неслись и на скверной мостовой портили лошадей гайдовские конвойцы. Адмиралу это претило, и он два раза останавливал автомобиль и приказывал Гайде отправить конвой домой, но Гайда очень развязно и с видом хозяина заявил, что это у него так принято, и безумная скачка продолжалась. Только на третий раз, когда адмирал остановил автомобиль и, поблагодарив конвой, приказал прямо начальнику конвоя ехать домой, его приказание было исполнено, но сопровождалось усмешками и пожиманиями плеч чешских адъютантов Гайды» [XIV, с. 235].
У Гайды все поставлено на широкую ногу. Имеется специальная чешская фотографическая мастерская, великолепно обставленная. Целый вагон собственных портретов возит с собой сибирский герой — на одном из них он изображен в натуральную величину на вороном коне и в полной генеральской форме [Сиб. авант. С. 33].
Все это поразительно напоминает обиход ат. Семенова. Было у Гайды от «атаманщины» и в манере себя держать. Гайда, по отзыву Колосова, жестокий человек, не знавший жалости там, где царит закон войны. Жестокость — это одно; самодурство — другое.
У Гайды все черты атаманского самодурства. Припомним то, что было рассказано Кролем. А вот свидетельство Иностранцева: Гайда отдает приказ расстрелять инженера за неготовый мост [«Белое Дело». I, с. 102]. Близкий в Сибири, в последний момент, к Гайде подп. Солодовников утверждает, что во Владивостоке получил приказ от своего уже «революционного» шефа организовать «порку» редактора «Голоса Приамурья» [Сиб. авант. С. 44]. Эти черты приходится отметить, потому что сам Гайда и его поклонники усиленно подчеркивают приказ командующего Северной армией (6 мая) против самочинных расправ, желая этим как бы выделить Гайду из среды других военных начальников80.
Подобно другим атаманам, Гайда не считается ни с лицами, ни с распоряжениями, ни с существующими законами. И не только в области «самоснабжения»...
Характерно, что подобные замашки Гайда проявлял с самого начала, еще тогда, когда он не был возведен на пьедестал сибирского героя, не получил золотого оружия за освобождение Сибири. Например, 25 июля (1918) в звании командующего Восточным фронтом в Иркутске он издает приказ о введении военного и осадного положения ввиду того, что среди красноярских железнодорожных рабочих ведется агитация в пользу забастовки. Гайда предписывал начальникам чехословацких эшелонов учредить военно-полевой суд в составе трех членов по назначению от чехословаков и одного по назначению начальников местных гарнизонов, причем «неприбытие последнего не должно служить препятствием к тому, чтобы суд состоялся». Приказ вызвал запрос военного министра Гришина-Алмазова: «Немедленно сообщите, на каком основании вы отменяете законы Вр. Сиб. пр., вмешиваясь во внутреннюю жизнь страны?»81 [«Хр.». Прил. 92].
Еще нечто более показательное имело место в октябре. В красноярской тюрьме находились видные большевики, числившиеся за прокурором окружного суда. 24 октября командир первой маршевой роты 8-го чехословацкого стрелкового силезского полка подп. Борецкий, по приказу ген. Гайды, потребовал арестованных для препровождения в чрезвычайный военно-полевой суд при чешском эшелоне. Начальник тюрьмы отказал в выдаче арестованных. Тогда последних берут силой. Начальник тюрьмы звонит по телефону прокурору. Последний направляет к начальнику гарнизона. Тот, в свою очередь, отвечает, что не может воспрепятствовать выдаче. Судит арестованных чехословацкий военный суд. Обвиняют подсудимых за покушение «на безопасность и имущество чехосл. войска» в майский период продвижения чехов, т. е. при разоружении чехов в Красноярске. Все подсудимые приговариваются к немедленному расстрелу, что и приводится в исполнение [документы в сб. «Центросибирцы». С. 96-102].
«Атаманщина» во всех видах была широко распространена в Сибири до Колчака. В ней повинны многие. Можно ли было ожидать от Гайды проявления какой-то особой дисциплины? Первый «ультиматум» Гайды во время Директории сам по себе дает ответ. В критический момент жизни Северной и Западной армий нрав генерала проявился во всем объеме (в данном случае были и инспираторы со стороны). Своим поведением Гайда доставлял много тяжелых часов Верховному правителю и ставил его в почти безвыходное положение. Много раз, вероятно, Колчаку приходилось сожалеть, что он не последовал совету Штефанека. Последний хотел отправить Гайду в Прагу, считая его опасным авантюристом. Колчак просил Гайду оставить. Как передавал мне Сукин, Штефанек будто бы сказал: «Гайда вас погубит — или будет фельдмаршалом, или придется изгнать его с позором».
* * *
Надо сказать и о других лицах, участниках шумного июньского инцидента, потребовавшего специального рассмотрения особой, назначенной Колчаком комиссией. На первом месте, конечно, должен быть поставлен известный нам ген. Лебедев, начальник штаба Ставки Верховного. В период военных неудач на него обрушилась вся критика. Его обвиняли в легкомысленном ведении операции, его считали главным виновником расстройства тыла армии. Его отставки требовало общественное мнение, на ней настаивали представители иностранных миссий. Отставку Лебедева «Св. Край» считал «великим счастьем» [№ 348].
Еще трудно разобраться в окружающей обстановке — в клубке интриг и взаимных обвинений. Адмирал, несомненно, доверял Лебедеву («верил до конца, чуть ли не больше всех» — по выражению Сахарова). Он видел в нем отчасти как бы представителя Добрармии. Это и было, по словам Колчака, одним из основных мотивов, почему Лебедев был выдвинут на пост начальника штаба [«Допрос». С. 154]. Может быть, в тот сложный момент, который переживала Сибирская армия, требовался иной человек. Мало быть честным и деловитым. (Так характеризует Лебедева ген. Рябиков — воспоминания в пражск. Арх.) Одновременно мемуарист отмечает у Лебедева «упрямство и властность» — черты, которые могут быть положительными и отрицательными в разных условиях. Всегда ворчливый Будберг, «мрачный пессимист», известный «своей неуживчивостью», не отличавшийся беспристрастием, все зло видит в том, что к власти пришла молодежь, «очень старательная, но не имеющая ни достаточных профессиональных знаний, ни служебного опыта». Молодая, задорная, честолюбивая Ставка не в состоянии «разобраться и узнать истину».
Лебедева Будберг называет одним из «революционных вундеркиндов» — у него много апломба и слишком быстры его решения; «идет борьба задорных молокососов против старого опыта и служебного стажа» [XIV, с. 250]. Как говорит другой тогдашний наблюдатель, Лебедев стремится провести молодежь — это была «наполеоновская система». Будберг, конечно, до известной степени человек «старорежимный». Ему не понятна психология Лебедева, назначившего ген. Андогского («оперативный талант») первым генерал-квартирмейстером Ставки. Не понятна потому, что Андогский был начальником «красной военной академии» — «надо щадить душу армии» [XIV, с. 306]82. Во всех нападках на Лебедева чувствуется, однако, то, что отметил Деникин со слов одного из омских министров (т. е. Сукина): «Никто из генералов, политиков, иностранных представителей не противился дальнейшему наступлению. Потом ругали Лебедева»... [V, с. 93].
Для Будберга, Правительство и Ставка работают без плана, «идет любительский спектакль с скверными любителями на главных ролях в серьезнейшей трагедии мирового значения» [XIV, с. 308]. В оправдание Лебедева многое можно привести из тех же записок Будберга. Надо было обладать гениальной чудодейственностью для того, чтобы побороть сложившуюся в Сибири военную обстановку, — что почувствовал сам Будберг, когда сделался управляющим военного министерства. Ставка терпит фиаско, когда пытается брать на себя распределение запасов и ресурсов общей потребности: «открытого сопротивления, конечно, не было... но приказы забывались и не исполнялись (особенно это относилось к району господства Гайды)» [XIV, с. 240]. «Неудержимо продолжают жить привычкою первого периода восстания против красной власти, когда все добывалось с бою или бралось из местных средств по праву сильного, — записывает Будберг 8 мая. — Такие порядки быстро и глубоко въедаются, и искоренить их можно только силой. Силы же налицо нет». Вмешивается к тому же посторонняя сила, идущая вне общей системы: ген. Нокс выдает запасы по собственному плану, «мало иной раз считаясь с действительной нуждой русской армии» [Сахаров. С. 94]. Армии между собой конкурируют: «все попытки учесть военную добычу и обратить ее на общее снабжение безрезультатны и вызывают самые острые протесты... Гайда захватил единственную на всю Сибирь суконную фабрику, обозные мастерские — все то, чего нет в Зап. армии, — и не дает последней ни одной шинели, ни одной повозки... в ответ Зап. армия прижимает Сибирскую, не давая ей фуража. Все распоряжения главного и полевого интендантов армиями игнорируются и не исполняются» [XIV, с. 237]. Благодаря этому «в одних армиях — архиизбыток, а в других — голод и нищета». Осложняли все дело и необычайно тяжелые условия транспорта, сложившиеся в тылу.
* * *
Военные историки еще недостаточно разобрались в операциях, имевших место на Восточном фронте гражданской войны. Непосредственные участники их противоречат друг другу. Это уже одно заставляет быть осторожным в признании огульных обвинений, к которым склонны мемуаристы.
Те, кто были в это время на стороне Гайды и Пепеляева, конечно, виновников ищут в центре. Для примера возьмем пояснения кап. Кириллова. «После Глазова, — пишет он, — наши наступательные операции продолжали по-прежнему развиваться успешно... Но части войск ген. Вержбицкого и ген. Сахарова... не успевали продвигаться так быстро, и в результате между фронтом войск ген. Пепеляева и Южным фронтом образовалось колоссальное пустое место, куда и стали вливаться большие силы красных... Несмотря на все требования ген. Пепеляева заполнить промежуток фронта, который должен был сыграть такую катастрофическую роль во всех последующих затем военных операциях, верховное командование в лице бездарного ген. Лебедева не принимало никаких мер к заполнению фронта» [«Вольн. Сиб.». IV, с. 65—66]. Отсюда и явилась необходимость для Сибирской армии отступать, чтобы (с опозданием) выровнить линию фронта [дневник Пепеляева]. Кто в этом виноват? Мы видели оценку наступления на Глазов в момент кризиса Западной армии, которую дал Сахаров. Теоретически нельзя с ним не согласиться. Будберг обвиняет Ставку в том, что она не сумела сдержать «нелепых порывов» Сибирской армии [XIV, с. 269]. Обвиняет он Ставку как раз за то, что она неразумно расходовала неподготовленные тыловые части, бросая их на заполнение прорыва. Таким образом, с его стороны обвинения противоположны тем, которые предъявлялись антуражем Гайды и Пепеляева. Запись Будберга 4 мая гласит:
«Несмотря на то что в Зап. армии дела совсем плохи, Сибирская армия продолжает наступление на запад. Ставка на все это взирает и, по-видимому, не вмешивается... Вместо того чтобы остановить Сибирскую армию... сорвали с места и экстренно гонят на фронт, на затычку разных дыр слабые и совершенно неготовые к бою части ген. Каппеля и бывшие в тылу конные части. Этим сырьем дела поправить нельзя... но зато части быстро истреплются и сделаются неспособными к бою» [XIV, с. 232-233].
От Гайды поступали как раз другие требования. В записке кап. Калашникова, составленной в гайдовском штабе и формулирующей обвинение как против Ставки, так и против верховного управления, значится: «Если отступление не будет ликвидировано выступлением ген. Каппеля, положение фронта Зап. армии надо считать катастрофическим» [«В. Сиб.». VI, с. 81].
В момент начавшихся для Сибирской (Северной) армии неудач Гайда резко выступил против «нелепых» стратегических предписаний Ставки, приписывая расстройство тыла ее бездарным распоряжениям. Свой протест Гайда направил непосредственно Совету министров, требуя немедленной отставки Лебедева. «В Омске, — повествует Милюков, — на этот ультиматум взглянули как на крайнюю дерзость, чуть не начало восстания тщеславного чешского выскочки» [с. 131]. Мы сейчас увидим, что отношение Омска, вернее адм. Колчака, к «дикой выходке» (выражение Будберга) было исключительно корректно — Колчак пытался избежать лишних осложнений. Но «ультиматум» Гайды вовсе не был столь безобиден, как его пытаются представить заинтересованные мемуаристы, ибо, как и при первом своем ультиматуме, Гайда допускал возможность чисто военного давления на Омск. И здесь, очевидно, дело шло уже не только о Лебедеве...
Ультиматум был проявлением того присущего Гайде темпераментного самовластия, которое могло исходить из расчета на влияние и авторитет популярного военачальника. В одном из позднейших документов, связанных с владивостокским выступлением эсеров и Гайды против Колчака, имеется определенное указание на то, что «ультиматум» в значительной степени был подготовлен революционной военной организацией, бывшей при гайдовском «штабе», — другими словами, эсерами во главе с кап. Калашниковым [«Дело Нар.», № 392]83. В беседе с Гинсом в Екатеринбурге (май) Калашников говорит о необходимости уволить Лебедева по политическим соображениям, как «отъявленного реакционера» [II, с. 192]84. Что-то серьезное в Екатеринбурге подготовлялось. Авторитетное свидетельство имеем мы со стороны непосредственного участника этих протестов кап. Кириллова. Он рассказывает: «Сибирские деятели (кто они?), понимая преступление Ставки, предложили ген. Пепеляеву послать в Омск одну или две дивизии, разогнать Ставку и взять власть в свои руки, чтобы спасти Сибирь. Но ген. Пепеляев этого не сделал» [В. Сиб.». ГѴ, с. 66]. Пепеляев лично хорошо относился к Колчаку и был в действительности идейным человеком. «Сибирские деятели», очевидно, пошли временно на компромисс и решили использовать для выступления более покладистого Гайду.
«Ультиматум» произвел в Омске впечатление. Гайду поехал уговаривать Нокс, а затем, 30 мая, и сам Колчак. По записанному Будбергом рассказу ген. Акинтиевского, ездившего вместе с адмиралом ликвидировать инцидент, Гайда горячо оправдывался, доказывая, что он был обязан довести до сведения Сов. министров о том, что распоряжения Ставки губят армии.
«Тогда Адмирал спросил Гайду, почему же он раньше ему этого не донес, не доложил, не сделал никогда ни одного намека о такой оценке распоряжений Ставки85, а между тем это была его прямая, как командарма, обязанность. Эти слова Адмирала очень знаменательны, ибо дают всему выступлению Гайды настоящую оценку, подтверждая, что интересы армии были только внешним предлогом, а внутренней причиной были обиженное честолюбие и шалая несдержанность86... После довольно длительных пререканий и обмена колкостями, Адмирал поставил Гайде ультиматум выехать из Перми в течение двух часов, причем в случае согласия ему будет разрешено уехать самому и еще в звании командующего армией; в противном же случае — будут приняты иные меры. Гайда долго молчал, но затем с усилием проговорил, что он солдат и полученное приказание исполнит, и просит только разрешения съездить домой и собраться в дорогу, обещая честным словом выехать в течение назначенного срока. На это Адмирал ответил, что, хотя Гайда уже два раза давал ему честное слово и оба раза его нарушил, он все же еще раз попробует испытать прочность гайдовских обещаний и потому дает просимое разрешение.
Гайда сначала промолчал, но затем повышенным тоном заявил, что он согласился на предъявленное ему требование и обязался честным словом его исполнить только потому, что этого требовал сам Адмирал, а не из страха или по принуждению; в противном бы случае дело окончилось бы совсем иначе.
Через два часа Гайда экстренным поездом выехал в Омск, сдав командование армией ген. Богословскому, перед отъездом он был у Адмирала, который успел за это время совсем отойти и даже беспокоился, не был ли он «слишком жесток к Гайде». Тут же появился всюду сующий свой нос ат. Дутов, стал просить за Гайду, и Адмирал совсем смягчился... Гайда явился в Омск с отборным конвоем в 356 человек, и сейчас он самая реальная сила во всем Омске. В результате как будто бы Адмирал и победил, но нехорошая эта победа; ядовита та обстановка, в которой возможны такие коллизии» [XIV, с. 276—278].
Колчак решил поручить особой комиссии в составе ген. Дитерихса, Иностранцева и Матковского рассмотреть причины столкновения Гайды с Лебедевым87. О работе этой комиссии в «Белом Деле» рассказал Иностранцев. Свою инструкцию для расследования Колчак сопроводил словами: «Какое решение вы примете... приму и я». Он отметил, что Гайда «уже давно истощил его терпение, не исполняя почти ни одного указания, даваемого ему из Ставки, и не соглашаясь почти ни с одним распоряжением». Вместе с тем Верховный правитель подчеркивал, что при популярности Гайды он не может не считаться с ним:
«Все те, которые думают, что полнота власти, врученная мне, есть действительная полнота, глубоко заблуждаются. Вот почему мне нужно расследование знающих и компетентных лиц, и расследование всестороннее, т. е. имея в виду и ту и другую сторону. Мне нужно знать — чем недоволен Гайда и что толкнуло его на этот невозможный поступок, но, с другой стороны, уже давно доходят до меня слухи о недовольстве многих и других в армии деятельностью начальника штаба ген. Лебедева, и мне нужно также знать, есть ли основания для такого недовольства и не дало ли управление армией действительно некоторых оснований к совершению Гайдой его тем не менее антидисциплинарного проступка. Ген. Лебедев, немедленно по получении телеграммы Гайды, просил меня освободить его от должности начальника штаба, но я признал это, в данную минуту, совершенно невозможным именно в видах дисциплинарных и просил его, лишь на время расследования, временно устраниться от дел» [«Белое Дело». I, с. 98].
По словам Иностранцева, комиссия, признавая нарушение Гайдой дисциплины, не могла в то же время не удостоверить, что управление армией из Ставки находилось в «малоопытных в военном отношении руках». Многие жалобы Гайды комиссия признала основательными. Она допросила Гайду, который «со слезами на глазах» рассказывал, что он был «близок к тому, чтобы двинуть армию на Омск». Но «удержался от этого замысла», который «не пошел дальше сердца». Теперь Гайда заверял Верховного правителя в «полной преданности и в дальнейшей готовности его служить делу возрождения России». Комиссия остановилась на компромиссе: оба виновника столкновения должны остаться на местах, в отношении Гайды следует остановиться на выговоре за поступок88. Такое половинчатое решение не удовлетворило, конечно, Будберга. Но тот же Будберг с обычной для себя образностью живописует тогдашнюю омскую обстановку:
«Пока что обстановка в Омске самая напряженная; шепчутся о переменах и переворотах; наличие здесь Дутова и Иванова-Ринова, в связи с острым подъемом казачьего значения, дает благодатную почву для разных слухов и предположений. Политиканство и интриги глушат здесь, как бурьян, всю созидательную работу; все рвутся к власти; бедный Адмирал действительно находится в каком-то пленении; как бы хотелось, чтобы он нашел в себе решимость собрать в одну кучу всех местных политиканов и выслать их из пределов Сибири подобно тому, как то было сделано с членами Директории. Я даже говорил с Акинтиевским, бывающим у Адмирала ежедневно с оперативным докладом, чтобы забросить Адмиралу идею о полезности и необходимости забрать Гайду, Дутова, Иванова-Ринова и полдюжины наиболее честолюбивых политиканов и отправить их за границу через Семипалатинск и далее, через пределы Китая; это сразу освежит омскую атмосферу и даст возможность работать спокойно, избавив нас от всяких аспирантов, переворотчиков и жадных авантюристов, работа которых, по видимости как будто бы и в нашу пользу, вредит общему делу хуже всяких красных выступлений» [ХГѴ, с. 279].
Как переживал Колчак все эти неурядицы? «Меня поразило, — рассказывает Иностранцев, — как сильно изменился адмирал за те несколько дней, что я его не видал. Он сильно осунулся, и в глазах его, как бы несколько потухших, отражалась, видимо, гнетущая его забота» [с. 96]. Колчак решил, очевидно, последовать совету, который еще в дни пребывания в Екатеринбурге, давал ему Будберг. Ввиду «капризности и неисполнительности» Гайды и той «враждебности» к Зап. армии, которая чувствовалась в атмосфере Екатеринбурга, Будберг советовал подчинить Гайде обе армии, «видя в этом единственный выход из создавшегося положения». «Я считал, — говорит Будберг, — что раз верховное командование не в силах заставить Гайду думать не только о своей армии, если оно не в силах его убрать... то надо сделать его ответственным за общее положение фронта» [XIV, с. 263].
2 июня Западная армия в оперативном отношении была подчинена Гайде. Милюков, следуя вновь «весьма содержательным и убедительным» мемуарам Гайды, так изображает последующее. Первая же попытка Гайды распространить на офицеров Западной армии89 те же дисциплинарные распоряжения, которые выполнялись в Сибирской армии, вызвала окрик Колчака: «Все заслуженные офицеры глубоко оскорблены вашим приказом»... Тогда, 19 июня, Гайда подал прошение об отставке. Колчак ему отказал, но после нового бурного объяснения, 7 июля, в Екатеринбурге, отставка была принята, и командование фронтом было передано Дитерихсу. Гайда уехал во Владивосток.
Дело было не совсем так. Достаточно сравнить это изложение хотя бы с записями Будберга. 18 июня Гайда прибыл с фронта с требованием немедленно послать три новых дивизии для осуществления какого-то задуманного маневра в красноуфимском направлении. Под влиянием Будберга Колчак в этом отказал90. В сущности, к моменту новых требований со стороны Гайды вопрос об его отставке был предрешен. Бестактный приказ Гайды Западной армии действительно возбудил военных. Гайда обвинял командование в неудачах и обещался исправить положение и дать победу. Если верить сообщениям «тайных агентов», функционировавших при иностранных военных миссиях, то даже ген. Богословский (нач. штаба Гайды) считал в это время целесообразным удалить Гайду (июльское донесение «Джона»). Главная же причина заключалась в том, что решено было объединить все командование на фронте в одних руках и на руководящую роль намечался Дитерихс. Вставал вопрос, будет ли Гайда подчиняться Дитерихсу. Тогда он и был уволен от командования Сибирской армией. Со слов ген. Бурлина, Будберг объясняет эту решимость расстаться с претенциозным «сибирским героем» тем, что с момента «подчинения Деникина Колчак почувствовал под собою большую опору и большую независимость от давления со стороны авторитета иностранцев, к помощи которых прибег Гайда» [XIV, с. 295]91.
К Гайде мы вернемся. Уехал он из Омска с соответствующей помпой.
«Гайда с особым поездом отбыл в заграничный отпуск, получив от адмирала 70 000 франков золотом. Его хотели отправить обычным пассажиром экспресса, но он заартачился; создался целый конфликт, в который вмешался Дутов, и в конце концов Омск скис, и разрешили Гайде выехать своим поездом и со своим конвоем. Злые языки говорят, что вся собака зарыта в том, что вагоны Гайды нафаршированы золотом, платиной и уральско-сибирскими сувенирами, которые невозможно и небезопасно везти прямо в экспрессе, да еще и с проездом мимо Семенова, у которого насчет мимо едущих ценностей особый нюх для учуяния и станция Даурия для освобождения владельцев от этих ценностей. Знающие Гайду говорят, что он не простит Адмиралу своей отставки и что Адмирал делает большую ошибку, разрешив ему ехать через всю Сибирь вольным человеком» [XIV, с. 320].
Во всяком случае, в этой отставке сам по себе «демократизм» Гайды, как склонны утверждать некоторые из иностранцев, никакой роли не играл.
* * *
Разделенные на три отдельные армии92 сибирские войска продолжали терпеть неудачи. Бывшая армия Гайды, при отступлении потерявшая мобилизованных в Прикамье, в сущности, была отведена в тыл — к Ялуторовску, Тюмени и Тобольску. Западной армией (теперь 3-й) — наиболее надежной, а не наиболее разложившейся — командовал заменивший Ханжина Сахаров. Она должна была совершить контрманевр под Челябинском. По мысли, вероятно, Лебедева, предполагалось уступить челябинский узел, а потом окружить советские войска ударными группами Войцеховского с севера и Каппеля с юга. Будберг, противник всяких «контрманевров», не находит слов, чтобы очернить этот план. Челябинскую операцию он называет «челябинским преступлением» [ХГѴ, с. 331]. С бумажной, теоретической точки зрения, по его мнению, все это очень заманчиво, так что немудрено, что ничего не понимающий в сухопутном деле адмирал согласился на операцию, но с точки зрения ее реального выполнения — операция безумная. Милюков вслед за Будбергом называет челябинскую операцию «фантастическим планом». Я воздержусь от столь категорических суждений, так как надо прежде всего выслушать мнение военных специалистов — пока они еще не высказались. Обращу внимание читателей на общее осторожное суждение Деникина по поводу того, что в это время происходило на Восточном фронте: «Кто безошибочно учтет положение, когда при слегка только колеблющемся балансе числа и техники решающее значение имел дух войск, подымавшийся и опускавшийся всегда неожиданно и с широкой амплитудой колебания» [V, с. 93]. Сахаров конечную неудачу челябинской операции приписывает полному бездействию 1-й и 2-й армий (бывшая армия Гайды).
При оценке суждений современников мы должны помнить, что Дитерихс высказывался против контрманевра, желая отвести 3-ю армию за Тобол, а Будберг всецело поддерживал Дитерихса. Дневник министра Пепеляева в значительной степени объясняет нам, почему Колчак пошел на риск челябинской операции. 25 июля Пепеляев записывает: «Ген. Дитерихс, — сказал правитель, — был против этих боев и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск — в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боев армия все равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что я пережил за эти дни».
Наступления требовали союзники, о наступлении шли телеграммы из Парижа, говорившие, что продолжающееся отступление возбуждает тягостное удивление и впечатление и может отразиться на помощи [письмо Маклакова. — «Пр. Рев.». Кн. 1, с. 122]. В это время произошло как бы фактическое международное признание омской власти, и как раз в дни челябинской неудачи в Омске происходило совместное заседание высоких союзных комиссаров с министрами для распределения между союзниками материальной помощи, оказываемой Правительству.
В дни боев под Челябинском все внимание правителя обращено на фронт. Он отменяет все министерские доклады. Тем не менее «челябинская операция проиграна». «Лебедев пытается в своих донесениях замаскировать неприятную правду, — записывает Будберг 30 июля, — но она ясна». Сахаров с этим не согласен. Он считает, что, несмотря на отход, челябинская операция имела весьма существенное значение.
«Бои и действия наших войск показали, что мы имеем все шансы разбить большевиков; в войсках укрепилась уверенность в своих силах. Кроме того, население этого большого и абсолютно антибольшевицкого района увидело на деле, убедилось, что были приложены все усилия спасти их от большевиков; казаки, крестьяне и башкиры, участвуя сами и будучи свидетелями этого одного из самых больших сражений, знали, как много работы и жертв было принесено, чтобы разбить силы и стремления красных завладеть Челябинским краем; знали и то, что наше отступление произошло не по вине Западной армии.
Эти тяжелые бои — а они стоили нам свыше 5000 потерь убитыми, ранеными и пленными, большевики, по их же документам, потеряли больше 11 000 человек, — эти бои скрепили армию в сильный, хорошо сложенный и жизненный организм» [с. 126].
Можно допустить, что выводы Сахарова чрезмерно оптимистичны. Однако обращаю внимание на запись Пепеляева 15 августа: «Дитерихс бодро смотрит на положение и готовится наступать». Дитерихс не мог с такою легкостью отбросить план Будберга отхода на Тобол и Ишим и создания там укрепленного лагеря [ХГѴ, с. 331] — он, по-видимому, разделял целесообразность этого плана93, — если бы челябинская операция была действительно такой полной военной катастрофой, как она рисуется Будбергу.
* * *
«Каркающий старый ворон», как аттестует себя сам Будберг, продолжает оставаться пессимистом.
«Те ужасные слова, — записывает 18 августа, — которые были мне сказаны недавно видными представителями фронта: «Солдаты не хотят воевать; офицеры в большинстве неспособны уже на жертвенный подвиг; армия выдохлась» — не выходят из моей памяти, и я знаю и чувствую, что это правда. Армия в ее настоящем положении — это сломанная во многих местах палка, по наружному виду ее еще можно, хотя и с большим трудом, склеить, но она разлетится вдребезги при первой попытке ею опять ударить» [XV, с. 275].
При такой безнадежности, вообще, никакой борьбы быть не могло. Но борьба продолжалась, и даже Будберг временами излечивается от своего пессимизма. Армия сохранила свою силу, имела в сентябре свои успехи94 и даже после настоящей уже катастрофы, последовавшей за эвакуацией из Омска в ноябре, оставалась «палкой», которой при иных условиях можно было бы «ударить» очень больно. Эти иные условия зависели от тыла, который действительно погубил и фронт, и все дело возрождения России.
После челябинской операции Лебедев, имя которого сделалось крайне непопулярно, ушел. Его заменил Дитерихс, в руках которого временами объединялись функции наштаверха, военного министра и главнокомандующего. В Омске ждали «варяга» — генерала Головина. Будберг, приветствовавший Дитерихса, конечно, немедленно в нем разочаровался. Вначале появились только некоторые «но»... Затем сомнения: думал, что «он умнее, дельнее и способнее распределять работу». Наконец, обычная запись: «В Ставке безграмотность и безголовие» [XV, с. 269]. Записи становятся однообразны. В конце августа прибыл в Омск долгожданный Головин. «... Все мои надежды обращены на Головина, — пишет воспрянувший духом Будберг. — Мне кажется, что это настоящий человек для того, чтобы благотворно влиять на адмирала... я убедился, что адмирал его слушается, ему доверяет и очень считается с его мнением. Из беседы с Головиным я убедился, что он понимает отлично всю нашу обстановку и что он сумеет очень тактично, но достаточно крепко приняться за лечение наших болезней». Для устранения прежних ошибок надо, чтобы «правые разумно полевели, а левые отказались от своих утопий и подкопов и стали на деловую почву; тогда станет возможной средняя дорожка совместной работы по восстановлению опрокинутых и разрушенных оснований государственной и общественной жизни на новых, здоровых, приемлемых для народа и выгодных народу началах» [там же. С. 307].
Это было большей утопией, чем «фантастические» планы местных стратегов.
Головин пробыл около месяца в Омске. Болезнь и, очевидно, нежелание связывать свое имя с безнадежным или, по меньшей мере, неверным делом побудили его покинуть Омск95. После беседы с возвращающимся Головиным в Токио Болдырев записал 14 ноября: «Как умный и предусмотрительный человек, он сейчас же понял, что ошибся (в смысле оценки сибирской обстановки), и сразу отошел, правда, не без благожелательного содействия своего «друга» — ген. Дитерихса и других» [с. 280]. В чем выразилось «давление» Дитерихса на «быстрый отъезд» Головина из Омска, мы не знаем. Но Колчак, доверявший Головину и ждавший его приезда, не противодействовал его отъезду. Очевидно, омская «обстановка» измучила Верховного правителя достаточно, — принося себя фатально в «жертву», он не мог требовать жертвенности от других96.
Возможно, что Дитерихс, как все другие, был «никудышным стратегом» и что только вовремя прибывший Головин несколько исправил план готовившихся операций на линии реки Тобола. Во всяком случае, первый этап операции, пока силы были равны97, проходил неудачно для Советской армии: после сентябрьских боев она принуждена была отступить98. Настроение в Омске подняла шумиха из-за поголовной мобилизации сибирских казаков, которая, по расчету Иванова-Ринова, должна была дать 18 тыс. Этот казачий корпус должен был совершить рейд на Курган в тыл наступавшей Красной армии. Собрал Иванов-Ринов только 7 1/2 тыс., но тем не менее начал свой обход Красной армии крупным успехом. «Сейчас Иванов-Ринов, — записывает Будберг, человек очень непосредственный, несмотря на свой критицизм, — становится близок к исторической славе... Омск ликует. Мне совестно за свой пессимизм» (11 сентября). В итоге «ударный кулак» все же не удался — конный корпус в тыл противника проникнуть не смог. Пополненная новыми резервами Красная армия перешла в наступление и переправилась через Тобол. Колчаковские войска спешно отошли за реку Ишим. По мнению Какурина, «конец тобольской операции знаменовал собою конец организованного сопротивления противника. Его войска потеряли уже всякую боеспособность, и в дальнейшем армиям Восточного фронта предстояло преодолевать не сопротивление противника, а пространство» [II, с. 357].
Как пессимизм Будберга, так и советский оптимизм Какурина требуют поправок. Еще раз обратим внимание на запись Пепеляева: ...«Дитерихс сказал мне, что Туркестанская армия большевиков готова нам сдаться, идут переговоры... на нашем фронте устойчиво» (12 октября).
Записка Сукина отмечает, что Дитерихс начал наступление с верой, что большевиков удастся не только сломить, но и обратить в полное бегство.
Момент был, конечно, критический. Будберг чрезвычайно негодует на Дитерихса, когда тот на вопрос 11 августа, что он будет делать в случае неудачного наступления, ответил: «Разобьемся на партизанские отряды и, как в 1918 г., начнем снова». «Это же полный абсурд, — комментирует автор дневника, — ибо трудно представить себе обстановку более отличную от 1918 г., чем настоящая; тогда мы боролись с разрозненными толпами местной красноармейщины, а сейчас против нас регулярная армия, руководимая военными спецами из нашего же брата; тогда население было за нас, а теперь против нас; все это делает партизанскую войну для нас почти невозможной» [XV, с. 265]. Неоспоримо прав в этом отношении Будберг. Попытка поднять запоздалую волну добровольчества могла быть только жестом отчаяния. Такие жесты редко достигают цели. Для подъема нужно настроение — его, конечно, в Омске уже не было. Кругом скорее была разлита желчная критика, которая могла выращивать только чувство апатии и пессимизма. Пытался обратиться еще раз к сибирякам Потанин, призывая всех граждан «к оружию», так как враг у ворот Сибири. Старик предлагал себя в «заложники», ибо возраст лишал его возможности биться в рядах защитников родины. Обращение его было напечатано в «Правительственном Вестнике» 24 августа [№218]. Дитерихс склонен был придать войне религиозный характер — это соответствовало его специфически православному складу мыслей99. С его санкции появились добровольческие дружины «Святого креста» и «зеленого знамени» (для мусульман), религиозно-патриотические общества патриарха Гермогена и др. К этим начинаниям «Жанны д'Арк в рейтузах», как ядовито называл Дитерихса Иванов-Ринов, большинство относилось скептически, на этом сошлись антиподы — Сахаров и Будберг.
Поддерживал это движение и В. Пепеляев. 21 сентября он записывает: «Вчера ушли первые отряды «Святого креста» и мусульман — всего 500 штыков и 100 сабель... Всем понравились дружины, а раньше некоторые министры советовали мне не связывать своего имени с этими «черносотенцами» и их движением. Я же предпочитаю связывать»100. Добровольческое движение нашло отклик в деревне. Это факт несомненный. Здесь оно сталкивалось, правда, с той сибирской обстановкой, которая коверкала подчас самые хорошие начинания правительственной власти. «Стремление крестьян к формированию добровольческих дружин, — докладывает пор. Утбер из Ачинска, — было большим до падения Омска. После продвижения красных (оно) сменилось нежеланием, боязнью, что красные потом будут избивать дружинников. Тоже порка крестьян правительственными отрядами и незаконные реквизиции иногда переходят в грабеж и служат тормозом формирования дружин» [Партизанское движение в Сибири. С. 75].
«Тыл» вообще становился угрожающим фактором. Какурин готов признать, что «не столько потеря в боях, сколько работа внутренних центробежных сил обусловливала... значительное падение численности вооруженных сил противника» [II, с. 213]. Генерал Лебедев, пробывший после оставления поста наштаверха «в самой толще армии и населения»101, писал Колчаку 1 декабря: «Я уверен, что нужно искать новых методов борьбы с большевиками, не строя все на исходе чисто военной борьбы» [Борьба за Урал и Сибирь. С. 352].
Примечания ко второй главе :
1 Характерно, что военные склонны были упрекать адмирала в противоположном — в том, что политика главенствовала у него над стратегией [Иностранцев].
2 Документы о боевой организации уральского пролетариата, приводимые Подшиваловым, скорее, напоминают инструкции по военной санитарии и никакого отношения к «опыту гражданской войны» не имеют.
3 Вряд ли какие-либо научные выводы можно сделать из «опыта», на который ссылается в одном из своих приказов ген. Белов, командовавший в 1919 г. в Сибири так называемой «южноармейской группой»: «Необходимо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. Все сложные маневры... неосуществимы... Поэтому остается одно: собрать все силы в кулак и ворваться без оглядки в тыл противника» [Гай. Первый удар по Колчаку. С. 69].
4 Правда, оборону Самары Подшивалов считает образцом наиболее «беспардонных действий, какие возникали в период гражданской войны» [с. 117].
5 Не следует введению военных атрибутов придавать слишком большое значение. Мы имеем по этому поводу чрезвычайно яркое показание Колчака. «Сам по себе вопрос пустячный, — заметил эсер, допрашивавший адмирала, — но сделавшийся у нас, в русской действительности, "большим вопросом"». «Как вы лично относитесь к погонам?» — спрашивали Колчака. «Я лично относился положительно, мотивируя это тем, что это есть чисто русское явление... Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, когда она сняла погоны — это было связано с периодом величайшего развала и позора. Но должен сказать, — добавлял Колчак, — что у меня ни разу не возникал этот вопрос на фронте. Я видел одинаково безразличное отношение — иногда и погон достать нельзя... Я встречал солдат и офицеров на передовых линиях, одетых совершенно фантастически; где уж тут говорить о погонах [«Допрос». С. 160]. Важно то, что в Сибири никто этого установившегося быта не насиловал и что Колчаку никогда не приходилось обсуждать даже этого вопроса — «ни за, ни против». В найденных большевиками у Челябинска «записках» кап. Колесникова отмечается любопытный штрих: «Егеря просили сами погоны, шнурки и лампасы. Видно, что они любят это, а их держат в лохмотьях. Дайте денег, разрешение одеть... и будет дивизия — сила» [Борьба за Урал. С. 345].
6 По общему отзыву, это был «превосходный боевой артиллерист в мировую войну» [Болдырев. С. 64]. Брусилов отмечает личную смелость Ханжина, увлекавшую солдат и возбуждавшую к нему любовь и доверие [Мои воспоминания. С. 149].
7 Милюков ошибочно зачисляет в Северную армию воткинскую и ижевскую дивизии «редкой однородности и надежности» [Будберг]. Они сражались в «Западной армии», как и корпус Каппеля.
8 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. С. 27.
9 Припомним, как в дни французской революции вся страна равнялась на Париж. В сущности, то же было и у нас в февральские дни и в октябрьские.
Покойный царь успокоительно писал своей жене 9 сент. 1915 г.: «Петроград и Москва лишь две крошечные точки на карте нашего отечества» [Переписка. III, с. 329]. Но дело в том, что эти «крошечные точки» определяют политическую жизнь страны, как отметил в дни революции в своем дневнике ген. Селивачев [«Кр. Арх.». IX, с. 111]. Поэтому в свое время Ленин так настойчиво требовал захвата власти «сразу» и в Москве и в Петрограде. «Тогда мы победим безусловно и несомненно», — писал он в сентябре 1917 г. вдень «Демократического Совещания» [Собр. соч. Т. ХГѴ]. И он был прав. Во время революции тактика в Петрограде копировалась в провинции.
10 Для людей типа Троцкого французская революция только в этот период стала «великой» — величие ее в том, что Робеспьер не договаривался, а рубил головы [«1917 год». I, с. 224].
11 Небезынтересные наблюдения можно сделать и при ознакомлении с дезертирством в Красной армии в период гражданской войны. Данные, приведенные в указанной книге Оликова [Дезертирство в Красной армии и борьба с ним, 1926], свидетельствуют о значительном проценте этого дезертирства (напр., 38% в июне 1919 г.). Очевидно, дезертиры из армии, созданной по классовому принципу, с исключением, по выражению Троцкого [Как вооружалась революция], эксплуататорских, паразитических, буржуазных и кулацких элементов, «голосовали сначала» не в пользу большевицкой власти. Конечно, здесь повинна лишь «темнота» крестьянской массы. Большевицкие любители статистики точно высчитали, что из миллиона (почти) официально зарегистрированных дезертиров осенью 1919 г. «злостных» дезертиров было 116 230 человек, остальные дезертировали «по слабости воли» [Оликов. С. 33]. Те же данные устанавливают, что дезертирство идет волною — оно растет при всякой победе противника (так было при наступлении Колчака, Деникина и при начале операций Врангеля). Бюрократическое измышление коммунистов создало даже особое учреждение — Центкомдезертир, функционировавшее с декабря 1918 г. Исследователь истории этого почтенного учреждения пытается убедить читателя, что коммунистам легко было оказывать воздействие на дезертиров — это дело безнадежно только для буржуазии [там же. С. 91]. В действительности мы видим, что не столько коммунистическая «политигра» (пропаганда), сколько прямое административное воздействие влияло на раскаившихся дезертиров из числа «слабых волею». В борьбе коммунисты не стеснялись методами воздействия — конфисковалось имущество, лишались навсегда дезертиры земельных наделов (приказ 25 апр. 1919 г.). Такие меры оказывались наиболее действенными — должен признать сам исследователь [там же. С. 53].
12 Какурину систематически приходится подчеркивать «весьма слабую материальную обеспеченность» колчаковских армий.
13 Общие пояснения ген. Нокса [Гинс. II, с. 385—387] не дают, конечно, точного ответа.
14 Распущенность в мобилизованных частях Болдырев объясняет недостатком снабжения. Отряды атаманские действуют по системе реквизиций, поэтому сыты и хорошо одеты [с.81].
15 При мартовском объезде Колчаком фронта в шестом корпусе почетный караул был выставлен босиком [Сахаров. С. 78]. Это была, конечно, уже демонстрация.
16 Много документов из сибирской военной контрразведки находится в пражском Архиве.
17 В книге «Les allies contre la Russie», изданной в 1926 г. большевиками под ред. П. Маргеритта, нет ни слова о затратах союзников на Сибирь. Это показательно. В рукописных воспоминаниях И. И. Сукина, с которыми я мог познакомиться, указывается, что от англичан поступило полное обмундирование на 200 тыс. чел. и 100 млн руж. патронов, телеф. аппараты, проволока и т. д. Не все, что поступило от союзников, было пригодно: напр., негодными оказались старые французские пулеметы и орудия. Винтовки шли из запаса нашего посольства в Америке.
18 Рейснер Л. Свияжск. «Прол. Рев.». Кн. 6-7, с. 185. Предположение это отнюдь не теоретично. Достаточно сопоставить его с политсводками XIII Советской армии, приведенными в книге Кубанина «Махновщина» [с. 154—155]: «босые» красноармейцы оказывались панически трусливы.
19 Какурин исчисляет к 1 маю силы «красных» на Восточном фронте в 84 тыс. штыков и сабель при 253 орудиях; силы «белых» 112 тыс. при 246 орудиях. Несколько позже Красная армия исчисляется уже в 125 тыс. при 445 ор. и 2248 пулеметов (при 1000 у противника) [II, с. 176]. Насколько верны эти цифры, судить трудно. Военная статистика в период гражданской войны настолько была плоха, что цифры видоизменяются постоянно у самого исследователя. В ноябре 1918 г. Болдырев считал двойным превосходство «красных» над «белыми» [с. 103].
20 Болдырев, по-видимому, не отдавал себе полного отчета о причинах, вызывавших оставление чехами фронта. Он дополняет свою запись: «Сыровой меняет Чечека на Войцеховского. Пора постепенно убирать любителей. Галкина придется тоже взять на некоторый отдых».
21 О чешском большевизме в период пребывания войск в Киеве у Масарика [I, с. 206]. В Красную армию в Киеве перешло лишь 218 чел. При продвижении чехов к Сибири большевики усиленно агитировали в городах, лежащих на жел. дорогах. В Пензе был создан штаб чешских коммунистов. По словам Штейдлера, и здесь из 40 000 к большевикам перешло только 300 чел. [«Вольн. Сиб.». V, с. 17]. Автор, по-видимому, значительно преуменьшает успехи большевицкой пропаганды. По крайней мере, по большевицким данным, на съезде чешских коммунистов 27 мая присутствовало 79 делегатов от 5600 человек и, кроме того, 21 делегат от 1850 добровольцев Нац. Сов. [«Прол. Рев.». Кн. 76].
22 «В казармах чехов были обсуждения и даже голосование вопроса о рабочей власти» [Борьба за Урал. С. 218].
23 В 1914—1915 гг. большая часть чешского народа, по словам Масарика, еще была настроена монархически.
24 Пишон считает оставление Самары в значительной степени не решением военного командования, а нежеланием чехов сражаться без союзников.
25 Этим объяснял начало разложения легий полк. Жак в докладе, прочитанном в Праге в 1924 г. [отчет в «Руле», № 964].
26 Сообщение Клецанды. Иркутск. 30 мая. «Парт. движ.». С. 217.
27 «В некоторых кругах проявлялось сочувствие Колчаку, — говорит Глос, — но оно не разделялось большинством войска» [«В. Сиб.». ГѴ, с. 34]. Таких сочувствующих в Сибири тогда уже называли «белыми чехами» [«Рус. Бюро печати»].
28 Непонятно, каким образом можно в 1929 г. предъявлять обвинение чешскому военному командованию за продолжение участия в борьбе, как это делает Пршикрыл.
29 Никто другой, как сами большевики достаточно образно изобразили вред армейских комитетов в действующей армии. Некто Ильин-Женевский, возражая наивным коммунистам, уверовавшим в самодеятельность армии, писал в «Красной Газете» 22 июня 1918 г.: «Передавая власть комитетам, мы в значительной степени обессиливали армию». Автор дал яркую картину вреда коллегиального управления в армии, «утомленной и развращенной трехлетней бойней» [Большевики у власти. С. 80]. Мера, определенно негодная, благодаря особым обстоятельствам являлась в свое время «спасительной» и содействовала разложению армии, к которому стремились в 1917 г. большевики. Выбор командного состава ими был отменен декретом 22 апреля.
30 Фактически комитеты продолжали существовать.
31 Заканчивал будто бы Штефанек так: «Кто знает, может быть, и монархия в данный переходный момент была бы выгодна. Трудно об этом судить, но этим я не хочу сказать, что сам был бы за монархию». «Штефанек был склонен к роялизму», — отмечает Масарик в воспоминаниях [II, с. 247].
32 При этом чехи занимали более 7000 вагонов. По словам И. И. Сукина, все попытки выселить их из вагонов — в них Сибирь испытывала огромный недостаток — окончились неудачей. Чехи боялись отойти от жел. дор. и потеряться в Сибири.
33 «Социалистическая» делегация прибыла из Чехии для ознакомления на месте с положением армии в значительной степени в связи с требованиями, выраженными апрельской екатеринбургской конференцией.
34 «Ме mettait hors de mes gonds», по его собственным словам.
35 360 млн фр., 800 тыс. фунтов, 7 млн дол. [Драгомирецкий. С. 176].
36 «Я реквизирую везде, что могу, но только озлобляю население и, что из этого выйдет, не знаю», — писал Дутов Колчаку 31 октября [Борьба за Урал. С. 351].
37 Адданов в своих воспоминаниях об Англии (конец 1918 г.) Утверждает, что в обществе настолько не было уверенности в прочности порядка, что говорили, как бы Ллойд Джорджу не пришлось бы бежать к Деникину [«Пос. Нов.», № 3347].
38 В начале 1918 г. Жанен был предназначен для командования чешской армией при переводе ее на французский фронт. По словам одного из его помощников, ген. Рукероля, он не сочувствовал продвижению чехов на Урал.
39 Исключение делалось для американцев, которые оставались независимыми.
40 История с инструкцией Жанену остается до сих пор во многих отношениях непонятной. По словам Сукина, в Париже разрабатывался план «интервенции» при предположении, что в России не будет самостоятельного правительства и ясно выраженного национального движения. Общее командование возлагалось на Жанена как бы с согласия представителей русской общественности в Париже. И. И. Сукин даже ехал в Сибирь для того, чтобы состоять экспертом при Жанене. Все это было до известной степени логично в весенний и летний периоды 1918 г., когда дебатировался вопрос об интервенции: помощь для создания Восточного фронта могла происходить лишь при определенных гарантиях, и в этом случае представитель версальского военного совета (т. е. ген. Жанен) получал право давать общие директивы. Но в момент, когда реально уже определялись полномочия Жанена, обстановка коренным образом изменилась: формально существовала всероссийская власть, фактически признанная на Урале и в Сибири, т. е. на театре военных действий. После ноябрьского перемирия вопрос об «интервенции» должен был стоять в иной уже плоскости. Союзники были достаточно осведомлены о происходившем. Казалось бы, знали обстановку и русские представители, находившиеся за границей. А между тем они давали санкцию на то, что должно было быть чрезвычайно чревато своими последствиями. К сожалению, В. А. Маклаков не мог мне разъяснить этого вопроса. В памяти его не сохранилось подробностей миссии Жанена. Вопрос о пределах полномочий ему тогда казался «деталью».
41 Недовольство высказал и сэр Эллиот.
42 Тут Жанен скажет о ксенофобии русских, а Рукероль — о их германофильстве — и даже хуже: о продажности некоторых министров и генералов немцам [с. 57].
43 В заседании, где решался вопрос о компетенции Жанена,
44 Поэтому Жанен не настаивал на предоставлении ему активной роли и присоединился к мнению русских генералов (телеграмма Маклакова). Конечно, слова Рукероля, что будто бы сам Колчак предложил ему командование, от которого отказался Жанен, не соответствуют действительности. Это молва, шедшая из недр французской миссии и заставившая злостно информированного Болдырева записать: «В этом (т. е. в том, что русские войска против русских же войск будут вести иностранные полководцы) мы действительно в корне разошлись с Колчаком» [с. 174].
45 Многое шокировало в тогдашнем русском обиходе Жанена. Напр., он записал в своем дневнике (14—17 декабря), что проф. Ключников поразил его красными руками, торчавшими из слишком коротких рукавов.
46 Гинсу кажется поэтому даже ошибкой отстранение Жанена [II, с. 83]. Жанен вел переговоры с Японией о посылке войск на Восточный фронт. Япония отказалась. Вероятно, этот отказ был связан с нежеланием Колчака согласиться на присылку нескольких японских полков для гарнизонной службы в Омск. По словам Сукина, это предложение было сделано в первые дни после переворота.
47 Зная обстановку, пожалуй, скорее придется согласиться с отзывом Будберга: чехи слушаются Жанена, когда им удобно [XIV, с. 273].
48 «Я не мог 50 000 оставлять для защиты интересов спекулянтов и реакционеров» [IV, с. 23]. Характерно, что в первый период пребывания в Сибири во французской военной миссии — по отзыву прикомандированного русского представителя штаба — господствовало мнение, что спасти положение может только установление военной диктатуры (доклад 12 авг.). Следовательно, «окружению Колчака» не приходилось особенно пугаться либерализма французов [Рукероль. С. 117].
49 Будберг жалуется на невнимательность Жанена в серьезных беседах, на отсѵгствие ответов на жалобы и т. д. [ХГѴ, с. 274; XV, с. 302].
50 Эти слова вызвали ответ руководимого Устряловым к.-д. «Русского Дела», где справедливо подчеркивалось шатание союзников в русском деле и указывалось на постоянное третирование национального чувства.
51 В Сибири по вине Иванова-Ринова была сделана ошибка, общая почти всему «белому» движению, — декларировано было отрицательное отношение к мобилизованному офицерству в Красной армии. Психологически понятная, но тактически вредная позиция. 28 мая Колчак обратился с воззванием к офицерам и солдатам Красной армии: «Пусть все, у кого бьется русское сердце, идут к нам без страха, так как не наказание ждет их, а братское объятие и привет» [«Руск. Ар.», № 118].
52 Во главе школы был поставлен ген. Сахаров. О деятельности ее в воспоминаниях Сахарова «Белая Сибирь» [с. 59—63].
53 Легкий сговор автор объясняет тем, что американцы оказались большими любителями самогона (суля). Андрушкевич отмечает, что «в местах расположения американских войск был сплошной разгул и днем и ночью» [«Белое Дело». ГѴ, с. 142].
54 Ильюхов и Титов. Партизанское движение в Приморье. 1928, с. 113-115.
55 Из рассказа Ильюхова и Титова с очевидностью явствует фантастичность утверждения Парфенова, что спровоцировали американцев переодетые крестьянами «калмыковцы».
56 Ненормальный характер носила в Сибири и деятельность американского Союза христианской молодежи, против внедрения которого «всеми силами» протестовал еще Болдырев [с. 75]. И офицеры британской миссии, и сводка ген.-кварт, отмечают вредную иногда большевицкую пропаганду этой организации (сводка 10 июля). У ген. Сахарова приведены поразительные примеры «развлечений», организуемых Y.M.C.A., действительно глубоко оскорбительных Для русского национального чувства [с. 63]. Показания Сахарова подтверждаются рассказами и других свидетелей.
57 По словам Сукина, Жанен упорно причислял к иностранцам и украинцев.
58 Такова же, по словам автора, психология румын и латышей.
59 Однако 19 августа «Сиб. Речь» [№ 180] отмечает участие польских войск в действиях против большевиков. Осенью польские отряды, как и румынские, почти всюду выступают активно.
60 Эскадроны этого полка, находившиеся в Красноярске, подверглись общему там разложению. Отмечено, что они снабжали красных патронами [«Парт. Дв.». С. 85].
61 Будберг эту мобилизацию, с очевидным преувеличением [ср. у Гинса. II, с. 380], изображает как насильственную. По его словам, она вызвала большое озлобление, и карпатороссы заранее говорили, что сдадутся красным. В результате новая глупость и новый вред; до сих пор у нас был добровольческий карпаторосский батальон очень хорошего состава... теперь эта надежная и прочная горсточка растворена в массе насильно согнанных и не хотящих воевать людей» [XV, с. 300].
62 Это верно, поскольку речь идет о внешнем фронте.
63 Обывательские круги готовы были реагировать на пустяки и тем давать повод говорить о ксенофобии. Можно отметить немало инцидентов в Сибири, аналогичных тому, о котором рассказывала 8 февр. «Мысль» [№ 13] в Харбине. Во время оперетки в железно-дор. собрании в куплетах местный артист прошелся насчет интервенции союзников. Иностранцы его освистали. Публика стала неистово аплодировать. Инцидент чуть не перешел в скандал.
64 Сборник статей «Издалека». С. 136.
65 По настоянию адмирала, рабочим было прибавлено от 25-40%. «Благодаря этому, — добавляет сводка, — у большевицких агитаторов ушла благодатная почва из-под ног, а сторонники существующего правопорядка получили возможность реальными аргументами бить противников».
66 Любопытно, что японский официоз считает нецелесообразным подчинение Деникина Колчаку [Болдырев. С. 245].
67 Случайно в дни наступления мне пришлось иметь в Москве беседу в интимной обстановке с известным швейцарским коммунистом Платтеном, который постоянно бывал в Кремле и лично у Ленина. Он был достаточно осведомлен о настроении верхов. Он был убежден, что Колчак победит, и сокрушался о том, что народная масса в России, имея столь прекрасных вождей пролетариата, не подготовлена к прогрессу. В Швейцарии он видел противоположное — готовую массу и отсутствие вождей. Я мог высказать только преждевременную радость, что «вожди» скоро смогут отправиться в Швейцарию.
68 Напр., Анишеву: «кулацкие парни» шли при мобилизации в армию для того, чтобы грабить большевиков.
69 По мнению Будберга, начальники разных войсковых комбинаций, объявляя самостоятельно и бессистемно добровольческие мобилизации, злоупотребляли в этом отношении. Но и строгий критик должен отметить, что население не реагировало против [XIV, с. 252].
70 Раз на этом совещании присутствовал Колчак, оно не могло быть раньше конца января. Между тем после болезни Колчак выехал на фронт 8 февраля.
71 Милюков делает, очевидно, невольную ошибку, когда начальников штабов отдельных армий (по словам Гайды, на совещании присутствовали Дутов, Ханжин и Гайда со своими начальниками штабов) превращает в генералов Ставки, т. е. делает это совещание совещанием Ставки лишь в присутствии командующих армиями. Этим вся инициатива передается ген. Лебедеву.
72 Те 90 километров, к которым Милюков поставил вопросительный знак, надо отнести, конечно, к области чистой фантазии. Царицын был взят 17 июня. Приморская линия Колчака к февралю была Пермь-Уфа-Оренбург-Уральск [Деникин. III, с. 90]. Своих курьеров с января Деникин посылал через Владивосток [ГѴ, с. 89].
73 Врангель взял Царицын в июне, волжские операции колчаковской армии происходили в апреле.
74 В книге Соколова «Правление ген. Деникина» [с. 130] имеется указание, что «левые» с надеждой ждали соединения фронтов, а «правые» говорили об этом с опаской. Относится это к эпохе Комуча. Как в действительности обстояло дело с делегацией Добр, армии в Самару, было сказано в третьей главе первого тома.
75 Это, очевидно, записка И. И. Сукина, составленная под свежим впечатлением по приезде в Америку.
76 Уфа была оставлена 8 июня.
77 По словам Сахарова, Гайда постоянно говорил, что он в любое время может взять Глазов, но считает пока это преждевременным... Здесь была сосредоточена половина его армии [с. 94].
78 В мае физические силы противника на «Волжском» фронте превышали почти вдвое силы Зап. армии. В сибирских условиях была еще одна невыгода для армий, действовавших с периферии к центру. При наступлении фронт их расширялся; у противника он сужался. «При начале наступления наш (т. е. большевицкий) фронт достигал 1500 верст; у Уральских гор он не превышал 1000 верст, за Тюменью он сокращался до 400—500 верст»... [Гусев. С. 211].
79 Сахаров уверяет, что Гайда сам ему говорил, что этот конвой необходим для въезда в Москву. Этот бутафорский «бессмертный» батальон с легкостью перешел к большевикам.
80 Приказов таких было не мало — и прежде всего со стороны самого адмирала. Характерно, что «битье солдат» Будберг как раз отмечает у Гайды [ХГѴ, с. 236].
81 Аналогичный приказ был издан тем не менее Гайдой 2 сент. Для Харбина и Владивостока [Субботовский. С. 196].
82 Андогский, считавшийся соперником наштаверха, вел определенную интригу против самого Лебедева. По словам Сукина, он был первым кандидатом на должность нач. штаба. Колчак предварительно запросил военных начальников — все, однако, высказались против этой кандидатуры.
83 У мемуаристов и в других документах мы можем найти ряд намеков, что в штабе Сибирской армии летом 1919 г. приготовлялось свержение Колчака [«Кр. Арх.». XXXI, с. 57]. В воспоминаниях Будберга [ХГѴ, с. 296] и Львова (Вл.) проект этот приобретает несколько несуразный характер — говорится о совещаниях в Екатеринбуге, на которых предлагалось вызвать Керенского для образования нового правительства, которое будет организовано при содействии чехов.
84 Из этой беседы вытекало, что против Лебедева выступал и Михайлов, ездивший в целях агитации в Екатеринбург. Возможно, что Михайлов действовал под влиянием Андогского. Возможно и то, что здесь была лишь обычная сплетня. Уж очень несообразна комбинация, в которой вновь эсеры перепутываются с Михайловым, Гайдой, Львовым, казаками и т. д.
85 Гайда в своих мемуарах говорит, что докладывал много раз Колчаку. Следов этих сообщений не сохранилось в литературе.
86 Предупреждал Штефанек [Гинс. И, с. 524]. О неверности Гайды писал Гришин-Алмазов В. Н. Пепеляеву (дневник).
87 Лебедеву было приказано считаться больным, чтобы не давать Гайде повода осуществить свою выходку [Будберг. ХГѴ, с. 273].
88 Я должен отметить, что в изложении Иностранцева сквозит попытка несколько обелить Гайду.
89 Зап. армия, по характеристике записки Калашникова, была проникнута «антидемократическим духом».
90 Будберг считал лучшим потерять пермско-кунгурское направление со всеми запасами и заготовками, нежели рисковать неподготовленным людским запасом. Единственным шансом выправить катастрофическое положение Будберг считал попытку добиться нескольких недель передышки, чтобы подправить расстроенные части и подготовить сырые еще резервы Омского и Иркутского военных округов [XIV, с. 286].
91 Гайда обратился за поддержкой к Жанену. «Он просит, — пишет последний, — моего покровительства и при случае поддержки чехословацких войск: кажется, он боится, что его хотят арестовать. Я говорю ему, что он может вполне рассчитывать на мою поддержку; теперь, когда он больше не состоит на службе у русских, последние не имеют на него никаких прав...» [«М. SI.», XII, Р. 235].
92 1-я — ген. Пепеляева; 2-я — Лохвицкого, 3-я — Сахарова. Южная армия Белова, отрезанная с конца июля, действовала самостоятельно.
93 Такой план Какурин считает единственным правильным решением.
94 Этот успех 3-й армии признает и Тухачевский [статья в сб. «Борьба за Урал». С. 79].
95 Невольно Головин, представив перед отъездом Верховному правителю доклад о твердом положении на фронте, тем самым обнадеживал и вводил в заблуждение военных советчиков адмирала.
96 Н. Н. Головин рассказывал мне, что Колчак потребовал, чтобы он ехал с охраной, и заставил двух молодых офицеров, сопровождавших Головина, принести присягу перед иконой в том, что они его охранят. Такова была обстановка.
97 По подсчету Какурина, в 5-й Советской армии числилось 22 тыс. штыков, 2 тыс. сабель и 84 орудия; у противника было 20 тыс. шт., 8 тыс. сабель.
98 В записке Сукина подчеркивается, что этот первый успех Головин оценивал не только как «тактическую победу, но и как «решительный стратегический успех».
99 У Дитерихса, по словам Сахарова, весь вагон был уставлен иконами и хоругвями. Руководился он неотвязной идеей об особенном призвании спасти Россию [с. 289]. Едва ли не впервые в воззваниях Дитерихса было упомянуто об антихристе.
100 Очевидно, в своем пессимизме Будберг был пристрастен, говоря о провале «добровольческой авантюры» на «первом же этапе»: «очередная шумиха собрала около 200 человек добровольцев». Будберг должен, однако, отметить, что «большинство из них производит очень хорошее впечатление» [XV, с. 305].
101 Он командовал на левом фронте так называемой степной группой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Партизанское движение
1. Элементы движения
Среди «внутренних центробежных сил» на первое место надо поставить восстания, подрывавшие и разлагавшие тыл.
Город оставался «сравнительно спокоен». Колосов объясняет это явление малочисленностью пролетариата в Сибири (300—400 тыс. на 9—10 млн населения). В сущности, только в омских декабрьских событиях мы встречаем активное участие куломзинских жел.-дор. рабочих; в очень редких случаях источники отмечают «инициативу» рабочих, — напр. в попытке восстания на ст. Иманская, близ Красноярска, 27 декабря [Партиз. движение. С. 39]. Все более или менее значительные городские вспышки связаны с выступлением мобилизованных солдатских частей под влиянием пропаганды большевицких или иных агитаторов. Такой характер носило второе восстание в Омске 1 февраля, не поддержанное ни армией, ни рабочими и начавшееся с того, что солдаты одной части перерезали своих офицеров1. Аналогичное встречаем мы в попытках поднять восстание в Новониколаевске (февраль), в Томске и Туринске (март), в апрельском восстании в Тюмени и в июльском в Красноярске, в Енисейске, Бодайбо и др.2
Все эти восстания, инспирированные и организованные в значительной степени коммунистами, согласно приведенной выше резолюции второй партийной конференции, больше всего затрагивали военных (сообщение «Зари» 5 ноября о расправе с офицерами во время мариинского бунта). И не приходится удивляться ожесточению именно военных кругов. Поэтому так легко казаки «зверели» и рубили «товарищей без пощады» (из письма 19 июня).
Томское восстание, «задуманное» еще в феврале, «приводится в исполнение» в марте. «Большая часть товарищей, по словам участника Смирнова, была вполне уверена в успехе дела». Уже распределяли комиссарские портфели. О начале восстания Смирнов рассказывает:
«Вечером 1 марта в офицерском клубе было собрание... В клубе был положен динамит в печку. Взрыв должен был, по замыслу, убить чуть ли не сотню присутствующих. В то же время на клуб должен был сделать нападение подведенный сюда отряд. А затем в других частях города выступят рабочие и солдаты и, пользуясь дезорганизацией власти, закончат дело. Расчет не оправдался. Прежде всего, взрыв оказался очень слабым. Убитых было семь или десять человек. Оставшиеся офицеры быстро оправились от замешательства, схватили оружие и выбежали на улицу. В этот момент к клубу подошел небольшой отряд коммунистов во главе с Ильмером. Произошла перестрелка, часть товарищей была убита. Однако оставшиеся все же решили выступать. Но 4 марта их военный штаб был захвачен целиком, и, после военно-полевого суда, было расстреляно 20 человек»3 [Борьба за Урал. С. 199].
Столь же неудачна была и февральская попытка поднять восстание в казармах новониколаевского полка. Солдаты оказались «пассивными». Как отмечает доклад ген. Бабушкина, большевики базировались на немцах-военнопленных, среди которых имелись коммунистические комитеты. Военнопленные должны были принять «деятельное участие» в случае переворота, и из них надеялись «создать наиболее боеспособные войска».
Характерно, что в Тюмени, где восстание начали мобилизованные при небольшом участии рабочих, распропагандированных коммунистической ячейкой, прежде всего восставшие направились в лагерь военнопленных. Но там никто не присоединился к восстанию. Молва о сотнях жертв в этом «сепаратном» восстании совершенно ложна. Управляющий губернией прис. пов. Копачелли в своем докладе исчисляет их в размере 34. Со стороны чехов и добровольцев из интеллигентов потеря выразилась в одном тяжело раненном. (Материалы о тюменском бунте напечатаны в кн. 8 «Прол. Рев.».)
Из сказанного видно, что городские вспышки большого значения не имели.
Иное дело восстания, которые принято называть крестьянскими, хотя специфические черты крестьянского движения в них почти отсутствовали, и поэтому называть их крестьянскими надо с большими оговорками. То было движение партизанское, чрезвычайно разнородное по своему составу, — движение, принявшее в сибирских условиях огромные размеры и действительно представлявшее местами большую угрозу в тылу армии. Достаточно указать на то, что бывали, напр., моменты, когда железная дорога от Барнаула до Семипалатинска на протяжении 100—150 верст находилась 2—3 недели в руках партизанских отрядов, чем расстраивалось все движение грузов в этой части Сибири [Колосов. XX, с. 225]. «Тайшетская пробка» (между Тайшетом и Канском) на два месяца остановила все ночное движение [Будберг. ХГѴ, с. 275]; поезда ходили с большими перебоями, а воинские эшелоны «почти с регулярной правильностью» терпели крушения [Колосов. С. 237]. Амурская жел. дор., занятая повстанцами, не функционировала две недели4.
Породил восстание, конечно, «разбойничий колчаковский режим» — рубит сплеча с.-р. Раков в своем декабрьском письме 1919 г. партийным товарищам5, не замечая того, что сам называет «тайшетские события» «характерным эпизодом большевицких восстаний в Енисейской губ.». Трафарет легко прививается и находит себе место на страницах первой истории гражданской войны. Ссылаясь на известную уже нам записку Калашникова, Милюков, между прочим, пишет: «С точки зрения начальства, все восстания объяснялись воздействием большевицких агентов. Но большинство восстаний не имело ничего общего с большевизмом»6. Автор донельзя упростил в общем интересную и ценную по фактам записку, представленную адм. Колчаку из среды демократического окружения Гайды. Обратимся лучше непосредственно к первоисточнику. «Обычно, — говорит записка, — все волнения и восстания объясняются влиянием большевицких агитаторов, группирующих вокруг себя бывших красноармейцев. Бесспорно, большевицкие и сочувствующие им элементы появляются на сцену каждый раз, как только возникают волнения, стремясь придать им направление борьбы за «власть советов». Но, во-первых, требует объяснения, каким образом эти агитаторы могли приобрести влияние среди сельского населения, так недавно горячо приветствовавшего свержение их власти. Во-вторых, в ряде случаев можно указать на мотивы восстания, не имеющие ничего общего с большевизмом». Совпадение неудач на фронте с внутренними волнениями и общественным недовольством свидетельствует, по мнению записки, о наличности общих причин, вызывающих эти явления. Их искать следует «в методах управления страны»7.
В действительности, как это видно отчасти из некоторых фактов, приводимых и в записке, причины, вызывавшие крестьянское и повстанческое движение, были гораздо сложнее и многообразнее. В сущности, пока один только Колосов пытался в своей статье, напечатанной в «Былом» [XX кн.], подвести некоторые итоги и дать общую картину крестьянского движения в Сибири в период власти адм. Колчака. В его распоряжении была даже специальная карта, составленная осенью 1919 г., что дало автору возможность начертить топографию восстаний.
«Я буду, — писал он, — обрисовывать это движение не как ученый, а как летописец-современник, не как историк, а как политик, принимавший непосредственное участие в общем ходе событий и в их решении» [с. 24].
Но Колосов, будучи достаточно тенденциозным политическим писателем, все-таки исследователь. При крайне враждебном отношении к Правительству Колчака он не мог не скрыть всей сложности описываемого явления; не мог откинуть отрицательные стороны движения. Наблюдения и выводы его знаменательны: главенствующее течение в повстанческом движении он назвал «сибирской махновщиной».
«Обычно8, — пишет Колосов, — крестьянское движение определялось в Сибири как движение болыиевицкое, и в известном смысле оно было таковым. Большевицкие нелегальные организации скоро учли, особенно после неудачных опытов чисто городских восстаний, всю важность деревенского бунта и направили туда значительные силы. Позиция их была тем выгоднее, что легче было противопоставить, по закону антитезы, власти Колчака идею власти советов. Так большевики и поступали. Коммунистов тогда в Сибири еще не знали (даже термин этот не пользовался распространением), большевиков же помнили еще по 1917—1918 гг., и психологически деревня чувствовала к ним определенное тяготение» [с. 239]
«Крестьянское движение в Сибири, — продолжает автор, — не только при Колчаке, а и раньше, за предыдущий период революции (оно и тогда существовало), начиная с 1917 г., представляло собою очень сложное общественное явление, далеко не однородное по составу своих участников и далеко не равноценное в разных своих частях. По своему составу оно не всегда было демократическим, напротив, в нем известное участие, иногда даже руководящее, играли обеспеченные слои деревни, зажиточные и богатые крестьяне. Так случилось, напр., на Алтае, в Семипалатинской губ. и др. местах. Не всегда оно руководилось и революционными целями в общепризнанном смысле этого слова. Больше того, случалось, что крестьянские движения начинались столкновениями с властями на почве, далекой от всякой революции, или принимали характер не столько революционный, сколько анархистски-бунтарский, даже просто погромный. Нередко крестьянство вообще отказывалось признавать какие бы то ни было, хотя бы самые законные и неизбежные виды обязательного отбывания общественных повинностей. Свобода в таких случаях понималась или очень примитивно в смысле освобождения от всякой государственной власти, или в смысле права «свободно» заниматься всем, кто бы чем ни пожелал, вплоть до свободной выкурки «самогонки», добывание которой столь распространено в сибирской деревне... Некоторый примитивный анархизм вообще свойственен крестьянскому мировоззрению, и он неизбежно должен был проявиться в крестьянском движении...; крестьянство являлось часто настроенным против всякого рода мобилизаций, систематически уклоняясь от них не только потому, что оно не желало признавать мобилизации для какой-либо данной цели, а потому, что оно было вообще против поставки рекрутов в солдаты; оно отказывалось платить налоги, хотя бы эти налоги шли на расходы по удовлетворению его же нужд, как это бывало не раз при сборе земских повинностей и т. д. ...» [с. 241-243].
Чрезмерно подчеркивая «примитивный анархизм крестьянского мышления», Колосов отмечает, что в этом недоверии к государству «не последнюю роль играли с давних пор элементы вообще антисоциальные; не забудем все-таки, что Сибирь — страна ссылки — я говорю не про политическую ссылку, а уголовную, — и в ней осело не мало элементов просто ушкуйнических», и что «в результате такого переплетения взаимно скрещивающихся начал крестьянское движение то тут, то там должно было вырождаться в такие формы, которые ни с какой стороны не могли быть приемлемы ни для какого государственного течения» [с. 241-243].
Одновременно с сибирской махновщиной, «умалять значение которой, по мнению Колосова, было бы большой политической ошибкой, особенно при общей малокультурное™ сибирского населения», существовали и другие типы движения. «Наилучшее выражение их, по словам автора, мы находим в постановлениях повстанческого съезда в с. Черный-Ануй, на Алтае, происходившего в начале сентября 1919 г.». Политическое настроение этих «середняцких трудовых землепашеских слоев» Колосов определяет стремлением к демократической государственности. Их политическая программа носила «отпечаток земских традиций» — понимай, с.-р. настроений. Было и определенное «советское течение», нашедшее специальный район «для своего развития и для своего идейного соревнования». Этот район — Минусинский край [с. 246].
Был — добавим от себя — и фронт «монархический». Была невероятная путаница понятий и представлений. Ген. Сахаров не измышляет факта, когда рассказывает, что один из повстанческих вождей, шт.-кап. Щетинкин, в большевицком районе действовал царским именем. Доставленная контрразведкой в штаб армии прокламация гласила: «Пора кончить с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского. Надо всем встать на защиту поруганной Святой Руси и русского народа. Во Владивосток приехал уже Великий Князь Николай Николаевич, который и взял на себя всю власть над русским народом. Я получил от него приказ, присланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака... Ленин и Троцкий в Москве подчинились Великому князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами... Призываю всех православных людей к оружию за царя и советскую власть» [с. 158— 159]9... Конечно, это была демагогия, но подпольная демагогия пуска удается только тогда, когда имеется для воздействия подходящая среда. Среду эту составляла не только «серебряная гвардия» — люди порядка, консерваторы деревни, которых Колосов встречал в Красноярском у. и которые желали восстановления твердой власти, «не особенно останавливаясь на том, откуда она исходит» [с. 235]. Чрезвычайно показательно, что на Алтае, в той его части, где возникало повстанчество, появился даже лжецаревич Алексей, и в деревнях его встречали с колокольным звоном и быстро переходили на его сторону все местные «большевики». Самозванцем оказался кошачагский почтово-телеграфный служащий Пуцято. «Он арестован контрразведкой, — записывает Пепеляев 16 октября, — и находится в Бийске. К месту, где арестован, собираются толпы любопытных. Управляющий губернией телеграфирует, что в него уже верят». Не только деревня, но целый город переполошился, когда в Бийске была принята телеграмма на имя Верховного правителя: «Не желая погибнуть от руки большевиков, прошу дать вооруженную охрану. Цесаревич Алексей». Парень 18—19 лет, одетый в матросский костюм, произвел в XX в. такую сенсацию, что затмил славу Хлестакова. По словам «Свободного Края», за «цесаревичем» был из города отправлен воинский отряд, приготовлено два лучших номера в гостинице, и устроен в честь высокого гостя обед...
Крестьянский «монархизм» имел специфические черты. Н. А. Андрушкевич в своих интересных воспоминаниях о деятельности в качестве правительственного комиссара Уманского у. и уполномоченного по охране государственного порядка в Уссурийском крае рассказывает, что население встретило воззвание приморской земской управы против Колчака весьма своеобразно: «Понято из него было только одно, что некий Колчак, бандит, завладел в Омске властью» [с. 125]. Колчаковцы — это «те же хунхузы, только русские» [с. 135]. С другой стороны, «большевики за царя, за порядок; большевики господ уничтожают, тех, что куражатся над простым народом»10.
* * *
Причины повстанческого движения действительно разнообразны. Картина, как увидим ниже, получается чрезвычайно пестрая, и чрезвычайным упрощением вопроса является попытка доказать, что крестьянское или повстанческое движение возникало преимущественно на почве эксцессов военной власти. Эксцессы при усмирениях часто подливали масло в огонь. Это бесспорно. «Излишняя жестокость, проявленная казаками при подавлении мятежа, — писал, напр., 11 декабря 1918 г. ген. Шильников, начальствовавший над карательным отрядом в Минусинском у., — случаи незакономерных действий, которые, несмотря на целый ряд моих приказов и словесных распоряжений офицерам, все-таки были допущены и озлобление еще увеличили» [Партиз. движение. С. 31.]. Но ведь можно поставить дилемму по-другому, как разрешили ее большевики в грандиозном антоновском восстании 1920— 1921 гг. Они действительно огнем и мечом беспощадно («образцово-беспощадно», по выражению Ленина) подавили это движение и тем спасли свое положение11.
В Сибири были иные условия: лесная «пустыня», таежные урочища, неприступные скалы — все это содействовало успеху партизанской борьбы. Правительство, «поразительное по своей политической близорукости, совершенно не отдавало себе отчета, насколько серьезно крестьянское движение и какую грозную опасность оно представляло» [Колосов. С. 239]. «Ставка на восстания в тылу обращает мало внимания», — гласит запись Будберга 15 мая. «Значение восстания достаточно не оценено», — сообщает шт.-кап. Суровцев о положении в Енисейской губ. в апреле. Неудачи являются «следствием ведения операций малыми силами» [Партиз. движение. С. 148]. При таких условиях «эксцессы» власти неизбежно должны были только озлоблять население.
Будбергу представляется, что лучше было бросить «все эти усмирения и ограничиться охраной жел. дороги»: «быть может, без усмирения все усмирилось бы само собой, особенно когда подошло бы время полевых работ» [XIV, с. 268]. Очевидно, Будберг не был одинок в таких суждениях. По словам Колосова, «некоторые весьма интеллигентные люди, с мнением которых я считался, так как они внимательно наблюдали местную жизнь, полагали даже, что к весне 1919 г. крестьянское движение само сойдет на нет, смоется... стихийным тяготением трудового населения к земле» [с. 261].
Колосов тогда уже не был согласен с таким оптимистическим выводом и тем не менее сам замечает: «Если бы жизнь в сибирской деревне вошла в нормальное русло, то, очевидно, все конфликты и все партийные группировки, наметившиеся в ней, постепенно бы сами собой потонули в общем стремлении крестьян «к красоте ржаного поля», как выразился некогда Глеб Успенский» [с. 266]. Но как деревня могла бы войти в нормальное русло? Дело, в изображении Колосова, стояло прозаически: «товар — вот средство политического завоевания деревни». Надо было принять «экстренные меры» к снабжению деревни, но этого товара в достаточном количестве при наилучших условиях Правительство дать не могло. «Деревня, — доносил управляющий Иркутской губ. Вологодскому и Пепеляеву, — возмущена налогами и отсутствием товаров. При самодержавии у них был товар, а при большевиках не собирали налогов. Эти воспоминания их настраивают против нынешней власти» [Субботовский. С. 303]. Подобные суждения, вышедшие из лагеря социалистов (управляющий Иркутской губ. — эсер.)12, во всяком случае, не свидетельствуют о том, что крестьянство сибирской деревни было глубоко захвачено идейным содержанием, которое ему предлагали антагонисты власти. И дело было не в том, что «население подозревает, что Правительство не хочет собирать Учредительное Собрание» [Милюков применительно к калашниковской записке. С. 136]. Им мало интересовались в деревне.
* * *
Земельный вопрос — основа крестьянского бытия — в сибирской деревне не играл той роли, которая ему выпала в крестьянском движении Европейской России. Он имел значение во внутренних отношениях самой деревни... Конечно, ошибочно представлять себе сибирскую деревню единой в своих социальных интересах. Наблюдавшееся расслоение существенно влияло на характер движения, а подчас и на его возникновение в той или иной местности. Наблюдения Будберга (вернее, передача им в дневнике слов Пепеляева) совершенно правильны: главная основа восстаний — новоселы, «поселения столыпинских аграрников13, не приспособленных к сибирской жизни и охочих на то, чтобы поживиться за счет богатых старожилов» [XIV, с. 255]. Как раз в тех уездах Енисейской губ., где повстанческое движение приняло широкие размеры и приобрело «советский» характер, переселенческие хозяйства значительно преобладали над старожильческими14. Степно-Баджейская волость, сделавшаяся одним из центров движения, была волостью молодой — 17 переселенческих селений и 7 старожильских [«Св. Кр.», № 150], Тасеевская — 14 старожильских селений и 54 переселенческих.
Недавно переселившиеся подверглись во время войны наибольшему разорению. Наказы крестьянским депутатам в августе еще 1917 г. отмечают, что переселенцы Енисейской и Иркутской губ. и частью Томской имеют большое количество хозяйств без посевов и рабочего скота15. Жители Тайшетской волости в конце 1919 г. жалуются, что два года существуют без посевов [Партиз. движение. С. 278].
«Пролетарская часть» крестьянства легко воспринимала «революционную пропаганду с первых же дней революции»16. По линии экономических интересов проходило здесь политическое разделение. Это отчетливо проявлялось в столкновениях, имевших место в 1917 г. уже на первом губернском крестьянском съезде в Красноярске, о котором рассказывает Колосов:
«Районы подтаежные, оторванные от центра, наиболее глухие, наименее грамотные... стояли за одну ориентацию в политических вопросах, а районы земледельческие, хлебопашеские — за другую. При этом оказывалось, что первые районы переселенские, вторые — старожильские. Переселенцы, по характеристике Колосова, — это «парии» сибирской жизни. Они привыкали ко всякого рода ссудам, которые развращали их и рабочее население перерождали в нищих, попрошаек-профессионалов. В итоге получалась своего рода «бродячая Русь», хищнически обращавшаяся с землей, лесом, природными богатствами. Этот бесхозяйственный элемент... в сибирской переработке, конечно, должен был отнестись очень сочувственно к таким политическим лозунгам, как, напр., захват земли, упорно пропагандировавшийся канскими делегатами на том же губернском крестьянском съезде в Красноярске. Но ведь в Сибири, в частности в Енисейской губ., частных земельных собственников совсем почти нет.
По Енисейской губ., напр., только 0,9% всех земель состоит в руках частных собственников, остальная земля либо крестьянская, либо государственная. Тем не менее мысль о захвате земель подкупала крестьян, несмотря на всю свою парадоксальность в сибирских условиях (в Канске весной 1917 г. было вынесено постановление о конфискации государственных земель!), т. е. она подкупала крестьян-переселенцев. Можно ведь было захватывать землю у старожилов и казаков, которые являлись тоже старожилами и лучше, чем кто-либо другой, были наделены землей» [с. 236].
И довольно обычное явление, что новоселы грабят старожильские поселения. «В настоящее время, — доносит полк. Зевакин 9 марта в Иркутске, — в Тальской волости собралось около 500 вооруженных новоселов, которые формируют из своего состава полки, грабят старожильские селения» [Партиз. движение. С. 99].
Большевики искусно пользовались настроением в деревне, применяя метод двойной бухгалтерии. Современный источник отмечает нам неприязнь, с которой был встречен, напр., большевицкий партизанский отряд Каландарашвили, действовавший от имени верхоленского революционного комитета. Однако конфискация у зажиточных жигальцев привлекла симпатии части крестьянства, с которой победители делились «добычей» [«Дело Нар.», № 390, 13 янв.].
На почве внутренних отношений в деревне наблюдались характерные явления. Довольно яркую иллюстрацию дает Колосов, излагая историю отношений между двумя волостями Канского у. — Тасеевской и Рождественской:
«Эти две волости — Монтекки и Капулетти Канского у.; они разной политической ориентации: Тасеево — советской, Рождественское — трудно определить какой, скажем, «земской», хотя это будет не точно. Столкновения между ними случались постоянно и доходили иногда до кровавых стычек, особенно обострявшихся при приходе карательных отрядов. К моменту полевых работ столкновения между ними так обострялись, что для сенокоса и уборки хлебов приходилось выходить на работу с оружием в руках... Крестьяне скоро сами поняли, что нужно либо... воевать друг с другом, либо работать... Путая войну с работой, они рисковали остаться на зиму без запасов... обе волости заключили перемирие на период полевых работ и свято его соблюдали» [с. 265].
Сибирский кооператор Окулич обвинял впоследствии [«Возрождение», № 282] правительство [еще Сибирское] за то, что оно не сумело сорганизовать старожильское крестьянство, как не сумели раньше на него опереться областники. Но не так просто было это сделать в бурю гражданской войны. Население, мало склонное к жертвенности, предпочитало пассивность и выжидание. «Не знаем, где враг и где друзья, не принимаем участия в партийной борьбе, признаем ту партию, при которой не будет насилия», — говорит одна из крестьянских резолюций Черемховского у. [«Сибирь», № 38]. «Не будь атаманщины, сибирская деревня занималась бы своим делом», — спешит сделать заключение Будберг [XIII, с. 297]. В кривом зеркале жизни все отражается по-другому: против Семенова как раз восстает богатое крестьянство, а бедное — за атамана... Это до некоторой степени понятно в условиях «атаманщины» — от поборов страдали преимущественно зажиточные слои населения.
Антагонизм в деревне осложнялся еще и тем, что к старожильскому элементу относилось и казачество17. Только в этой обстановке становятся понятными острые столкновения между казаками и крестьянами. Не только в Семиречье, но и в других местах гражданская война принимала как бы форму борьбы казачества с крестьянством [«Сиб. Огни», 1923, № 1, с. 88; Гинс. II, с. 378]. Казачество легко было двинуть на усмирение крестьянских бунтов, но власть оказывалась бессильной перед разнуздавшимися во время усмирений инстинктами. Автор очерка «Пятая армия и сибирские партизаны» [Элъцин Виктор. В сб. «Борьба за Урал и Сибирь». С. 275] рассказывает, как крестьяне при приближении советских войск, пользуясь мобилизацией казаков, близ Усть-Каменогорска (Семипалатинской обл.) «целиком сжигали станицы и убивали стариков и детей, которые были теперь единственным населением станиц». Другую картину рисовал Колосов в своем «ответе» чешскому полк. Прхалу — дело касалось уже усмирения крестьянского бунта казаками из соседних станиц в Ачинском у.: «Когда они приходили в какую-либо деревню для экзекуции, то сзади их отрядов ехали обозы из их же станицы и на эти обозы жены и отцы пришедших казаков нагружали крестьянское добро и увозили к себе домой, благо это не далеко. Забирали они все, от сельскохозяйственных машин до самоваров и полотенец... Офицеры, которые иногда пытались их остановить, не имели над ними никакой власти»18...
Взаимоотношения в деревне подчас осложнялись и национальным составом переселенцев. Заманский район (центр повстанчества) — недавнее население из русских, эстонцев и латышей. Трения происходят между отдельными группами крестьян, между селениями, между национальностями [«Сиб. Край», № 150]. Переселенцы-латыши являются наиболее беспокойным элементом — отмечает енисейский губернский комиссар Троицкий [Партиз. движение. С. 37]. Перед нами Тасеевская, Перовская, Вершино-Рыбинская волости Канского у. Здесь большевики пустили «глубокие корни» — оказывается, что окрестные (ст. Клюквенная) поселки населены преимущественно латышами, у которых большевики находят радушный прием [Партиз. движение. С. 36]. В составе «красных» до 60% латышей [там же. С. 112]. От большевицкого уже обозревателя и непосредственного участника событий мы знаем, что первое крупное славгородское восстание (ранней осенью 1918 г.) встречало особенное сочувствие среди местных немецких поселенцев, жаждавших «мести и расправы» [«Сиб. Огни», 1926, № 5-6, с. 160].
Надо подчеркнуть и еще одну специфически сибирскую черту, отмеченную уже Колосовым. Сибирь — страна ссылки не только политической, но и уголовной. Знаменательно, что именно в Красноярске — большевицкой цитадели (сибирский Кронштадт) — в 1917 г. были выпущены из тюрем уголовные. И бывший красноярский комиссар Гуревич свидетельствует, что «убийства и грабежи посыпались как из рога изобилия» [«В. Сиб.». III, с. 33]. Шайки беглых каторжан действуют часто под видом или от имени большевицких организаций, напр. бежавшие каторжане с Сахалина19. Лица с уголовным прошлым руководят действиями приверженцев советской власти. Среди этого элемента легко вербовались большевицкие отряды, отличавшиеся «бесшабашной, разгульной жизнью» [Партиз. движение. С. 72]20.
2. Большевики и стихия
Я отметил те черты, которые вытекали из общих условий сибирской жизни и которые создались в период как бы дореволюционный. В этих общих условиях легко развивались революционная бацилла бытового анархизма и тот «дух злобы и мести», который насаждал повсюду большевизм. Не в одной только Томской губ. повстанческие отряды «очень часто» не имели «ничего общего ни с какой политикой» [Колосов. С. 227]. Вернее, все партизанские отряды перемешивались с анархическими бандами деклассированных элементов и носили в той или другой степени «просто погромный характер». Неизбежно и чисто крестьянское движение, поскольку таковое существовало, под руководством этих банд приобретало по преимуществу такой же погромный характер. Это станет ясно, когда мы перейдем к характеристике «вождей» движения.
«Народ совершенно развратился, никому не хочет подчиняться», — говорит нам одно из крестьянских писем июня 1919 г. Голос этот совпадает с мнением контрразведывательного отделения, сообщавшего 3 марта о Тасееве: население, развращенное революцией, не желает нести обязательств; переселенческое население настроено большевицки [Партиз. движение. С. 105—106]. Эту стихию и пытаются сорганизовать и использовать против власти сибирские коммунисты... Позднейшая советская беллетристика не поскупилась в наложении красок при изображении борьбы сибирских партизан с «колчаковщиной». Она охотно рисует темноту сибирского мужика, его тупую злобу и нелепую жестокость, зверскую ненависть и бездумные убийства21. Под звериной шкурой, конечно, будет выступать тоска по настоящей жизни. Но советские беллетристы забывают сказать, что, в сущности, «звериное начало» обнаруживалось не в массе сибирского крестьянства (ср., напр., с воспоминаниями ген. Сахарова), а в тех повстанческих бандах, которые организовывали большевики.
Эти отряды составлялись из разнообразных элементов, собиравшихся в тайге и оттуда действовавших. Прежде всего, это выброшенные на арену гражданской войны обломки старых армий, являющиеся в значительной степени случайными спутниками политики большевиков — из бывших «фронтовиков», хорошо снабженных оружием, унесенным с фронта (винтовками, патронами и даже пулеметами), не склонных сражаться в рядах регулярных армий, вербуются дезертиры; из них набираются банды во главе с лихими разбойническими атаманами.
В тайге оказались и остатки красногвардейских отрядов, рассеянных в летний период освобождения Сибири от большевиков, — это была своего рода бродячая рать, к которой присоединялись все сохранившиеся вооруженные отряды германских военнопленных22... Мадьярские части преимущественно сосредоточиваются в тех центрах крестьянского движения, которые Колосов относит к сочувствующим советской платформе. Участие военнопленных отмечается постоянно и в ряде мест: то продвигается из Читы отряд в 500—600 человек с орудиями и пулеметами, преимущественно из мадьяр, под командой члена большевицкой «Центросибири» Прокофьева в целях продержаться в Олекминске до «прихода Троцкого»; то через Зею проходит отряд в 4000 человек, преимущественно мадьяр, вооруженных пулеметами, под руководством той же «Центросибири» (сокращенное название «Центр. Исп. Ком. всей Сибири»)23. Участие мадьяр — это больше всего противочешская акция. И не так уже были не правы чехи, настаивая на заключении всех мадьяр в иркутские концентрационные лагеря: контрразведка доносила, между прочим, что среди мадьяр (апрель) разрабатывается план нападения и захвата Иркутска [Партиз. движение. С. 153]24. Красноярские коммунисты ухитрялись снабжать свои отряды оружием, и любопытно, что из среды военнопленных мадьяр командируются к партизанам инженеры, химики, оружейные мастера [Шпилев. — «Прол. Рев.». Кн. 72, с. 83]. Причудливо сплетались обстоятельства в сибирской обстановке!
* * *
Мне кажется, невозможно даже оспаривать утверждение, что разнообразная сибирская «стихия» была широко не только использована большевиками, но отчасти ими вызвана и организована. Партийный работник, информировавший Москву о сибирских делах, писал 29 октября (1918) Свердлову: ... «В крестьянской среде также настроения ломаются в пользу советской власти. Прокатываются волной стихийные крестьянские восстания... К сожалению, восстания начинаются без нашего руководства» [«Хр.». Прил. 252]. В действительности, и в первых восстаниях рука большевиков видна с очевидностью, напр. в самом большом славгородском... В дальнейшем организационное влияние — вплоть до снабжения деньгами25 — становится еще более ощутимым. В Тасеевском районе руководителями с самого начала в большинстве случаев являются активные партийные работники, перешедшие на нелегальное положение. Характерен метод, применяемый коммунистами. Автор «Записок партизана» (Яковенко) рассказывает, как большевицкие агенты разъезжали под видом посланцев Красильникова и взимали с населения незаконные поборы, а коммунистические главари обличали и боролись с этим самоуправством [с. 24]. Перед беззастенчивой демагогией большевики, конечно, не останавливались.
Относительно роли большевиков в Енисейской губ. (а ведь это была центральная и самая опасная, в сущности, «пробка») нет никаких сомнений. Оставляя в стороне свидетельства Колосова и др., достаточно познакомиться с текстом воззваний революционного штаба манских партизан (Красноярский у.) против «вампира Колчака» [Партиз. движение. С. 46, 83]26.
Восстание открыто поднимается под лозунгом восстановления советской власти. Первый так называемый «крестьянский» съезд Канского, Красноярского и Ачинского уездов, на котором выступают «товарищ Кравченко», командующий «крестьянской армией», и «товарищ Щетинкин», командующий ачинским отрядом, носит определенно большевицкий характер. И речи и резолюции не оставляют сомнений. Напр., резолюция по «текущему моменту» начинается словами: «Убедившись воочию в пользе, приносимой советской властью», и в том, что «власть советов есть наша непосредственная власть»27. Распоряжения партизанским отрядам на «Шиткинском фронте» (северные волости Канского у. и смежных Нижнеудинского и Киренского — вспомогательный как бы фронт к основному Тасеевскому) отдаются даже на бланках РСФСР от имени «военно-революционного штаба».
Все «четыре фронта» в Енисейской губ. — отмечается в докладе 2-й общесибирской коммунистической конференции — руководятся Крайкомитетом. Близ ст. Камарчаги (район Красноярска) уже образована повстанцами «Канско-Заманская федеративная советская республика». «Во всей Амурской области крестьянство хорошо вооружено и сорганизовано коммунистами» [Борьба за Урал. С. 217]. И это соответствовало действительности. Чрезвычайно опасно увлекаться внешними политическими лозунгами, ибо, по словам Шумяцкого, «революция шла к своей цели всеми путями, доступными в тот момент». Мы видели уже не раз, как гибки были в этом отношении большевики не только в Амурской области (отмечает записка Калашникова, следуя сообщению «Забайкальской Нови»), но и в других местах повстанческие отряды именовались «крестьянскими народными армиями». Выкидывали и знамена: «За власть народа», «За всеобщие крестьянские советы» и т. д. Так, напр., по соображениям «психологическим», после славгородского восстания при организации съезда советов последний был назван «крестьянским съездом» [«Сиб. Огни», 1926, № 5— 6, с. 163].
В значительной степени прав сибирский деятель, коммунист Ширямов, дающий в предисловии к материалам «Последние дни колчаковщины» такую, быть может, несколько преувеличенную характеристику роли большевиков в партизанском движении:
... «Взгляд на развернувшееся в Сибири грандиозное партизанское движение как на движение чисто стихийное — взгляд ошибочный. Опубликованные Истпартом документы достаточно подтверждают сказанное. Это было движение, это была борьба, организованная с первого же выстрела коммунистической партией и ею и ее членами, ее работниками руководимая на всем протяжении Сибири. Мы еще не имеем всех документов этой борьбы, но и то отрывочное, что уже собрано и стало достоянием печати, ясно рисует картину этого руководства...
Два основных района партизанской борьбы сибирского крестьянства — Алтайский и Енисейско-Минусинский — оба начали эту борьбу с выступления мелких отрядов, во главе которых стояли коммунисты.
В Алтайском районе перед восстанием был созван ряд совещаний коммунистических ячеек, на которых было вынесено решение выступить против Колчака и организовать крестьянство для вооруженной борьбы с ним. Начальником штаба Мамонтовской партизанской армии был коммунист Жигалин... Понятно, что и здесь во главе восставших крестьян во многих случаях были выдвинуты новые вожди из своей среды, вошедшие впоследствии в партию...» [«П. Дн.». С. 20—21].
* * *
Кто же были эти «вожди»? Само собой разумеется, тот факт, что среди них были «интеллигенты» и «даже офицеры», абсолютно не противоречит большевицкому характеру этих начинаний. Разве прап. Крыленко — известный «тов. Абрам» — не был офицером в годы европейской войны? Между тем это отметить считала нужным записка Калашникова и особенно подчеркивает Милюков. Участие «интеллигентных руководителей» скорее может служить в пользу мнения о большевицкой организации восстаний. Действовавшие местами «интеллигенты» если и не являлись всегда коммунистами, то работали, за весьма малым исключением, по их указке и действительно очень быстро входили в их ряды. Не следует и здесь обманываться этикетками. Звание тогдашнего эсера, особенно мартовского происхождения, отнюдь не гарантировало от того, что под эсеровской фирмой, взятой в 1917 г., скрывался в 1919 г. подлинный большевик.
Коснемся персонально некоторых наиболее крупных и известных «вождей».
Каждый район имеет своих вождей. Локальная замкнутость вообще характерная черта всех крестьянских движений эпохи гражданской войны28. На первое место надо поставить томскую знаменитость, бывшего унтер-офицера Шевелева-Лубкова. Как будто бы относительно его нет никаких сомнений: и Колосов, и колчаковские военные власти одинаково характеризуют отряды Лубкова как разбойническое предприятие, которое руководится только «интересами грабежа» [Партиз. движение. С. 79]. Лубков не был коммунистом, но «тов. Лубков» не раз доказал преданность советской власти» [«Сиб. Огни», 1923, № 3, с. 139], — его деятельности посвящена даже особая брошюра, выпущенная в 1928 г. омским Истпартом, в Омске же создана была школа его имени29. «Типичным бандитом» является и Рогов, один из руководителей повстанческого движения в Алтайской губ. — такую характеристику дает ему корреспондент с.-р. «Воли России» [6 авг. 1921 г.]. Он занимался больше грабежом — должен признать и обозреватель в «Сиб. Огнях» [1922, № 1, с. 76]. Таков же и бийский Новоселов, хотя и выступает он с лозунгом: «Вся власть Учр. Собр.». Рогов и Новоселов оставили кровавый памятник в Кузнецком уезде: ими «был произведен настоящий погром интеллигенции, нечто вроде уманской резни гайдамаков, причем интеллигенция («буржуи») уничтожалась без различия профессий, пола и возраста. Число вырезанных определялось в одном Кузнецке в несколько сот, именно, по подсчету томской газеты «Рабочее Знамя», — в 325 чел., а на самом деле, вероятно, гораздо больше, особенно принимая во внимание и весь уезд» [ Колосов. С. 242].
Вот другой главарь алтайского движения — Мамонтов, сын зажиточного славгородского крестьянина. Он не был коммунистом, но был среди сочувствующих. Еще на фронте числился среди братавшихся, потом принимал активное участие в октябрьском перевороте, служил в советской милиции и ушел «крестьянствовать» после свержения советской власти. Повздорил со стражником и его убил. Бежал и, собрав двадцать «недовольных», стал совершать «налеты» [Борьба за Урал. С. 273; «Сиб. Огни», 1922, № 1, с. 191]. Позже Мамонтов во главе сибирской бригады сражался на противоврангелевском фронте и в феврале 1921 г. был убит крестьянами. Фигура этого «вождя» достаточно ясна. Как было указано, начальником штаба при нем был коммунист Жигалин. Здесь же действовал анархист Голиков и один из членов большевицкого комитета Громов-Амосов.
В Енисейской губ. орудуют прежде всего Яковенко и братья Бабкины — Тасеевский район Нижнеудинского у. Яковенко — автор записок и будущий нарком земледелия. Это не мешало его деятельности носить характер какой-то смеси бандитизма с коммунизмом. В Минусинском у. оперируют два «интеллигента» — Кравченко и Щетинкин. Колосов дает такую характеристику Кравченко: «Агроном по образованию, много работавший, притом в Минусинском у., поручик запаса во время войны 1914—1918 гг., примыкавший к эсерам по общему уклону своего мировоззрения. В 1918 г. он был очень далек от большевиков» [с. 250]. Во всяком случае, по своим настроениям это был весьма странный эсер, воспринявший удивительным образом всю большевицкую демагогию — его воззвания с угрозой «красным террором»: «За каждую жертву с нашей стороны они заплатят десятками жертв» [Партиз. движение. С. 94]. Кравченко — дезертир, отсюда и его «атаманство». По-видимому, это был горький пьяница — так, в сущности, аттестуют его большевицкие источники [Борьба за Урал. С. 277]. Его помощник Щетинкин — шт.-кап. из выслужившихся фельдфебелей. Назвать его «интеллигентом» трудно — сами большевики говорят, что «по нраву и по кругозору» он оставался «скорее рядовым солдатом» [там же]. В щетинкинском коммунизме весьма много антигосударственных начал, характеризовавших первоначальный период большевизма — период так называемой «власти на местах». Но он «коммунист» и таким выступает на всех съездах...
Если возьмешь других — второстепенных уже деятелей, то все равно натолкнешься на тип, представляющий помесь коммуниста с «башибузуком». «Все партийные люди того времени, — утверждает коммунист Шпилев [«Прол. Рев.». Кн. 78, с. 84], — руководили партизанством». Не высоко приходится ставить такую партию! В воспоминаниях одного военного деятеля в Сибири я встретил указание на то, что если вначале во главе партизанства стояли каторжане и разбойники, то впоследствии — люди «разных классов, профессий и политических убеждений». Летопись сибирских событий такой метаморфозы не открывает. Картина была неизменна с первого дня участия коммунистической партии в организации сибирского повстанчества, — несомненно, уголовщина, переплетавшаяся с политикой, главенствовала над всем.
* * *
То там, то здесь разные свидетельские показания отмечают участие представителей эсеровской партии, наряду с коммунистами, в организации партизанского движения. Дело идет не о том течении в партизанстве, которое Колосов назвал близким «земским традициям» и которым эсеры до некоторой степени руководили30. На Алтай уехал сам Колосов, когда стало небезопасно его пребывание в Красноярске; на Алтае непосредственное участие в партизанской работе принимал видный сибирский эсер Казанцев, занимавший пост председателя Енисейской губ. зем. управы [Гуревич. — «В. Сиб.». II, с. 128]. Этого участия партийные деятели не скрывали. Вопрос идет о помощи «советскому» течению в партизанской борьбе. Контрразведка систематически говорит о планомерной работе «посторонних сил», действующих наряду с большевиками. Этими «посторонними силами» являются эсеры [донесение о Красноярске. — Партиз. движение. С. 82]. Сведения контрразведки дополняют большевицкие мемуаристы — об офицерах в Тасееве из партийных эсеровских рядов говорит, напр., Яковенко [с. 24]. Даже легально работающие, занимающие официальные посты деятели оказывают нередко помощь местному партизанству. Можно привести не мало уже зарегистрированных фактов такой помощи, вроде того, что партизан Славин в Хабаровске через начальника милиции с.-р. Крахмалева получает паспорт для нелегальной работы [Центросибирцы. С. 83]. И это в сатрапии ат. Калмыкова!
В книге Ильюхова и Титова можно найти не мало достаточно показательных примеров этого «сотрудничества» и на том Дальнем Востоке, который остается в значительной степени вне поля нашего зрения. Приморский областной комитет большевиков, в союзе «с максималистами, анархистами и левыми эсерами» руководивший партизанским движением, имел непосредственные связи с владивостокской земской управой. При ее содействии удалось так «обвести» власть, что она дала согласие на отправку «в пострадавшие от гражданской войны районы» 2000 п. муки по жел. дороге. «Эта мука нами была разгружена на глазах у белых и интервенционных гарнизонов и без всякого препятствия с их стороны доставлена в партотряд» [с. 54]. Из этого факта уже видно, что кап. Блукис, начальник гарнизона в Бодайбо, доносивший своему начальству 10 мая, что «гражданские власти, состоящие исключительно из эсеров, или бездействуют, или сочувствуют» (дело идет о большевицком выступлении), мог быть прав в своем утверждении (он говорил, что может его «документально» подтвердить). В июле в Приморской области эсеры действуют еще более определенно. Делегация владивостокского приморского земства посещает нелегальный ольгинский съезд «трудящихся» и предлагает совместную работу в партизанской борьбе при условии признания власти земства. Авторы работы по истории партизанства в Приморье утверждают, что съезд отнесся враждебно к выступлению представителей партий с.-р. [с. 128].
В сущности, по-иному не могло и быть. Колосов указывает, что зимой 1918/19 г. под влиянием слухов, что советская власть сильно изменилась31, идея единого фронта «становится уже господствующей среди сибирского населения как города, так и деревни, как в низах, так и в интеллигентных верхах» [с. 245]. В январе выделяется новая фракция «сибирской автономной группы с.-р., стоящая на платформе советской власти, — к подпольной деятельности как этой, так и других эсеровских групп мы еще вернемся.
Если сентябрьский черно-акуйский съезд на Алтае большинством голосов отверг «чисто советскую платформу» и в согласии с «земскими традициями» выдвинул идею организации «особого Народного Собрания» из представителей земств, городов, кооперативов и профсоюзов, то вместе с тем он говорил о «мирных переговорах с Советской Россией на условиях прекращения гражданской войны32. Колосову эти споры казались уже «академическими». Факт становился принципом — идеи диктовал тот, кто побеждал. Побеждала Красная армия, являющаяся «рупором, носительницей советской власти». Ее победа — становилась победой «идейной» [с. 245]. Ответ, как мне кажется, на вопрос, поставленный выше, дан вполне определенный. Впоследствии, впрочем, «Социалистический Вестник » и не сомневался в том, что эсеры и эсдеки в Сибири поддерживали большевицких партизан против власти адм. Колчака [№ 39].
3. Восстания
При обследовании крестьянского и партизанского движения в эпоху Правительства Колчака надо решительно устранить утверждение, проходящее в тексте писаний всех противников сибирского «диктатора», что эти движения будто бы начались только при Колчаке. К сожалению, это неверное утверждение попало и на страницы исследования Милюкова, который своим авторитетом историка покрывает мемуаристов. В два-три месяца не могло вырасти движение в размеры, которые мы наблюдаем в первые месяцы 1919 г.
Авторитетного свидетеля находим мы в лице бывшего в Сибири Гуревича. В своих очерках, напечатанных в «Револ. России» — официальном органе партии с.-р., он определенно говорит: «Новая власть в лице эсеровского Зап. Сиб. комиссариата... скоро почувствовала неблагоприятное настроение крестьянства»... «В общем и целом, — поясняет автор, — деревня просто-напросто желала, чтобы ее оставили в покое». Недовольство проявилось с первым призывом в армию и принудительным сбором податей [№ 57, с. 33—34]. Начались восстания, которые подавлялись с «свирепой и ненужной жестокостью». Вот другой документ, направленный по адресу временного председателя Директории в начале октября. Читинский лесничий Борисов, работавший в Петрограде в Исполнит, комитете и в Комитете спасения родины и революции, пишет Авксентьеву: «Агенты Правительства порют розгами, выколачивая подать, бьют кулаками, порют по всякому случаю и даже без случая... нарастает глухое недовольство, которое может вылиться сначала в бойкот, а потом в бунт или в восстание. Говорят с сожалением о большевиках и даже о царе»...
В сущности, все в центры восстаний создались задолго до перехода правительственной власти в руки адм. Колчака.
Первое большое восстание возникло в Славгородском у. в сентябре 1918 г. (несколько еще раньше было восстание в Рубцовской волости); в октябре произошли восстания в семи волостях Мариинского у. Томской губ. и в Верхнеудинском у. Забайкальской области; к началу ноября относится организация отрядов Кравченко и Щетинкина в Канском и Красноярском уездах; в начале декабря бунт в Тасееве и Мазинской вол. Амурской обл. Едва ли не все эти бунты в той или иной степени были организованы коммунистическими ячейками33.
Историк сибирского движения Парфенов [Сибирские эсеры и расстрел славгородских крестьян. «Пр. Рев.». Кн. 7] славгородское восстание ставит в связь с другими восстаниями в августе и сентябре на почве мобилизации. Восстание приобрело массовый характер в силу «бессмысленного расстрела и наложения контрибуции»... Вероятно, в значительной степени так и было. Но когда впоследствии участники восстания протестовали против упрощенного изложения, они также были правы. «Такое освещение, — утверждал один из них, Чуев34, — может дать только тот, кто не был очевидцем событий»... Коммунистический военно-революционный штаб восстания (ком. Теребилло) проводил совершенно определенную свою линию.
Об октябрьском восстании в Мариинском у. губернский комиссар Гаттенберг докладывал министру вн. дел:
«Причиной восстания служили провокационные слухи о падении власти Сибправительства, захвате крупных сибирских городов, сообщение об отобрании у крестьян союзниками 95% хлебных запасов, лошадей, фуража. Элемент восставших — в большинстве красные Мариинского фронта при июльских боях, с наступлением холодов вышедшие из таежных пространств с оружием и провоцировавшие крестьян. Установлена причастность к организации восстания ответственных работников местного союза кооперативов, приютивших бывших советских деятелей» [«Хр.». Прил. 234].
В минусинском движении, развернувшемся в самом начале ноября, выступают уже довольно определенно отмеченные выше черты, хотя начальник Минусинского округа ген. Шильников в своем отчете 11 декабря и говорит, что
«из всех данных разведок и следственного материала можно заключить, что настоящие беспорядки являются обыкновенным крестьянским бунтом, почти без всякой политической окраски, и нет никаких данных предполагать, что они были подготовлены извне и заранее. Интеллигентных руководителей движения не было. Быстрое присоединение более зажиточных крестьян объясняется тем, что их обманули, что города Иркутск, Красноярск и Ачинск уже взяты большевиками... стращали крестьян, которые в июне свергли большевиков, говоря им, что только присоединением к настоящему восстанию можете заслужить снисхождение, когда здесь утвердится советская власть» [Партиз. движение. С. 31—32].
Военная власть не сумела вполне разобраться в обстановке, по своей «близорукости» не придавая большого значения начавшемуся брожению. Между тем если не в Минусинском у., то в соседних уже уездах с августа были организованы не только большевицкие повстанческие ячейки, но и «банды» из рассеянных летом красногвардейцев и военнопленных. Минусинское восстание 1918 г. интересно своей бытовой обстановкой. Дело началось со сбора податей и разгона волостных земских управ. В с. Дубенском образуется противоправительственный комитет. Восставшие — их исчисляют в 5000 чел. — идут на казачьи станицы, чтобы сбросить «казацкое иго». Шныряют большевицкие агенты. Руководит восстанием самогонщик Кульчицкий, организующий 11 ноября нападение на ст. Каратуз. «Сформированная накануне дружина из казаков, около 100 человек, — сообщает официальный доклад, — заперлась в церкви и церковной ограде. Произошла небольшая перестрелка, после чего начали вести переговоры о сдаче казаками оружия. Получив обещание оставить их живыми, казаки выдали мятежникам 147 винтовок, после чего крестьяне бросились в церковь, вытаскивали оттуда поодиночке и с диким криком убивали казаков кто чем мог» [Партиз. движение. С. 31].
Казаки в станицах организуют самооборону. В самом Минусинске, окруженном с трех сторон, — число восставших насчитывается уже в 10 тыс. — мобилизованные Городской Думой граждане пополняют гарнизон: в совокупности 957 чел. В городе имеется орудие и 4 пулемета. Активно действует против мятежников казачья дружина в 250 чел. Несмотря на малочисленность правительственных сил, мятежников удается рассеять. Дружина крестьян-добровольцев охраняет телеграфную линию и уничтожает самогонные аппараты. Назначенная военно-следственная комиссия рассмотрела 770 дел; 160 человек преданы военно-полевому суду, из них 87 вынесен смертный приговор. Успокоения, однако, не наступило, и в феврале нач. Минусинского военного округа доносит:
...«Крестьянская масса под влиянием непрекращающейся работы большевиков и в связи с волнениями в Красноярском и Канском уездах начинает волноваться. Большую роль в деле возбуждения населения против существующего Правительства сыграли казаки енисейского полка, со стороны которых были случаи грабежей и также насилий над женщинами... Все попытки произвести какие-либо расследования о злоупотреблениях казаков оканчиваются ничем, ибо по произведенным дознаниям все обыкновенно обстоит благополучно»... [Партиз. движение. С. 35].
В первом минусинском восстании имеется одна черта, отмеченная еще Пишоном для крестьянских настроений начала 1918 г. — отчетливо сказывается борьба деревни с городом. Пишон говорит о возможности в Сибири жакерии — грабежа городов вооруженными крестьянами [Доклад. С. 32]. Впоследствии этот грабеж принимал местами самые уродливые формы. Вот жанровая картина, зафиксированная представителем Советской армии В. Эльциным на пути следования через Барнаул-Семипалатинск—Бийск.
«Недалеко от г. Камня наше внимание было приковано следующим обстоятельством: Вначале изредка, а потом все чаще стали попадаться по дороге подводы с гвоздями, железом, домашней рухлядью, поломанными машинами, отвинченными кранами, самоварами, мануфактурой и прочим. Голиков (нач. партизан) разъяснил нам, что, очевидно, в городе нашли много «добра». Но крестьянин, который нас вез, объяснил это проще: «Коли везут столько, значит, партизаны хорошо поработали»... На наш вопрос, где они берут это добро, он ответил: "Почитай, что больше всего в лавках да магазинах"»... [Борьба за Урал. С. 267-268].
Шайка Гришки Хромого в Иманском у. поступала еще проще: она, развинтив рельсовые гайки, скатывала под откос товарные поезда; товары погружались на подводы, и крестьяне той волости, где хозяйничал Гришка, получали даром и керосин, и сахар, и муку, и многое другое [Андрушкевич. С. 134].
* * *
Я не имею возможности подробно изложить историю крестьянского и повстанческого движения за описываемый период времени. Это требует большой и специальной работы. Колосов, как мы знаем, имел в своем распоряжении особую карту35, на которой было занесено несколько десятков партизанских «фронтов» к середине ноября 1919 г., когда партизанское движение достигло наивысшего развития. Последуем его указаниям36.
Первая южная группа — это Алтайская губ., хлебная житница Сибири, район обеспеченных крестьян и маслодельных артелей. Самый крупный очаг — Славгородский у. Центр движения — с. Солоновка, место пребывания главного штаба повстанческих войск. Другой центр — Семипалатинский район с жел.-дор. ст. Рубцовка. Повстанческие отряды Мамонтова, оперирующие в треугольнике Славгород—Барнаул—Усть-Каменогорск — целая армия в 25 тыс. чел., вооруженная пулеметами (имевшая даже орудия), состоявшая из пехоты и конницы37. Ее несколько раз рассеивали правительственные войска, но она вновь возрождалась. В ноябре, после падения Омска, повстанцы, численность которых большевицкие источники с необычайным преувеличением (поскольку речь идет о чем-то организованном) доводят до 120 тыс., захватили Славгород, Семипалатинск, Барнаул. В горном Алтае (юг Бийского у.) третий центр в Черном Ануе. Наконец, в части, граничащей с Кузнецким у. Томской губ., — район деятельности Рогова и Новоселова.
Вторая группа — Каинский и Тарский уезды Томской губ., где выступают небольшие отряды 50—600 чел. под началом Лубкова и др.
Третья группа — Енисейская губ. На юге, в ее житнице — Минусинском крае, держится «армия» Кравченко и Щетинкина, насчитывающая от 20—25 тыс. бойцов и имеющая все рода оружия (у Кравченко 3 орудия, 25 пулеметов). Колыбель Кравченко — Степно-Баджейская вол. на южной границе Канского и Красноярского у. Щетинкин занимает северную часть Ачинского у. Обе группы, соединившись, образовали весной общий Камарчагско-Манский фронт (Камарчаги — ст. жел. дор. в 60—70 верстах от Красноярска; Мана — горная река) со «столицей» повстанческой территории в с. Степном Баджее. Здесь велась планомерная агитация, собирались съезды крестьян, издавалась гектографированная газета «Крестьянская Правда». Колосов подчеркивает, что этот район в течение полугода был недоступен правительственным войскам и «власти Колчака до 1 июня здесь буквально не существовало». Повстанцам крайне благоприятствовали географические условия. Повстанческая армия на Мане была окончательно разбита к 15 июня и ушла в Урянхайск и в Монголию. Отсюда вновь выступила в Минусинском у., завладела Минусинском (сентябрь—январь). Долгое пребывание на одном месте дало возможность «советскому» повстанчеству заняться «идеологическим» строительством, выразительницей которого явилась печатная газета «Соха и Молот» (№ 60) — коммунистическо-эсеровская смесь.
На севере от Канска, в 120 верстах от жел. дороги, находился второй очаг Енисейской губ. — Тасеево. Из 49 волостей земская управа, по словам Колосова, могла сноситься лишь с 10—12 волостями, примыкавшими к железной дороге. Место операций бр. Бабкиных и Яковенко. На восток от Канска лежал Тайшетский повстанческий район — на границе Енисейской и Иркутской губ. Северные волости Канского у. и Нижнеудинского, Киренского у. Иркутской губ. занимал «Шиткинский фронт».
Движение в Енисейской губ. и по своему территориальному положению, и по своему характеру было, конечно, наиболее серьезным и опасным для власти. Будучи лучше организованным, оно выработало своеобразный повстанческий быт, своеобразную повстанческую дисциплину, которая поддерживалась суровыми репрессивными мерами: напр., в Тасееве за вторую кражу полагалась смертная казнь. Яковенко приводит любопытную солдатскую инструкцию — она даже несколько сентиментальна: говорится в ней о любви к людям, устранении пороков и пр. Здесь призывы к коммунизму — каждый повстанец должен быть коммунистом — перемешаны с добродетельными нравоучениями и медицинскими наставлениями об ограничении половых сношений и т. д. Все это отнюдь, конечно, не препятствовало царившему пьянству и разгулу [Яковенко. С. 81—83].
Идеологию местного большевизма хорошо можно иллюстрировать выдержками из «Военных Известий», которые издавал штаб Шиткинского фронта (отдельные статьи воспроизведены в сборнике «Партизанское Движение...»). Напр., о мирной парижской конференции «Известия» писали: «Во многих местах полился уже кровавый дождь. Причина вновь начавшейся кровавой бойни есть парижская мирная конференция, заседающая в Версале, члены которой — высшие аристократы, буржуи всего мира... Каждое вновь образованное государство старается захватить себе лакомый кусочек земли. Вот на этой-то почве разгорелась новая капиталистическая война с многочисленными человеческими жертвами» и т. д.
В повстанческом быту создавались свои особые начатки «государственности».
Была и местная «контрреволюция». Перед «судом» проходили дела о непризнании советской власти. В Тасееве имеется даже свой Совет нар. хозяйства, который, между прочим, за собирание ягод в лесу карал по всей строгости законов военного времени. Были школы, командные курсы, театр и пр. Оригинальность складывающегося быта оспаривать нельзя. Напр., заведующим политотделом в Тасееве состоял священник Вашкиров, проповедовавший безбожие. Но крестьяне упорствовали. Тогда поп-расстрига облекался в рясу и исполнял просимые требы...
В сущности, это были разбойничьи отряды — «Перстни» и «Коршуны» времен Грозного, перенесенные в обстановку XX в. и умело вскормленные большевиками на сибирской почве. Для того чтобы подобрать стихию, надо было ее обмануть, надо было самим сделаться бандитами, ибо эти разбойные партизанские дружины подчас носили подлинно бандитский характер.
Одна иллюстрация из более позднего уже времени и взятая из жизни другой территории может дать наглядное представление о формах сибирской партизанщины. Чтобы не расширять и не осложнять изложения, я оставлял в стороне большой узел повстанческого движения — Приамурье и Приморскую область. Здесь может быть отмечена та же прямая связь партизан с коммунистами, левыми с.-р., просто с.-р. и всякого рода анархистами-максималистами. Специфическая черта, пожалуй, — помощь, которую оказывают повстанцам китайцы38. Своеобразие обстановки определялось и «нейтралитетом» американцев и наличностью японских сил. И здесь был свой «Кузнецк» — несчастный город Николаевск-на-Амуре. После трех месяцев господства «красных партизан» (с марта 1920 г.) от города остались лишь «сплошная груда камня, железа, бревен и проволоки» и 2000 человек из двенадцатитысячного населения39. Трудно найти более жуткие страницы человеческого озверения и психопатологии, чем те, которые развернули перед миром партизаны, пополненные наемными китайцами, во главе с атаманом унтер-офицером Тряпицыным, бывшим петербургским рабочим-«анархистом», и начальником его штаба «максималисткой» Ниной Лебедевой-Киашко, племянницей бывшего военного губернатора Забайкальской обл. Николаевская трагедия, отличная от аналогичных событий в других местах, быть может, лишь по своему разнузданному масштабу, приобрела особый колорит в силу того, что здесь погибла и значительная часть находившегося в Николаевске японского гарнизона. Партизаны, в сущности, не захватили город, а вошли в него по добровольному соглашению японского командования с городским самоуправлением, осуществлявшим лозунг: «Долой гражданскую войну». История этих партизанских зверств излагалась уже не раз40. Нет никакого сомнения, что партизаны Тряпицын и Лебедева, члены областного Исполнительного комитета советов действовали первоначально в полном контакте и даже по директивам высших партийных кругов41, не только местных, но и центра. Ужасы, имевшие место в Николаевске, и «буферная» тактика большевиков на Дальнем Востоке заставили, однако, последних открещиваться от ответственности за действия партизан (заявление Иоффе на Чаньчуйской конференции) и заявить, что Тряпицын просто уголовный авантюрист. Это характерно для большевицкой тактики. Приморская областная коммунистическая конференция вынесла 11 июля даже резолюцию о предании Тряпицына и К-о суду за самочинные действия, преследовавшие «исключительно личные интересы честолюбия и власти», но за два дня до этого партизанский штаб был расстрелян частью своих же партизан, подстрекаемых «белогвардейскими элементами» и восставших во главе с прап. Андреевым под лозунгом восстановления «демократической власти» против узурпации «кровожадной своры» Тряпицына. Через несколько уже лет большевицкая историография до некоторой степени реабилитирует ошибки «товарищей», объявленных в свое время «уголовными авантюристами», которые заплатили за свои ошибки жизнью.
«Но, — добавляет редакция сборника «Революция на Дальнем Востоке», — вероятно, мало кто не сделал бы тех же ошибок в той дьявольски трудной обстановке, при полной оторванности и малой подготовке к государственной и дипломатической работе»42.
* * *
«Карта» Колосова свидетельствует о немаловажном явлении. Как ни пространственна сама по себе территория большевицко-крестьянских партизанских действий — все это чисто тыловое движение43. Там, где идет непосредственная война с большевиками, в сущности, крестьянских восстаний нет; там, где большевики успели проявить свою власть, антибольшевицкое настроение держится твердо. И никакие эксцессы власти не могут повернуть настроение крестьян в пользу советчины. Часто цитируется приведенная JI. Кролем записка начальника Уральского края Посникова, который ушел в апреле в отставку в силу невозможности для гражданской власти бороться с «военной диктатурой» на местах. «Руководить краем голодным, удерживаемым в скрытом спокойствии штыками, не могу», — писал Посников [с. 169]. И именно этот край, удерживаемый в спокойствии только штыками, дал массовое добровольчество при наступлении «красных» и массовое беженство — и бежала отнюдь не «буржуазия от своего «классового» врага. Уходят низы44.
Явление, которое мы отмечали для конца 1918-го и начала 1919 г. — ко времени успехов на фронте, сохраняет свою силу в течение всего 1919 г., т. е. в период уже неудач и крушения фронта. Официальные сводки агентурных сведений в один голос указывают на то, что солдаты-«европейцы», т. е. с Урала и дальше, гораздо резче настроены против большевиков, чем сибиряки, которые «не знают, что творят большевики, и не верят тому, что про них рассказывают» — так передают слова солдат сотрудники культурно-просветительных ячеек в 7-й и 11-й уральской дивизии [5 октября. — «Пос. Дн.». С. 46]. То же наблюдается и в 8-й камской дивизии, где большинство солдат — добровольцы и не любят сибиряков за их сочувствие большевизму45. Эти факты показывают, как мало обоснованы выводы Какурина, пытающегося доказать ad majorem gloriam [лат. к вящей славе] советской власти, что на территории «красных» тыловые движения имели характер временных колебаний, а у «белых» — это уже «закономерное историческое явление» [II, с. 94]. У «красных» тыловое движение якобы не носило массового характера, у «белых» — это подлинно народное движение. У «красных» к движению примыкал темный элемент деревни, у «белых» — сознательный элемент. Эти выводы не обоснованы — скорее приходишь к заключениям противоположным. «Голытьба», которая в 1918 г. идет в красные отряды, конечно, должна быть отнесена к «темным» элементам деревни. Случаются неожиданности. «Крестьянский посад» Куса — заводское поселение Уфимского района — дает весной 1918 г. отряд добровольцев для борьбы с крестьянскими бунтами: через три недели Куса стоит уже во главе антибольшевицкого восстания во всем округе [Подшивалов. С. 107]. Один документ конца января 1919г. отмечает нам трюки, к которым прибегали большевики в местностях, прилегающих к Перми и сочувствующих «белым» — мобилизованные крестьяне снабжаются удостоверениями, что они пошли добровольцами. Цель таких удостоверений — вызвать со стороны победителей расправу над «добровольцами». Массовое антибольшевицкое движение в Самарской, Оренбургской, Уфимской и Пермской губ. действительно носило чисто крестьянский характер и этим существенно отличается от движения сибирского. Такой же массовый характер носили восстания в Симбирской и Казанской губ. весной 1919 г. [Анишев. С. 228].
Сибирская деревня, не пережившая большевиков46, в значительной степени была нейтральна: «вот тут ваши, а там ихние». Сибирский крестьянин туг на энтузиазм, поэтому он не проявлял его, говорят одни; в силу отсутствия этого энтузиазма он был холоден к большевизму, пытаются утверждать другие [Борьба за Урал. С. 251]. Одно частное деревенское письмо 1 июня 1919 г., после уже широкой волны повстанчества, характеризует отношение к власти как безразличное: крестьяне продолжают не сочувствовать большевикам, но и не желают, чтобы кто-либо их трогал, не желают, чтобы брали солдат, не желают платить податей. Они желают жить вольно, а кто правит — им все равно. Повсюду жажда окончания гражданской войны и стремление заняться своим личным благополучием. Крестьяне не сознают современных событий и не уясняют себе целей борьбы с большевиками, сообщает в октябре сотрудник по культурно-просветительной части 3-й армии. Крестьяне не считают войну своей, говоря, что воюют «белые» и «красные», а им достается «в чужом пиру похмелье» [«П. Дн.». С. 47—48]. Крестьяне нейтральны. Донесение по Новониколаевскому району от 30 ноября сообщает:
«...настроение крестьян какое-то запуганное. Боятся высказывать свое мнение даже наедине. Отношение к Правительству равнодушное: они и за Правительство и не против большевиков. Чувствуется, что война всех утомила и мешает их работе. У всех единодушное желание, чтобы она скорее окончилась. При этом многие относятся совершенно безразлично, в чью пользу эта война закончится — в пользу ли Сибирского правительства или в пользу большевиков, только бы окончилась. На войну большинство смотрит как на «убиение своего брата», исключение составляет самая незначительная часть, по преимуществу из зажиточных крестьян. Сведения о Правительстве, его намерениях и задачах и о положении фронта самые скудные, по большей части, неправильные... Ярых большевиков среди населения нет, нет и открытой большевицкой агитации, но скрытая есть, и распространяются провокационные слухи. О советской власти кр-не не имеют ясного представления» [«П. Дн.». С. 66].
Таково настроение к моменту, когда власти «Верховного правителя» фактически уже не было. Аналогичное можно отметить в самом центре партизанского движения. 5 декабря 1919 г. в Красноярской Городской Думе, «при закрытых дверях», гласный Смирнов говорит по поводу разросшегося движения Щетинкина: «Ведь сначала население отнеслось к нему враждебно. А далее?.. Когда пришли туда наши отряды? Это надо не забывать в момент объявления новой мобилизации, которая ляжет главным образом на деревню. Настроение деревни сейчас или нерешительное, или отрицательное к власти. Деревня нередко говорит: «Пусть войну эту кончают Колчак с Лениным единоборством. Наше дело — сторона». Такое настроение деревни очень опасно для Правительства и особенно для государства» [«П. Дн.». С. 78]. Нейтралитет означает пассивность47. Пассивность открывает дорогу «вольнице». Властвует меньшинство и терроризирует большинство.
Не только для Сибири, но и для всей России мне представляется недоказуемым тезис, который лег как бы в основу социологических «размышлений» С. JI. Франка о революции в «Русской Мысли». Он, между прочим, писал о причинах неудачи «белого движения»: «При приближении «белых», в которых народ — правомерно или нет, это в данном случае безразлично — видел насадителей старой власти, власти «господ», он забывал свои, так сказать, «домашние», «семейные» счеты с опостылевшей ему советской властью и снова давал ей свою поддержку» [с. 256]. Насколько крестьяне забывали свои «домашние» споры, свидетельствует та кровавая междоусобная борьба, которая подчас шла в самой крестьянской среде. И не только в Сибири. Вот что пишет, отчасти как очевидец, автор цитированных уже очерков, В. Я. Гуревич: «Характерные проявления этой междоусобицы имели место уже в апреле и мае 1918 г. в Самарской и Уфимской губ., где в некоторых селах (напр., знаменитой Ивановке Николаевского у., ныне Пугачевского) борющиеся партии, попеременно бравшие верх в зависимости от приходившей извне помощи со стороны красногвардейцев или восставших против сов. власти уральских казаков, по нескольку раз вырезывали друг друга, добивая в следующий раз успевших скрыться от предыдущей резни» [«Рев. Рос.», № 57-58, с. 31]48.
* * *
Случайные настроения легко изменяются. Крестьянское движение в Сибири чрезвычайно быстро пережило новую эволюцию. Ее история выходит уже за пределы поставленной темы. Отмечу бегло только некоторые штрихи для характеристики этих настроений; они дают возможность правильнее оценить то, что было в так называемый колчаковский период.
Пришла в Сибирь советская власть, и крестьянское противосоветское движение охватывает в 1920—1921 гг. действительно всю Сибирь. Конечно, «партизанщина» этого времени, по отзыву советских деятелей, носит уже только «грабительский и дезорганизаторский характер». Если в отдельных случаях старые «вожди» оказываются подчас во враждебном советской власти лагере, если отдельные разбойные банды не могут подчиниться государственному режиму большевиков и продолжают гулять по таежным лесам и урочищам вольной Сибири, то все же деклассированным элементам гораздо легче было слиться с большевицкой «государственностью», ибо большевики всегда, в сущности, опирались на своего рода деклассированные элемента. «Строителям» государства пришлось вступить в борьбу с Лубковыми и другими повстанческими атаманами, много раз высказывавшими «преданность» советской власти. Эта преданность хороша была только в момент борьбы с противником, когда по немецкому методу 1917 г. разнуздывалась стихия для развала армии и тыла противника. Бесподобную картину рисует автор очерка «Пятая армия и сибирские партизаны». На территории Мамонтова лежит г. Усть-Каменск, куда вступил один из полков 5-й армии и организовал ревком из большевиков и левых эсеров. Город бьш мертв, хозяйничали 12 тыс. партизан, разъезжавших с «песнями и криками... в различных одеждах, от порванной поддевки до поповской рясы, с кадилами в руках, причем на шеях лошадей были подвязаны кисти церковных одеяний» [Борьба за Урал. С. 272]. Пикари49 «шуровали» по складам и магазинам и устроили бунт, когда около винных складов была поставлена вооруженная охрана. Ревком только и занимался тем, что выдавал записки об имуществах, не подлежащих конфискации и реквизиции. Единственной целью ревкома было — расформировать и разоружить людей, «выбитых из колеи и представляющих фермент для всяческих движений и восстаний»...
Не выбившемуся из колеи крестьянству было труднее приспособиться к государственному принуждению новой власти, ибо отрицательное отношение к прежней власти в значительной степени определялось жертвами, которые требовала война. Новая власть пришла не только «для уничтожения колчаковщины, но и за хлебом для Москвы и Петрограда» (Смирнов).
Движением сибирского крестьянства в 1920—1921 гг. руководят уже не сомнительные авантюристы, а новый политический крестьянский союз, в состав которого входят или в контакте с которым работают не только соц.-рев. и нар. соц., но и представители вновь создавшихся нелегальных офицерских организаций. Так жизнь, завершив один круг, начинает его сначала.
Эсеровская печать характеризует некоторые из партизанских отрядов как «черносотенно-башибузукские». И тем не менее ей приходится признать, что симпатии населения на стороне этого «сброда», потому что он идет против коммунистов.
Так, известный нам Лубков орудует под вызывающим флагом: «Без коммунистов и жидов», и тем не менее корреспондент «Рев. России» [№ 12] отмечает, что его банда не носила «бандитского характера: банда пополняется элементом из наиболее хозяйственной и честной части населения»50.
О деятельности и организации крестьянского союза мы имеем пока главным образом официальные большевицкие материалы — заключение следователя Ч. К. Павлуновского и некоторые показания арестованных членов союза51 в феврале 1921 г.
Что же пишет Павлуновский? [«Сиб. Огни», 1922, № 2.] Союз был «беспартийным» для того, чтобы сблизить разнородные элементы, отошедшие от партии или даже ушедшие от политики — преимущественно в сектантство. В инициативную группу, образовавшуюся уже в марте 1920 г., вошли пять эсеров и три энэса. Территорией деятельности крестьянского союза должна была быть Западная Сибирь — Алтайская, Семипалатинская, Омская, Красноярская, Томская, Новониколаевская, Тюменская и Челябинская губ. Характерно показание Игнатьева относительно Алтайской губ.: «В некоторых случаях мне приходилось встречаться с организациями крестьянского союза, руководимыми лицами, ничего общего не имеющими с нашей организацией. Эти организации стремились к проведению монархических начал и идеи национализации земли». В Омске эсеры из местного отдела крестьянского союза вошли в соглашение со штабом военной организации Густомесова, не имевшей определенной политической платформы. Густомесов — студент Петроградского политехнического института, голосовавший в 1917 г. при выборах в Учр. Собрание за эсеров. В Самаре он принял участие в борьбе с большевиками. «Директория, — показывает сам Густомесов, — застала меня под Белебеем. Никакого желания защищать Директорию у меня не было... Разгону Директории сочувствовал. В армии Колчака получил штабс-капитана. Под Красноярском сдался советским властям... из лагеря бежал и скрылся в степи. Побег устроен сочувствовавшей в Омске офицерской организацией». После длительных разговоров «белогвардейской организации» с крестьянским союзом достигнуто было соглашение, причем Густомесов заявил о признании им «политического руководства» со стороны партии с.-р.
В обзоре Павлуновского отмечены довольно характерные черты деятельности союза в разных районах Сибири. Так, тюменская организация, подготовляя восстание, выпустила воззвание с лозунгом: «Да здравствуют свободные крестьянские советы». После того как восставшими был захвачен Тобольск, повстанческий штаб издавал газету «Голос Народной Армии». Лозунги газеты: «С нами Бог», «Да здравствует советская власть и сибирское крестьянство», «Долой коммунистов». 22 февраля в Тобольске была сконструирована временная власть. Высшим гражданским учреждением в городе являлся крестьянский городской совет. Представителем городского совета был избран кадет Степанов, начальником гарнизона — с.-р. Силин, комендантом города — «белогвардеец» кап. Замятин. В красноярскую организацию, возглавляемую нар. соц. Сибирцевым, тоже входят: «эсеры, энэсы, земцы и белогвардейцы». «Земцы» настаивали на созыве Земского Собора по свержению советской власти; эсеры и энэсы выдвигали требование Учр. Собрания; «белогвардейцы» стояли за монархию, но соглашались и на Земский Собор, и на Учр. Собр. Соглашение было достигнуто на следующей редакции спорного пункта: «Основа устройства государственного быта — всеобщее избирательное право, Земский Собор — Учр. Собр.». Та же картина в Новониколаевской губ. Воззвание к войскам приглашало «уничтожить власть палачей и даровать измученной стране хлеб, мир и свободу». «Таким образом, — заключает Павлуновский, — новый тип контрреволюции в Сибири нашел свое выражение в сибирском крестьянском союзе, в котором сомкнулись в едином фронте все антикоммунистические элементы»52.
Союз был ликвидирован, часть членов его принесла покаяние и отмежевалась от «авантюры». Большая часть членов союза была расстреляна.
Комментировать эти материалы, прошедшие через однобокую чекистскую призму, еще преждевременно. Многое представляется в них не совсем понятным, но многое чрезвычайно показательно и находит подтверждение в других источниках, которыми мы уже можем располагать... Характерно, напр., то, что отмечает попутно корреспондент «Рев. Рос.»: «В тобольском восстании 1921 г. интеллигенция и партии играли незначительную роль; интеллигенции не доверяли, обвиняя ее в сотрудничестве с коммунистами. Никакими политическими «планами» восставшие не задавались, ими руководила одна мысль: долой коммунистов. После свержения коммунистов «буржуазии» возвращалось отнятое имущество». Любопытно, что большевицкая пресса, в свою очередь, отмечала, что сибирское движение «кулаков» как бы связано с именем Колчака, причем у крестьян складывалось убеждение, что Верховный правитель сумел уйти из рук большевиков53.
4. Борьба с партизанством
Все цифры, определяющие количество организованного партизанства, конечно, совершенно произвольны. Парфенов, неизвестно на основании каких данных, исчисляет к сентябрю 1919 г. эту силу в 120 тыс.54 Еще труднее при разнохарактерности ее состава выделить в ней чисто крестьянский элемент55, но, когда речь идет о сентябре и последующих месяцах (для минусинского партизанства это было время наибольшей организованности), надо иметь в виду, что это уже вторая волна рассеянного партизанства, воскресавшего и обраставшего телом с момента, когда начиналась катастрофа и Сибирь на несколько месяцев отдавалась во власть анархии. В таежных деревнях считали, что власть Верховного правителя пала, а сторонники идеи единого фронта через кооперативы усиленно разглашали, что советская власть переменилась, и слухи ползли и ширились в малоосведомленной сибирской деревне56.
Как надлежало бороться с разнузданной большевиками стихией? Несомненно одно: сибирская власть не обратила должного внимания и недооценила грозной опасности, которая таилась в крестьянских восстаниях, начавшихся раннею осенью 1918 г., т. е. через два-три месяца после освобождения Сибири от большевиков. Основной военный фронт отвлекал внимание. «Сельские дружины», которые организовались для борьбы с шайками («Наша Заря», 30 июня), не имели по большей части даже оружия57. Местные батальоны подчас представляли собою не силу, а бессилье. Яркую оценку того, что наблюдалось, напр., в Канске, дает в мартовском рапорте полк. Мартынов. Прибыв в Канск 17 октября, Мартынов нашел здесь батальон байкальского полка: «это была толпа в 353 чел., раздетых и разутых людей, офицеры разбежались» [Партиз. движение. С. 109]. Рота «цензовой» молодежи «целиком почти переколота» в Канском у.; отряд Красильникова, «потерявший 3/4 своего состава» (донесение полк. Кадонеца из Красноярска 24 февраля), — все это достаточно характеризует первоначальные методы борьбы. Отовсюду вытекают жалобы на то, что ведение карательных операций малыми силами влечет за собою только неудачи и ободряет партизанские отряды. «Мнение всех офицеров отряда, что неудачи в действиях наших отрядов являются следствием ведения операций малыми силами. Значение восстания достаточно не оценено» [доклад кап. Суровцева. — «П. Дн.». С. 148].
В первые месяцы и карательные меры в отношении повстанцев, при наличии многочисленных эксцессов отдельных отрядов, носят сравнительно мягкий характер... Гражданские власти всегда пытаются сдержать карательные отряды. «Подходить к создавшимся условиям только с тактической и стратегической точек зрения, как это делают военные власти, невозможно, — пишет командующему войсками управляющий Иркутской губ. 21 марта, — проявить же какую-нибудь умиротворяющую работу общественные силы не могут, ибо всякое общение с массами может быть истолковано любым доносчиком по-своему» [там же. С. 200]. «Общественные силы» удерживают военные власти от решительных мер. В одном из рапортов, поступивших управляющему Иркутской губ. (с.-р. Яковлева), из района Шиткина сообщается: «Местные военные власти готовят истребление Шиткина, предпринято скрытое наступление. Все это определенно учтется населением, и я очень опасаюсь расширения движения». В противовес военным мерам «общественные силы» могли предложить только воззвания. Конечно, в это бурное время всякого рода умиротворяющие воззвания (напр., воззвание к повстанцам Енисейской губ., подписанное управляющим губернией Бондарем, бывшим эмигрантом и участником красноярского восстания 1905 г.) не достигали цели.
Сама военная власть всячески борется с эксцессами на местах. «Мы сами насаждаем большевизм грабежами и насилием» (действия Трофимова и Красильникова), — рапортует полк. Мартынов в штаб Иркутского военного округа 9 марта о положении в Енисейской губ. «Прекратить самыми решительными мерами, не стесняясь даже смертной казни», — кладется резолюция в штабе на цитированном выше докладе начальн. Минусинского военного района ген. Шильникова о безуспешной борьбе его с действиями отдельных карательных отрядов... В мае командующий войсками Иркутского военного округа ген. Артемьев докладывает военному министру: «Атаман Красильников совершенно бездействует, занимается исключительно пьянством и безобразием, тем же занимаются его офицеры; солдаты производят самочинные обыски с целью грабежа, насилуют женщин. Все население жаждет большевизма. Положение критическое» [там же. С. 147]. Быть может, здесь невольно очень сгущены краски58. Но характерно, что это сообщение идет от высшей военной власти. Ясно, что она не пыталась покрывать своим авторитетом бытовые насилия эпохи59. После возмутительной расправы, выразившейся в повешении канского городского головы, отряд Красильникова был отправлен на фронт. Но не в одном только отряде Красильникова было дело. «Трехмесячное топтание на одном и том же месте частей енисейского отряда, — докладывает начальник разведки штаба Иркутского округа 1 мая, — вызываемое его малочисленностью, громадным районом восстания, моральной слабостью частей, начальники которых просят пополнения на замен отдаваемых под военно-полевой суд за грабежи не присылать, и разнообразием вооружения, с наступлением распутицы может заставить последние остатки благомыслящего населения принять красную ориентацию» [там же. С. 149].
К концу марта было решено «топтание на месте» в отношении Енисейской губ. кончить. Общее командование на партизанском фронте было вручено ген. Розанову. Целью этого назначения, очевидно, было стремление вытеснить «атаманщину» при подавлении восстаний. По крайней мере военный министр, ген. Степанов, в секретной телеграмме Розанову 13 мая удивляется, что «за два месяца общего высшего руководства не принято мер парализовать впредь чисто атаманские наслоения отдельных отрядов, не связанных единым, объединяющим началом, обязательным для каждой воинской организации» [там же. С. 174].
С большой суровостью стал действовать Розанов. К июню партизанское восстание внешне было подавлено60. Розанов 24 июня мог объявить о прекращении военного положения. Военным начальникам предписывалось «перейти к нормальным условиям жизни» и «приступить к постепенной передаче временно взятых на себя гражданских и административных обязанностей».
«Вместе с тем, — говорил Розанов в приказе 24 июня, — я нахожу возможным отменить следующие мои обязательные постановления, вызванные исключительной обстановкой, при которой подавлялись уже ликвидированные восстания:
1. О расстреле заложников (обязательное постановление от 28 марта 1919 г.).
2. О расстреле на месте без суда за преступления, перечисленные в моем обязательном постановлении от 26 марта сего года, а заменой указанной меры пресечения преданием полевому суду (обяз. постан. от 26-го 1919 г.), и...
3. Приказ от 27 марта начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания». [Партиз. движение. С. 188].
На описаниях жестокостей, пожалуй, можно и не останавливаться, тем более что проверить настоящую действительность при современном состоянии материала мы абсолютно не можем. О том, что усмирение было жестоко, свидетельствует, помимо изданных обязательных постановлений, хотя бы такая телеграмма (14 апреля), посланная иркутским штабом в Омск и во Владивосток: «...в отношении ликвидации восстания в районе Тайшета проводятся самые жестокие меры до расстрелов и повешения без суда включительно» [там же. С. 124]61. Но в описании противной стороны слишком много тенденциозного: и в брошюре Ракова, повествующего с чужих слов, и в статьях Колосова. Не приходится уже говорить о большевиках. Здесь тенденция у некоторых «историков» переходит в измышление. Любопытно, что Парфенова изобличили свои же коммунисты по другому делу — по делу о подавлении восстания в Славгородском у. Подавлял там восстание отряд Анненкова. Конечно, он расстрелял и выпорол в короткий срок в Славгородском и Кузнецком районах больше 5000 человек. В одном Славгороде было расстреляно 1667 чел. Парфенов красочно рассказывает, как Анненков (12 сентября 1918 г.) приказал изрубить более 500 человек на площади в Славгороде. В действительности, как оказалось, «никаких большевиков не рубили».
Один из непосредственных участников движения среди похороненных Парфеновым нашел благополучно здравствующих [«Сиб. огни», 1926, № 6, с. 16].
Колосов очень возмущается, что на карательную деятельность Правительства в Енисейской губ., на «ужасы жизни» общество плохо реагировало: очевидно, «нервы у всех притупились». Да, притупились. Время было жестокое. В оправдание тех, которые были жестоки, надо сказать, что с ними, как мы видели, также жестоко расправлялись. Сам Колосов рассказывает про Енисейск, захваченный повстанцами в феврале: «Войска попадали в засаду и гибли, жестоко истребляемые повстанцами. У крестьян, живущих по тракту на Енисейск, в эту зиму народился особый промысел. «Туда мы возили войска, а оттуда гробы», — объяснил мне этот вид промысла один из крестьян».
* * *
«Верховный правитель» формально отвечает за все. Но адм. Колчака сделали не только ответственным, ему приписали не только инициативу суровых мер в отношении повстанцев, но ему даже приписали выработку детальных мер «беспощадной» расправы «по-японски». На этом примере можно довольно наглядно показать, как складываются легенды, как они подхватываются без критики политическими противниками и незаметно входят в литературу. Для Колосова «нет никакого сомнения», что приказ ген. Розанова о сожжении мятежных деревень, об учреждении института заложников является почти механическим воспроизведением циркулярного распоряжения «омского падишаха». За все ужасы ответствен «сам Колчак», утверждал впоследствии Вас. Гуревич, нашедший в материале Колосова «вполне исчерпывающее до конца» доказательство «личной ответственности» Колчака: «Провести какое-нибудь принципиальное различие между ним, Ив.-Риновым или Семеновым действительно совершенно невозможно»62.
Такой вывод диктуется лишь неумением или нежеланием критически отнестись к публикуемому документу. Чтобы это доказать, я должен буду подробно остановиться на некоторых деталях. Для личности Колчака это чрезвычайно важно. Во время следствия ему был задан вопрос: известна ли ему деятельность Розанова в Красноярске. Колчак ответил:
«Мне известен один прием, который я ему запретил, это — расстреливание заложников за убийство на линии кого-либо из чинов охраны. Он брал этих людей из тюрьмы (Попов. Вы запретили, а не предали суду за убийство?). Нет, потому что я считал, что, в сущности говоря, он имел право бороться всеми способами, какие только возможны... но... я считал, что ответственность лиц, не причастных к делу, недопустима... Я не думаю, чтобы Розанов такие распоряжения давал, потому что по этому поводу есть телеграммы, которые я посылал Артемьеву и Розанову, которые имеются даже в газете в виде приказа Артемьеву, где я давал общие указания... Это указание, конечно, не указывало как общую меру сжигание деревень, но я считаю, что во время боев и подавления восстания такая мера неизбежна и приходится прибегать к этому способу. Эта мера, конечно, не может быть применена в виде распоряжения, но только как мера во время столкновения... Сколько мне известно из доклада того же Розанова, я знал два или три таких случая... и я признал это правильным, потому что эти случаи относились к д. Степно-Баджейской63... Это была укрепленная база повстанцев, следовательно, она могла быть разрушена и уничтожена, как всякое укрепление. Второй случай — Княжеское и третий случай — Тасеево»...
Далее Колчак передает беседу с «одним из членов революционного комитета»:
«Когда я в одну деревню пришел с повстанцами, я нашел несколько человек, у которых были отрезаны уши и носы вашими войсками». Я ответил: «Я наверное такого случая не знаю, но допускаю, что такой случай был возможен». Он продолжает: «Я на это реагировал так, что одному из пленных я отрубил ногу, привязал ее к нему веревкой и пустил его к вам в виде око за око, зуб за зуб». На это я ему только мог сказать: «Следующий раз весьма возможно, что люди, увидав своего человека с отрубленной ногой, сожгут и вырежут деревню. Это обычно на войне и в борьбе так делается» [«Допрос». С. 211—213].
Таково объяснение Колчака. По-иному интерпретируют его политические противники64. 27 марта ген. Розанов, назначенный начальником военных сил, действовавших по подавлению беспорядков в Енисейской губ. и Нижнеудинском у. Иркутской губ., издал упомянутый выше приказ начальникам военных отрядов в районе восстания. Странным образом среди всех материалов, изданных советской властью о подавлении партизанского движения, только текста этого приказа нет. Колосов в своей книге приводит лишь выдержки из него. Гуревич воспроизводит его полностью, заимствуя из изданной в Праге брошюры Солодовникова «Сибирские авантюры и ген. Гайда» [с. 86—87]... У нас, таким образом, не может быть никакой уверенности в том, что текст приказа вполне соответствует подлиннику. (Припомним, что в этом сомневался Колчак.) Приказ гласил:
«1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличности таковых имеются — расстреливать десятого.
2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и т. д. отбирать в пользу казны.
3. Если при проходе через селения жители по собственному почину не известят правительственные войска о пребывании в данном селении противника, а возможность извещения была, на население накладывать денежные контрибуции за круговой порукой. Контрибуции взыскивать беспощадно...
4. При занятии селений по разбору дела неуклонно накладывать контрибуции на всех тех лиц, которые способствовали разбойникам, хотя бы косвенно, связав их круговой порукой.
5. Объявить населению, что за добровольное снабжение разбойников не только оружием и боевыми припасами, но и продовольствием, одеждой и проч. селения, виновные, будут сжигаться, а имущество отбираться в пользу казны. Население обязано увозить свое имущество или уничтожать его во всех случаях, когда им могут воспользоваться разбойники. За уничтоженное таким образом имущество населению будет уплачиваться полная стоимость деньгами или возмещаться из реквизированного имущества разбойников.
6. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно.
7. Как общее руководство помнить: на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть как на врагов и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки, причиненные военными действиями той части населения, которая стоит на стороне Правительства» [Солодовников. С. 86—87].
Даже Колосов сообщает:
«Весной 1919 г. мне был доставлен приказ начальника гарнизона г. Енисейска пор. Толкачева от 3 апреля за № 54, в котором пор. Толкачев опубликовал полученную им от командующего войсками Иркутского военного округа ген. Артемьева телеграмму, датированную 23 марта за № 0175-632... Телеграмма с прямой ссылкой на Колчака была такова:
«Передаю следующие повеления Верховного правителя: «Возможно скорее решительнее окончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже и жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживавшего их: в этом отношении пример японцев, в Амурской области, объявивших об уничтожении селений, скрывающих большевиков, вызван, по-видимому, необходимостью добиться успехов в трудной партизанской борьбе в лесистом месте. Во всяком случае, в отношении селений Кияйского, Нарвского должна быть применена строгая кара. Я считаю, что способ действия должен быть приблизительно таков:
1. В населенных пунктах надлежит организовать самоохрану из надежных жителей.
2. Требовать, чтобы в населенных пунктах местные власти сами арестовывали, уничтожали, агитаторов и смутьянов.
3. За укрывательство большевиков, пропагандистов и шаек должна быть беспощадная расправа, которую не производить только в случае, если о появлении тех же лиц (шаек) в населенных пунктах было своевременно сообщено ближайшей военной части, а также о времени ухода этой шайки и направлении ее движения было своевременно донесено войскам. В противном случае на всю деревню налагать денежный штраф, руководителей деревни предавать военно-полевому суду за укрывательство.
4. Производить неожиданные налеты на беспокойные пункты и районы: появление внушительного отряда вызовет перемену настроения в населении.
5. В подчиненных вам частях установить суровую дисциплину и порядок. Никаких незакономерных действий, грабежей, насилий не допускать. С уличенным расправляться на месте, пьянство искоренять, пьянствующих наказывать, отрешать, карать.
6. Начальников, не умеющих держать вверенные им части на должной высоте, отрешать, предавая военно-полевому суду за бездействие власти.
7. Для разведки и связи пользоваться местными жителями, беря заложников. В случае неверных и несвоевременных сведений или измены — заложников казнить, а дома, им принадлежащие, сжигать. При остановках, на ночлегах, при расположении в деревнях части держать сосредоточенными, приспособлять занимаемые помещения к обороне, сторожевое охранение выставлять, держаться принципа качественности, а не численности охранения, причем должна быть постоянная проверка несения службы; брать заложников из соседних, не занятых красными частей селений. Всех способных к боям мужчин собирать в какое-нибудь большое здание, содержать под охраной и надзором на время ночевки, в случае измены, предательства — беспощадная расправа».
Нет никакого сомнения, — продолжает Колосов, — что эта телеграмма представляла собой циркулярное распоряжение, посылавшееся Колчаком не только г. Артемьеву, но и другим уполномоченным по охране государственного спокойствия, в том числе, разумеется, ген. Розанову. С этой точки зрения заслуживают сопоставления прежде всего даты, которыми помечены как приказ ген. Розанова, так и телеграмма Артемьева, передавшая «повеления Верховного правителя»: телеграмма имеет пометку 23 марта (несомненно опять-таки, что около этого числа Артемьев и получил распоряжение Колчака), а приказ датирован 27-м числом того же месяца. Очевидно, как только ген. Розанов получил инструкцию от адмирала Колчака, — по всей вероятности одновременно с тем, как ее получил ген. Артемьев, — так он тотчас же применил ее к делу, не откладывая ни одного дня, но и не опережая адмирала самовольными действиями. Он поступал по точному смыслу Полевого устава, который адмирал Колчак считал лучшим сводом законов для управляемой под его диктатурой страны».
Уже на основании внешней формы этой телеграммы можно было бы сказать, что она не могла воспроизводить целиком распоряжение Верховного правителя. Перепечатывая эту телеграмму с сокращением, Гуревич выпустил, между прочим, весьма важные строки: «Я считаю, что способ действия должен быть приблизительно таков» и т. д. Приведенная фраза, очевидно, должна была принадлежать уже ген. Артемьеву. Сама по себе телеграмма пор. Толкачеву способна вызывать недоумение. Дело в том, что с назначением ген. Розанова «уполномоченным командующего войсками Иркутского воен. округа по охранению госуд. порядка и общественного спокойствия по Енисейской губ.» еще 18 марта приказом ген. Артемьева начальник красноярского гарнизона был освобожден от тех обязанностей уполномоченного, которые были на него возложены 24 февраля. Вместе с тем начальник енисейского карательного отряда ген.-майор Афанасьев поступил в распоряжение Розанова. Почему командующему Иркутского военного округа надо было посылать специальную телеграмму начальнику красноярского гарнизона?65 Колосов, а за ним Гуревич совершенно ошибочно ставят Розанова на равное положение с Артемьевым. Розанов, бывший на правах командира отдельного корпуса, непосредственно ему подчинялся66. Вся официальная переписка в силу этого шла через Артемьева. И тот самый приказ, который приводит Колосов, был Артемьевым адресован непосредственно Розанову. От имени Артемьева в нем определенно стоит «приказываю» — после введения об общем распоряжении Верховного правителя. Если в телеграмме штаба Розанову стояло «приказываю», а в телеграмме пор. Толкачеву — «я считаю, что способ действия должен быть приблизительно таков», то можно заключить, что Толкачеву было послано для осведомления циркулярное распоряжение Верховного правителя, а Розанову — уже приказ, который буквально повторял проект Верховного правителя. Можно было бы сделать еще несколько предположений, и прежде всего то, что для Колосова была снята не совсем верная копия. В ней имеются разноречия с документом, который воспроизведен из бумаг иркутского штаба в книге «Партизанское Движение» [с. 115]. Но ларчик открывается проще: заложничество, расстрел всех способных к бою мужчин в случае измены и предательства, — в сущности, творчество уже штаба Иркутского военного округа. Такого распоряжения не отдавал Колчак. Вот точный текст того, что Артемьев получил из Омска от военного министра Степанова:
«Верховный правитель приказал вам передать:
1) Его настоятельное желание — возможно скорее покончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их. В этом отношении пример японцев Амурской области, объявивших об уничтожении селений, скрывающих большевиков, вызван, по-видимому, самой необходимостью добиться успеха в трудной партизанской борьбе в лесистой местности. Во всяком случае, в отношении селений Кияйского и Копского должна быть применена строгая кара...» [Партиз. движение. С. 113].
«Верховный правитель приказал»... Совершенно ясно, что Верховным правителем была дана самая общая директива, которую от себя несколько конкретизировал военный министр и значительно расширила местная власть, чем и вызвала контрраспоряжение Верховного правителя о недопущении над мирным населением насилий, жестокостей, нарушения имущественных прав и недопущении в виде кары сжигать деревни, хотя бы в них были причастные к восстанию67.
Неужели всякое распоряжение, которое формально делалось именем Верховного правителя, всегда непосредственно исходило от адмирала? В таком случае, пожалуй, придется каждый консисторский указ старого времени признать «Указом Государя Императора». Для всего имеются трафаретные формы.
* * *
В борьбе с повстанческими бандами жестокость в смысле физического уничтожения врага была и самозащитой. Все-таки и это надо признать. В своем июньском объявлении Розанов заявлял, что енисейское восстание подавлено армией, чехословаками и итальянцами. Действуют также румынские, а позже польские отряды. Всех их обвиняют в жестокостях и насилиях. Жестокости были в действительности, что легко подтвердить фактами, столь же несомненными, как факты, касающиеся деятельности русских отрядов68. Иностранным обвинителям сибирского режима не следует об этом забывать. Неизбежно ответственность становится общая. Сам Жанен 16 августа записывал:
«Д. пришел поговорить со мною о приказе полковника Крейчи (командира чешского батальона в Томске) по поводу охраны жел. дороги. Я еще не записал этой истории. Охраняющий неприкосновенность Сибирской магистрали на вверенном ему участке Крейчи, оберегая свои полки, уже давно издал приказ, оповещающий окрестное население о том, что оно ответственно как за охрану дороги при попытках ее разрушить, так и за непредотвращение таковых. Всякие происшествия сразу прекратились, уже давно ничего не было. Чтобы лучше нести эту охрану, деревни просили даже дать им оружие. Приказ этот удивил русские власти, когда они о нем узнали; я получил от министра Тельберга извещение о том, что «Комитет законности» (у этого учреждения должна таки быть работа, если представить себе те жестокости, которые повсюду совершаются) отменил приказ и уведомил об этом Крейчи.
Я ответил через посредство Министерства иностранных дел, что Крейчи подчинен мне, а не им, что отмена приказа недействительна и что я извещаю об этом полковника. После этого они просили, чтобы я сам отменил приказ. Я не захотел ответить резко, по-атамански; эти люди, по утверждению подозрительного лотарингца Пуаро69, может быть, расставляли мне капкан. С другой стороны, я не люблю, чтобы мною вертели. Чехи хорошо относятся к населению, охрана же магистрали — для них тяжелое бремя. Я спросил Крейчи, сможет ли он вывернуться без этих мер, на что он ответил отрицательно. Я указал тогда русским, что 16 марта ген. Розанов издал в Красноярске приказ, объявляющий, что за всякое нападение на железную дорогу в качестве ответчиков будет браться из тюрем известное количество политических заключенных и вешаться на месте преступления. Трупы их будут оставляться на виселицах. Я добавлял, что приказ этот был приведен в исполнение, наделал много шуму в области и что раньше, чем отменять приказ Крейчи, я, чтобы предотвратить всякое моральное противодействие со стороны чехов, должен знать, отменен ли розановский. Сукин ответил мне, что приказ этот отменен. Я был готов поклясться головой, что это сущий вздор; поэтому я запросил о датах и потребовал подтверждения, чтобы привести их в своем приказе. На этом дело стало... Крейчи, по крайней мере, никого не повесил»... [«М. Sl.» XII, р. 237-238].
Крейчи никого не повесил. Допустим, что это так, но расстреливали и вешали другие. Приказы чешских военных властей, изданные самостоятельно, мало чем отличались от приказов русских военных властей на территории восстаний. Разница только в том, что чехословаки выступали решительно тогда, когда дело касалось их зоны, когда нападение происходило на чешские эшелоны и касалось железнодорожных путей. Вот общий приказ ген. Сырового:
«...Опустошение ж. дороги группами бунтовщиков в районе Тудун — Тайга делает невозможным правильное сообщение между частями чехословацких войск, задерживает перевозку войск и их продовольствия; террор, применяемый бунтовщиками против ж.-д. служащих и местного населения, принуждает взять этих жителей под защиту. Приказываю: очистить полотно ж.д. и район 10 верст севернее и 10 верст южнее полотна ж.д. от бунтовщиков, отобрать у жителей военное оружие и прокламации и дать знать населению твердое решение чехословацких и других союзных войск, что не будет допущено никакого насилия над беззащитным населением, порчи коммуникационных средств и повторяющихся убийств чешских солдат. Сообщить всем населенным пунктам в этой 20-верстной полосе, что эта зона нейтральная, и привлечь к ответственности представителей населенных пунктов в означенной полосе, если они заблаговременно не сообщат о каждом волнении в деревнях»... [Партиз. движение. С. 175].
Общий приказ конкретизируется местными начальниками. Таковым был, напр., майский приказ полковника Прхала, начальника 3-й дивизии в Красноярске, объявлявшего всем жителям, находящимся на расстоянии десяти верст по обеим сторонам жел. дор., что уличенные в большевицкой агитации, в порче путей, в насилиях, не подчиняющиеся распоряжениям чехословацких и прочих союзных властей будут подвергнуты строгим карам, не исключая и смертной казни70. Еще раньше (30 марта) подп. Жак, командир 1-го чехословацкого стрелкового полка, в ответ на воззвание восставших, обвинявших чехов в союзе с буржуазной Россией против пролетариата и предлагавших вступить в братские переговоры, ответил, что «разрушители железной дороги будут расстреливаться, деревни, поддерживающие восстания, будут уничтожены» [сообщение чешского начальника штабу иркутской военной власти. — Партиз. движение. С. 203]. Тогда же (27 марта) начальник гарнизона ст. Тайшет, майор Беранек, объявил, что «вообще в случае всякого вооруженного выступления против существующего порядка виновные подвергаются смертной казни. Деревни, помогающие вышеуказанным преступлениям, будут совершенно уничтожены» [там же. С. 204].
Жестока была не только теория, но и практика. Пленных большевиков вешали71. Деревни сжигались [телеграмма Клецанды. — Партиз. движение. С. 180]. Чешские батареи обстреливали деревни снарядами, удушливыми газами [телеграмма Розанова в Омск Жанену. — Там же. С. 307]. Колосов обвинял представителей чехословацкого войска в прямом соучастии в действиях ген. Розанова в Красноярске, где они были такой же «фактической властью». «Если бы чехи чего-нибудь не пожелали, — говорит он, — то у ген. Розанова не нашлось бы сил заставить поступить так, как он хочет. В частности, в тюрьме, откуда брались для расправы заключенные, не только фактическими, но и формально, по установившемуся порядку, хозяевами были те же чехи». По данным Колосова, списки заложников, подлежащих расстрелу, составлялись в штабе Розанова, затем шли на рассмотрение в чешскую контрразведку и после того уже окончательно фиксировались. Д-р Павлу в беседе с Колосовым решительно опровергал подобную процедуру. Несмотря на это, Колосов указывает, что после отъезда Павлу целая группа заложников была расстреляна за «зверское» убийство чешского унтер-офицера72.
Примеры легко можно умножить. Весьма претенциозный Монтандон готов приписать чехам репутацию даже особой жестокости. Он делает маловразумительный экскурс в область народной психологии:
«В общем чехи стяжали себе в Сибири славу жестокостью... С другой стороны, было бы несправедливо считать их исключением, ибо... народы Центрально-Восточной (Европы)... обладают жестокостью..., до которой далеко и чувствительным французам, и математическим немцам, и добрым мистикам русским и украинцам» [с. 37].
Достоверности свидетельских показаний Монтандона, увидевшего у «белых» больше жестокости, чем у «красных», я не очень верю. Вот что он рассказывает о времени своего пребывания в Красноярске (30 июля). Произошло восстание 31-го пехотного полка.
«Однако с следующего же дня оно было подавлено казаками и чехами. Усмирение было беспощадно. Видимость суда была инсценирована чешским командиром: солдаты названного полка входили с одной стороны в здание, проходили перед судьями и при выходе с другой стороны расстреливались, как кролики. Так истреблялся каждый третий»... [с. 28].
Я привожу это как пример тенденциозного свидетельства иностранных обозревателей о сибирских событиях. Откажем им в полном доверии в этом случае, но откажем и тогда, когда они говорят и об агентах русской власти.
Психология жестокости, рождаемая самозащитой и местью, хорошо объяснена другим иностранцем, Люд. Грондижем:
«Поляки и чехи носили изувеченные трупы своих товарищей, которых захватили эти партизаны: несчастные изгнанники, вовлеченные в совершенно им чуждую гражданскую войну, претерпели перед смертью бесчисленные пытки; глубокие дыры выжжены на теле раскаленным железом, члены отрезаны по кусочкам, снесены черепа, выколоты глаза, содрана кожа — и сотня других изобретений, в которых узнаешь фантазию убийц, бежавших из больших сибирских тюрем» [с. 388].
И когда подумаешь об этих иностранцах, застрявших в лесах и степях Сибири в период гражданской войны, с ее уродливыми явлениями партизанщины и атаманщины, то правда же не бросишь упрека в присущей какому-нибудь народу особой жестокости. Только представьте себе итальянцев, атакующих в сибирские морозы ледяные горы в Тасееве, в двухстах верстах от железной дороги, в непроходимой тайге. Таежники двигаются по тропинкам на лыжах. Они почти неуловимы [Партиз. движение. С. 109]. А войскам приходится брать окопы, устроенные из толстых бревен, засыпанных снегом и политых водою. Они знают, что «цель» партизан — «беспощадное физическое истребление врагов»73. Жалости не бывает в звериной борьбе...
* * *
Оставляя совершенно в стороне вопрос о морально-общественной оценке, надо признать, что меры борьбы Правительства с партизанством во многом были нецелесообразны. Нельзя было на насилие не отвечать острыми мерами принуждения. Когда военный министр Степанов телеграфировал 29 июня командующим войсками74, что «банды нужно беспощадно уничтожать», так как вытеснение «банд из одного района в другой цели не достигает» [Партиз. движение. С. 174], он, в сущности, констатирует лишь жестокий закон всякой войны. «Инструкциями» с прописной моралью нельзя было бороться с грабительскими инстинктами полуразбойнических и деклассированных масс. Большевики, издававшие «инструкции», стали сами весьма скоро прибегать к решительным мерам — и прежде всего к отобранию оружия. Колосов, который все же с симпатией относится к партизанам всех оттенков, должен признать, что «временами» для излечения гангрены на теле партизанских армий требовались «хирургические меры лечения»... Без вмешательства регулярной армии партизаны не справились бы собственными силами с нарушением «революционного порядка» в своей среде [с. 261].
Но общие репрессивные меры всегда били по всему населению. Представим себе сожженную деревню, или порку без разбора, или всеобщую контрибуцию. Они затрагивали все население и легко приводили нейтральных во враждебный лагерь75. А между тем в каждой деревне были сочувствующие власти. У нас еще мало материала для всесторонней характеристики деревни. Из дневника большевика-партизана Яковенко мы узнаем, что даже в самом Тасеевском районе среди населения были сильные «ликвидаторские» течения и что с этой «провокацией» приходилось бороться расстрелами [с. 75]. В Тасееве готовилось «контрреволюционное» выступление в целях «искупить вину» перед Колчаком... У повстанцев своя контрразведка, которая раскрывает два «заговора» в крестьянской среде [с. 31].
Авторы истории партизанского движения в Приморье откровенно говорят, что все зажиточные крестьяне, все «кулаки» были за колчаковскую власть [Илъюхов. С. 57— 58]. Описывая центр движения (Сучанские рудники Ольгинского у.), они должны отметить, что от 20—30% поселян — баптисты — решительные противники партизан [с. 153]. Идет борьба и со старообрядческою частью населения. Местами «батьковцы» (атаманы партизан) не уступают карательным отрядам в порке и расстрелах старообрядцев. И тут же отряды ген. Смирнова порют «без разбора»...
Правительство Колчака не сумело разрешить кардинального в сибирской жизни вопроса — дилеммы государственности — и погибло. Таково заключение Колосова. А что сделала в те дни для внедрения государственности та партия, которая как будто бы была органически связана с деревней и к которой принадлежал Колосов?
Она поддерживала бунтарские настроения в деревне, протягивая иногда непосредственно руку большевицким демагогам для того, чтобы свалить в Сибири «диктатора», не анализируя того, что было, и не задумываясь над тем, что будет на следующий день. Другая тактика могла бы дать и другие результаты.
Примечания к третьей главе:
1 Тумаркин. Контрреволюция в Сибири. — «Сиб. Огни», 1922, № 1, с. 97; Гинс. II, с. 100.
2 Бездоказательно Колосов утверждает, что эти «восстания нередко организовывались с участием агентов власти, провоцировавших население на преждевременные выступления» [«Былое». XX, с. 223]. Колосов повторяет лишь слова большевиков, которые это говорят в тех случаях, когда им надо оправдаться за неудачу. Таковы, напр., утверждения Авдеева в статье «В кровавом омуте» [«Молодая Гвардия», 1923, № 4—5] о действиях тюменской контрразведки, «желавшей проучить рабочих и солдат». Рассказ самого Авдеева приводит к противоположным выводам. Поразительна та легкость, с которой возникают эти утверждения. В позднейшей эсеровской прокламации, обращенной к «братьям-чехам» от имени цент, бюро воен. орг. в Сибири, прямо говорится, что «наемные убийцы» расправляются с крестьянами и провоцируют их на бунты «с целью поголовного уничтожения» [«Вольн. Сиб.». VI, с. 97].
3 Большую роль играли в этом деле бывшие нарымские ссыльные латыши.
4 Чехословацкая сводка отмечала 57 нападений на район ст. Тайшет в течение времени с 18 марта по 3 апреля (записка Калашникова).
5 В застенках Колчака (голос из Сибири). С. 42.
6 Отвечая на мою критику в статье «Критика или памфлет» [«П. Нов.», № 2983], П. Н. Милюков указывал, что я приписываю ему самому то, что он излагал от имени своих источников. Но автор добавлял к изложению записки Калашникова: «Правильность анализа причин недовольства подтверждается рядом других данных». Очевидно, тем самым автор солидаризируется с запиской Калашникова. Но главным является то, что в записке Калашникова нет ни выражений, ни утверждений, которые я приводил в кавычках из текста Милюкова.
7 К записке Калашникова мы еще вернемся. Милюков пользовался текстом, приведенным в воспоминаниях Гайды [с. 132—134]. По-русски записка напечатана в «Вольной Сибири». VI—VII.
8 Это «обычно» относится у Колосова не только к колчаковскому «начальству».
9 По-видимому, автор все-таки только излагает содержание прокламации. Его изложение совпадает, однако, с утверждением омского журналиста Вс. Иванова [В гражданской войне. С. 136], «собственными глазами видевшего этот документ», Щетинкин действовал именем белой гвардии [Партиз. движение. С. 76]. По словам Гинса, Щетинкин выступал от лица вел. князя Михаила Александровича [I, с. 370].
10 Т. И. Полнер передавал мне, что при поездке через Сибирь (осень 1918 г.) он не раз задавал вопрос о царе и слышал, что царя надо, но такого, который «ходил бы под отчетом».
11 Еще не было октябрьского антоновского восстания, как на заборах Тамбова, по сообщению «Известий» Губисполкома, расклеивались объявления о сожжении многотысячных сел за «срыв продкампании» [Пути Революции. С. 295].
12 Будберг, все время говорящий о необходимости других мер в отношении крестьян, чем те, которые применяло Правительство [ХГѴ, с. 249], никогда реально не указывает, каковы должны были быть эти меры.
13 Столыпинская земельная реформа толкнула на переселение «бедняков», в 1907-м — 257 646; 1908-м — 420 883 и т. д.
14 В Ачинском у. переселенческих хозяйств 61%, в Канском 77, Красноярском 50, Минусинском 47, Енисейском 58%.
15 Кардонская. Сибирское крестьянство в дни октябрьской революции. «Пролет. Рев.». Кн. 81, с. 56.
16 Автор предисловия к сборнику материалов «Партизанское движение» (Максаков) отмечает одну важную для сибирских настроений черту — именно из этих переселенцев рекрутировались кадры рабочих на жел. дороги.
17 Отмечает это в отношении восстания в Кустанае Тургайской обл. и записка Калашникова. Здесь сыграли роль давние конфликты между хуторянами-украинцами и казаками, желавшими, вопреки постановлению Вр. пр., выселить новоселов. Пользуясь запиской Калашникова, Милюков пропускает все ее подчас существенные нюансы. Во всем тексте Милюкова нет вообще даже намека на сложные социальные и бытовые явления, игравшие роль среди причин повстанческого движения.
18 «Ответ» Колосова напечатан в приложении к брошюре Солодовникова «Сибирские авантюры». С. 79.
19 Парфенов. На Дальнем Востоке. С. 95. Сахалинские каторжане образовали партизанские отряды против Калмыкова.
20 Кежемская и Инычукская вол. Илимского края искони были освобождены от воинской повинности. Мобилизация здесь неизбежно вызывала отпор [Партиз. движение. С. 193].
21 См. очерк М. Слонима с разбором повестей Шишкова, Вс. Иванова, Сейфуллиной в «Вольной Сибири». V, с. 81.
22 Эти отряды явились основой партизанских ячеек на Д. Востоке [Парфенов. Ор. cit. Р. 97]. См. также у Гуревича «Форма крестьянского движения» [«Рев. Рос.», № 57, с. 35]. Не надо забывать, что на наших хуторах — заимках — было много военнопленных в качестве рабочих.
23 Партиз. движение. С. 207—208. Среди этих отрядов имеется даже «лучший мадьярский отряд» [Центросибирцы. С. 90].
24 Газета «Русь» 14 авг. отмечает агитацию мадьяр среди крестьян. В данном случае речь идет о владельцах шинков, вокруг которых группируется крестьянская голытьба.
25 Напр., в Енисейской губ. [Партиз. движение. С. 101].
26 Этот «вампир» обличает и руку, приложившую печать к съезду «крестьянских делегатов» Пинчугской волости в декабре 1919 г. — в резолюции фигурирует также «вампир Колчак».
27 Протоколы напечатаны в сб. «Партизанское Движение».
28 Ее отмечает и исследователь махновского движения — Кубанин [Ор. cit. Р. 6].
29 Это странно, потому что Лубков в 1921 г. действовал уже против коммунистов.
30 Об этом «руководстве» все же приходится говорить с оговоркой. По признанию с.-р. Гуревича, партия не успела за время революции создать своих ячеек в крестьянской среде [«Рев. Рос.», № 57, с. 32]
31 Тенденция, подчеркивающая изменение курса политики большевиков, проходит и через записку Калашникова. Очень наивно звучат теперь «вести из Советской России» об избрании середняка Калинина «всероссийским старостой», что свидетельствует о прекращении репрессий в отношении к «мелкой буржуазии».
32 По свидетельству Авдеева, из 62 делегатов 8 высказались за советскую власть, 38 — за Народное Собрание. Какова была ориентация остальных, к сожалению, мы не знаем [«Пр. Рев.». Кн. 6-7].
33 Шпилев. К истории партизанской работы при Колчаке — «Пр. Рев.». Кн. 72, 74.
34 Чернодольское восстание. «Сиб. Огни», 1926, № 5—6. Черный дол — с. Архангельское в 8 верстах от Славгорода.
35 К сожалению, часть моей основной рукописи пропала, и мне пришлось ее восстанавливать, причем некоторыми материалами вторично я воспользоваться уже не мог.
36 Записка Калашникова отмечает восстания: 1) в Енисейской губ. — уезды Енисейский, Красноярский, Ачинский, Канский, Минусинский; 2) в Томской губ. — уезды Томский, Мариинский, Кузнецкий, Щегловский, Новониколаевский; 3) в Алтайской губ. — у. Барнаульский; 4) в Иркутской губ. — уезды Нижнеудинский и Балаганский; 5) в Забайкалье — у. Верхнеудинский, Селенгинский, Читинский, Акмолинский, Нерчинский; 6) Амурская обл. — Чепский район; 7) Приморская обл. — у. Хабаровский, Иманский, Ольгинский и Уссурийский.
37 Издавались, между прочим, на пишущей машинке «Известия Гл. Штаба Алтайского округа».
38 В сборнике «Революция на Дальнем Востоке» (1923) и в книге Ильюхова и Титова «Партизанское движение в Приморье» (1928) можно найти обильный бытовой материал. Имеются также данные и в новой книге Парфенова — «На Дальнем Востоке» (1928), — между прочим, о партизанском движении в Забайкалье.
39 Е-ч В. Исчезнувший город. Владивосток, 1920.
40 Она подробно рассказана в книге Милюкова. Материалы специальной комиссии, расследовавшей «гибель Николаевска-на-Амуре в мае 1920 г.», собраны в книге под таким заглавием Гутмана (Гана). Итоги различных данных приведены в моей заметке. «Еще одна жуткая страница» в «Совр. Зап.» [кн. XXI].
41 Эту солидарность в Амурской и Приморской обл. подчеркивает в дневнике и Болдырев. «Бригада» Тряпицына официально считалась «частью Красной армии» [Парфенов. С. 147] и была послана в Хабаровский у. по инициативе дальневосточного «революционного штаба» [там же. С. 91].
42 Берлинские анархисты, поместившие три очерка М. Володина в «Анарх. Вестн.» (1923) о «трагедии Николаевска-на-Амуре» пошли в реабилитации еще дальше. Они делают уже апофеоз верным борцам за рабочее и крестьянское дело, преданным коммунистами.
43 Большевицкая критика [Авдеев в Кн. 7 «Прол. Рев.»] упрекала Колосова за то, что он упустил из вида движение в Тобольской губ. Эти восстания в ближнем тылу носят случайный характер, существенного значения не имели и общей картины здесь не изменяют. Если первоначально (июль—август 1918 г.) столкновения возникали на почве сбора налогов, самовольных лесных порубок, то позднее исключительно на почве мобилизаций. Наиболее значительны они были в Тарском у., где народился организованный повстанческий отряд. Характерно, что основную группу его составили пришедшие из Советской России под видом военнопленных красноармейские командиры, зажившие уже хозяйством. При приближении фронта, ввиду опасности мобилизации, агитации местных и приезжих из России агентов большевиков, они ушли в повстанцы (банда Избышева в июле) [доклад полк. Франка. «Пр. Рев.». Кн. 8].
44 «Восстания» партизан, конечно, были и здесь. Об этом свидетельствует хотя бы приказ командующего Западной армией ген. Ханжина от 6 апреля о расстреле укрывателей участников восстания и сожжении их домов и имущества. Факсимиле приказа приведено у Субботовского [с. 259]. Шайка дезертиров, в значительной степени вербующихся из «бедноты», действует в Тюкалинске Акмолинской обл. (сентябрь). Любопытно, что очевидец отмечает массовое явление, когда деревня постанавливает «всем миром» громить большевиков, чтобы покончить с гражданской войной [«Пр. Рев.». Кн. 8].
45 Нечто аналогичное наблюдал Кроль среди гласных крестьян пермского губернского земства, переживших и не переживших большевизм. Приуральские гласные относились к коммунистам со страшным озлоблением и ненавистью; зауральские, относясь «крайне отрицательно», чувства озлобления не проявляли [с. 168]. Явление повсеместное. Сибирский летчик пор. Толстов, совершивший полет в Архангельск, в своих показаниях 2 июля отмечает, что на окраинах, где населению приходится нести все тягости войны, крестьяне ожесточены на большевиков и нередко целой деревней поступают в противобольшевицкие партизаны (праж. Арх.).
46 Н. К. Волков по приезде из Сибири подчеркивал в статье, напечатанной в «Общем Деле» [№ 97], что деревня оставалась в стороне от первой большевицкой волны и о большевиках знала больше «понаслышке».
47 Крестьяне с. Варваровки в Никольско-Уссурийском у., объявив нейтралитет, выдали тем не менее всех большевицких агитаторов [Ильюхов. С. 30]. Это вылавливание деревенских «хулиганов» самими крестьянами можно отметить во многих местах — см., напр., доклад полк. Франка из Тюмени [«Пр. Рев.». Кн. 8] и др.
48 Тезис Франка опровергает всеобщее сочувствие приходу «господской» власти, которое можно отметить решительно во всех местах, где царит коммунистическая деспотия». Дело другое — потом население разочаровывалось в новой власти. Этого сочувствия не могло бы быть при том психологическом восприятии, которое пытается установить автор «Размышлений о революции». Факт сочувственного ожидания победы Деникина и Колчака можно документировать бесконечным количеством свидетельств. Автор интересных очерков «К познанию прошедшего» в «Русской Мысли» рассказывает, как прихожане в Центр. России в 1919 г. требовали в церквах поминовения за здравие Колчака и Деникина. Но для нас более ценны свидетельства враждебной стороны. Не отрицает этого факта сочувствия, напр., Буревой в своей книжке «Колчаковщина» (вслед за большевицкой публицистикой он сейчас же оговаривается: так думает «темное крестьянство и несознательные рабочие» [с. 4]). Любопытно, что и Чернов подтверждает этот факт. «Мне самому приходилось сталкиваться с крестьянами, — пишет он, — которые уверенно говорили: "Колчак и Деникин — это наши друзья"». Не устраняет значения факта уверение Чернова, что подобная концепция объясняется пропагандой большевиков о связи «учредиловцев» с Колчаком. Большевики, «стремясь оклеветать и забросать грязью партию с.-р., лили воду на колчаковскую мельницу» [«Рев. Рос.», № 1].
49 Так назывались на Алтае отряды, вооруженные железными пиками, насаженными на длинные деревянные древки.
50 Еще в «Вольной России» 6 авг. 1921 г.
51 О крестьянских восстаниях после Колчака имеются кое-какие данные (особенно о грандиозном тобольском восстании 1921 г.) в «Револ. России», № 10, 14, 15. См. также очерк П. Турханского «Крестьянское восстание в Зап. Сибири в 1921» [«Сиб. Арх.». II]. Автор отмечает, что восстанием была охвачена огромная территория: вся губерния Тобольская, часть Томской, Акмолинской, Оренбургской и Пермской.
52 Аналогичное отмечает нам корреспондент «Рев. Рос.» [№ 12] в иркутском восстании 1920 г. (сентябрь). Среди партизан действуют вместе остатки «народно-рев. армии», группа «колчаковцев» и бурятские отряды.
53 Еще имеется одна общая черта для этих «кулацких» и казацких восстаний. Они отличаются большой жестокостью. Во время колыванского восстания в Томской губ. (май 1920 г.) «вырезаны поголовно все коммунисты» [«Рев. Рос.», № 12—13]. В тобольском восстании также поголовно уничтожали коммунистов — на них смотрели как на породу, которой «нет места на земле» [«Р. Р.», № 14—15]. Особенно плохо приходилось, по словам Турханского, продовольственникам: убивали их жен, детей, родственников, рубили топорами, отрубали руки и ноги, вскрывали животы [с. 69]. Убивали всех, у кого не было на шее креста; также расправлялись с красноармейцами, которые переходили к восставшим. (Автор, между прочим, указывает, что были эксцессы против евреев, остановленные только влиянием тобольского епископа Николая Покровского, который угрожал погромщикам анафемой.)
Зверским усмирением в свою очередь ответили большевики, объявляя, что «за каждую каплю крови коммуниста» они будут расстреливать десятками. В покоренных деревнях действительно расстреливали через пятого, не исключая женщин и детей. Истребляли чуть ли не поголовно сельское духовенство. Большевики «хвастливо» заявляли: «Мы на двадцать лет гарантировали себя от повторения восстания».
54 Алтайская армия Мамонтова — 30 тыс.; Енисейская Щетинкина — 15 тыс.; Томская Лубкова — 10 тыс.; Иркутская Каландарашвили и Кравченко — 25 тыс.; Амурская Шилова — 15 тыс.; Уссурийская Шевченко — 15 тыс.; Забайкальская Якимова — 10 тыс.
55 Среди этого элемента особо выделяются «таежные охотники». «Очень честные люди, за деньги прекрасно служат» — так характеризует их в Енисейском районе полк. Мартынов.
56 «В Енисейской губ. и в Нижнеудинском уезде, — докладывают начальнику штаба 1 мая, — отсутствует какая-либо правительственная информация. Не только крестьяне и горожане систематически питаются вздорными провокационными слухами, но подчас и представители власти, как начгары и земские деятели, ввиду полного отсутствия газет, живут слухами, распространяемыми с провокационными целями главарями большевицкого движения» [Партиз. движение. С. 149]. «Население не знает даже о существовании Верховного правителя», — сообщают из Тарского у. Тобольской губ. «В июне население с. Танашова в 100—150 в. от Омска убеждено, что Омск уже три недели в руках большевиков» [«Пр. Рев.». Кн. 8].
57 См., напр., доклад команд. Тарским военным округом (Тобольской губ.) полк. Франка [«Прол. Рев.». Кн. 8].
58 Сопоставить хотя бы с гибелью 3/4 отряда Красильникова.
59 Два офицера из отряда Красильникова приговорены к смертной казни, как следствие обнаружившихся преступлений [доклад шт.-кап. Суровцева. — Там же. С. 148]. Начальник Тарского военного округа полк. Франк в июле жалуется, что карательный отряд кап. Фомина, несмотря на запрещение пускать в ход артиллерию, разбил снарядами большое село Усть-Тару [«Пр. Рев.». Кн. 8, с. 199].
60 Этим было выполнено пожелание тор.-пром. съезда в Минусинске 21 апр., указывавшего на необходимость покончить до лета с «большевицкими бандами» [там же. С. 127].
61 Какой-то бюллетень «кооператоров» сообщал, что при очищении от большевиков ж. д. на Юге повешено до 2000 чел. Сам этого «бюллетеня» я не видел. Заимствую выдержку, приведенную в официальном обзоре печати штаба верховной Ставки за июнь (материалы пражск. Арх.).
62 Дела и дни белого адмирала. — «Вольная Россия», 1924. I, II, с. 158.
63 Колчак отмечает, что в данном случае деревня была сожжена самими повстанцами.
64 Отмечу, впрочем, что большевицкие историки [Парфенов. С. 71] и политики (Виленский-Сибиряков в сбор. «Центросибирцы») не приписывают введение института заложников какой-то личной инициативе Колчака.
65 Начальник этот никакими уполномочиями не обладал, и имя его даже не упоминается в метариалах «Партизанского движения».
66 Очевидно, Розанов был назначен по предписанию из Омска. В приказе 18 марта Артемьев объявляет: «Ген.-лейт. Розанов 13 марта прибыл в мое распоряжение». Со своей стороны Розанов был недоволен таким назначением и указывал на «возможность осложнений», т. к. начальник охраны дожен назначаться непосредственно Верховным правителем [Партиз. движение. С. 18].
67 Приказ специально повторен Дитерихсом 21 октября [«Св. Край», № 356].
68 Таковы были действия польских легионеров в Алтайской обл. Полк. Франк из Тарского района в июне доносил о таких же действиях начальника польского отряда Кадлеца: он «ограбил несколько селений начисто, включительно до белья и одежды». Действия эти мотивировались местью за разорение сибирскими стрелками Галиции (!) [«Прол. Рев.». Кн. 8, с. 199].
69 Офицер миссии.
70 Приказ Прхала и дал повод к выступлению Колосова — «Приказ полк. Прхала и мирное население Енисейской губ.».
71 8 мая 25 пленных, взятых в бою на ст. Тайшет, после допроса повешены [телеграмма подп. Жака. — Там же. С. 210]. См. еще оперативную сводку 15 июня подп. Клецанды [Партиз. движение. С. 183]; о десятках повешенных в районе Нижнеудинска доносит оф. связи прап. Дмитриев [там же, с. 153]. Также донесение полк. Главацкого [там же. С. 211] и т. д. Материалы об Иркутске у Виленского (Сибиряка) [«Пр. Рев.». Кн. 1, с. 155].
72 Раков говорит о расстреле Розановым 49 заложников, «несмотря на протест союзников» [с. 41]. Кто и когда в то время протестовал?
73 Ильюхов, Титов. Партизанское движение в Приморье. С. 168.
74 Эта телеграмма также приписана была лично Колчаку.
75 Отстаивая суровые меры для борьбы с восстаниями — вплоть до сожжения деревень, кап. Колесников в упомянутой уже записке резко возражает против «полумер», какой является «порка». Он указывает, что порка, напр., «кустанаевцев» (восстание в апреле) повела к массовым переходам солдат: «нам невозможно служить, мы драные».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Атаманщина
1. Анненков, Калмыков и Семенов
В борьбе с повстанческими мятежами мы видели «атаманские» отряды в действии. Мы слышали жалобы на эксцессы и отмечали те бытовые условия, которые этим эксцессам сами по себе содействовали. Критическая история «атаманщины» также должна еще быть написана. Слишком сгущены краски той картины, которую рисуют мемуаристы. Конечно, совершенно фантастичны, напр., утверждения о кострах, на которых семеновцы якобы сжигали детей. А между тем об этих фактах эсеры доводили до сведения ген. Жанена [«Д. Нар.», № 396]. Не следует упускать из вида, что большевики, в свою очередь, ловко пользовались «атаманщиной», с одной стороны, для своеобразной агитации среди населения, а с другой — для осуществления некоторых более практических целей: напр., делали «эксы» отрядами, одетыми в погоны. Большевицкие источники вскрывают довольно отчетливо эту работу. «Атаманщина» в Сибири стала собирательным именем. Им окрещивалось всякое насилие, всякий произвол того или другого агента военной власти [Андрушкевич. С. 137]. Быть может, этим и определялась точно как бы психология момента, но очень неточно передается характер атаманских добровольческих отрядов.
Наиболее враждебен атаманским отрядам бар. Будберг — для него это «саркома», разъедающая организм. Старому военному психологически чужда гражданская война с ее принципом добровольчества. Он в корне разойдется с кап. Колесниковым, в своей записке пропагандирующим широкую вербовку добровольцев, которых надо «влить в полки». Эти люди «поднимут дух и зажгут своей верой массу1. Но и сам Будберг, всегда искренний в своих непосредственных впечатлениях, должен внести поправку:
«Совершенно неожиданным оказался доклад ген. Щербакова, ездившего в Семиречье с поручением адмирала разобраться с нареканиями на сидящего там атам. Анненкова. Щербаков (сам семиреченский казак) вынес такое заключение, что все нарекания на Анненкова измышлены штабом южного отряда и что этот атаман представляет собой редкое исключение среди остальных сибирских разновидностей этого звания: в его отряде установлена железная дисциплина, части хорошо обучены и несут тяжелую боевую службу, причем сам атаман является образцом храбрости, исполнения долга и солдатской простоты жизни.
Отношения его к жителям таковы, что даже и всеми обираемые киргизы заявили, что в районе анненковского отряда им за все платится и что никаких жалоб к анненковским войскам у них нет.
Надо думать, что этот доклад достаточно близок к истине, так как Щербаков — человек наблюдательный, с собственным твердым взглядом и умением разбираться в вещах и людях; прежнее представление об Анненкове как о сугубом разбойнике он объясняет враждебным отношением к этому отряду штаба ген. Бржезовского и теми двумя полками, которые под названием анненковских черных гусар и голубых улан наводили ужас в тылу своими грабежами и насилиями над мирным населением. По словам Щ., эти полки не были в подчинении А., и последний много раз просил, чтобы их прислали ему в отряд, и он быстро приведет их в порядок» [XIV, с. 318].
Анненковцы довольно своеобразное явление. Близок к истине Гинс, назвав эти отряды самозародившейся «Запорожской Сечью» [II, с. 378]. Советский историк так описывает быт партизан: «Части Анненкова были отлично вымуштрованы, друг к другу обращались на «ты»: ты, брат, атаман; в армии... не было... никакой отчетности и канцелярий, жили на "честное слово"» [«Сиб. Огни», 1923, № 1, с. 80]. «Запорожская Сечь» — буйная вольница. Можно не сомневаться, что даже при внутренней дисциплине анненковцы проявляли на своей территории немало самовластия, особенно при антагонизме, существовавшем между крестьянским и казачьим населением.
С анненковцами на фронте власти часто приходилось бороться. Напр., Будберг записывает в момент пребывания на фронте 3-й армии (ст. Петропавловская): «Безобразничают и насильничают анненковские гусары и уланы... Только что по приговору суда расстреляно 16 человек из этого отряда и вновь предано полевому суду 2 офицера, но это не производит никакого впечатления, до того все распустились» [XV, с. 267].
С аналогичными явлениями приходилось бороться и в бригаде Красильникова. И все же ген. Иностранцев признает эту бригаду одной из лучших с точки зрения ее боевой ценности2. В ней было и своеобразное идейное служение, и непоколебимая твердость: конница Анненкова и отряд Красильникова составляли часть того ядра «каппелевцев», которые, не слагая оружия, с боями двигались на восток после военного разгрома. При всей своей распущенности эти атаманские отряды не проявляли стремления захватить власть3, чем отличались дальневосточные атаманы.
* * *
Самый дальний атаман — атаман уссурийских казаков Калмыков продолжал и в 1919 г. делать «фантастические истории» (выражение Колчака на допросе). По-видимому, это был умный демагог4; и только путем демагогии бывший подпор, сибирского саперного батальона проник в заместители войскового атамана. У прославленного за освобождение Хабаровска в 1918 г. (встрече его населением могли бы, по выражению автора в «Революции на Д. В.» [с. 81], позавидовать герои древнего Рима), поддержанного французами и японцами5 атамана закружилась голова. Уже первый приказ Калмыкова о неподчинении Колчаку — какая-то фантасмагория: тут и «свобода народа», и утверждение, что только земство, избранное народом, является законным правительством, и угроза расстрела всякому социалисту [Андрушкевич. С. 121]. В воззваниях Калмыкова причудливо сочеталось Учредительное Собрание с угрозой вешать «совет собачьих депутатов». Гражданских властей — «колчаковцев» — хабаровский сатрап просто не признавал. «Хозяйничал» атаман, держа всех под страхом своего отряда6, в который зачислял добровольцами решительно всех. Было у него много зеленой молодежи и красноармейцев7. «Маленький тщедушный» атаман был жесток. Легенды ходили о расправе его с большевиками в Хабаровске8. Расправлялся так же круто и со своими, напр., он расстрелял всю военно-судебную комиссию за «грабежи и вымогательство» [Андрушкевич. С. 131].
«Калмыкова мы считали уголовным преступником», — говорит Гинс [II, с. 399]. И, однако, у этого «хабаровского разбойника» был свой патриотизм, который делал его иногда и героем: он «спас права Российского Государства от незаконных притязаний Китая» [Гинс. II, с. 399]. Китайцы не простили Калмыкову — он был ими впоследствии расстрелян.
Своеобразен был и образ жизни атамана: он жил, как монах, в тесной келье, всю обстановку которой составляла простая железная кровать и аналой с Библией9.
О старшем забайкальском брате Калмыкова приходилось говорить уже не раз. У этого замыслы шире, хотя данных, кроме энергии и импульсивности, никаких нет.
Семенов — один из рожденных революцией. Недаром еще летом 1917 г. подъесаул Семенов избирается командующим 3-м верхнеудинским казачьим полком. Сын казачьего урядника, полубурят по воспитанию, малокультурный, он — подходящий вождь по местным условиям. На монгольской конференции в феврале 1919 г. ему подносится звание какого-то «светлейшего князя»10; он по душе той казачьей вольнице из молодежи, которая его окружает, создавая колоритный быт. Едва ли этим простым душам могло претить то, что приводило в негодование Будберга. Он говорит, что будто бы на вагоне Семенова была надпись: «Без доклада не входить, а то выпорю». Такое «казацко-разбойничье» остроумие, может быть, и соответствовало читинскому быту. Чего стоит, напр., приказ Семенова 23 июля, предписывающий сажать в женский монастырь сроком до 3-х месяцев жен, сражающихся на фронте, которые ведут разгульную жизнь [«Забайк. Новь»].
Сведениями о всякого рода насилиях семеновцев полны сводки правительственного информационного отдела [Субботовский. С. 180]. Также пестрели ими и газетные сообщения. Все это делалось под видом борьбы с большевизмом, но «понятие» о том, кто большевик, было слишком неопределенно. Любопытное наблюдение делает Андрушкевич: пороли учительниц, начальников станций, телеграфистов, и что удивительно — «это проделывали те же самые учителя и телеграфисты, предпочитавшие семеновские чины есаулов и полковников скромному чину прапорщика» [с. 131]. Но дело заключалось не в этих эксцессах — Семенов систематически подрывал верховную власть. Он задерживал товары, предназначенные служить для предмета обмундировки армии (телеграмма Тельберга 27 марта), перехватывал телеграммы, адресованные в Омск с доверительными сведениями [жалоба полк. Татаринова из Пекина. — Партиз. движение. С. 108] и т. д. Вряд ли командированный на Восток Иванов-Ринов серьезно предполагал, что правительственный конфликт с Семеновым может быть ликвидирован с переводом последнего на фронт в звании командующего войсками, выделенными из Приамурского военного округа [письмо Иванова-Ринова у Субботовского. С. 179]. Читинский владыка или «соловей-разбойник», по выражению Будберга, конечно, никуда ехать не собирался. Честолюбие его шло дальше.
Трудно сказать, насколько серьезно было у Семенова намерение выделить Дальний Восток в автономную область под протекторатом Японии — это вновь утверждает Будберг на основании сведений контрразведки [XIII, с. 282]. Об этом шел будто бы договор с Ивановым-Риновым, который, будучи оскорблен удалением из Омска, стал на Дальнем Востоке ориентироваться на атаманов. Но мысль о самостоятельности Семенов лелеял и, во всяком случае, противопоставлял себя адм. Колчаку. В момент разрыва семеновская газета «Русский Вестник» поносила Верховного правителя и кандидатом выставляла самого Семенова [Андрушкевич. С. 131]. В этом отношении чрезвычайно показательна беседа Семенова с Чжан-Цзо-Лином в Мукдене, в сентябре 1919 г. По рассказу Чжан-Цзо-Лина Спицыну и ген. Афанасьеву, поехавшим в Мукден, по поручению Хорвата, для установления с Китаем делового сотрудничества, Семенов на вопрос о признании Омского правительства ответил, что «официально он признает Омское правительство, но фактически не подчиняется Омску». Далее Семенов просил ген. Чжан-Цзо-Лина «придерживаться благожелательного к нему отношения и не мешать ему в борьбе с ген. Хорватом». По словам Чжан Цзо-Лина, Семенов «по внушению стоявших за его спиной японцев» мечтает о диктатуре на Д. Востоке и настойчиво стремится к этой цели. Атаман Семенов охвачен честолюбивыми замыслами и, безусловно, подготовляет переворот, ожидая лишь удобного момента, чтобы вступить в резкий конфликт с Омским правительством и объявить себя диктатором Д. Востока11.
Орудует у Семенова и пресловутый «полковник» Завойко («мелкотравчатый революционный выкидыш», по характеристике Будберга), который еще в марте, по дороге в Омск, создавал политическую комбинацию с диктатурой Семенова на должность командующего войсками всего Д. Востока [Будберг. XIII, с. 298]. Попав в Омск в апреле, Завойко организует «второй переворот». Окулич в своем фельетоне о Вологодском [«Возр.», № 282] рассказывает: «Пишущему эти строки, совместно с представителем сибирского казачьего войска есаулом В., по поручению казачьей конференции, вследствие просьбы г. Завойко, пришлось выслушать определенное предложение в присутствии иностранного дипломатического представителя, в вагоне английского ген. консула, на ст. Омск. Мы уклонились от обсуждения этой темы, заявив, что казаки пойдут за адмиралом»12.
Семенов, при всей своей некультурности, умел быть «политиком». При свидании с ним в Чите 4 декабря Болдырев записывает: «В нем много такта. В отношении меня, как высшего военного начальника в Сибири, он всегда был вполне лоялен. И сейчас исключительной корректностью он как бы подчеркивает свое неодобрение совершившемуся в Омске и свою резкую оппозицию Колчаку» [с. 121]. А 21 декабря в разговоре с начальником японской миссии Мацудой Болдырев признает поведение Колчака в отношении Семенова даже «бестактным» [с. 128]13...
* * *
Прямая и непосредственная поддержка Семенова японцами, осторожная тактика французов и других иностранцев — только Нокс высказался решительно против Семенова — ставили, как мы видели, Верховного правителя в чрезвычайно трудное положение. По приезде в Омск Будбергу на первых порах разрешение дилеммы о Семенове и других атаманах кажется простым. Как будто бы только нерешительность адмирала ставит препоны. 30 апреля, при первом свидании с Колчаком, Будберг высказывает ему свое «credo»: «Атаманы и атаманщина — это самые опасные подводные камни на нашем пути восстановления государственности»... Адмирал ответил, что он «давно уже начал эту борьбу, но он бессилен что-либо сделать с Семеновым»... «Боюсь, — записывает Будберг, — что по этой части адмирала обманывают его докладчики, а особенно Ив.-Ринов и другие спасители Семенова». Будберг советует «самому адмиралу... принять командование над отрядом и идти на Читу; пусть японцы устраивают всесветный скандал и разоружают самого Верховного главнокомандующего»... «Радикальность предлагаемых мною мер смутила даже адмирала, и он перешел на отчаянное положение дела снабжения армии» [XIV, с. 226—227]. Радикализм Будберга, конечно, отзывается величайшей утопией. Через три месяца Будберг все так же еще решителен: «К горю нашему, у адмирала нет прочной решимости поставить все на карту и покончить прежде всего со всеми атаманами... Надо это сделать хотя бы ценой собственного провала, ибо иначе эта язва съест и адмирала, и нас, сожрет всю белую идею и сделает ее надолго постылой и ненавистной для всей Сибири»... [XIV, с. 308-309].
Принципиально прав, вероятно, Будберг. Но дело было во много раз сложнее, ибо решительные действия могли создать Правительству новые осложнения, прежде всего, с организованным казачеством. Для этого казачества забайкальский атаман не был одиозной фигурой. И «общественность» не склонна была, по-видимому, реагировать так резко, как этого хотелось Будбергу. Мы имеем характерный отзыв уполномоченного председателя Совета министров — Яшкова, вернувшегося с Д. Востока. Он, скорее, даже симпатизирует Семенову: «Мне часто казалось, что Семенов жаждет дружеского внимания, между тем Семенов изолирован, так как даже местные к.-д. держатся в стороне». В силу такой изолированности и слабости характера, чувство превалирует над разумом, в чем в «минуты искренности» сам Семенов сознается; он оказался «во власти ветров, дующих с востока» [«От. Вед.», 1919, № 3]. Такой полной изоляции в действительности не было: харбинский комитет к.-д. поддерживает Семенова — писал в свое время Будберг [XIII, с. 293]. Управляющим гражданской частью в Забайкалье был быв. член Гос. Думы к.-л. Таскин.
Отношение Болдырева к семеновскому конфликту — отношение, которое, очевидно, диктовалось, скорее, обостренным самолюбием и неприязнью к Колчаку, — также достаточно характерно.
Тактика, предложенная Будбергом, вероятно, сама по себе более подходила к натуре откровенного, честного Верховного правителя. Приходилось, однако, вопреки чувству идти на компромиссы. Уступками мелкому людскому честолюбию сохранялось хоть видимое «единство» власти «с таким трудом ныне восстановляемой России»: «центральной власти, по выражению пекинского посланника Кудашева, приходилось считаться с подчас нелепыми затеями местных атаманов». Во имя этого «единства» центральной власти приходилось даже приветствовать Калмыкова14.
Дальневосточные «наполеоны» чувствовали, однако, свою силу, и по мере того, как возрастают неудачи центральной власти, увеличивается их апломб. «Семеновское представительство в Омске, в лице полк. Сыробоярского, держит себя здесь очень важно, — записывает Будберг 4 июня, — на правах какого-то посланника»15. «Атаманы считают, что наша песенка спета», — вновь отмечает Будберг 19 сентября. И он сам понимает, что никакого политического значения не может иметь присланное штабом Приамурского военного округа заключение прокурора о деяниях Калмыкова. «Я давно добивался этого документа, чтобы дать адмиралу оружие для начала борьбы с атаманами; сейчас все это запоздало, ибо хозяевами положения являются казаки и их конференция, определенно поддерживающая дальневосточных атаманов» [XV, с. 307].
Каково же заключение? Итог подводит Андрушкевич: «Наличие атаманщины доказывало, что Правительство Верховного правителя не так сильно, как надо. Опыт атаманов показал далее, что можно дерзать на все. Именно после победы Семенова стали как-то болезненно заметными проявления атаманщины. На фронте обнаружились самовластие и непокорность Гайды, потом бунт Гайды во Владивостоке, непокорность и ослушание ген. Розанова во Владивостоке и т. д. Я лично считаю, что начало развала нашего дела в Сибири было положено ат. Семеновым» [с. 137—138]16.
Примечания к главе четвёртой:
1 Записка начальника штаба дивизии кап. Колесникова, убитого под Челябинском, попала в руки большевиков [Борьба за Урал. С. 343—347]. Между прочим, автор предлагает широкое производство в офицеры солдат. «Они должны быть приняты в офицерскую среду как равные, ибо чин получили ценою крови и доблести».
2 Эта «особая дисциплина» была не только в Сибири. «Грабят, а сражаются великолепно», — охарактеризовал ее кн. Е. Н. Трубецкому на Юге один офицер-доброволец [«Арх. Рус. Рев.». XXIII, с. 187
3 Как-то маловероятно, что Красильников предлагал свой отряд Гайде для похода против Колчака [Вегман. — Прим. 44 к тексту Болдырева].
4 Калмыков, по-видимому, в революционное время был одним из соратников известного Дзевалтовского [Парфенов. На Д. В. С. 94].
5 Когда Хорват силою разоружил отряд Калмыкова в Гродекове, последовал протест со стороны японцев.
6 Конкурента Калмыкова — кандидата на звание атамана полк. Февралева — агенты Калмыкова открыто арестовали во Владивостоке и убили [Будберг. XV, с. 329].
7 4 февр. красноармейцы, которых в отряде насчитывалось до 40%, устроили бунт; Калмыков его подавил, а бунтовавшие скрылись в американском лагере [«Рев. на Д. В.». С. 185; Ильюхов. С. 197].
8 Лехов. К истории приамурской организации Р. К. П. [Будберг. XIII, с. 278].
9 Идеалистический образ Калмыкова пытался нарисовать в «Новом Времени» г. Груздинский [№ 2643], что вызвало решительное возражение со стороны ген. Флуга (26 февр. 1930 г.). Флуг привел конкретные факты.
10 Как уверяет Вегман, Семенов умудрился получить крест даже от Иерусалимского патриарха.
11 В Мукдене за время пребывания Семенова к Чжан-Цзо-Лину неоднократно являлся японский консул и внушал, что Семенов — русский Наполеон и что ему предстоит большое будущее в России [«П. Дн.». С. 109-112].
12 Удаленный из Омска, Завойко вернулся к Семенову. Характерна его последующая роль. Он является «вдохновителем» и посредником при переговорах Семенова в 1920 г. с левой общественностью, включая большевиков. Семенов принимает делегацию Вр. Нар. Собр. Приморской области и высказывает удовольствие, что имеет возможность «говорить глаз на глаз с представителями государственной партии большевиков, пора кончить братоубийственную войну и протянуть друг другу руку». Атаман заявлял себя противником буржуазии и выражал готовность сложить перед Учр. Собр. свои полномочия. Помимо приема делегации происходит особое заседание с «демократической общественностью». Кого только здесь нет: «земцы», кооператоры, представители профессиональных союзов, социалистического международного бюро [доклад члена делегации Кушнарева. — «Дальиспарт». I, с. 264—266]. Жанровая картина из истории политического быта того времени!
13 Приходилось отмечать взаимоотношения Семенова с «Временным правительством автономной Сибири». Мин. ин. дел этого «левого» Правительства, Арк. Петров, в своем отчете о поездке в Японию 15 сентября, между прочим, отмечает «полный контакт храброго и честного демократа ат. Семенова с Сибирским правительством», чем окончательно бита «карта агентов бюрократии» [«Кр. Арх.». XXXV, с. 69 — в этой книге помещены и другие материалы о Правительстве Дербера, которыми я в свое время воспользоваться не мог].
14 Телеграмма 30 декабря 1918 г. (вызвавшая потом осуждение) по поводу вооруженного выступления Калмыкова против китайских захватнических тенденций. Телеграмма подписана была Вологодским. Колчак, как известно, в эти дни был тяжко болен.
15 Одновременно на фронте семеновские агенты пытаются организовать антиколчаковскую акцию [Будберг. ХГѴ, с. 280].
16 Среди атаманов я не упоминал Гамова в Амурской обл. — явления меньшего калибра, чем Семенов и Калмыков, и ген.-лейт. бар. Унгерна — фигуры совершенно своеобразной. «Застенки» в Даурии стали действительно легендарны, как и сам образ мрачного даурского «анахорета», человека бескорыстного, ненормального в своей жестокости. Он является в тоге какого-то священнодействующего мстителя. Вот выдержка из одного более позднего приказа Унгерна — начальника азиатской конной дивизии 21 мая 1921 г. Он объявлял, что единственным хозяином земли русской является Император Михаил Александрович, что Монголия должна быть исходным пунктом для выступления против советской Сибири и что он будет уничтожать вместе с семьями комиссаров, коммунистов и евреев. В борьбе с разрушителями и осквернителями России мера наказания может быть лишь одна: «смертная казнь разных степеней». Старая основа правосудия — «правда и милость» — изменилась. Теперь должны царствовать «правда и безжалостная суровость. Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем... Суровость суда ведет к миру, к которому мы все стремимся, как к высшему дару неба» [«Рев. на Д. Востоке». С. 431].
ГЛАВА ПЯТАЯ Правительство
1. Совет министров
В исключительно трудных условиях протекала деятельность центрального Правительства. Для «левой» общественности — даже в части ее «правого» сектора — у власти были «фашисты» с чисто кастовыми тенденциями (Колосов). «Они вели классовую, антидемократическую политику», — утверждал бывший член Директории [Зензинов. С. 167]. Факты, однако, не соответствуют такой характеристике1. Это так ясно из сопоставления, которое делает более примитивный Раков — для него «разбойнический колчаковский режим» является воплощением «пресловутой кадетской государственности» [с. 42].
Во всяком случае, во внешних лозунгах «диктатуры» не было признаков какой-либо классовой исключительности. Управляющий делами Совета министров Тельберг в интервью 12 января так определил эти лозунги: «Мы сторонники демократии, но наша задача только восстановление государства» [«Сиб. Ж.»].
Вопрос иной, как эти лозунги претворялись в сибирской жизни с ее анархическими устремлениями. Но власть на верхах была, по выражению Н. К. Волкова (член группы Милюкова), проникнута стремлением к «свободе и демократизму» [«Общ. Д.», № 97]. Чрезвычайно показательно, что в обзорах печати, составляемых начальником ценз-контр, бюро Павловским, для внутреннего употребления, т. е. не на показ2, красной нитью проходит мотив: большевики справа — такая же язва государства, как и большевики слева [напр., обзор за июль. — Пражск. Арх.]. Если диктатура, «очень снисходительная направо, выказывала крайнее недоверие и раздражение ко всему левому» — таково утверждение «Чехосл. Дн.» [№ 269], то виноваты были в этой однобокости только «левые», поскольку под ними подразумевались социалисты двух главенствующих партий. В Сибири они все время ходили по скользкой тропе между практическим признанием и отрицанием большевизма. Легальная оппозиция Правительству одновременно была и нелегальной революционной борьбой с Правительством, вплоть до устройства террористических покушений. На такой почве доверие у власти вырасти не могло. Между тем у Колчака, мне кажется, было искреннее стремление не только считаться, но и действовать в согласии с общественным мнением. Вся его февральская поездка в прифронтовую полосу проходила под флагом: «Новая свободная Россия строится на фундаменте объединения власти и общественности» [«Пр. Вест.», № 82].
Можно, конечно, во имя последовательного демократизма утверждать, как это сделал Л. Кроль в заседании Областной Думы 16 августа, что «.история не знает примера, когда бы диктатура спасала страну» [«Сибирь», № 34]. Но оратор, скорее, свидетельствовал лишь о своем недостаточном знакомстве с историей. Во всяком случае, диктатура Колчака с первого момента была облечена в особые конституционные формы, установленные актом Совета министров 18 ноября3. Постановление о временном устройстве государственной власти в России гласило:
«1. Осуществление верховной государственной власти принадлежит Верховному правителю.
2. Верховному правителю подчиняются все вооруженные силы Российского Государства.
3. Власть управления во всем ее объеме принадлежит Верховному правителю. В делах управления подчиненного определенная степень власти вверяется, согласно закону, подлежащим местам и лицам.
Верховному правителю принадлежит в особенности принятие чрезвычайных мер для облегчения комплектования и снабжения вооруженных сил и для водворения гражданского порядка и законности.
4. Все проекты законов и указов рассматриваются в Совете министров и, по одобрению их оными, поступают на утверждение Верховного правителя.
5. Все акты Верховного правителя скрепляются председателем Совета министров или главным начальником подлежащего ведомства; из сего изъемлются указы о назначении и увольнении председателя Совета министров, каковые скрепляются управляющим делами Совета министров.
6. В случае тяжкой болезни или смерти Верховного правителя, а также в случае отказа его от звания правителя или долговременного его отсутствия, осуществление верховной власти переходит к Совету министров» [«Хр.». Прил. 266].
* * *
Что же представлял собою Совет министров? По мнению Льва Кроля4, номинально власть принадлежала Колчаку, фактически — прежнему Сибирскому правительству [с. 159]. В представлении Якушева Колчак окружил себя реакционными деятелями павшего царского режима [«Вольн. Сибирь». VI, с. 73]. В изображении Ракова, Колчак просто «марионетка». Вся власть в руках разветвленной монархической организации.
Характеристику «Сибирского правительства» мы уже давали. Уходили одни министры (Ключников, Старынкевич), приходили другие. Но, в сущности, ни одной новой реакционной фигуры не появилось. По-старому на правом фланге были кадеты (Тельберг). Привлекались на министерские посты и левые — нар. соц. Преображенский, инж. Окороков, выбранный в свое время правительственным комиссаром в Алтайской губ. Совсем новым человеком был Сукин — молодой 28-летний чиновник русского посольства в Америке. На него впоследствии сыпались нападки. Упрекали его в американофильских тенденциях, — очевидно, ими не могли быть тенденции, реакционные по существу5. Государственный контролер Краснов пользуется «общим уважением», констатирует пристрастный критик JI. Кроль [с. 185]. Возможно, что на министерских постах не было «звезд» русской общественности: «видные деятели, по словам Милюкова, разместились по другим центрам». В Омске русская общественность была представлена «не яркими и не влиятельными фигурами». Но это уже не вина адм. Колчака. Приходилось брать тот людской материал, который был под рукой. «Случилось так, — писал к.-д. Клафтон на Юг своим политическим друзьям, — что лучшие офицеры и лучшие политические вожди там, у вас на Дону, а серая масса здесь и эта серая масса должна складывать государство именно здесь»... «Наши партийные деятели сделали огромную ошибку, бросив Сибирь на произвол судьбы и сконцентрировав все свои силы там, на Дону... Здесь полное безлюдье, все должны учиться, чтобы подняться над губернским масштабом до государственного горизонта, а учиться нет времени, работать приходится среди опасений внезапных рецидивов большевизма, в полном хаосе психологического и государственного разложения и усталости»...6
На бывшего в Сибири проф. Пёрса ближайшие помощники Колчака произвели скорее отрицательное впечатление. Саблин пишет из Лондона в Омск 22 октября: «Омское правительство, за исключением Михайлова и Сукина7, Пёрс считает составленным из людей даже не второстепенных. Для Москвы, для национального Правительства эти деятели были бы совершенно неприемлемы».
Отзывается Пёрс с большой похвалой о Дитерихсе. Правительство он критикует, но не потому, что оно «сознательно грешит, а потому, что оно составлено из людей, которые в нормальное время служили бы в мелких департаментах». Для Будберга «остальные члены кабинета (особо он говорит о Михайлове и Сукине) — серые, бесцветные, безобидные, по-своему добросовестные фигурки совершенно негосударственного масштаба; они усердно заседали, старались что-то сделать, раздули кадило на всероссийский размах, но не справились с узкими задачами омского градоначальства. Активного вреда они не принесли, грязного и порочащего власть сами не делали, но оказались пигмеями перед грозными требованиями данного исторического часа русской жизни» [XV, с. 336].
Когда Будберг переносит вопрос в область изыскания гениев, то здесь нечего сказать. Не мог их создать Верховный правитель; не могла их породить и Сибирь. В оправдание простых смертных можно сказать, что «звезды» в других центрах также оказались у разбитого корабля и что сибирские условия были запутаннее и сложнее.
Возможно, что внутренняя сибирская политика во многих отношениях была неудачной, но никакого классового характера она не носила. Сводка отдела пропаганды при Добр, армии дает такую характеристику Правительству, возглавляемому Вологодским: Правительство левое, но проводит умеренную политику.
2. Теория и практика
Может быть, слишком молодой еще Михайлов был плохим министром финансов. Его мероприятиям мему-аристы охотно приписывают «гибель» сибирского рубля. Возможно, что реформа с девальвацией керенок была одной из самых ошибочных реформ в Сибири. Только... история финансов всего мира за последние годы смут и общественных пертурбаций как-то поучает тому, что устойчивость финансов — ценность денег — больше зависит от общественной психологии, нежели от экономических оснований. Вероятно, это научная ересь. Но всегда ли наука поспевает за жизнью?
Неспециалист должен пока воздерживаться от оценок финансовых мероприятий сибирской власти. Еще скрыты многие из двигавших жизнь факторов. То, что обывателю-мемуаристу кажется несуразным в законе 19 апреля об изъятии керенок, специалисту будет понятно. У нас мог бы быть надежный источник для характеристики сибирских финансов в написанных, но, к сожалению, еще не изданных воспоминаниях начальника кредитной канцелярии у Колчака А. А. Никольского. Его суждения достаточно компетентны. Он объясняет, что мотив издания закона 19 апреля был целесообразен — при продвижении в Европу наплыв оттуда «керенок» в Сибирь мог бы иметь катастрофическое влияние на все народное хозяйство. Признавая, что осуществление закона было неудачно и что он принес больше вреда, чем добра, все же авторитетный свидетель укажет, что, если бы успех на фронте продолжался — и последствия закона были бы иные. Много причин было для обесценения сибирского рубля, упавшего в 25 раз за полтора года, и среди них — политика держав, мало считавшихся с реальными нуждами сибирской власти8. И все-таки Никольский, подходящий с критикой к деятельности министра финансов Михайлова и его преемника Гойера, признает, что финансовое ведомство выполнило свое главное назначение9, приняв «ужасное» наследие и пустые кассы.
Я буду рассматривать деятельность Правительства не с этой точки зрения. Мне важно выяснить его «классовую» подоплеку и ту специфическую реакционность, которую приписывают ему противники и большинство наблюдателей из иностранцев. В деятельности Правительства Будберг усматривает не реакционность, а полную отрешенность от жизни. Ему, как военному, мыслится разрешение всех вопросов совсем в иной плоскости. 10 сентября он записывает:
«Весь вечер пропал даром в бессмысленном заседании Комитета экономической политики, где пережевывались «общие принципы реквизиции». Удивительные мы люди: на фронте идет наступление, долженствующее решить судьбу сибирского белого движения и всей России; тыл разваливается и пылает восстаниями, а в это время 12 министров и их товарищи убивают три с лишним часа на обсуждение вопросов самой отвлеченной теории. Я рекомендовал использовать прямо положение о реквизициях, вышедшее во время большой войны, но решили все же поговорить... Такие заседания напоминают мне дискуссии о спасении души в вагоне, который летит кувырком с многосаженной насыпи, причем пассажиры уже не знают, где у них верх и где низ, где крыша, а где пол» [XV, с. 307].
Бесспорно, многие мероприятия того времени были теоретичны и являлись почти ненужной уступкой демократической догме. Напр., распространение суда присяжных в губерниях Енисейской и Иркутской, Забайкальской, Амурской и Приморской областях, на Сахалине и в полосе отчуждения В.-Кит. ж. д. [«Пр. Вест.», 30 января]. Какой там суд присяжных в обстановке гражданской войны, да еще такой специфической, как, напр., в Енисейской губ., охваченной пожаром партизанского движения! Гришка Хромой — главарь шайки в Иманском у., чинивший суд и расправу без всякой волокиты, совершавший семейные разделы и пр., — может быть, в это время больше подходил к тамошнему быту. «Полк. Ворт» (Уорд) в своей наивной простоте, также занимавшийся в Уссурийском крае судебным разбирательством крестьянских споров, вероятно, удовлетворял реальные повседневные нужды деревни.
* * *
Я не имею возможности, да, пожалуй, и надобности, рассматривать всю законодательную деятельность Правительства. Остановлюсь только на нескольких мероприятиях, и особенно на тех двух, которые в представлении противников особенно ярко подчеркнули реакционную сущность Правительства, — это издание выборного закона для городского самоуправления и меры, касавшиеся земельного вопроса. Любопытно, что чешские демократы, весьма суровые в оценке деятельности Правительства, как раз в противоположность русским социалистам, именно в этих областях и считали только положительной деятельность Правительства [«Чехосл. Дн.», № 269 — годовщина государственного переворота].
2 февраля был опубликован этот новый закон о выборах в Городские Думы, принятый Правительством еще 27 декабря. В действительности был без изменения принят проект Гаттенберга, утвержденный еще старым Сибирским правительством. «Вся сибирская печать, — писал в № 32 «Чехосл. Дн.», — с удовлетворением констатирует, что новый закон о выборах совершенно приемлем, что Верховный правитель Сибири, несмотря на сильное давление реакционных кругов, которые выступают иногда под фирмой либеральных партий... идет действительно к демократическому строительству»... И позже, по поводу иркутских выборов в июне, тот же орган [№ 129] говорил: «Демократичность закона Колчака о выборах в местное самоуправление... дает возможность сибирской демократии проявить себя самым широким образом в местных самоуправлениях, столь убогих в России вообще (!)10, и осуществить здесь в противоположность реакции здоровые основы демократические и социалистические».
«Вся печать»... — чешский автор ошибся. «Левая» демократия не могла признать что-либо положительное за законодательством «диктатора». Конечно, новый закон — «шаг назад», шаг «контрреволюционный», нарушение «принципов народоправства» (иркутская «Мысль», № 1, 18 февраля). В чем дело? — введен избирательный «ценз»: возраст 21 год для активного избирательного права и 25 для пассивного; ограничено народовластие «цензом» оседлости — не менее года; наконец, мажоритарная система. Сибирские демократические «вундеркинды», очевидно, и не представляли себе, что в дни Временного правительства мажоритарную систему выборов в противоположность пропорциональной защищали социалисты Водовозов, Мякотин и такие специалисты, как покойный В. М. Гессен. Они не отдавали себе отчета в том, что после неудачи применения пропорциональной системы в России, давшей псевдогородское и земское самоуправление, число мажоритаристов или по меньшей мере сторонников существенных коррективов к системе 1917 г. значительно увеличилось в рядах даже социалистической демократии11. «Благомыслящая демократия», конечно, отнеслась с сочувствием к новому закону. Приветствовал закон, «составленный на демократических началах», председатель Екатеринбургской Думы Кронберг [«Заря», № 42]. «Надо быть «пристрастным», — писал проф. Мокринский в «Сибирской Жизни» 5 марта, — для того чтобы отвергать демократичность закона 27 ноября». Я не нашел и протестов против закона или его проекта в реакционных кругах, о которых говорил «Чехосл. Дн.». Некоторая критика была со стороны кооперативной «Зари», полагавшей желательным повысить до 25 лет возрастной ценз. Протест раздался только со стороны екатеринбургской группы партии народной свободы, бывшей в то время под влиянием JI. Кроля слишком «левой»: партия протестовала против требования оседлости [Кроль. С. 163].
Если демократия потерпела поражение на выборах, то причиной этого был не «куцый закон», а настроения избирателей. Новые выборы дали действительно значительный процент домовладельцам. Выборы отмечены абсентеизмом [«Сибирь», № 60]. В Иркутске в выборной кампании приняло участие лишь 30% избирателей12, в Шадринске — 28%, в Кургане — 20%13 [«Заря», № 4]14.
* * *
Нового закона о земском самоуправлении Правительством издано не было. 20 декабря Совет министров по докладу Гатгенберга постановил: 1) остановить производство выборов в земство, предоставив мин. вн. дел в случаях, не терпящих отлагательства, эти выборы разрешать и 2) продолжить деятельность управ до новой сессии земских собраний по новому закону [«Пр. Вест.», № 29].
В свое время мы отмечали положительное отношение Колчака к земству и его разочарование в силу характера приморского земства. Это разочарование должно было распространиться на многие земства Сибири революционного производства. По традиции, мы привыкли относиться с некоторым пиететом к земскому самоуправлению и по отношению к нему Правительства определять демократический или революционный уклон последнего. Земства 1917 г. имели мало Общего с подлинным местным самоуправлением. Они были, скорее, политической школой, в значительной степени партийной при преобладании эсеровских элементов, часто не имевших абсолютно никакого отношения к интересам и задачам органов самоуправления. Такие земства «Заря» не без основания называла политическими «говорильнями»15. В Сибири, где новое земство не имело никаких традиций, отмеченное явление должно было сказываться сугубо. Само население относилось к земству довольно прохладно. Так, управляющий Иркутской губ. (с.-р. Яковлев) в докладе министерству должен отметить, что большинство волостей к земству равнодушно; ему приходится говорить о «темноте населения» по поводу январских выборов в земство [«Мысль», № 5]. Крестьяне Катарбейской волости Иркутского у. даже отказались от выборов [там же, № 4]; население в Вилюйском у. Якутской обл. ходатайствует о закрытии земства, «ничего не приносящего отрадного населению, ведущему кочевой образ жизни» («Сельск. Жизнь», 3 июля) и т. д. Чрезвычайно ярок рассказ Андрушкевича о земстве, избранном в 1917 г., в Иманском у.:
«Всем выборным делом руководила партия соц.-революционеров. К выборам были допущены за неявкой основного населения, не понимавшего, в чем дело, советы солдатских депутатов, комитеты общественной безопасности и т. д. Итог был следующий: в Иманскую уездную земскую управу оказались избранными: председателем управы — сельский учитель, разжалованный по суду дьякон, а членами управы: один мещанин Имана, тюремный надзиратель, станционный жандарм и один из волостных старшин.
Все эти люди были, в сущности, людьми не плохими. Но обязанные своим положением членов партии соц.-рев., они и держались за партию, считая своим долгом идти за ней, и подписывали, скрепя сердце, все, что им подсовывали земские чиновники, партийные ставленники...
...земские управы получаемые от казны средства стали тратить прежде всего на свое содержание, на содержание многочисленного земского чиновничества, на взносы Земгору и Далькрайземгору, на политические партии, на печатание воззваний и т. п., и при таких условиях, да еще при падении стоимости рубля, у земства ничего не оставалось на удовлетворение крестьянских нужд. Мосты не починялись. Показательные хозяйства захирели. Все переселенческие учреждения, перешедшие в ведение земства, — пропадали. Врачи и учителя не получали жалованья и разбегались. Богатейшая, образцовая, показательная пасека в Имане — пропала, а имущество ее перешло в руки одного из членов земской управы. Однажды ко мне явился один земский врач и, положив ключи от вверенной ему больницы на стол, заявил, что он больницу закрыл и уезжает, так как в течение нескольких месяцев он не получал жалованья. Все необходимейшие лекарства израсходованы, а новых невозможно добыть от земской управы... Я препроводил ключи от больницы в земскую управу, а земская управа — сторожу больницы. Сторож надел на себя докторский халат и сам занялся медицинской деятельностью, раздавал кстати и некстати оставшиеся лекарства. Когда же от лечения сторожа прока не оказалось — население отказалось давать больнице дрова. И сторож для отопления своей комнаты сжег всю деревянную обстановку больницы...
Правительство решило переизбрать состав волостных земских управ. Из распоряжений по этому поводу явствовало, что Правительство надеялось, что теперь к земскому волостному делу станут люди более благоразумные, государственно настроенные и что новые люди будут более полезными в деле государственного строительства...
В определенный срок я получил подлинные выборные делопроизводства и был весьма смущен: все избирательные записки по волостям оказались написанными одной и той же рукой, на одинаковых лоскутах бумаги, и повсюду оказались избранными те же старшины — председателями, а писаря — секретарями. Было ясно — крестьяне на выборы не пошли, и избирательные записки повсюду написаны писарями, выполнявшими требование о производстве выборов. О том же донесла и полиция» [с. 121—124].
А вот характеристика уездного земства в противоположном конце Сибири, ближе к Европейской России — в Тарском уезде Тобольской губ. Характеристику дает очень наблюдательный и вдумчивый команд, местным военным районом полк. Франк:
... «Волостная управа находится в самом хаотическом состоянии... Председатели управ — или посторонние, чужие люди населению... или захудалые неграмотные крестьяне. Писаря или секретари — просто темные личности, живущие на взятки и вымогательства. Земская уездная управа... остаток советской власти — бывшие члены совдепа и революционного трибунала, а некоторые с уголовным прошлым. Большинство членов управы (уездной) — элемент также пришлый, не имеющий ничего общего с земством... Члены заняты торговлей, спекуляцией, политикой и всем, чем угодно, но не делом земств».
Франк настаивал на «немедленном» переизбрании земских управ [«Прол. Рев.». Кн. 8, с. 200].
«Колчаковское Правительство не решилось уничтожить земство», — утверждает Колосов. У меня нет никаких данных, свидетельствующих о таком даже намерении. Правительство, очевидно, относилось с некоторой настороженностью к земству производства 1917 г. и хотело, чтобы новый закон внес оздоровление в жизнь местного самоуправления. По тактическим соображениям оно настойчиво предписывало, однако, военным властям земцев не трогать. Не трогать «земцев» — означало не трогать эсеров. Предписание из Омска подчеркивало это, напр., по поводу цитированного выше революционного воззвания приморского земства против Колчака16. Тем не менее столкновения власти с земством, конечно, происходили. В январе во Владивостоке собрался дальневосточный съезд земств и городов. Управляющий мин. вн. дел Гаттенберг телеграфировал, что «обсуждению съезда подлежат только вопросы экономическо-хозяйственного значения и что он не разрешает касаться вопросов «конструкции власти». Ясно было, что съезд, под постоянным председательством Медведева и почетным Якушева, должен был в политических вопросах стать на путь воззвания приморского земства. «Съезду, после его решения, — пишет Якушев, — продолжать занятия по утвержденной повестке, в дальнейшем не чинилось препятствий». Тем не менее при закрытии съезда по инициативе группы членов была принята резолюция о том, что «единственным выходом из создавшегося положения является немедленное возобновление государственного порядка, установленного законами Вс. Вр. правительства 1917 г., и созыв сибирского Учр. Собрания».
На другой день, 28 января, местной властью была арестована часть участников съезда, освобожденных вмешательством военного командования17. Но едва ли не первым случаем репрессии — вернее угрозы — со стороны центральной власти было решение Пепеляева предать суду руководителей иркутского губ. земства за резолюцию 7 июля, осуждающую переворот 18 ноября и требующую созыва Учр. Собрания [«Кр. Арх.». XXXI, с. 12]. В Правительстве шли долгие споры о легализации союза земств и городов [Будберг. ХГѴ, с. 300]. Устав Сибземгора не был утвержден, но это не мешало союзу энергичнее развивать свою деятельность и к июню 1919 г. даже «процветать» [«La Russie Democratique», № 6].
Мы не раз встречаемся с указанием на аресты земских деятелей и кооператоров военными властями. При всем желании, их нельзя отнести на счет преследования земств и кооперации, как это хочется Колосову и другим. Трудно в отдельных случаях даже установить, где аресты являются актом произвола и где они вызваны государственною необходимостью. Несомненно участие многих из этих «земцев» в противоправительственном движении — и часто на стороне большевиков.
* * *
Еще во время деятельности «Сибирского правительства» съезд представителей земств и городов Приамурской, Камчатской и Сахалинской областей вынес 17 октября протест против издания земельного закона, идущего вразрез с законом веер. Учр. Собр. Здесь была ахиллесова пята всякого земельного законодательства. Мы говорили о компромиссе, на который шли эсеры на Уфимском Госуд. Совещании. Сибирские эсеры этих компромиссов не желали знать, слепо и формально отстаивая закон 5 января. Все, что нарушало «волю» Учр. Собрания 1917 г., было актом реакционным18. При таких условиях сожительства и компромисса достигнуть было невозможно. Между тем и здесь «буржуазный» историк гражданской войны поставит Правительству в вину: «Земельный вопрос бесконечно разрабатывался в канцеляриях; но предварительные «всероссийские» декларации Правительства (напр., 4 апреля) были двусмысленны и, поскольку доходили до крестьянства, вызывали законное недоверие — хоть в Сибири и не было помещиков» [Милюков. С. 126].
Обратим внимание, что в своей речи 16 февраля земским представителям в Екатеринбурге Колчак подчеркнул, что он сторонник передачи всей земли крестьянам... Через полгода Верховный правитель в объявлении 29 июля писал: «Я и мое Правительство заявили, что мы считаем справедливым и необходимым отдать всю землю трудящемуся народу». Сама же земельная декларация 8 апреля19 гласила:
«Доблестные армии Российского правительства продвигаются в пределы Европейской России. Они приближаются к тем коренным русским губерниям, где земля служит предметом раздоров, где никто не уверен в своем праве на землю и в возможности пожать плоды своего труда. Богатая раньше хлебом родина наша ныне голодна и бедна.
Долгом Правительства является создать спокойную и твердую уверенность земледельческого населения в том, что урожай будет принадлежать тем, кто сейчас пользуется землей, кто ее запахал и засеял.
Заявляем поэтому, что все, в чьем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собирать урожай.
Вместе с тем Правительство примет меры для обеспечения безземельных, малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян.
Земли же, которые обрабатывались исключительно или преимущественно силами семьи владельца, — земли хуторян, отрубников, укрепленцев, подлежат возвращению их законным владельцам.
Принимаемые меры имеют целью удовлетворить неотложные земельные нужды трудящегося населения деревни. В окончательном же виде вековой земельный вопрос будет решен Национальным Собранием.
Стремясь обеспечить крестьян землей на началах законных и справедливых, Правительство с полной решительностью заявляет, что впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться законному суду. Законодательные акты об упорядочении земельных отношений, о порядке временного использования захваченных земель, последующем справедливом распределении их и, наконец, об условиях вознаграждения прежних владельцев последуют в ближайшее время.
Общей целью этих законов будет передача земель нетрудового пользования трудовому населению, широкое содействие развитию мелких трудовых хозяйств без различия того, будут ли они построены на началах личного или общинного землевладения.
Содействуя переходу земель в руки трудовых крестьянских хозяйств, Правительство будет широко открывать возможность приобретения этих земель в полную собственность. Правительство совершает этот ответственный и полный глубокого исторического значения шаг, исходя из непреклонного убеждения, что только такой решительной мерой можно возродить и обеспечить благосостояние многомиллионного русского крестьянства, а благосостояние крестьянства есть та здоровая и прочная основа, на которой поставлена будет твердыня обновленной, свободной и цветущей России».
Можно с этой декларацией не соглашаться, но ничего двусмысленного в ней нет20. Во всяком случае, она была во много раз демократичнее того, что предлагала партия к.-д. на Юге во главе с самим Милюковым. Из рассказа Гинса мы знаем, что декларация явилась в Совете министров результатом компромисса и что, несмотря на протесты ген. Лебедева и других, была подписана адмиралом:
«Министерство земледелия представило свой проект. Основная идея его заключается в том, что государство устанавливает особое управление всеми землями, вышедшими из обладания их прежних владельцев.
Эти земли описываются и принимаются в ведение государства, причем до окончательного разрешения земельного вопроса они сдаются в аренду землевладельческому населению.
Этот закон вызвал яростные нападки аграриев...
Левые круги были тоже недовольны законом. Они, наоборот, считали, что сдача земель «в аренду» есть, в сущности, реставрация частной собственности и что крестьяне иначе и не поймут этого... Проектом министерства были недовольны, однако, не только социалисты, но и умеренные демократические элементы, которые считали задачей государственной власти расширить в стране мелкое трудовое землевладение за счет крупного.
Я был на стороне этих последних и возражал против проекта в Совете министров...
Мои предложения имели некоторый успех. Они собрали в Совете министров шесть голосов. Но семь голосов было подано за проект министра земледелия, и он стал законом» [II, с. 154—157]21.
Для Сибири все это не имело значения22. Здесь поднимались иные вопросы — внутреннекрестьянские, к помещичьей земле отношения не имевшие. По-видимому, для многих они были еще неясны. В жизненной практике на задний план отступала строгая догматическая принципиальность. Иллюстрацией могут служить выступления представителей эсеровского направления на третьем западносибирском съезде крестьянских депутатов в Омске 18 января (1918). Для борьбы с большевизмом ораторы пытаются пробудить в крестьянине собственнические инстинкты: с установлением социализма не будет частной собственности, отнимут «последнюю корову», плуги и т. д. ... «Нам не до жиру, быть бы живу» [Кардонская В. С. 69]. Небезынтересны наблюдения, которые сделал Л. Кроль среди крестьян — гласных пермского губернского земства: «Наиболее захвативший в данный момент крестьян гласных вопрос был — о возврате земель, захваченных крестьянами у крестьян». Одни были за возврат, другие — против. И те и другие прошли в гласные «под эсеровским флагом». Под этим флагом «были типичные собственники» [с. 175].
Для отдельных мест Сибири могли быть «бестактными» и другие постановления Совета министров, напр. постановление 14 марта о предоставлении преимуществ в отношении земельного устройства переселяющимся семьям павших в боях. Земельный надел определялся в 15 десятин, пррчем заявлялось, что земля будет даваться в собственность. Или указ 2 июля об изъятии из пользования крестьян государственных земель, входящих в надел селений Тасеево Канского у. и Степно-Баджейск, и обращении их в земельный фонд, назначенный для устройства воинов23.
Для того чтобы в Сибири разрешить земельный вопрос, требовался сложный органический закон, который во временном порядке гражданской войны издать нельзя было. Применение закона 5 января вызвало бы еще большие осложнения.
* * *
Есть еще один вопрос — своего рода лакмусова бумажка для Правительства, чрезвычайно сложный в период гражданской войны. Этот вопрос просто разрешили большевики, уничтожив всякую неказенную печать. Мы уже касались положения печати в период, непосредственно примыкавший к перевороту 18 ноября. Тогда были условия особые. А как дальше? «Для будущего историка нашей борьбы, — писало иркутское «Дело» 6—7 января 1920 г. [№ 388], — положение печати при вологодско-колчаковском режиме даст ценный материал для выявления истинного лица Правительства преступлений». Цензурные курьезы или цензурные провинциальные абсурды, как выражались «Отеч. Вед.» (напр., белые места в официальных отделах), были нередки — и не было в них ни плана, ни смысла, ни цели. Но скорпионы, как и раньше, обрушивались не только на левую печать, как пытается изобразить обозреватель в иркутском «Деле». Шумным инцидентом в Омске был арест ответственного редактора «Зари» В. С. Парунина. Он был вызван в милицию и арестован на 3 месяца распоряжением начальника Западно-Сиб. военного округа за статью «К самосуду». Арест был произведен на основании старого приказа Иванова-Ринова от 16 августа, отмененного Колчаком. Парунин был тотчас же освобожден распоряжением военного министра, и виновник ареста вынужден был уйти в отставку. Та же «Заря» — выразительница «темных сил», по характеристике с.-р. «Сибири» [№ 83], — была закрыта в июне за статью «Земщина и опричнина»24. Распоряжением Дитерихса 26 августа была закрыта в Омске «Наша Заря» за «непозволительный выпад против одного из членов Правительства». Редактор газеты н.с. Галецкий был арестован. К сожалению, номера с «непозволительным выпадом» мне не удалось увидеть. «Наша Заря» не раз сама писала, что пренебрежительное отношение к власти должно быть изжито, что нельзя всякое мероприятие по укреплению власти трактовать как реставрацию старого, как делают «пешехонские с.-д. и с.-р.».
И едва ли не единственный случай, когда репрессии коснулись газет косвенно по инициативе самого Верховного правителя, — это в деле с «Отеч. Вед.» в критический момент на фронте. Раздраженным адмиралом была послана 20 июня Дитерихсу телеграмма по поводу противоправительственной работы газет на фронте, с угрозой закрыть «Наш Урал» и «Отеч. Вед.». На основании этой телеграммы для «Отеч. Вед.» была установлена военная цензура.
Репрессии на печать всегда исходили со стороны военных властей, т. е. мы присутствуем при обычной коллизии на театре военных действий — коллизии, которая привела к подаче в отставку мин. вн. дел Гаттенберга. Военное положение расширяли помимо желания Колчака. Для общего режима был чрезвычайно показателен характер «Правительственного Вестника». Неужели в официальном органе реставрационного Правительства можно было бы встретить, напр., статью о секретном арестанте № 1 — о Н. И. Фомине-Медведеве (по харьковскому процессу 1879 г.) — или подробный отчет о лекции с.-д. Маслова «Экономическое возрождение России»?
При тяжелых сибирских экономических условиях (с мая «Заря» — богатый орган кооператоров — выходила на коричневой бумаге) печать далеко не была представлена слабо для того времени. Выходило 157 периодических органов. Из них 61 журнал. В Зап. Сибири — 39 газет и 33 журнала; в Восточной — 32 газеты и 22 журнала. Было 74 ежедневных газеты. Из них 22 «демократических», 7 органов социалистической мысли, 2 издания рабочих с.-д. Среди журналов 23 кооперативных, 8 земских, 4 общ.-политических, 6 проф. рабочих. В одном Омске издавалось 6 газет и 10 журналов [«Мысль», № 14].
Общая печать довольно полно отражала жизнь того времени, рисуя ее отнюдь не в радужных тонах и резко выступая против действий правительственных агентов, нарушавших принципы правового государства. Просматривая, напр., «Зарю», находишь немало протестов против закрытия газет, внесудебных расстрелов (напр., двух кооператоров в дер. Лузино Иркутской губ. — № 100), против репрессий со стороны военных властей в отношении союза кооперативов «Центросибирь»25 — высылка членов [№ 26]. Печать отнеслась с осуждением к принятому в июне Советом министров «закону о большевицком бунте»26. Эту критику официальный «обзор печати» доводил до сведения Верховного правителя, отмечая с своей стороны, что судебное разбирательство является отличием государственной власти от беззаконной.
* * *
Слишком мрачно рисуют нам подчас реакцию в «русской Вандее». Некий «социалист» Семашко в открытом письме Тельбергу [«Шанх. Хр.», № 1] утверждал в июне, что он вынужден жить за границей, так как при режиме Колчака ему место отведено было бы лишь в арестантской камере. Возможно, все зависело бы от того, что делал бы Семашко. Быть может, ему не нашлось бы места и на юге России, где социалисты жили в общем довольно безопасно и где тем не менее, по мнению ген. Болдырева, на основании получаемой информации, «ущемление» социалистов шло еще большим темпом [с. 232]27. Искусственные предпосылки порой расходятся с жизнью. Проф. Легра в своем дневнике совершенно убежден, что иркутский «губернатор» с.-р. Яковлев при новом режиме, «конечно», будет арестован [«М. S1.», 1928, II, р. 192]. Этого не случилось. Он не был даже отставлен, хотя, как мы увидим, роль Яковлева была чрезвычайно двойственна.
С.-р. Колосов определенно злоумышлял против режима и все же довольно спокойно жил в самом центре партизанского движения в Красноярске. Колосов обличал режим, пользуясь печатным словом. Он без труда мог выпустить обличительную брошюру, так как этого рода литература цензуре не подлежала; он мог в марте-мае издавать «Новое Земское Дело», в котором освещал по-своему крестьянское движение [XX, с. 264]. В Иркутске выходила весьма оппозиционная газета «Мысль» (с.-р.) и «Дело» (с.-д.) и орган совета профессиональных союзов «Сибирский Рабочий». В Иркутске существовал социалистический клуб имени с,-д. Патлых — центр революционной пропаганды. И военные власти его так или иначе терпели.
В Тюмени во главе газеты «Наш Путь» мог стоять с.-д. Гистер (фактически большевик), Авдеев и др.28
Если власть запрещала всесибирский учительский съезд, если изымала из земских рук руководство учебными заведениями, то делала она это по необходимости — революционное земство к культурно-просветительной работе было мало способно. Несмотря, однако, на репрессии, земство оказывалось, по признанию самого Колосова, «удобной почвой для полуоткрытой организации общественных сил на антиколчаковской платформе» [XX, с. 240]. Очевидно, режим не был так жесток, как его изображают на словах.
«Милитаризация» режима происходила не в силу стремления Правительства подавить всякую гражданственность, а в силу самой жизни, в силу того, что в Сибири, может быть, было еще труднее разрешить проблему двоевластия в период гражданской войны29. Быт подавлял право. Между тем мы имеем основание думать, что правительственная власть при известных условиях, от нее уже не зависящих, могла бы упорядочить этот быт. Порядок в Сибири налаживался. Об этом свидетельствовал тот самый управляющий Уральской областью Посников, записки которого о невозможности бороться с эксцессами военщины получили популярность в литературе: «диктатура смягчалась и цивилизовалась» [Гинс. II, с. 191]. Комитет защиты законности и порядка — комитет «трех», созданный при Верховном правителе, — пытался вносить в жизнь элементы здорового правопорядка. Не всегда это удавалось. Но «директивы» из Омска никогда не поощряли расправы и беззакония на местах30.
3. «Звездная палата»
Виновников отыскивать легко, и они всегда находятся — особенно в периоды тех или иных неудач. Гинс, склонный в мемуарах отгородиться от той группы, к которой он примыкал, входя в состав членов Совета министров, и подчеркивающий свою демократическую позицию, готов видеть причину неудач Правительства в фактической отмене «конституции» 18 ноября. Совет министров, поскольку речь шла не о законодательных распоряжениях, а о политике текущего дня, стал отходить на задний план. Политика стала сосредоточиваться в руках как бы уменьшенного Совета министров — в «Совете» Верховного правителя, в который входили главнейшие министры31. Этот Совет собирался три раза в неделю и должен был служить связью между Верховным правителем и Советом министров. Он стал, говорят, своего рода «звездной палатой». У Гинса, не попавшего, в силу положения, им занимаемого, в узкий круг ближайших сотрудников Верховного правителя, замечается несколько сгущенно-отрицательное отношение: Совет Верховного правителя, узурпировав власть, сам был бессилен что-либо сделать. Концепция Гинса породила уже легенды, попавшие на страницы истории гражданской войны Милюкова. Он пишет: «Верховный правитель был обставлен подобающим его званию этикетом и непроницаемо окружен группой приближенных людей, составлявших особый Совет Верховного правителя» [с. 124]. Для Милюкова здесь сказалось желание Колчака «решать все самому». Все это мало соответствует действительности.
Совет Верховного правителя не был нарушением «конституции» 18 ноября — тогда уже, по словам Колчака, был намечен и малый Совет. Произошло в действительности то, что происходит неизбежно в кипучей работе: в военное время из больших коллегиальных учреждений выделяются малые для скорых решений (Болдырев жаловался даже на медленность работы такой малочисленной коллегии, как Директория). Естественно, что верховодят всегда наиболее энергичные и инициативные люди. Так называемая «группа Михайлова» (в нее входил в свое время и Гинс), конечно, и была такой инициативной группой.
К тому же большой Совет не был однороден. Это признает и Гинс, сам выступавший не раз застрельщиком оппозиции. «Соотношение восьми и семи голосов, — говорит он, — становилось невыносимым» [II, с. 170].
Если послушать Гинса, все дело в «звездной палате»; если послушать рассказы Будберга, несомненно тенденциозные, о заседаниях Совета министров, то, в сущности, становятся понятны те нападения, которые направлялись по адресу Совета:
«13 августа. Вернулся домой в 4ч. утра; в 11 ч. ночи началось знаменательное закрытое заседание Сов. министров; грозность положения смыла сразу весь глянец искусственно дружеских отношений, и начались грызня, обвинения и уязвления.
Гинс обрушился на заместителя председателя Сов. мин. Тельберга и на Совет Верх, правителя с яркими обвинениями в олигархии, в проведении указов задним числом и т. п. ... Я вполне разделил мнение Преображенского и других уважающих себя министров о необходимости всему составу Сов. мин. немедленно же подать в отставку, ибо происшедшим Сов. мин. доведен до последней степени унижения и дальше идти некуда...
Гинс поставил на голосование, доверяет ли Сов. мин. Совету Верх, правителя, который ведет свою собственную политику, не считаясь совершенно со всем Правительством; это предложение, конечно, не получило большинства, ибо за Михайловым всегда стоит квалифицированное большинство в нашем Совете...
Государственный контролер внес предложение обратиться непосредственно к Верх, правителю с запросом по поводу участившихся за последнее время единоличных указов, выпускаемых по таким случаям, в которых нет ничего спешного, чрезвычайного и что может быть проведено нормальным порядком через Сов. мин.; предложение это также большинства не получило.
Постепенно страсти разгорались, упали все фиговые листы; во всей безнадежности представилась разрозненность, хилость и дряблость Правительства, пестрота его членов, искусственность состава, ничтожество председателя... Начались бесчисленные голосования разных резолюций и предложений; результаты 7 против пяти, шесть против шести и т. п. На голосовании, не помню, какой по счету резолюции, я наотрез отказался голосовать (не воздержался, а отказался), заявив, что все сегодняшнее заседание слишком ярко показывает, что никакого объединенного комитета у нас нет, а при таком положении я считаю недопустимой профанацией голосования серьезнейших и животрепещущих вопросов государственного бытия и судьбы нашей родины... Вологодский совершенно растерялся, прекратил голосование и закрыл заседание, заявив, что иного исхода у него нет... Сегодняшнее заседание — это апофеоз всей деятельности нашего Совета, упали все ризы, и стали видны все кости, все изъяны и язвы.
Когда возвращались домой, я весь трясся от негодования»... [XV, с. 266-269].
Необходимы некоторые комментарии к повествованию Будберга о заседании Совета министров 16 августа. Сыр-бор загорелся потому, что Тельберг в отсутствие Вологодского провел положение о совете обороны в порядке указа Верховного правителя. Нарушение формальности, очевидно, было лишь предлогом, так как вопрос о совете обороны, по словам Гинса же, получил раньше принципиальное одобрение Совета министров [с. 262]. «Самоуверенность» Тельберга, может быть, в данном случае объяснялась стремлением избежать осложнений, так как, по словам Гинса, «генералы» — в частности главнокомандующий Дитерихс — были против нового учреждения: совет обороны — военный совет министров и генералов должен был совместно обсуждать все вопросы, затрагивающие компетенции как военных, так и гражданских властей. Не имея протоколов Совета министров, абсолютно нельзя иногда установить точность показаний того или иного мемуариста, непосредственного участника министерской работы. Гинс в качестве примера самовластия «звездной палаты» указывает, между прочим, на увольнение Хорвата и на назначение вместо него Розанова: «Совет министров ничего не знал» [с. 265]. Открываем дневник Пепеляева. 10 июля там записано: «Совет правителя. Решено упразднить должность верховного уполномоченного на Д. Востоке. Хорват совершенно бездействует». 11 июля: «Совет министров. Прошло упразднение верховного уполномоченного»...
Как бы то ни было, положение было ненормально. В заседании Совета министров 31 августа Верховный правитель очень резко отметил недопустимость наблюдаемой разноголосицы в мнениях членов Совета, при которой решения по важнейшим государственным вопросам принимаются большинством одного голоса или перевесом голоса председателя [Будберг. XV, с. 292]. Были авторитетные голоса из демократической общественности, которые именно Совет министров обвиняли в отсутствии твердого курса. К таким голосам принадлежит голос кооператора Сазонова. По его мнению, двоевластие 18 ноября выродилось в двенадцативластие. Каждый министр считает себя полным властелином. Совет министров занимается больше политикой, чем законодательством [«Св. Край», № 347].
Мы видим, что эта позиция диаметрально противоположна концепции Гинса.
Отмеченный выше конфликт грозил разрастись. Верховный правитель был удручен «кризисом», но высказался против перемен в министерстве, считая, что эти перемены не могут спасти дела. Однако под влиянием Вологодского, согласно мнению большинства членов Совета министров, Колчак решил идти на отставку Михайлова и Тельберга, около имен которых в августовские дни сосредоточивались все нападки. Сукин сохранил свой пост, так как Верховный правитель считал, что Сукин лишь выполнитель его директив и директив Сазонова, который считался мин. ин. дел32.
Михайлов — одна из самых одиозных для многих фигур — ушел. Мы больше не встретим его имени в каких-либо последующих «интригах».
Не является ли это доказательством того, что не одним только личным честолюбием руководствовался молодой сибирский политический деятель? «Наша Заря» 19 августа сопроводила эту отставку словами: «И друзья и враги его одинаково признают, что главная заслуга Михайлова в том, что в самые тяжелые исторические минуты, при самых неблагоприятных условиях он оставался верным чувству долга и не уходил в сторону ни страха ради, ни ради малодушного сомнения в личном успехе». На Михайлова нападали и слева и справа.
«Звездную палату» оказалось легко разрушить, и Гинс в качестве уже управляющего делами мог заседать непосредственно в «Совете» Верховного правителя. 15 сентября Пепеляев записывает:
«Совет Верх, правителя. Присутствовали: Краснов, Гинс, Устругов, Сукин, Гойер, я, Дитерихс, Дутов, Будберг. Обмен мнений сосредоточивался на вопросе о созыве законосовещательного органа. Некогда писать все мотивы. Решено учредить государственное земское совещание. Верховный правитель издает грамоту».
При реорганизации кабинета министров поднимается вопрос и о смене председателя Вологодского. По мнению Милюкова, это был безвольный и бесцветный человек [с. 44]. Автор, очевидно, следует за характеристикой Будберга: «Совершенно потухший, бездеятельный и ни на что уже негодный человек» [XV, с. 333]. «Вологодский не был боевым человеком, — говорит Окулич. — Он, подобно кн. Львову, верил в победу добрых начал». Колоритную личность Вологодского никак нельзя отнести к бесцветным фигурам. Он был мягок, добр, но и непоколебим в своей позиции. Факты много раз регистрировали перед нами эту черту. Надо было иметь большое общественное мужество для того, чтобы публично говорить, что он потерял кредит у демократии и что добровольно несет «пятно позора» за декабрьские омские убийства [интервью в «Сиб. Жизни» 4 марта]. Демократ приносил личную жертву для России. Вологодский заявил, что у него нет теперь права считать себя принадлежащим к партии с.-р. Этим самым он говорил, что основы его миросозерцания не изменились. И подлинный демократизм его не поблек. Сибирская «неразбериха» поглотила все его физические силы. Вологодский был болен — болен переутомлением. «Болезнь его была неопределенной, — пишет Гинс, — температура беспричинно повышалась. Председатель производил впечатление расслабленного человека (речь идет о сентябре). Однажды он приехал на заседание и чуть не упал в обморок» [III, с. 329].
В общественных кругах в председатели Совета министров намечались кандидатуры кооператора Балакшина и Белоруссова. Начала выдвигаться на первые роли фигура энергичного Пепеляева, назначенного после Гаттенберга министром вн. дел. По словам Гинса, он нравился Верховному правителю тем, что понимал военные задачи. Для левой общественности это был «максималист справа». И именно ему приходилось «демократизировать» курс правительственной политики.
Примечания к главе пятой:
1 Для представителя советской юстиции Гойхбарга, будущего обвинителя по процессу колчаковских министров, признаком классового антидемократизма являлась ассигновка Совета министров на расследование дела об убийстве Имп. Николая II.
2 Сводки эти представлялись Верховному правителю. Павловский в них не подбирал приятных для Колчака данных. Верховный правитель сводки прочитывал и делал свои пометки.
3 Позже, 29 января 1919 г., при открытии сената Верховный правитель принял соответственную присягу.
4 Ему, между прочим, принадлежит термин «конституционная диктатура».
5 Колчак проявлял, может быть, подчас даже излишнюю щепетильность. Так, он долгое время не соглашался на назначение полк. Клерже (сотрудника «Нов. Времени») в осведомительный отдел (воспоминания ген. Рябикова). Адмирал высказывался и против кандидатуры Гондати, не считая возможным выдвигать имена, связанные со старым режимом (Сукин).
6 Очерк Н. А. в парижском к.-д. сборнике «Памяти погибших». С. 168.
7 Именно эти лица — «дипломатический вундеркинд» и «гениальный финансист», в глазах Будберга, будут особо неподходящи для законодательной и административной деятельности.
8 Напр., проект выпуска кредитных билетов для нужд французского командования в Сибири по курсу 60 сант. за рубль. Непринятие иностранными банками (и русским — Русско-Азиатским) сибирских денежных знаков как денег непризнанного еще правительства. Нежелание Америки выдать кредитные билеты, заготовленные еще в 1917 г. по заказу Временного правительства (выданы были только в ноябре 1919 г.), что было чрезвычайно важно при денежном голоде в Сибири. Голод этот объяснялся в значительной степени технической трудностью печатания денег в сибирских условиях и т. д. Министру финансов пришлось потратить много усилий на то, чтобы доказать французскому правительству гибельность для русского денежного обращения выпуска французским банком самостоятельных денежных знаков. Правительство предпочитало даже вовсе отказаться от получения 18 млн фр. в иностранной валюте на нужды русской армии [письмо 16 июля. — Субботовский. С. 78]. Между прочим, автор отмечает, с каким трудом щепетильный Колчак согласился в конце концов тронуть золотой запас, который считал общенародным достоянием, находящимся в Омске на хранении, и, следовательно, неприкосновенным. Израсходовано было только около 100 млн. Колчак, по словам Сукина, как бы «лично» стоял на страже золотого фонда.
9 Воспоминания Никольского переданы в пражский Архив.
10 Очевидно, автор весьма мало был осведомлен о деятельности городских и земских самоуправлений в России «вообще».
11 Иркутская Городская Дума еще 22 октября обсудила проект нового закона Сибирского правительства о выборах. Эсеровская партия тогда же выступила с заявлением, что отмена пропорциональной системы является нарушением принципа народоправства. Протестовала фракция и против проведения закона в административном порядке, видя в этом нарушение прерогатив Обл. Думы и сиб. Учр. С. [«Сибирь», № 81]. Любопытен отзыв с.-р. Маслова, прибывшего тогда из Архангельска, — он писал Чайковскому, что избирательный закон изменен так, как в Архангельске. Любопытно и то, что эсеровская «Мысль» [№ 5] отмечала, что само население в Иркутской губ. высказалось за мажоритарную систему.
12 При бойкоте выборов большевицки настроенными рабочими в Иркутске 45 мест получили домовладельцы, 28 — социалисты и 2 — блок [«Сиб. Огни», 1927, № 5, с. 95].
13 Здесь социалисты имели только 5 мест.
14 Показательно замечание быв. мин. финансов Комуча известного нам Ракова: выборы показали, что существуют лишь две крайности. Для промежуточной политики нет места [с. 45].
15 «Зауральский Край» (6 ноября) этим объяснял отношение деревенского населения к общественным вопросам и полный абсентеизм на выборах (дело касается Шадринского у.). Столь же показательно для газеты присутствие на общекооперативном съезде 130 делегатов вместо 400-500. Конечно, в данном случае роль играла и близость к фронту.
16 Поэтому весьма неосновательно было утверждение В. Лебедева («Pour la Russien», № 5), что Колчак после переворота принял меры к ликвидации демократического режима во Владивостоке и Приморской области. Иванов-Ринов хотел арестовать земцев, но их спасли американцы. Они были изгнаны за границу. Кто? Странным образом они продолжали во Владивостоке свою подрывную работу.
17 Якушев. Дальневосточные самоуправления в борьбе с властью. Сборник «Мест. Самоупр.». — Труды Общества в Чехословакии. Прага, 1926.
18 Самым большим «реакционером» придется признать А. В. Пешехонова, который еще в московском органе н.-соц. «Народное Слово» писал 11 апреля 1918 г., что «закон» 5 января — это проект, лишь частично проведенный через У. С. Пешехонов возмущался действием московского губернского комитета, издавшего под видом закона «партийную прокламацию».
Среди демократии очень многие не признавали «закона» 5 января. Не признавала его, очевидно, конференция «Союза Возрождения» 20—24 сентября 1919 г. в Ростове-на-Дону. Ее постановления гласили: «Земельный вопрос может разрешить только У. С., поэтому Правительство гражданской войны может принимать только временные меры, оставляя крестьянам ту землю, которая фактически находится в их распоряжении, при условии, что земля эта обрабатывается» [«La Russie Dem.», № 8].
19 Милюков совершенно не обратил внимания на то, что она обращена к европейскому населению. Издание ее раньше было бы преждевременно (термина «всероссийские» в декларации нет).
20 Неопределенность только в вопросе о вознаграждении. Гинс говорит, что он убеждал Совет министров заявить в декларации, что «восстановления помещичьих земель производиться не будет», но большинство высказалось против такого категорического заявления, указывая, что оно может поощрить к захватам даже там, где их раньше не было [II, с. 152].
21 Возражение ген. Лебедева, очевидно, формулировало только точку зрения военного министерства, представившего особую записку по поводу проекта Министерства земледелия 24 марта. Никак нельзя назвать эти возражения возражениями «аграриев». В соображениях министерства были и серьезные аргументы. По мнению министерства, надлежало не вторгаться в область коренного разрешения земельного вопроса. Раз правительственная декларация говорит, что окончательное решение земельного вопроса принадлежит Нац. Рос. Собр., следует ограничиваться лишь временным улаживанием обостренных отношений между захватившим землю и вложившим свой труд в нее. Государство может взять временно в свое заведывание земли, вышедшие из «обладания владельцев, и регулировать фактически установившиеся отношения». Записка министерства совершенно правильно указывала, что неизвестна «фактическая обстановка в области земельных отношений». Аграрная политика большевиков внесла много нового в крестьянский мир, напр.: деление на два класса, переход от прав на землю в пределах трудовой нормы к праву владения по потребительской норме. Если закон стремится закрепить землю за ее фактическим владельцем, следует считать, что у большевиков земля находится не в фактическом пользовании крестьян как землевладельцев, а в распоряжении коммунистических организаций бедноты. Записка обращала внимание и на то, что в разных местах России (Украина, Дон) разрешение земельного вопроса может принять иное направление. Получится сумбур. Со всем этим должно считаться всероссийское законодательство.
22 Реально земельный вопрос становился с момента захвата части Уфимской и Пермской губ. Парфенов доказывает, что здесь совершалось насильственное восстановление помещиков и что особую роль играли добровольческие офицерские отряды Каппеля [с. 95]. Возможно, что такие случаи были. С.-р. Раков в «В застенках Колчака» говорит уже о «восстановлении полностью помещичьей власти в Уфимской губ.» [с. 43]. Такие же обвинения Самарскому правительству предъявляются в сборнике «Борьба за Казань» — материалы о чехоучредиловской интервенции в 1918 г. (изд. 1924 г.).
23 Якушин. Колчаковщина и интервенция в Сибири. С. 86. Источник, надо сказать, не очень надежный.
24 Вызывающий тон статьи привел даже к протесту правления Союза сиб. маслоделов, который принимал участие наряду с Советом кооперативных съездов в издании газеты. По-видимому, на этой почве произошли откол части сотрудников и возникновение «Нашей Зари».
25 Союз потребительных товариществ «Центросибирь» не имел отношения к политическому большевицкому центру, которому было дано аналогичное сокращенное наименование.
26 Проект Новикова и Руднева, долго обсуждавшийся в разных комиссиях [воспоминания Руднева. С. 256].
27 Из обличительной статьи Минора в «La Rep. Russe» [№ 19] мы узнаем, что какой-то эсер Выхристов также должен был искать убежища за границей.
28 Во время мартовского Тюменского восстания Авдеев и его жена Дилевская были расстреляны конвоем (Авдеев остался жив). Управляющий губернией Копачелли в цитированном выше докладе говорил о том, что Авдеев «бессознательно, не желая этого, создавал в рабочих кругах большевицкое настроение». Сам Авдеев [«Прол. Рев.». Кн. 8, с. 190] говорит: «Я и Дилевская вполне сознательно желали свержения его (Колчака) и в этом направлении действовали и среди рабочих». Поскольку часть рабочих приняла участие в бунте мобилизованных, это было результатом пропаганды и указанных лиц. Для «режима» характерно было общественное волнение, вызванное расстрелом Авдеева, и объяснение, которое давала власть.
29 Едва ли могло помочь делу прикомандирование к карательным отрядам «особых уполномоченных», пользующихся доверием общества, лучше всего юристов, для наблюдения за закономерностью их действий. Эту много раз уже испытанную меру «особых комиссаров» предлагала к.-д. фракция в Красноярской Гор. Думе 5 декабря [«П. Дн.». С. 77].
30 «Прав. Вестн.» [№ 90] отмечает, напр., указание Верховного правителя при приеме еврейской делегации, что меры, принятые на фронте в смысле выселения евреев, — единичное явление.
31 Председатель Совета министров, министр вн. дел, финансов, иностр. дел и управляющий делами. На заседания приглашались и отдельные лица по усмотрению Верховного правителя.
32 Будберг прочил Хорвата в министры иностранных дел.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Общественность
1. Настроения и группировки
Приходилось уже неоднократно отмечать, как резко иностранные наблюдатели характеризуют омскую и сибирскую общественность. Они, конечно, улавливали лишь то, что резко выделялось на общем обывательском повседневном фоне и что само по себе не может характеризовать внутреннее содержание политической общественности. Журналист Павлу, перефразируя рассказ Светония о прибытии Британика в Рим, готов был воскликнуть: «Если бы нашелся такой человек, который пожелал купить Омск, он мог бы легко это сделать»... Что же? — можно было бы повторить слова одного иностранца, сказанные в оправдание деятельности своих компатриотов в Сибири: «Война рождает не одних героев»... Гражданская война почти синоним моральной распущенности... Это один из тех заколдованных кругов, выход из которого найти в жизни почти невозможно. Никакие обличения не могут изменить дела. Статьи в «Св. Крае» о вакханалии взяточничества на жел. дороге (например, 18 января) едва ли уменьшили количество взяток; не уменьшили их ни угрозы суровых наказаний, которые проповедовала «Сиб. Речь» [10 авг.], ни меры пропаганды.
«Гнили» в эти годы обнаружилось много во всем мире. Немало ее было и в Сибири... Но поверхностные наблюдатели с некоторой излишней поспешностью заносили на бумагу слухи или непроверенные данные. Так, никаких данных о значительных хищениях в правительственных органах пока мы не имеем. И те два дела, которые фигурируют в мемуарах иностранных и русских, в виде характерных иллюстраций, основаны больше на недоразумениях. Как раз министр продовольствия Зефиров и начальник военсообщ. ген. Касаткин должны быть реабилитированы. Личная честность и того и другого вне подозрений1. Я должен был упомянуть эти два имени уже потому, что оба дела поставлены в пассив Колчаку — Верховный правитель как бы сознательно покрывал темные деяния своего окружения.
При грубых мазках теневые стороны жизни всегда будут запечатлеваться особенно сильно. С полным основанием «обзор печати» осведомительного бюро ген.-квартирмейстера 1 августа говорил: «Если судить о настроениях общества только по газетным сведениям, вывод получается малоудовлетворительный... печать вскрывает картины нравственного убожества2 и чуть не прямого предательства. Отношение к национальной борьбе может быть охарактеризовано словами: нажить, бежать, если угрожает опасность, или вообще где-нибудь укрыться». «Обыватели, — сообщает контрразведка главного штаба в апреле, — как и раньше, в массе проникнуты противо-большевицким духом, сочувственно относятся к существующей власти, однако нередко до тех пор, пока дело не касается их личного материального участия в вопросах борьбы с большевизмом» [Партиз. движение. С. 159]. Подлинной жертвенности нет. И как в других местах, больше руководятся соображением: «Враг далек, и не стоит особенно заботиться» — это отмечает контрразведывательный отдел даже 6 декабря [«П. Дн.». С. 69]. «Нет порыва и подвига, — записывает пессимист Будберг уже 1 января 1919 г., — честные идейные борцы за белую идею... капля среди моря общей грязи...» «Наша Заря» [Ібавг.] находит возгласы «Все для войны» своеобразной вампукой... С момента неудачи общественное равнодушие только растет. Те же наблюдатели из контрразведки по Новониколаевскому району отмечают 30 ноября: «Какой-либо попытки к самозащите со стороны («имущего класса») положительно не видно... О пожертвованиях не слышно и тем более не слышно о добровольцах из имущих» [«П. Дн.». С. 65]. «Власть наша, — подводит как бы итоги «Св. Край» [19 ноября, № 380], — не была популярна в населении и оказалась не на высоте своего положения. Совсем никчемной оказалась общественность»3.
Таким и должен был быть обывательский мир. А квалифицированная интеллигенция, та, которая создает общественное мнение и политически руководит? И тут власть должна была чувствовать свое полное одиночество. К печальным выводам приходил Сазонов: организованной общественности нет [«Св. Кр.», 9 окт.]. Государственной власти не на кого серьезно опереться при том общественном разброде, который наблюдается кругом.
Правым общественным кругам Колчак казался слишком левым. Характерно, что Ключников уже в парижском докладе (январь) отмечал, что правые к.-д. хотят перемены власти. И хотя Устрялов по поводу майской конференции партии нар. св. и писал в «Сиб. Речи» [№ 112], что партия окончательно вышла из состава оппозиции и полуоппозиции и сделалась по преимуществу партией правительственной4, в действительности этого не было, ибо своей проповедью диктатуры5 она шла вразрез с общей политикой самого Колчака: он твердо шел по пути, намеченному 18 ноября6.
К позиции Колчака теоретически ближе всех примыкал так называемый «блок». Но конгломерату общественных групп становилось все труднее удерживать равновесие. Его позицию били справа и слева. По уставу блока, всякая входящая в него организация сохраняла самостоятельность, и обязательными признавались только те решения, которые приняты были единогласно [«Пр. Вест.», № 49]. Достичь такого соглашения скоро стало невозможно. Политическую сущность блока легко определить двумя документами. Конференция семи нар.-соц. комитетов в Омске 13—15 ноября признала, что Российское правительство, возглавляемое адм. Колчаком, стоит на уровне требований исторического момента [«Пр. Вестн.», № 48]. Отсюда вытекал вывод — создание широкого общественного объединения для поддержки этого Правительства. Старые члены эсеровской партии Сазонов и Панкратов обращаются 23 января с открытым письмом к партийным единомышленникам и призывают оставить «сектантскую идеологию», которая выбрасывает партию «за борт» в ответственный момент жизни страны: «Надо бросить мыслить по трафарету и искать новых путей, не боясь обвинений в контрреволюции и прочих громких фраз». «За дело, друзья, родина ждет», — с пафосом заканчивалось обращение [«Заря», № 15]7. Посещение представителями блока Верховного правителя (2 января) вызвало большое негодование в некоторых левых кругах. Напр., меньшевик Ходоров негодовал на то, что вывеска кооперативного всесибирского съезда и комитетов социалистических партий может ввести в заблуждение некоторых представителей иностранных держав [«Дал. Окраина»]8.
На первых порах блок смог как будто бы выявить широкое объединение общественной мысли. Омское соглашение распространилось и на Иркутск [«Пр. Вест.», № 48]. Конечно, подобное объединение могло бы существенно поддержать авторитет власти, если бы в нем действительно твердо сцепились демократические и социалистические элементы с теми группами, которые называются буржуазными. Здоровое национальное чувство руководило кооперативным совещанием в Омске (декабрь), когда оно признавало нужным осуществление в данный момент блока кооперации и торгово-промышленного класса [«Н. Сиб.», № 26]. Но слишком «умная» политика стремилась разбить это сцепление и выбросить из него правокадетские элементы, с которыми демократии ни при каких условиях не может быть по дороге. Так непримиримо вопрос об «едином фронте» ставило левое крыло к.-д. партии, правда весьма немногочисленное. Непримиримость отбрасывала более правых направо и дискредитировала в глазах левых демократичность блока, куда эти более правые пока еще входили9. За Сазоновым и Панкратовым не пошли, к сожалению, многие из тех, которые прежде входили в «Союз Возрождения», тем самым разрушали центральную союзную группировку, которую пытался создать блок. «Левый» к.-д. Кроль, н. с. Чембулов, с.-р. Розенблюм в Екатеринбурге организуют как бы в противовес блоку «всероссийский демократический союз» [«Наш Урал», № 98]. Блоковый орган «Заря» приветствовал образование «союза», но в действительности демократический союз не был поддержкой Правительства: союз признавал власть Колчака как факт, с которым нельзя не считаться, и только [Кроль. С. 193]. Это была пресловутая политика: постольку, поскольку. Блок, критикуя Правительство, всемерно его поддерживал, как это видно из резолюции 14—17 июля, доведенной до сведения Верховного правителя через особую делегацию:
«В настоящий ответственный момент омский блок политических и общественных объединений, побуждаемый сознанием гражданского долга, постановил довести до сведения Российского правительства следующее: так как одной из главных причин, обуславливающих наблюдаемое ныне тяжелое положение на фронте и в тылу, является недостаточно твердое и планомерное проведение в жизнь начал права и порядка, высказанных в программных речах Верховного правителя и в декларациях Правительства, причем это уклонение от возвещенных принципов доходило нередко до полного их отрицания, блок полагает, что уклонения эти не должны иметь впредь места, а раз намеченные принципы — проводиться неукоснительно.
Вместе с тем только тесное сотрудничество Правительства и государственно мыслящего общества, идущих друг другу навстречу, может разрешить настоящий кризис...» [«Кр. Арх.». XXXI, с. 62].
Наличность еще «демократического союза» страшно ослабляла принципиальную позицию левой социалистической части блока. Не имея возможности что-нибудь сделать, демократический союз подрывал почву у демократов, входивших в блок, и вносил лишь новые осложнения и трения в общественную среду. Такая межумочная позиция, делавшая союз в Сибири того времени мертворожденным10, представляется просто каким-то политиканством. Кроль рассказывает, что он пытался привлечь к союзу прибывших с Юга членов партии Волкова и Червен-Водали. Выработанная союзом платформа была для них приемлема, но «в одном пункте мы серьезно столкнулись: на вопросе об отношении к адм. Колчаку... Волков и Червен считали необходимым, чтобы союз выдвинул положение о власти Колчака как о власти, которую союз считает необходимым поддерживать. На это мы не шли и на этом мы разошлись» [с. 193]11.
Мы привыкли уже к ударам, которые русская общественность наносила освободительному движению. Блок, в конце концов, распался. Первым ушло «Единство» [«Сиб. Речь», № 106]. И Сазонов в октябре должен уже с сожалением констатировать, что организованной общественности, в сущности, нет и что блок был скорее ее фальсификацией [«Св. Кр.», № 347].
* * *
Часть сибирской интеллигенции из европейских беженцев, входившая в так называемый «совет объединения несоциалистических общественных деятелей земской и городской России», с самого начала не пошла в «блок», так как в него, по объяснениям М. JI. Киндякова, входили кооператоры. Это объединение, не сливавшееся с организацией демократического национального союза, который создавал Белевский, пыталось проводить свою собственную линию и оказывать влияние на направление политики Верховного правителя. В докладной записке, поданной 14 декабря12, «совет объединения» решительно высказался против «компромиссов и соглашений». «Необходимо, — говорила записка, — решительно и смело поднять национальное знамя и очистить исполнительный аппарат от несоответствующих этому требованию элементов. В области законодательной в спешном порядке должно быть отменено все то, что торопливо создавалось в угоду требованиям социалистических партий». Эти земцы требовали «решительную, не связанную никакими компромиссами охрану собственности от всяких посягательств». Эта группа очень заблуждалась, полагая, что она безоговорочно поддерживает верховное Правительство. В действительности она скорее разрушала ту политику сцепления русской общественности для осуществления национальных задач, которую пытался осуществлять Колчак.
* * *
Несколько особый мир представляла собой казачья общественность, в значительной степени объединенная усилиями Иванова-Ринова. Представители «девяти казачьих войск»13 — от Урала до Амура — требовали к себе особого внимания и как будто претендовали на значительное влияние в направлении верховной власти14. Давление этой части сибирской общественности сильно сказалось в момент августо-сентябрьской конференции, совпавшей с днями, когда вся омская общественность так или иначе реагировала на проектируемое изменение правительственного курса и состава министерств. Казалось, что казачество действительно представляет собою организационную силу и что на него надо сделать последнюю ставку. «Бурная стремительность» Ринова с проектом всеобщей мобилизации сибирских казаков и рейда в тыл входивших в Сибирь советских войск увлекла многих.
Но чрезвычайно преувеличивает Будберг, когда говорит о монополии казачьего блока, делающей Верховного правителя «пленником» омских комбинаций [ХГѴ, с. 319]. «Сейчас Ив.-Ринов сделался первым лицом в Омске. Адмирал забыл все старое, обворожен рисуемыми ему блестящими перспективами... Желание Ринова теперь закон» [запись Будберга 28 июля]15.
Во всяком случае, никакой политической «монополии» не было и в эти месяцы. Колчак пошел не по пути, который, можно думать, намечался на упомянутой конференции. В нашем распоряжении еще так мало материалов в некоторых областях, что приходится идти буквально ощупью и быть чрезвычайно осторожным в заключениях. Закулисные разговоры, может быть, мечтания отдельных честолюбивых деятелей опасно выдать за господствующие общественные настроения, а тем более решения.
Вернувшись 31 августа с заседания Совета министров, на котором Верховный правитель высказался против перемены в министерстве и резкого изменения политики, Будберг записал: «Выяснилось, что казачья конференция, делавшаяся в последнее время все наглее и наглее, явилась к адмиралу и предложила ему принять на себя полную диктаторскую власть, подкрепив себя чисто казачьим Правительством и оперевшись преимущественно на казаков» [XV, с. 292]. Запись Пепеляева 29 августа гласит: «Ген. Хорошхин рассказал мне о казачьей конференции. Позиция неопределенна, форм нет». Касаясь заседания Совета министров, Пепеляев пишет: «Правитель изложил сделанное ему заявление казаков. Верно, что ничего определенного». Никаких реальных предложений, очевидно, и не было сделано, и будберговская запись, скорее, лишь передача «разных слухов и версий». Их много ходило уже по городу. Корреспондент Times'a Вильтон поспешил телеграфировать, что «есть надежда избежать переворота».
Мысли о «перевороте», о диктатуре, возможно, роились в голове Иванова-Ринова, когда он 18 августа развивал перед Пепеляевым план «упора Верховного правителя на казачество и деревню», уверяя, что к 1 сентября в его распоряжении будет 18 тыс. штыков и сабель... В эти потаенные планы проникнуть пока не удается. Подчас слишком своеобразно сплетаются в Сибири разные течения. 29 сентября Будберг отмечает, что Иванов-Ринов заигрывает с областниками и кооператорами, несколько неожиданно в «Чехосл. Дн.» упоминается триумвират из Балакшина, Белоруссова и Иванова-Ринова в противовес триумвирату Михайлова—Сукина—Тельберга [«Н. Заря», № 184]. С «блоком» связывает казаков и «тайный агент Джон», рапортующий своему начальству о бывших будто бы беседах на эту тему (23 августа и 2 сентября) между Колчаком и Дитерихсом. Не стоит, конечно, передавать эти фантастические или полуфантастические беседы. Сомнительный осведомитель суммирует в одно разные слухи. Но наличность слухов довольно ярко характеризует политическую обстановку. В этих беседах проскальзывает мысль, что «среди казачества сильное брожение», что надо некоторые требования удовлетворить, что при мобилизации, которая может создать подъем в станицах, возбуждение опасно. Но характерно, что, приписывая адмиралу сознание необходимости «немедленных реформ» и предчувствие приближающейся катастрофы, агент отнюдь не считает Верховного правителя склонным вслепую идти на уступки требованиям казачества, если бы они были заострены в сторону диктатуры.
Была ли это ошибка со стороны «конституционного» диктатора? Диктаторы, опираясь на сплоченные группы, могут легче осуществлять то, что недостижимо для раздробленной общественности. Может быть, диктатура в сибирских условиях могла бы спасти положение? Но в «казачьей» диктатуре было одно отрицательное свойство. Сибирское казачество оказалось слишком тесно связанным с «атаманщиной», с ее самовластным бытом. Эта среда не могла быть реальной поддержкой в деле государственного строительства. Даже казачья конференция в силу своего уклада брала атаманов под свою защиту. Однако с мнением казачьей конференции приходилось считаться — это все-таки была реальная сила, поддерживавшая власть, несмотря на наличие в своей среде «переворотчиков»16.
Мемуаристу легко писать: «Sine qua поп [лат. непременное условие] всякой власти — это ее сила». У Правительства Колчака, конечно, не было достаточной силы. В этом и заключалась его трагедия. Едва ли в ней повинны лица, в руках которых находилась формальная власть.
Прямому и непосредственному Верховному правителю приходилось быть эластичным политиком и примирять диаметрально противоположные, друг друга исключающие общественные силы: одни требовали немедленного осуществления народного представительства, другие не допускали ограничения власти.
2. Подпольщики
При характеристике сибирской общественности я прохожу мимо коммунистического подполья, хотя заглянуть во вражеский лагерь было бы небезынтересно. Организация его — большевики опубликовали уже немало материала — интересна и с бытовой и с политической стороны.
Пройду я и мимо деятельности левых эсеров — в Сибири их почти не было. Эта «строго последовательная интернациональная партия», шедшая то с большевиками, то против них, в одной фракции мирящаяся с ними, а в другой совершающая против них террористические акты, поскольку в Сибири существовала самостоятельно17, целиком сливалась с партизанской деятельностью всякого рода «анархистов» и максималистов и работала, в сущности, только по указкам партийных большевицких революционных комитетов. Так как «белый генерал на белом коне» стал реальностью, то ЦК этой партии не только решил всячески поддерживать партизанскую борьбу против «белых», но и приступить к «индивидуальным террористическим актам по отношению к наиболее выдающимся фигурам белого лагеря18. «И так как в это время Колчак был именно такой центральной фигурой реакции, — рассказывает Каховская, — то ЦК решил отправить часть боевой организации в тыл Колчаку». Члены группы, уже в Москве снабженные необходимыми для проезда на белогвардейскую территорию документами, 3 мая были арестованы ЧК. При допросах обнаружилась цель поездки в Сибирь, и в середине июня они были выпущены, причем следователь Романовский взял «обязательство» с членов «боевой организации», что они вновь прибудут в тюрьму добровольно, если им удастся только вернуться в Советскую Россию. Один из арестованных на всякий случай был оставлен заложником. Но боевая дружина в Сибирь не поехала. Она направилась в Украину, где «в это время выдвигалась фигура Деникина».
Борьбу против Деникина в тылу «до восстания и террора включительно» пытались вести не только «левые эсеры». Пытался вести ее, по признанию Чернова, и левый фланг просто эсеровской партии [см. мою книгу о Чайковском. С. 163]. Было бы удивительно, если бы того же не пытались делать против Колчака и сибирские эсеры. Даже для Колосова победа Деникина означала «взрыв реакции» (разговор с Павлу). Надо было сделать так, чтобы погубить «возможность торжества белых генералов». В отношении к Верховному правителю выступали и те личные мотивы, от которых не могли избавиться деятели этого политического лагеря.
В Сибири позиция эсеров, за исключением той небольшой группы, которая примыкала к блоку, была необычайно двойственна, так как она соединяла легальность существования с нелегальностью революционной деятельности. Оттенков в этой позиции было чрезвычайно много, и поэтому всякая общая характеристика будет встречать возражения. К трем основным течениям — правому, центру, левому, со всеми их подоттенками, — присоединились индивидуальные позиции, приводившие одних в состав «демократического союза» (Розенблюм), других к работе в Экономическом Совещании (Огановский — творческая работа, Алексеевский — оппозиция), третьих в ряды формально легальной оппозиции власти (земство), четвертых в подполье для революционной работы, пятых в негласный союз с большевиками во всякого рода восстаниях. Не говорим уже о тех, которые пошли в открытый союз с коммунистической властью во имя борьбы с «реставрацией».
Получалась мешанина, разобраться в которой простому смертному было достаточно трудно, тем более что отдельные группы и течения фантастически переплетались между собой. Терялась последняя отчетливость: никакая власть не могла бы разобраться — где друг и где враг, где нейтральный пока наблюдатель, выжидающий момента, когда придет его очередь действовать19. «Кто не с нами, тот против нас», — отвечала «Русская Армия» (14 июня) на отказ Иркутской Городской Думы праздновать освобождение Сибири от большевиков.
Нельзя не согласиться с Буревым, что основная беда (не только для партии) заключалась в том, что эсеры не раскололись накануне революции [Распад]. При обобщающих характеристиках приходится, конечно, говорить о том течении, которое по настроениям своим главенствовало и было наиболее активным. Таковым был выделившийся в 1919 г. из партии сибирский союз эсеров. Этот союз «активистов» фактически возглавлялся Пав. Михайловым, бывшим членом Западно-Сибирского комиссариата, и Б. Марковым, главным самарским «агентом» в Сибири.
Союз занимал какую-то среднюю еще позицию между «Черновцами» и открыто пошедшей на соглашение с большевиками группой «народ». В декларации летом 1919 г. союз заявлял, что будет «поддерживать Комитет членов Учр. Собр. в его стремлении немедленно после свержения Колчака, не откладывая, начать выборы в сибирское Учр. Собр.». В то же время он декларировал, что будет «содействовать большевикам в свержении диктатуры Верховного правителя». По его мнению, лучше прервать выборы в сибирское Учр. Собр. в случае решения народа признать советскую власть, чем медлить и тянуть с правильным устройством народной жизни теперь, когда всеобщая разруха и разлад измучили и измотали весь народ [приложение к тексту Болдырева. С. 552].
* * *
Эсеры помогали советской власти свергнуть колчаковское Правительство... Что же удивительного, если политический обзор и сводка главного штаба систематически отмечают блокирование соц.-дем. и «большинства эсеров» с большевиками [напр., сводка за март. См. Партиз. движение. С. 164]. Мы еще увидим, что эти сведения, не всегда точные, по большей части соответствовали действительности. Легальная оппозиция20 с.-д. и с.-р. отступает на задний план перед подпольной работой.
Имели эсеровские деятели, как мы видели, и прямое и косвенное касательство к партизанскому движению. Более непосредственное и планомерное участие принимали они в военных организациях, подготовлявшихся совершить переворот еще летом и одновременно обсуждавших вопрос об открытии фронта большевикам. Несомненно их участие в вооруженных выступлениях в Томске, Новониколаевске, Красноярске калашниковской организации, гнездившейся в Среднесибирском корпусе Пепеляева21. Очевидно, были такие же ячейки и в каппелевских отрядах — одно из перлюстрированных солдатских писем (июль) прямо говорит об ожидаемом перевороте. Иногда становишься в тупик и не знаешь, кому приписать инициативу — коммунистам или эсерам. «Недавно в районе Томска, — записывает Будберг 20 сентября, — организовался на наши средства какой-то ижевский отряд, оказавшийся фальшивым и предназначенный для захвата Омска при проезде через него в направлении на фронт; контрразведка успела раскрыть его за несколько часов до посадки отряда на железную дорогу, но меры по ликвидации принять не успела, и большая часть отряда с нашими винтовками, пулеметами и отпущенными на его формирование миллионами ушла на север в тобольскую тайгу, создав угрожающее положение в тылу самого Омска» [XV, с. 217]. Деятель сибирского объединения профессиональных союзов бундовец-меньшевик М. Фабрикант (J1. Лелин) рассказывает, как исполком проф. союза в Томске в июле решил приступить к организации всесибирской стачки. «Стачка должна была охватить все железные дороги. В знак сочувствия должны были остановиться все предприятия и учреждения городов и поселков... В это время получат волю партизанские отряды и подпольные ячейки, которые натиском опрокинут засевшую в Омске власть... С этими планами отправился я в Новониколаевск22, где вел переговоры с различными партиями, в частности, при моем посредничестве было назначено свидание с эсером Пав. Михайловым и коммунистом Калашниковым» [«Сиб. Огни», 1922, № 3, с. 71]. Свидание тогда по случайным причинам не состоялось, но Фабрикант уехал под впечатлением, что удастся соорганизовать все активные силы для борьбы с реакцией на почве единого революционного фронта. Сам Фабрикант имел непосредственную беседу с Михайловым. Он так передает слова последнего: «Не предрешая вопроса о власти, мы готовы поддержать все действия остальных партий, направленные к свержению «омского петрушки»... но мы ни в коем случае не пойдем на блок с эсерами-центровиками»...
Боевая дружина левых эсеров до Сибири не доехала, направившись к Деникину. Но какие-то эсеры пытались подготовить и совершить террористический акт покушения на Колчака. Н. Н. Головин рассказывал мне о взрыве бомбы, который произошел в сентябре в доме, где жил адмирал, в помещении охраны. Кто это сделал? К сожалению, мне не удалось достать брошюры эсера Линдберга «Неведомая страница» (попытка покушения на Колчака), изданной в 1921 г. в Чите Центр. Бюро сибирского союза партии с.-р. Она, может быть, и раскрыла бы загадку. Кое-что нам рассказывает, впрочем, и Колосов. Дело идет о декабре еще 1919 г.:
«Я жил тогда в Омске полулегально. Мне приходилось показываться в таких местах, где все бывали, в том числе лица весьма высокопоставленные, мечтавшие, что скоро они будут в Кремле, и в то же время я постоянно менял места своего приюта. Ареста я особенно не опасался: после этой драмы как-то все затихло, и реакция на время притаилась. В Новый год был даже опубликован примирительный манифест о левых партиях. Всем этим можно было пользоваться...23
Чрезвычайно скоро после моего приезда меня начала захватывать повседневная революционная сутолока, начались сношения с тюрьмой или, точнее, с тюрьмами, в которых еще содержалось много близких мне лиц, явились планы организации побегов. Порядки оказались удивительными: при некоторой настойчивости и небольших тратах можно было много сделать. Потом начали поступать предложения более серьезные, но и более опасные. То тут, то там возникали предположения о разных выступлениях, в том числе террористических, прежде всего против Колчака. Технически они представлялись сравнительно легко выполнимыми, но меня они по разным причинам мало привлекали. Еще ранее, за время петроградской жизни, я начал приходить к мысли, что в этой совершенно новой обстановке, в корне отличной от прежней, в особенности от той, какая была до 1905 г., эти методы революционной борьбы как-то поблекли, потеряли прежнее значение. Дело было ведь не в простом физическом устранении какого-либо лица, власть имущего, а в том резонансе и политическом значении, которое должно было бы сопровождать всякий аналогичный акт. Раньше оно давалось само собой, теперь это стало как-то сложнее и заставляло медлить. Я очень боялся, кроме того, и провокации» [«Былое». XXI, с. 284-285].
Колосова террористические акты мало привлекали, однако он поддерживал связи с теми, которые их готовили, и был в курсе этих приготовлений. Так, между прочим, он рассказывает, что небольшая группа в 10 алтайских повстанцев «земско-социалистического» направления пробралась под чужими именами в Омск и поступила в личную охрану адмирала. Они поставили своей целью убить Колчака. «Омск к тому времени начал уже эвакуироваться, выехал и сам Колчак. В Барабинске эти черно-ануйские повстанцы произвели крушение поезда Колчака, но не вполне удачно. Заговор был наполовину раскрыт24. Заподозрили наших повстанцев. Из них восьмерых повесили, один бежал, а последний, десятый, оказался вне опасности и по-прежнему остался в конвое адмирала. Это был «глаковерх» черно-ануйского движения. Человек чрезвычайно крупных способностей, превосходный организатор, с необычайно сильной волей. Он представлял собой воплощение тех настроений, которые создавали когда-то крестьянские «жакерии»...25 Позже, накануне крушения колчаковщины, я встретился с ним в Красноярске. Он разыскал меня и, оставаясь по-прежнему в конвое Колчака, информировал меня обо всем, что происходит там».
* * *
Самого Колосова интересовала работа в более широком масштабе — свержение колчаковской власти. Колосов явился одним из вдохновителей и главных деятелей нелегальной «земской» организации, получившей потом наименование «Политического Центра» и действительно совершившей переворот в Иркутске.
«Центропуп» — так называли его местные люди — возник не случайно в Иркутске, где царил на правах генерал-губернатора свирепый Волков, окруженный «бандой» офицеров, не гнушавшихся «прямыми разбоями»26. «Сибирские Афины» издревле считались эсеровской цитаделью, как Красноярск был большевицким центром дореволюционной политической ссылки. Направление в Иркутске было левое, и эсеровская газета «Сибирь» в отношении войны занимала резко отрицательную позицию [Архангельский. «В. Сиб.». II, с. 13]. Эсеровские пораженцы пустили глубокие корни в местной кооперации. Поэтому и в период гражданской войны Иркутск оставался «притягательным магнитом». Социалисты здесь были правоверные, и пробить заскорузлую толщу было невозможно. Они, конечно, отнеслись отрицательно к позиции, предложенной в свое время коалиционным «Союзом Возрождения» [доклад Подвицкого. — «Сибирь», № 50]27, и соблюдали чистоту риз, но... только не в отношении большевиков. И местные социалисты-революционеры, и местные соц.-демократы накануне своего выступления против Правительства адм. Колчака, отвергая всякие уступки и соглашения, выступили в Иркутской Городской Думе (26 ноября) с платформой единого социалистического Правительства, т. е. после всего пережитого вернулись к платформе 1917 г., на основании которой была воздвигнута Сибоблдума.
По-видимому, не то, что эсеры были вообще «вне конкуренции по части подполья и свержения Правительства» [Будберг], а то, что Правительство не обращало должного внимания на революционный Иркутск и оставляло там управляющим губернией Яковлева, насадившего всюду в администрации своих людей и ведшего какую-то двурушническую политику, — было причиной легкого развертывания противоправительственной акции28.
«В конце сентября и начале октября, — рассказывает Колосов, — в Иркутске собрался нелегальный земско-социалистический съезд, на котором были представлены Иркутская, Енисейская, Томская губ., Алтай, Владивосток29. На нем для объединения политической работы земств было избрано Земское Политбюро, в которое вошел и пишущий эти строки. За октябрь и ноябрь месяцы земское политическое движение становится своего рода политическим центром, около которого группируются представители антиколчаковских организаций и течений. Земское Политбюро вместе с ними вырабатывает общее отношение к текущим событиям. Тогда же на этих совещаниях принимается за руководящий принцип идея «буферного» государства. Постепенно, однако, земское течение поглощается новыми или, вернее, старыми политическими организациями, вновь, почти открыто, выступающими на арену политической жизни. В первой половине декабря того же 1919 г. всеми указанными группами, при участии в том числе и Земск. Политбюро, кладется начало для создания той формы власти, которая позже получает название «Политического Центра». Земск. Политбюро отходит в это время на второй план, оставаясь как бы в тени» [«Былое». XX, с. 240].
К этим, уже иркутским дням, мы вернемся. Отметим заранее одну черту. Земское Политич. бюро само потом заявляло: «Приступая к активной борьбе с «колчаковщиной», мы отчетливо учитывали, что все вероятия за то, что волна вновь перекатится через наши головы и мы сыграем, так сказать, на руку большевиков. Однако это ни в коем случае не могло остановить организации» [доклад Сибирского краевого комитета партии с.-р. — «Воля России», № 45].
Кто же расчищал путь большевикам: Колчак или эсеры?
3. Народное представительство
Изложенные факты не могут окрасить в розовый цвет сибирскую общественность. Как-то невольно вспоминаются слова из обращения Сазонова: «Стыдно, граждане! Опомнитесь! — тыл забыл фронт»... [«Заря», № 39].
Общественность продолжала дробиться. Росла взаимная вражда отдельных групп. И было совершенно невозможно объединить на каком-либо общем действии тех «социалистов-земцев», которые в ноябре 1919 г. все еще жили отрыжками викжелевских настроений ноября 1917 г., и те «национальные» элементы, которые панически находились под впечатлением возможности восстановления призраков Комуча и Сибоблдумы и поэтому с резкой решимостью отметали идею созыва какого-либо представительного законодательного органа.
Противники народного представительства в период гражданской войны теоретически, конечно, были правы. Представительный орган требует выборов. Разве могли они быть произведены в условиях сибирской действительности? Получился бы либо «разнузданный совдеп», либо фальсификация народного представительства в духе ли ориентации Сибоблдумы или казачьей конференции — не все ли равно? Следовательно, возможно было говорить лишь о суррогате народного представительства. Нужен ли был такой суррогат? Мог ли он осуществить тот порядок и ту законность, которых, по словам Балакшина (председателя блока), жаждало крестьянство и осуществления которых не могла достигнуть правительственная власть?
Ответы могут быть разные. Но едва ли можно вменить в особую вину «конституционному диктатору» то, что он не пытался созвать народное представительство и передать ему в той или иной степени законодательную власть. Увлечение фикциями отнюдь не знаменует собой реального понимания требований жизни. Мы видели, что невозможность произвести выборы в новое Учр. С., т. е. созыва нормального народного представительства в период гражданской войны, прекрасно сознавали те, которые держались за труп старого Учр. Собр. Характерно, что в момент выработки тактики борьбы с большевиками весной 1918 г. в левых кругах, отстаивавших идею нового Учр. Собр., не поднималось вопроса о каких-либо временных суррогатах народного представительства30. Суррогатом должна была сама по себе явиться коллегиальная и коалиционная правительственная власть, составленная из авторитетных представителей главенствующих политических течений.
Адм. Колчак в будущем гарантировал созыв Учр. Собрания, но, как солдат, считал ненужным во время боя какие-либо предпарламенты. (При характере русской общественности они слишком часто становились ненужными «говорильнями».) Все правительственные прокламации выходили под флагом будущего Учредительного и Национального Собрания (в пражском Архиве имеется большая их коллекция). Может быть, в них была и доза демагогии, как во всякой прокламации. Привычными терминами апеллировал, напр., ген. Пепеляев — областник-народник по своим политическим симпатиям, призывая население в воззвании 28 июля бороться за веру и за святыни русские, за свободный труд, за землю и волю, за Учр. Собрание. Об Учр. Собрании говорит в августовские дни и Высший церковный совет. Противники «диктатуры» скажут, что здесь крылся сознательный обман. Но лозунг сам по себе всегда остается только лозунгом. «Обман» вскрывается потом. Каждый лозунг до некоторой степени самообман, если он не диктуется грубой демагогией. Пределы демагогии определяют собой и пределы «обмана»31. Никогда власть адм. Колчака не переходила возможных пределов. Скорее, ее можно упрекнуть в противоположном, особенно Верховного правителя. Мне кажется, что Колчак, считая себя временным носителем верховной власти, с излишней скрупулезностью искренне боялся обвинений в том, что он предрешает будущую волю народа. Народ-хозяин, перед которым склоняется индивидуальная воля, для Колчака, очевидно, являлся каким-то отвлеченным мистическим представлением. Это не было догмой системы демократического миросозерцания. В гражданской войне надо иметь смелость предрешать вопросы. От этого предрешения часто зависит успех. В период неудачи всегда растет «ненависть к власти, у которой нет мысли опереться на общественность» [«Чехосл. Дневник»]. Для одних призыв к «народной санкции» становится демагогическим методом борьбы с властью, для других — последним спасительным рецептом.
Но общественность всегда и везде предъявляет свои права. Общественность желает говорить, выявлять свое мнение и волю и законодательствовать. С этим приходится считаться. «Старцы», входившие в общественный блок, отчетливо ощущали этот закон гражданского общежития. Они ставили себе задачею привлечь демократические элементы к поддержке Правительства и поэтому в своем органе «Заря» все время осторожно поднимали вопрос о создании представительного органа. Они как бы прощупывают почву, подготавливают общественное мнение, урезонивают одних, пытаются воспитывать других. 19 декабря, критикуя старое Учр. Собр., «Заря» [№ 149] подчеркивает, что сама идея не потеряла своего исторически национального смысла: «идея народного представительства, решающего настоящее и будущее страны, неизбежна, как судьба, бессмертна, как феникс». Полемизируя с «Русской Армией» по поводу созыва Учр. Собр. [15 февр., № 35], «Заря» указывает, что «официальная газета должна правильно воспринимать конечные цели Правительства и те идеи, которые им провозглашены» (ссылка на речи Колчака при поездке его на фронт). Газета стоит за возможно скорый созыв Учр. Собр. [№ 21], хотя и понимает, что в установлении сроков надо быть очень осторожным и что «самый кратчайший срок будет довольно длительным». Пока же надо создать «хотя бы временный представительный орган» [№ 39]. «Заря» подхватывает слухи о готовности Правительства созвать «предпарламент» и приветствует «временный законосовещательный или законодательный центр». Он укрепил бы власть в отношении Советской России: «для России, возможно, власть Колчака представляется чем-то опрокидывающим все демократические завоевания и принципы февральской революции» [14янв., №3].
Я привел эти выдержки из «Зари» потому, что ведь для вражеского стана это — голос правительственной рептилии... Если в широких общественных кругах мысли «Зари» не встречали с самого начала отклика32, то в марте в «омском политическом болоте» говорят о предпарламенте уже более определенно и блок спешит разработать положение о совещательном органе [«Мысль», № 15]. Под непосредственным влиянием выступления блока (Колчак, видимо, очень доверял Сазонову и часто с ним советовался) 11 марта учреждается десятичленная подготовительная комиссия по разработке вопроса о «всероссийском представительном собрании учредительного характера»33. Комиссия работала под председательством Белевского34 [«Пр. Вест.», № 183]. Комиссия далеко не бездействовала, но работа в ней задерживалась, по словам Гинса, из-за отсутствия подходящих людей [II, с. 167]35. Только 22 августа Пепеляев внес в дневник запись: «Блестящий проект основного положения о выборах в Учред. Собрание» — это был доклад Гинса в Совете министров... Предполагалось созвать специальное совещание из представителей различных общественных группировок для обсуждения проекта. Все это не было ни обманом, ни фикцией.
Насколько реально ставился Правительством вопрос, свидетельствует тот факт, что оно предлагало комиссии разработать два варианта — созыв Нац. У. С. с соблюдением всех гарантий и «пулеметного», т. е. производство выборов самым экстренным образом в случае занятия Москвы. Комиссия признала, однако, невозможным производить выборы в спешном порядке. Комиссия также решительно высказалась против созыва областного Собрания с учредительными функциями. Мне пришлось познакомиться с записями одного из членов комиссии. Они отмечают нам живой интерес, с которым Верховный правитель относился к работе комиссии. Любопытен один штрих. Комиссия против мнения Белевского высказалась за сохранение избирательных прав за женщинами. Колчак всецело встал на сторону комиссии. Между комиссией и Ставкой возник однажды существенный конфликт. 28 июля Колчак издал приказ, в котором говорилось: «Только победа может дать России мир и спокойствие и с ними Национальное Собрание, ибо нельзя жертвующим за возрождение отечества своей жизнью и кровью отказать в участии в нем». В дополнительном воззвании давались уже более определенные обещания... «Уничтожив самодержавие большевиков-комиссаров, вы, крестьяне и солдаты, тотчас же начнете выборы в У. С. Я вам обещаю это перед лицом всей России и целого света». Эта «демагогия» вызвала решительное возражение в комиссии, которая не считала возможным производить выборы до демобилизации армии и высказывалась за предоставление пассивного права военнослужащим.
Обмен мнениями шел не только в правительственной среде. В печати идут споры о пропорциональной системе (напр., статьи в «Соб. Жизни»).
В самом «Прав. Вест.» [№ 197-203 — июнь] помещается ряд статей Венецианова о пересмотре закона о выборах в Учр. Собр. Любопытно, что автор обсуждает даже технику выборов — даже мелочи, вплоть до того, что придется за недостатком бумаги отказаться от конвертов. Это было еще время успехов на фронте, когда рождались надежды на захват Москвы и на конец большевизма. Тогда пришлось бы осуществлять данное обещание... К нему готовились, и готовились серьезно36.
Не высоко подчас приходится с политической точки зрения расценивать сибирскую общественность во всем ее целом, тем не менее Верховный правитель отнюдь не игнорировал ее. Наоборот, он был к ней предупредителен. Слишком много интеллигентских традиций и представлений было у адмирала. Самовластных действий диктаторского характера, идущих наперекор общественному мнению, просто не было. Тотчас же после переворота, 22 ноября, Верховным правителем было утверждено положение о Чрезвычайном Государственном Экономическом Совещании для выработки мероприятий, касающихся финансов, промышленности, товарообмена и снабжения армии. По личной инициативе Колчака, в мае в Екатеринбурге был созван большой фабрично-заводской съезд (до 600 чел.) в целях выяснить нужды заводов и своевременного удовлетворения их [Гинс. II, с. 188].
Первоначальное положение Эконом. Совещания в смысле привлечения к работе общественных сил (торгово-промышленных и кооперативных) было довольно скромно, но, в сущности, Верховный правитель утвердил готовый уже проект, представленный финансовым деятелем Федосеевым (бывшим одно время до революции государственным контролером). Он же был назначен и председателем Совещания. В феврале его сменил Гинс.
Следить за специальной работой Экон. Совещания мы не будем (кое-какие сведения можно найти в очерках Гинса). В данном случае более интересна политическая роль Экон. Сов. с момента его преобразования и расширения как его функций, так и состава общественного представительства. Очевидно, подобное изменение было сделано не без влияния общественного блока, указавшего через свою делегацию 22 марта Верховному правителю о необходимости более тесного сотрудничества Правительства с обществом. Колчак всегда охотно шел на расширение этого сотрудничества в момент удач на фронте. «Адмирал, — записывает Будберг 19 июня, — относится к идее Совещания искренно и благожелательно; нельзя того же сказать о некоторых членах Совета министров и влиятельных представителях омской реакции, которые смотрят на это Совещание, как на ширму и громоотвод, назойливые и неприятные, но по обстановке необходимые» [XIV, с. 295]37. В новом положении об Экон. Сов., утвержденном Советом министров 2 мая, общественность была представлена довольно широко38. «Левые» остались новым составом недовольны. «Возмутиться было чем, — вспоминает Л. Кроль, — земства и города выбирали только «кандидатов», из которых «не свыше двадцати» назначались Верховным правителем по представлению председателя Совещания членами его: "лучшего повода эсерам повести кампанию за бойкот... дать нельзя было, и они использовали в полной мере и, вообще говоря, с успехом"»39. Пермское земство все-таки выбрало своих кандидатов, но постановило обратить внимание Правительства на необходимость созыва «в кратчайший срок народного представительства». Прибыв в Омск, Кроль нашел, несмотря на «бойкот», в составе членов Совещания лиц, которых «менее всего ожидал», — таких, напр., оппозиционеров, как эсер Алексеевский, бывший член Амурского правительства. «Оппозиция оказалась в большинстве» — по мнению Кроля, Гинс «как бы старался проводить в Госуд. Эк. Сов. оппозиционеров» [с. 180]. Очевидно, не было сделано и попытки фальсифицировать общественное мнение.
Открывая 19 июня Совещание, Верховный правитель указал, что Правительство думает осуществить план создания законосовещательного органа через Эк. Сов. Эта мысль начинала приобретать в обществе права гражданства. Психология Верховного правителя и психология общественной оппозиции были различны. У Колчака при неудачах на фронте мысль направлялась в другое русло — как будто бы не время было думать о народном представительстве. У находившихся в оппозиции к режиму именно тогда наступал момент для предъявления требований со стороны общественности. 25 июля Пепеляев записывает:
«Сегодня меня вызывал по проводу из Тюмени Анатолий. Он почти безнадежно смотрит на положение, если армия, «которую нужно создавать снова», не услышит от самого «народа» призыва к борьбе. Этот призыв от народа он мыслит себе в образе голоса «Земского Собора», который нужно созвать «немедленно»40. Он ждет этого созыва, заявляя, что иначе не верит в создание армии и хочет уйти. Я ответил ему, что не верю вполне в этот способ и вообще не верю в искусственные меры, принимаемые от случая к случаю. Обещал продумать, доложить правителю и приехать к нему для более тесного взаимоосведомления. С провода я был у правителя в час своего доклада. Изложил ему беседу и предложил съездить на фронт, куда мне вообще нужно, кстати — разъяснить Анатолию обстановку, из которой он увидит, что голос народа получить не так-то просто. Правитель просил меня съездить».
Как видим, Колчак довольно внимательно относился и к критике и к советам, поэтому глубоко несправедлив отзыв Милюкова: «Колчак был заранее предубежден против Гос. Эк. Совещ., иронически говорил о нем: «Они парламента захотели» — и собирался "разогнать этот совдеп"» [с. 138]. Этот отзыв Милюкова основан на инциденте, который рассказан мемуаристами и который историк расширил без всякого основания в общую тезу. Вот запись Пепеляева еще 16 июля, касающаяся описываемого инцидента:
«... правитель гневно потребовал запретить Государственному Экономическому Совещанию вторгаться не в свою область.
Вызвал Андогского и разнес его за его сообщение в Экономическом Совещании. Удалось уговорить. Я доказывал, что нужно проявить выдержку и лучше ускорить окончание сессии, чем прибегать к репрессии в виде закрытия, на чем настаивал правитель.
Мне казалось, что удачным влиянием можно через Экономическое Совещание ликвидировать вредную общественную свистопляску, начатую блоком»41.
Обратимся к Гинсу:
«Оказывается, в мое отсутствие ген. Андогский, которого я сам просил об этом, сделал членам Совещания доклад о положении дел на фронте. Заместитель мой, бывший член Директории В. А. Виноградов, избранный товарищем председателя, поставил этот доклад в официальном заседании, а не в частном собрании, как я предполагал. Докладчику стали задавать вопросы. «Принято ли во внимание, что отступать придется за Тобол?» — спросил почему-то хорошо осведомленный в этом Алексеевский. «Большевик!» — зашипел на него Жардецкий.
Стали шуметь. Враги Андогского доложили адмиралу, что генерал хотел приобрести популярность, что он не имел права без разрешения выступать. Формально это, может быть, было и верно. Враги Экономического Совещания и вообще «конституционных затей донесли, что члены Экономического Совещания по поводу доклада Андогского обсуждали общее политическое положение и готовят петицию» [II, с. 250].
Дело касалось, конечно, не петиции, а доклада Андогского о военном положении и реплики Алексеевского. Все станет ясно, если мы заглянем в воспоминания Кроля, где найдем указание на то, что Алексеевский — тот самый, который был потом в следственной комиссии над Колчаком, — уже тогда выдвигал среди левой части Эк. Сов. «мысль о необходимости поиска путей примирения с советской властью» [с. 191]. Верховный правитель быстро отошел, когда Гинс ему доложил, что Эк. Сов. постановило, что «борьба с большевиками должна быть доведена до конца». Колчак тотчас же согласился принять делегацию Эк. Сов. для беседы по политическим вопросам. Делегация представила краткую записку, подписанную 19 членами42:
«...1. Борьба с большевизмом должна быть доведена до его поражения — никакие соглашения с советской властью недопустимы и невозможны. 2. Созыв Учредительного Народного Собрания на основе всеобщего избирательного права, по освобождении России, обязателен. 3. Строгое проведение в жизнь начал законности и правопорядка. 4. Невмешательство военной власти в дела гражданского управления в местностях, не объявленных на военном и осадном положении. 5. Создание солидарного Совета министров на определенной демократической программе. 6. Срочное преобразование Государственного Экономического Совещания в Государственное Совещание — законосовещательный орган по всем вопросам законодательным и государственным с тем, чтобы все законопроекты, принятые Советом министров, представлялись в Совещание, как в высшую законо-совещательную инстанцию, и отсюда поступали на утверждение верховной власти. Председательство в Государственном Совещании должно быть возложено на лицо, не входящее в состав Совета министров. Государственному Совещанию предоставить право: а) законодательной инициативы; б) рассмотрения бюджета; в) контроля над деятельностью ведомств; г) запроса руководителям ведомств; д) непосредственного представления своих постановлений верховной власти» [Кр. Арх.». XXXI, с. 60].
По словам Кроля, записка вызвала возражения справа:
«Она меняла конституцию 18 ноября, по которой законодательная власть принадлежала Верховному правителю совместно с Советом министров. (Поэтому законопроекты — экономические и финансовые — вносились в Государственное Экономическое Совещание отдельными министрами и затем уже из него шли в Совет министров.) По нашему проекту единственным законодателем являлся Верховный правитель, но он не мог принять закона до его рассмотрения в проектировавшемся Государственном Совещании» [с. 182].
Выслушав делегацию, Верховный правитель ответил:
«Господа! что же тут нового?.. Созыв Учредительного Собрания обещан. Для пересмотра избирательных законов уже назначен председатель комиссии — Белоруссов-Белевский, общественный деятель, пользующийся общим доверием. Проведение начал законности — это идеал, но как его достигнуть, когда нет честных людей?
Невмешательство военных властей, солидарный Совет — все это желательно, но фактически нет возможности подчинить центральной власти всех атаманов, и нет возможности менять министров, за отсутствием подходящих заместителей. Откуда взять министра путей сообщения, иностранных дел, военного, юстиции, когда людей нет? Мы — рабы положения. Надо мириться с тем, что есть.
Остается преобразование Госуд. Эконом. Совещания. Этот вопрос, сказал адмирал, я уже предрешил в положительном смысле. Есть несколько проектов законосовещательного учреждения, и мы поставим этот вопрос на очередь» [Гинс. II, с. 253]43
Свои впечатления лично от Колчака Кроль формулирует кратко: «Чересчур элементарен». Никак не могу согласиться с подобным отзывом. В данном случае эта политическая «элементарность» была куда глубже политиканствующей изворотливости.
Так закончился прием делегации. Оставалось найти формы. У Гинса был свой проект [с. 254]. Группа членов Эк. Сов. также предприняла в частном порядке разработку проекта «Положения о Государственном Совещании».
Интересно отметить характеристику, которую дает Кроль:
«В частных совещаниях резко наметились две группы: «левая», в основе требований которой лежало скорейшее привлечение к делу народного представительства и создание Совета министров, солидарного на демократической платформе, и «правая», для которой все сводилось к персональному составу Совета министров. Объединило обе группы определенное недовольство наличным составом Совета министров. Обе группы разными путями, несомненно, стремились к переходу от военной диктатуры к более или менее правовому строю. Единственным, стоявшим за диктатуру и усиление ее, готовым оправдывать все и вся, был Жардецкий [с. 189].
Разработав проект, группа решила направить к Верховному правителю делегацию. Она не была принята. Почему? Против этого проекта был Совет министров. Отказ в приеме делегации был приписан влиянию Гинса. Так ли это было или нет, в сущности, довольно безразлично. Но «отказ», по словам Кроля, так повлиял на «крайнюю левую» с Алексеевским во главе, что дальневосточные члены уехали во Владивосток, считая, что отказ в приеме делегации является отсрочкой созыва представительного органа. В действительности было иначе. Воспользовавшись успехом под Челябинском Верховный правитель 16 сентября опубликовал решение созвать Госуд. Земское Совещание44. Выходило, что постановка вопроса о представительном органе была сделана по инициативе якобы самой власти» [Кроль. С. 191]. Это было неприемлемо для «левых» — требовалась со стороны диктатора вынужденная уступка общественному мнению. Главное же заключалось, конечно, в том, что эсеры не хотели совещательного органа и отнюдь не солидаризировались с проектом группы членов Экон. Совещ.
В эсеровских кругах в связи с общим планом, о котором говорилось выше, вопрос о народном представительстве ставился уже резче — о явочном порядке созыва Земского Собора. 5 сентября во Владивостоке была издана бывшим председателем Областной Думы «грамота» к населению.
«В тяжелые дни новых испытаний — так начинался этот документа — перед лицом величайших опасностей, угрожающих Родине извне и изнутри, как первый народный избранник Сибири, я счел себя обязанным обратиться с настоящей грамотой к стране. Девять месяцев диктатуры адмирала Колчака, насильственно свергшего выборную власть Директории, привели Сибирь к полному развалу и гибели. Дело возрождения государственности, с огромными жертвами начатое демократией, преступно погублено безответственной властью».
Давая критику режима, близкую по содержанию калашниковской записке, «первый народный избранник» продолжал:
«Все сильнее, все определеннее раздаются голоса местных самоуправлений, общественных организаций, отдельных общественных деятелей и представителей командования в армии, требующие немедленного созыва представительного органа и создания ответственного Правительства. Но Правительство адм. Колчака глухо и слепо и продолжает вести страну к неминуемой гибели. Теперь для всех ясно, что это Правительство не может и не должно больше существовать. Договариваться поздно: враг у наших ворот. Во имя интересов Родины необходимо действовать. Если существующая власть не поняла своего долга перед Родиной, необходимо этот долг выполнить самому населению. Как председатель сибирского представительского органа, я беру на себя высокую честь и ответственность призвать население Сибири к немедленному созданию народного представительства».
Революционное воззвание, как мы увидим ниже, еще не раскрывало всех карт. Оно заканчивалось общими словами:
«Опубликовывая настоящую грамоту, я выражаю глубокую уверенность в том, что страна найдет пути и средства для обеспечения избранникам своим выполнения священного долга перед Родиной [«Сиб. Арх.». I, с. 89. — Прил. к «Вольной Сиб.». VI].
Бывший председатель Сибоблдумы не упоминал, конечно, о правительственных проектах созыва Земского Совещания. Это было естественно: такое упоминание разрушало бы демагогию, которая являлась фоном «грамоты»...
У Верховного правителя были колебания. По словам Будберга, Колчак счел нужным специально посоветоваться с Сазоновым.
14 сентября происходило экстренное заседание Совета министров. И там были сомнения.
«Я высказал, — пишет Будберг, — что нужно только сделать все, чтобы в новый орган попали настоящие, деловые представители сибирского населения, а не наезжие оратели, как то было в Сибири при выборах в Государственную Думу и Учредит. Собрание.
Если это будут настоящие представители населения, которые нас слопают, то такова, значит, историческая необходимость, от которой не уйти никакими предохранительными мерами; пусть лучше нас сменит такое Совещание, а не заговорщики-эсеры или комиссары-большевики... В вопросе о необходимости реформы разногласия в Совете не было, но в вопросе о компетенции Совещания и его правах контролировать агентов власти голоса разделились поровну — новое подтверждение того, какой оригинальный у нас "объединенный комитете"» [XV, с. 312—313].
В окончательном виде грамота Верховного правителя гласила:
«После длительной подготовки к наступлению, оружию нашему в тяжких и упорных боях ниспослан крупный успех. Приближается тот счастливый момент, когда чувствуется решительный перелом борьбы, и дух победы окрыляет войска и подымает их на новые подвиги.
И здесь, на востоке, куда устремлено ныне главное внимание противника, и на юге России, где войска ген. Деникина освободили от большевиков уже весь хлебородный район, и на западе, у границ Польши и Эстляндии, большевики потерпели серьезные поражения.
Укрепление успехов, достигнутых наступающими под верховным моим командованием армиями, предрешает завершение великих усилий и искупление тяжких жертв, принесенных на борьбу с разрушителями государства, врагами порядка и богоотступниками. Глубокое волнение охватывает борцов, чувствующих благословенное и радостное приближение мирной и свободной жизни. И вся страна, весь народ в едином непреклонном порыве к победе должны слиться с Правительством и армией.
Исполненный глубокою верою в неизменный успех развивающейся борьбы, почитаю я ныне своевременным созвать умудренных жизнью людей земли и образовать Государственное Земское Совещание для содействия мне и моему Правительству прежде всего по завершению в момент высшего напряжения сил начатого дела спасения Российского Государства. Государственное Земское Совещание должно помочь Правительству в переходе от неизбежно суровых начал военного управления, свойственных напряженной гражданской войне, к новым началам жизни мирной, основанной на бдительной охране законности и твердых гарантиях гражданских свобод и благ личных и имущественных. Такие последствия продолжительной гражданской войны всего сильнее испытывают на себе широкие массы населения, представляемые крестьянством и казачеством. Вызванная не нами разорительная война поглощала до сих пор все силы и средства государственные. Справедливые нужды населения по неизбежности оставались неудовлетворенными, и Государственное Земское Совещание, составленное из людей, близких земле, должно будет также озаботиться вопросами укрепления благосостояния народного.
Объявляя о принятом мною решении созыва Государственного Земского Совещания, я призываю все население к полному единению с властью, прекращению партийной борьбы и признанию государственных целей и задач выше личных стремлений и самолюбий, памятуя, что партийность и личный интерес привели великое Государство Российское на край гибели» [«Кр. Арх.». XXXI, с. 72].
Разработка проекта положения о Госуд. Земск. Совещании особым «рескриптом» поручалась Вологодскому, как председателю Совета министров. Разработка положения, по мнению Кроля, подвигалась «туго»: «одним из тормозов служило упорное отстаивание Советом министров своего права на совместное с Верховным правителем законодательство» [с. 195].
Все внимание Колчака в это уже время было захвачено событиями на фронте.
Примечания к шестой главе:
1 Зефиров обвинялся в нанесении казне ущерба невыгодной сделкой с чайной фирмой «Слон». Дело было поднято по общественной инициативе — «Зарей». Касаткин был привлечен за бездействие власти в борьбе со взяточничеством. В Совете министров была принята сенаторская ревизия по возбужденному министром торговли Щукиным делу омского промышленного комитета. Ряд неправильностей в ведении дела, скрещивание интересов предпринимателей и администрации объясняются отчасти его самочинным возникновением после освобождения Сибири.
2 Нельзя все обличительные выступления печати признать удачными. Я нашел, напр., в «Заре» маленький фельетон под таким характерным заголовком: «Как я выпорол соседку за паникерство». «Я враг телесного наказания, — писал фельетонист, — но что прикажете делать с трусами... Я совершил преступление, но, если дело дойдет до суда, я уверен, что присяжные меня оправдают» [№ 14]. Конечно, такая постановка в сибирских условиях была рискованна. Фельетонист как бы невольно оправдывал происходившие самосуды.
3 Я не могу останавливаться на отдельных проявлениях общественной инициативы. Но справедливость требует, напр., отметить энергичную деятельность в Сибири Красного Креста во главе с М. JI. Киндяковым, А. И. Шелашниковым (погибшим на посту), кн. И. А. Куракиным и др. Эти штрихи несколько исправляют общую картину, которую в период неудач рисовал современник уже слишком отрицательно.
4 Еп. Андрей Уфимский сказал, что адмирал попал в плен к кадетам [Будберг. XIV, с. 271].
5 Статьи Устрялова в «Русском деле» (октябрь) [Гинс. II, с. 396].
6 На примере Сибири можно видеть, сколь тенденциозно было в свое время утверждение П. Н. Милюкова, что в антибольшевицкой борьбе к.-д. служили лишь «либеральным политическим прикрытием для правонастроенных руководителей борьбы» [«П. Н. Милюков». Юбил. сб. С. 16].
7 Панкратов впоследствии постановлением ЦК был исключен из партии.
8 Союз сибирской кооперации и демократический блок в конце апреля обратились к европейскому общественному мнению со специальной телеграммой, призывающей оказать полную поддержку Правительству, идущему по демократическому руслу и борющемуся как с антидемократическим направлением справа, так и с анархо-разрушительными силами слева [«La Russie Democr.», № 3]. Целиком декларация Совета всесиб. кооп. съездов напечатана в № 12 «The Russion Conmonwealt» [«Народоправство»]. Там же напечатана и декларация социалистической части «блока» — инициативной группы «государственно мыслящих» социалистов. Девизом своим они взяли девиз народных социалистов: «Все для народа, все через народ».
9 Узость такого взгляда легко показать на примере. Иркутский кадетский орган «Свободный Край», редактируемый крупным местным общественным деятелем врачом П. И. Федоровым, всецело, напр., стоял за созыв народного представительства, для достижения которого и призывал к объединению и сплочению всех общественных сил [статьи в № 356]. И таких к.-д. «левый» Кроль зачислял в правый лагерь.
10 Он возродился при особых условиях позже на Дальнем Востоке.
11 Пепеляев пытался из этих лиц (Волков, Третьяков, Бурышкин, Червен-Водали, Кириллов) составить отделение «Национального Центра» (запись 14 октября).
12 Записка была подписана Ивановым и Мельниковым от Казанской губ., Афанасьевым и Беляковым (Симбирская губ.), Коробовым (Самарская), Киндяковым (Саратовская), Чихачевым (Пензенская).
13 Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Енисейское, Иркутское, Забайкальское, Уссурийское и Амурское.
14 Ими поднимался вопрос о создании специального казачьего министерства [«Изв. Р. Т. А.». С. 110], но это не встретило сочувствия в Совете министров. Казачьими делами ведал помощник военного министра представитель уральского казачьего войска ген. Хорошхин.
15 «Шумиха» Ив.-Ринова заключалась в том, что, подняв вопрос о добровольной мобилизации сибирских казаков, он потом потребовал от Правительства крупных денежных ассигнований, что было, конечно, совершенно невыполнимо.
16 Дитерихс, отрешивший Иванова-Ринова от командования за неисполнение операционного распоряжения, должен был по требованию казачьей конференции взять свое распоряжение назад [Будберг. XV, с. 323]. И адмирал, по словам Пепеляева, не находил путей, чтобы уладить инцидент с Ив.-Риновым (запись 23 сентября), который нашел поддержку в Дутове.
17 Любители курьезов могут найти в «Путях Революции» (эмигрантский сборник левых эсеров) декларацию бурятско-монгольской партии левых соц.-рев., последователей социально-биологического монизма, объединяющего всех трудящихся Центральной Азии.
18 Каховская И. В деникинской оккупации. «Пути Революции», 1923, с. 220-221.
19 Очень характерно признание Буревого. Многие из эсеров 1919 г. надеялись: вот-вот Колчак и Деникин свергнут большевиков, удержаться не смогут, и у власти будут эсеры [Распад. С. 72].
20 Она сказывалась чаще всего в бойкоте всех правительственных начинаний. Напр., совещание среднесибирской организации с.-д. постановило отозвать всех с.-д. «с ответственных постов в органах Министерства труда» [«Мысль», № 6]. Н. К. Волков определенно говорил в своей статье в «Общем Деле» [№ 97]: «Эсеры работали против Колчака в тесном контакте с большевиками».
21 Связывать подпольную эсеровскую деятельность с организацией «правых областников», как это делает редактор пепеляевского дневника (Трунов), невозможно [«Кр. Арх.». XXXI, с. 57].
22 В Иркутск для связи «с краевыми политическими организациями» поехали другие.
23 В этой новогодней декларации, между прочим, говорилось: «Всех, кто в это ответственное время разлагает здоровый дух войск, кто возбуждает население против власти, кто препятствует правильной работе жел. дорог и важнейших предприятий, — Правительство будет преследовать с беспощадной строгостью.
Но Правительство, стоящее вне всяких партийных течений, Правительство возрождения страны, не видит основания для борьбы с теми партиями, которые, не оказывая поддержки власти, не вступают и в борьбу с нею. Не время теперь для внутренней розни» [Гинс. II, с. 105].
24 В Сибири в свое время все это было приписано действиям большевиков.
25 Подобной характеристикой совершенно уничтожается более ранний отзыв Колосова о государственном направлении крестьянского движения под флагом «земско-социалистическим».
26 Колосов подлинно знает о таких фактах. И ему в голову не приходит, что эти «эксы» в большинстве, по крайней мере, случаев производили большевики и бандиты, одетые под офицеров. Таких случаев по всей Сибири можно отметить множество.
27 Они столь же решительно отвергли какие-либо коалиции с тр. нар. социалистами, «Единством» и союзом областников. В октябре для выборов в Думу создан был из этих группировок особый «демократический союз», председателем которого состоял бывший министр Сибирского правительства Патушинский [«Сибирь», № 78 и 79].
28 Японский ген. штаб уже 9 ноября получил сообщение, что в Иркутске «Дербер совершил переворот» [Болдырев. С. 271].
29 Всего 16 земств.
30 М. В. Вишняк в статье «Из истории гражданской войны» вспоминает то, что он писал в московском «Возрождении» [8 июня 1918 г.], а именно: «Как бы низко ни расценивать реальную силу У. С., целесообразно ли в создавшихся условиях пренебрегать той долей авторитета, которую У. С. за собой несет, невзирая ни на какие превратности судьбы, как олицетворение единства России и необходимая опора власти» [«С. Зап.». XV, с. 497]. Так как автор входил в это время в состав «Союза Возрождения», то его напоминание свидетельствует лишь о том, что даже в этом политическом союзе было слишком много неясного и недоговоренного. По существу же Вишняк признает, что перевыборы У. С. диктовались «всей обстановкой».
31 Лозунг «Учредительное Собрание» многим представлялся «обманом» только потому, что эта идея для них была синонимом Учр. Собрания 1917 г. или его «охвостья», фактически олицетворявшегося в нескольких десятках представителей эсеровской партии.
32 Белевский в «Отеч. Вед.» пропагандировал создание при Верховном правителе законодательного органа наподобие Государственного Совета. За Советом министров должны были остаться лишь административные функции [Гинс. II, с. 213].
33 Комиссия эта предусматривалась уже новогодней декларацией: «Лишенное возможности проводить закон через народное представительство (Правительство) стремится, однако, подготовить страну к выборам во всероссийское Национальное Собрание и в ближайшее время созовет комиссию для разработки соответствующего положения».
34 Намечался на этот пост проф. граж. права Симолин, но он отказался. После кончины Белевского надеялись, что его заменит Чайковский.
35 Состав комиссии был достаточно авторитетен и демократичен. Тов. пред. состоял известный кооператор-областник Козмин. Среди членов находились проф. угол. пр. Мокринский, Кронберг — бывш. управл. делами Правительства Урала, цивилист Антропов (Каз. ун.), проф. гос. пр. Рязановский, проф. Никол, морск. академ. Казимиров. Все они примыкали к партии народной свободы. Недостаток был не в людях, а в материалах. Напр., в Омске с трудом удалось достать даже положение о выборах в Уч. Собрание.
36 Адмирал в беседах с членами комиссии поднимал уже вопрос о необходимости командировки членов комиссии для инструктирования во время выборов. Мне кажется, на основании всего изложенного надо признать выпады Вишняка в «Совр. Зап.» против «могильщиков свободы и народоправства» исключительно необоснованными и несправедливыми. Публицист «Совр. Зап.» писал: «Одержав над началами народоправства победу физически и внешне, они вынуждены были сами втихомолку и украдкой (?!) капитулировать перед этими началами морально» [там же. С. 475]. Только узко партийным направлением публицистики следует объяснять эти выпады заграничной эсеровской журналистики. Минор, напр., уверял своих французских читателей, что «новый Калита» соберет У. С. только тогда, когда все социалисты будут в тюрьме, на каторге или под землей [«La Rep. Russe», № 9 от 5 июля 1919 г.].
37 К сожалению, Будберг конкретно не указывает, кого из министров он имеет в виду.
38 5 от совета тор.-пром. съездов; 5 от сов. коопер. съездов; 2 — Цент. Союз. проф. орг.; 20 — представителей земств и городов (выбирали кандидатов); 2 — сов. частн. банков; 2 — сельскохоз. общ.; 2 — инженеры; 4 — казачьи войска. Представители науки назначались верховной властью.
39 Гинс указывает, что причиной этой меры являлось желание не увеличивать числа членов Совещания — чтобы оно не превышало 60.
40 С идеей Земского Собора выступал с своей «мистической» точки зрения и ген. Дитерихс. Ее поддерживал ген. Зиневич, который позже сыграл весьма прискорбную роль в Красноярске.
41 «Свистопляска» заключалась, очевидно, в агитации за обновление кабинета министров и замену Вологодского.
42 Они пытались провести записку через все Эк. Собр., но встретили противодействие со стороны большинства.
43 Как мало это соответствует тому, что говорит Милюков [с. 138] на основании будто бы приведенного текста Гинса.
44 Болдырев подчеркивает, что это решение было принято под влиянием Головина [с. 269]. Головин сочувствовал такому решению, но мы видели, что оно имело свою историю.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Перед лицом Европы
1. В ожидании признания
Гинс передает, что Верховный правитель будто бы часто говорил: «Как хорошо, что нас не признали. Мы избежали Версаля, не дали своей подписи под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжел для ее жизненных интересов» [II, с. 389]. Если эти слова были произнесены, то они были своего рода самовнушением — Колчак слишком болезненно и остро воспринимал «достоинство России». Значение международного юридического признания власти было столь очевидно, что Гинс, не обинуясь, говорит: «Непризнание убило омскую власть». Непризнание, по выражению Чайковского, не столь решительному, являлось «огромным препятствием на пути государственного строительства России»... Признание российской власти подняло бы не только ее моральный авторитет, не только дискредитировало бы ее конкурентов, но заставило бы и самих союзников по-иному говорить с Правительством всероссийского характера и шире оказывать ему поддержку. Учитывая это, образовавшееся в Париже Политическое Совещание одной из своих задач ставило борьбу за признание власти адм. Колчака, а противники сюда же направляли свои удары1. «Антигосударственное направление» (выражение К. Набокова) русских парижских и лондонских оппозиционеров не могло, однако, уже изменить той логики событий, которая заставила союзников вплотную подойти к вопросу об юридическом признании российской власти адм. Колчака. Вопреки мнению Милюкова [с. 139], надо думать, что на эту логику влияли именно внешние успехи власти в первые месяцы. Наступление армии опровергало вымыслы о разложении фронта после переворота 18 ноября. Верховный правитель становился силой, с которой надлежало считаться — политика Антанты, как мы видели, всегда до некоторой степени определялась этим оппортунизмом.
21 мая Набоков из Лондона пишет Колчаку, что можно ожидать крупного поворота в политике Англии: «Говоря правду, поворот этот вызван государственной работой, успешно выполняемой Правительством, во главе которого вы стоите, и успехами Сибирской армии... Теперь ответственные работники в англ. правительстве прониклись полным доверием и уважением к вам, считая вас тем человеком, который выведет Россию из ее временного бедствия»2 [«Пр. Рев.». Кн. 1, с. 135].
27 мая Клемансо от имени Верховного Совета обратился к Колчаку с нотой, подписанной и Вильсоном, и Ллойд Джоржем, и др. Нота с некоторым запозданием признавала, что «теперь настало время окончательно определить ту политику, которой они (державы) предполагают держаться по отношению к России». Подчеркивая свое невмешательство во внутренние дела России и объясняя интервенцию (это слово, конечно, не упомянуто) желанием поддержать элементы, продолжавшие борьбу с немецким самодержавием, нота вспоминала пресловутую попытку разрешить «русский вопрос» совещанием на Принцевых островах, которая потерпела неудачу вследствие отказа Советского правительства прекратить враждебные действия во время переговоров3.
«В настоящее время на некоторые из правительств союзных и дружественных держав оказывается давление, в целях побудить их отозвать свои войска из России, а равно не входить ни в какие расходы для нее, ввиду того что вмешательство, несмотря на свою продолжительность, не сулит в будущем удовлетворительных результатов.
Эти правительства, однако же, готовы и впредь оказывать свою поддержку на нижеприводимых основаниях, при условии, если они будут иметь доказательства, что они действительно помогают русскому народу в достижении свободы, самоуправления и мира...
Союзные и дружественные правительства путем опыта последних двенадцати месяцев убедились в том, что переговорами с Советским правительством Москвы прийти к этим результатам невозможно, вследствие этого они готовы оказать поддержку Правительству адмирала Колчака и тем, которые к нему присоединяются, посылкой боевых припасов, снаряжения и продовольствия для того, чтобы это правительство стало Всероссийским, но при условии получения союзными и дружественными правительствами от него окончательных гарантий, что его политика преследует те же цели, как и их. Ввиду этого, они спрашивают у адмирала Колчака и присоединившихся к нему, согласны ли они принять нижеприводимое в качестве условий, при соблюдении которых союзные и дружественные державы готовы продолжать оказывать свою поддержку:
1) Как только Адмирал Колчак займет Москву, он немедленно созовет Учредительное Собрание, избранное на основании прямого, свободного, тайного и демократического голосования, в качестве высшей законодательной власти в России, перед которой должно быть ответственно Правительство, или по крайней мере, если к этому времени порядок не будет еще окончательно восстановлен, созовет Учредительное Собрание, избранное в 1917 г., с тем чтобы оно заседало до тех пор, пока не окажется возможным произвести новые выборы.
2) Во всех местностях, на которые в настоящее время распространяется его власть, он допустит свободные выборы способом, наиболее обычным для всех поместных собраний, установленных законом, как-то: органы городского и земского самоуправления и т. п.
3) Он не сделает никакой попытки вновь ввести в силу какие-либо специальные преимущества для того или другого класса или порядка в России.
Союзные и дружественные державы с удовольствием приняли объяснения Адмирала Колчака и присоединившихся к нему о том, что они не имеют никакого намерения восстановлять прежнюю земельную систему. Они признают принципиально, что эти вопросы, касающиеся внутреннего порядка, должны быть предоставлены свободному решению русского Учредительного Собрания, но они желают получить уверенность в том, что те, кому они предполагают оказать поддержку, стремятся к восстановлению гражданской и религиозной свободы всех русских подданных и не сделают попытки вернуть режим, уничтоженный революцией.
4) Финляндия и Польша должны быть признаны независимыми, и в том случае, если в вопросах о границах и взаимных отношениях между Россией и этими странами не будет достигнуто соглашение, спорные вопросы будут переданы на третейский суд Лиги народов.
5) В том случае, если в определении взаимоотношений между Россией с одной стороны и Эстонией, Латвией, Литвой, а также Кавказскими и Закаспийскими территориями с другой стороны не будет достигнуто соглашение в короткий срок, спорные вопросы будут решены при совместном обсуждении их с Лигой народов и при ее содействии; до разрешения же этих вопросов русскому правительству надлежит признавать эти территории автономными и признавать действительными те отношения, которые могут существовать между фактическими правительствами этих территорий и союзными и дружественными правительствами.
6) Должно быть признано право Конференции мира решить участь румынских частей Бессарабии.
7) Как только в России будет учреждено правительство на демократических началах, Россия с другими членами Лиги народов примет участие в общей работе по ограничению вооруженной силы и военной организации во всем мире.
8) Они принимают к сведению декларацию Адмирала Колчака 27 ноября 1918 г. касательно государственных долгов России...»4
Нота Клемансо была «экзаменом», как говорили в Омске. Вероятно, внутренно она раздражала5, но не время было раздражаться.
Да, в сущности, она и не была «экзаменом» — скорей отпиской для удовлетворения своих «левых», которые наиболее прислушивались к агитации представителей российской социалистической демократии. Вопрос принципиально уже был решен, и переписка носила дипломатический, формальный характер. 4 июня омская власть ответила:
«Правительство, во главе которого я стою, счастливо удостоверить, что политика союзных держав Согласия по отношению к России вполне совпадает с той задачей, которую поставило самому себе русское правительство, желающее прежде всего водворить мир в стране и предоставить право русскому народу свободно решить свою судьбу путем Учредительного Собрания. Высоко ценя интерес, проявленный державами к национальному движению, и признавая законным их желание удостовериться в политических убеждениях, исповедуемых нами, я готов еще раз подтвердить свои прежние декларации, которые я всегда считал неизменными. 1) 18 ноября 1918 г. я стал у власти и не удержу ее ни на один день долее, чем того потребуют интересы страны; моей первой мыслью в момент окончательного свержения большевиков будет назначение срока для выборов в Учредительное Собрание. В настоящее время особая комиссия работает над подготовкой их на основаниях всеобщего голосования. Признавая себя ответственным перед Учредительным Собранием, я передам ему всю власть для того, чтобы оно свободно установило образ правления, и в этом я поклялся перед Высшим Судилищем России, стражем законности. Все мои усилия направлены к тому, чтобы покончить как можно скорее гражданскую войну свержением большевизма для того, чтобы дать русскому народу действительную возможность свободно выразить свою волю. Всякое промедление в этой борьбе только отдаляет этот срок. Но в то же время Правительство не может признать правильным и основанным на свободных и законных выборах простое восстановление Учредительного Собрания 1917 г., выбранного при насильственном режиме большевиков и большинство членов которого в настоящее время действительно находятся в их рядах. Только тому Учредительному Собранию, которое будет избрано законно и к скорейшему созванию которого мое Правительство стремится, будут принадлежать верховные права разрешать как внутренние, так и внешние вопросы Русского Государства.
2) Мы охотно готовы теперь же обсуждать с державами все международные вопросы в целях предоставления возможности свободного и мирного развития народов, ограничения вооружений и предупреждения новых войн, высшей выразительницей каковых стремлений является Лига народов. При этом русское правительство считает своим долгом напомнить, что окончательная санкция решений, которые могут быть приняты от имени России, будет принадлежать Учредительному Собранию. Россия в настоящее время, а равно и в будущем может быть только демократическим государством, в котором все вопросы как по определению территориальных границ, так и внешних отношений должны быть разрешены органом народных представителей, естественным выразителем державной власти народа.
3) Признавая, что естественным и справедливым следствием войны является создание единого Польского государства, русское правительство считает себя вправе подтвердить независимость Польши, объявленную в 1917 г. Временным правительством России, все распоряжения и обязательства которого мы приняли на себя. Но окончательная санкция определения границ между Польшей и Россией, в соответствии с вышеприведенными основаниями, должна быть отложена до Учредительного Собрания.
Мы готовы также ныне же признать настоящее правительство Финляндии, но окончательное решение финляндского вопроса должно принадлежать Учредительному Собранию.
4) Мы готовы теперь же подготовить решение вопросов по отношению к национальностям Эстонии, Латвии, Литвы, Кавказских и Закаспийских стран. Мы имеем полное основание предполагать, что дело скоро уладится, как только Правительство обеспечит различным народностям автономии. Из этого следует, что границы и формы этих автономий будут определены особо для каждой народности. В том же случае, если при разрешении этих разнообразных вопросов возникнут затруднения, то в целях достижения удовлетворительного решения их Правительство готово прибегнуть к содействию и помощи Лиги народов.
5) Вышеизложенные основания, предусматривающие утверждения Учредительного Собрания всех соглашений, очевидно, должны быть применены и к Бессарабии.
6) Русское правительство подтверждает еще раз свою декларацию 27 ноября 1918г., которою оно признало государственные долги России.
7) Что касается вопросов внутреннего порядка, которые интересуют державы постольку, поскольку в них отражаются политические стремления русского правительства, я считаю нужным повторить, что к тому режиму, который существовал до февраля 1917 г., не может быть возврата. Временное разрешение моим Правительством аграрного вопроса имело целью удовлетворение интересов народной массы и было основано на убеждении, что Россия не может быть цветущей и сильной до тех пор, пока миллионы русских крестьян не получат полных гарантий на владение землей. То же самое в отношении режима, обычного в свободной стране. Правительство не только не делает никаких препятствий к свободным выборам в поместные собрания, городские управы и земства, но видит в их деятельности, равно как и в развитии принципа самоуправления, необходимое условие для восстановления страны и уже оказывает им помощь и поддержку всеми средствами, которыми располагает.
8) Поставив себе задачей восстановление порядка и справедливости и обеспечение личной безопасности населению, преследуемому и изнемогающему от испытаний, Правительство подтверждает равенство перед законом всех классов общества и всех граждан без всяких специальных преимуществ; все, без различия происхождения и вероисповедания, будут пользоваться покровительством государства и закона».
«Союзные и дружественные» державы были удовлетворены6 таким ответом: он «представляется им согласным с предложениями, ими сделанными, и содержащим достаточные гарантии для свободы, самоуправления и мира русского народа и его соседей»7.
12 июня они заявили о готовности оказать адм. Колчаку поддержку. Через пять дней, 17 июня, Сазонов писал Вологодскому: «Дальнейшие шаги в сторону официального признания... несомненно, находятся в прямой зависимости от успехов сибирских армий» [«Пр. Рев.». Кн. 1]. Но военное счастье стало меняться. С другой стороны, «левые» в Европе упрямо держатся своей позиции. «Уже при первых попытках держав оказать военное содействие Правительству адм. Колчака и Северной области, — пишет Сазонов в том же письме, — левые парламентские партии во Франции и Великобритании выступили против подобного решения с резкой критикой»8. Отсюда вытекала настоятельная потребность направить пропаганду именно в демократические круги. Ясно сознавал это Чайковский. Понимали это и Набоков и Сазонов. «Необходимо, — писал Набоков 21 августа, — чтобы от имени России за границей могли говорить люди, связанные с социалистическими и демократическими партиями. Необходимо агитировать среди масс Европы и Америки» [Субботовский. С. 55]. Понимали это и в Омске. Верховный правитель в свое время приветствовал вхождение социалиста Чайковского в ряды членов политической делегации в Париже. Не раз он озабочивается тем, чтобы не создавать впечатления, что заграничное представительство возлагается только на деятелей дореволюционной эпохи [например, при командировке Шебеко в Финляндию 6 августа. — Субботовский. С. 252]. Омское правительство в сложной сибирской обстановке пыталось внести демократическую политику, прислушиваясь к телеграммам Политического Совещания9 и к декларативным формулам, которые шли от Вильсона10. Но получить поддержку демократии было слишком трудно — она исходила из презумпции, что диктатура Колчака — синоним реакции.
2. «Политическая недобросовестность»
Мне могут сказать, что я ломлюсь в открытую дверь, когда усиленно пытаюсь доказывать политическую честность Верховного правителя. Но для Колчака черта эта была особым свойством. Он непреклонен, не шел на уступки там, где политическая совесть их не допускала. Поэтому всегда и во всем мы можем верить рыцарю долга и слова. Он не измышляет мотивов для объяснения или оправдания своей деятельности. Его политическая совесть, пожалуй, иногда была слишком неуступчивой. Отсюда тактические ошибки Верховного правителя. Эта искренность в политике ясно вскрывается в вопросах национального самоопределения, которые ставились перед сознанием Верховного правителя в связи не только с пожеланиями, но и прямыми требованиями союзников и на которые надо было давать немедленные и безоговорочные ответы.
Политическая совесть Верховного правителя подвергалась величайшему испытанию.
Независимость Польши и Финляндии, отношение к другим государственным образованиям на территории бывшей русской империи — все это требовало ответа, все это не ждало выявления воли русского народа в отдаленном Учредительном Собрании. На соответствующие пункты в ноте Клемансо Правительство ответило достаточно определенно. Жизнь ставила уже конкретные вопросы, и особенно по отношению к Финляндии в связи с наступлением Юденича на Петроград и возможной помощи с ее стороны. В такой комбинации вопрос о признании финляндской независимости выходил из области теоретической и становился вопросом практической политики. Многим казалось, что декларативное провозглашение независимости Финляндии может гарантировать ее помощь в экспедиции на Петроград. Позиция Правительства адм. Колчака в данном вопросе вызвала две диаметрально противоположные оценки. По мнению Н. Нелидова, комментатора материалов «Колчак и Финляндия», напечатанных в № 33 «Красного Архива», «политическая недобросовестность» всех заявлений Колчака и его министра Сазонова «слишком била в глаза» [с. 88] — и ссылка на Нац. Собрание «была уверткой». По поводу выступления Сукина в Совете министров 17 августа относительно Финляндии Будберг сказал: «Какой идиотизм» [XV, с. 273].
Для того чтобы правильно оценить эту позицию, необходимо сделать одну оговорку. Надо отделить теоретические взгляды от практической политики. Едва ли можно даже предположить, что адм. Колчак был федералистом по своим взглядам — он, конечно, не разделял взглядов на устроение России в соответствии с принципами, которыми руководились авторы закона, или, точнее, декларации 5 января на единственном заседании Учредительного Собрания. Но припомним заявление соц.-демокр. фракции на Уфимском Государственном Совещании, и станет ясно, что вопрос о федеративном строении России не может быть органически связан с системой демократических концепций. Федеративный принцип не был принят и в левых кругах партии народной свободы — припомним аналогичное заявление Кроля на том же Уфимском Совещании. В 1918—1919 гг. партия в целом была против федерации. В приветствии «Национального Центра», привезенном с Юга Н. К. Волковым (из группы Милюкова), определенно заявлялось: «Построение Государства Всероссийского на началах федеративного устроения является несоответствующим и опасным для целостности и единства России» [«Прав. Вест.», 1 авг., № 199]. То, что привезли кадетские делегаты с Юга, вполне соответствовало решениям и взглядам партийных конференций. Даже у принципиальных федералистов не так уже упрощенно разрешался вопрос о положении областей, «временно» отпавших от России. При обсуждении вопроса о воссоединении отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России на началах федеративной связи (п. 2 программы внешней политики) на Уфимском Госуд. Совещании произошел такой диалог: «Каэлас (эстонский делегат) интересуется вопросом о возможности насильственного воссоединения с Россией областей. Такое «воссоединение» было бы крайне нежелательно... Помимо Брестского договора, есть и другие договоры, заключенные большевиками, в частности договоры Берлинские (27 августа), касающиеся эстонцев. О них необходимо упомянуть.
М. Я. Гендельман отвечает Каэласу, что отпадение области могло бы произойти только по соглашению всероссийского и местного Учредительных Собраний. Такого же еще не было. Следовательно, отпадение разумеется условно: или временное, чтобы оградить себя от большевицкой власти, или прокламированное не народом, а самозванными группами. Все такие отпавшие области должны быть воссоединены. Конечно, и сам гр. Каэлас не может думать иначе, в противном случае он не принял бы участия в Государственном Совещании» [«Рус. Ист. Арх.». С. 150].
Довольно обычным было представление, что при восстановлении центра «окраины будут стремиться и тяготеть к нему по естественному и властному закону притяжения». Так формулирует вопрос екатеринодарское письмо правления «Нац. Центра» В. А. Маклакову 23 мая 1919 г. Оно «заклинает» Маклакова протестовать против голоса теории французской формулы восстановления России снизу вверх «путем соглашения и кооперирования окраин» [«Кр. Арх.». XXXVI, с. 28].
Политическое Совещание в Париже, куда входил и министр ин. дел Правительства Колчака Сазонов, пошло в своей мартовской декларации гораздо дальше, чем демократы из партии народной свободы. В основу позиции Политического Совещания, с которой в значительной степени солидаризировался Колчак, был положен принцип, что «никакой вопрос об отделении от России какой-либо ее части, а также об установлении форм будущих отношений России к отдельным народностям, принадлежавшим прежде к составу Российского Государства, не может быть разрешен окончательно без постановления о сем будущего всероссийского Учредительного Собрания»...
Принципиально Политическое Совещание в мартовской декларации объявило: «Россия, после революции окончательно порвавшая с централистскими тенденциями старого режима, всячески готова пойти навстречу справедливому желанию этих национальностей организовать их национальную жизнь. Новая Россия понимает свое переустройство только на основах свободного сожительства населяющих ее народов на принципах автономии и федерализма и в некоторых случаях — разумеется, с общего согласия России и национальностей — даже на основах полной независимости» [Чайковский. С. 119].
Вместе с тем у Политического Совещания, и в частности Чайковского, последовательного федералиста по своим взглядам, «большое беспокойство» вызвало «догматическое восприятие» тезиса Вильсона11. «Абстрактная форма самоопределения» в практическом применении могла принести непоправимый ущерб государственному единству России.
Может быть, теперь для нас станут яснее колебания и сомнения, которые возникали у Верховного правителя, когда ему приходилось давать ответы на вопросы, которые значительная часть русского общественного мнения относила только к компетенции Учредительного Собрания12.
По всем этим вопросам еще до ответа союзникам (1 июня) между Омском и Парижем шел длительный обмен мнениями. К сожалению, всей последовательности мы не знаем, т. к. архив Политического Совещания не доступен, а большевиками опубликованы лишь сравнительно случайные отрывки из колчаковского архива13. 24 февраля Сазонов телеграфирует Верховному правителю: «По моему мнению, никто в настоящее время не правомочен дать какие-либо заверения в смысле признания независимости Финляндии, т. к. право это принадлежит исключительно будущему русскому Народному Собранию. Хотя Финляндия не имеет права односторонним актом порвать свою связь с Россией, тем не менее полагаю, что при нынешних обстоятельствах нам следует пока считаться с создавшимся положением, противодействовать которому мы бессильны. Поэтому, ввиду крайней необходимости дать Юденичу возможность подготовить наступление на Петроград, нам нужно воздержаться теперь от споров с Финляндией»... Ответ Колчака гласил: «... Верховный правитель и Совет министров вполне согласились с вашим мнением. Признавая, что разрешение вопроса о независимости Финляндии принадлежит только Национальному Собранию, Правительство считает вместе с тем крайне желательным установление с Финляндией дружественных отношений, дабы тем предоставить Юденичу возможность создать военную силу...»
3 марта Сазонов телеграфирует дополнительно, что, «по имеющимся здесь данным», выступление Финляндии, «может быть, могло бы быть достигнуто заявлением, что мы не возражаем против предоставления Финляндии самостоятельности при условии обеспечения стратегических интересов России и защиты Петербурга. Мы смогли бы даже дополнить это обещанием в свое время поддержать таковое разрешение вопроса перед будущим русским Народным Собранием. Чайковский со своей стороны согласен на таковое заявление». На подлинном Верховный правитель ставит резолюцию: «Я не считаю кого-либо правомочным высказываться по вопросу о признании финляндской независимости до всероссийского Национального или Народного Собрания, а потому не могу уполномочить вас сделать какие-либо заявления по этому предмету от моего имени» [«Кр. Арх.». XXXIII, с. 96].
С такой позицией совершенно не согласен Набоков. Он пишет Сукину 11 марта:
«Нам следует иметь в виду, что державы Согласия, Мирная конференция, Лига Наций — все эти решающие инстанции, несомненно, станут на точку зрения независимости и что непринятие нами инициативы поколеблет наше положение. Посему мне представлялось бы правильным избрать другой путь, а именно вступить ныне от имени объединенных правительств в переговоры с Маннергеймом на основе независимости, развития и ограждения наших военно-морских и экономических интересов и результаты этих предварительных переговоров сообщить как свободное соглашение между Россией и Финляндией на санкцию Мирной конференции...»14
Но Омск твердо стоял на своей позиции, хотя Набоков еще не раз пытается переубедить. Он пишет Вологодскому 11 августа: «Мы должны сознаться, что независимость Польши и Финляндии в национальных границах — совершившийся факт и что ссылки на решение этих вопросов Учредительным Собранием никого не убеждают».
Но дело все-таки шло не о теории. В течение всего 1919 г. идут переговоры о военной экспедиции для захвата Петрограда15. Есть опасение, что Финляндия может выступить самостоятельно. Через Набокова Юденич телеграфирует 26 марта: «По агитации, идущей в Выборгском районе, можно предположить, что финляндцы готовятся к походу на Петроград и решаются на этот шаг даже помимо держав Согласия». В заключение Юденич полагает настоятельно необходимым указать финляндскому правительству, что «всякое движение на Петроград одних финнов без соглашения с нами недопустимо и будет истолковано как акт, враждебный России» [там же. С. 101].
В повышенных тонах изображает все эти опасения письмо адм. Пилкина морскому министру у Колчака адм. Смирнову от 24 мая:
«Действительно, если финляндцы пойдут на Петроград в числе других союзных армий (отрядов), под контролем или под флагом Юденича, мы можем быть более или менее спокойны за то, что русские интересы не будут уже очень грубо подушены.
Но если финны пойдут одни или хотя бы с нами, но в пропорции 30 тысяч против трех-четырех, которые здесь в Финляндии, то при их политическом стремлении всячески ослабить Россию, они уничтожат все наше офицерство, правых и виноватых, интеллигенцию, молодежь, гимназистов, кадетов — всех, кого могут, как они это сделали, когда взяли у красных Выборг. Они уничтожат наши государственные учреждения, ограбят заводы, взорвут и уведут флот. Идти с ними освобождать Петроград, не имея достаточно силы, чтобы заставить их с нами считаться, — да этого никогда не простит нам Россия, будущая Россия» [там же. С. 110-111].
По поводу телеграммы Юденича Сукин отвечает:
«Несмотря на всю сознаваемую нами, по соображениям гуманности, желательность скорейшего освобождения Петрограда от большевиков, мы считаем, что столица может быть занята только под флагом союзных войск при участии русских сил» [там же. С. 102].
Если опасения адм. Пилкина слишком преувеличены, то основательны опасения иного характера. Посланник из Стокгольма Гулькевич телеграфирует 26 апреля по поводу финляндской экспедиции на русскую Карелию:
«Движение ведется в расчете на поддержку или симуляцию встречных восстаний населения. Предпринято под флагом борьбы белых с красными. Кроет в себе чисто националистический план — присоединение, по мере удачи, широкой области... Правительство держится выжидательной позиции... Готовится к закреплению за Финляндией раз захваченных земель»...
Юденич дополняет 8 мая:
«Финские белогвардейцы заняли Олонецк и 26 апреля Лодейное Поле, их отряды подходят к Петрозаводску. В воззвании главного штаба олонецкой белой гвардии, помещенном в № 110 гельсингфорской газеты, сказано, что у карельского народа одна общая цель с финскими добровольцами — освободить карельскую землю от русских... Отношение финнов к нам враждебно; они, пользуясь нашей временной слабостью, решают свою национальную задачу — создание великой Финляндии. Необходимо помешать им в этом и вместе с тем использовать достигнутое при их содействии очищение края от большевиков» [там же. С. 106]16.
Правительство в Омске сильно обеспокоено этим сообщением. Но французское Правительство через гр. Мартеля успокаивает его, «ссылаясь на формальные и исчерпывающие гарантии, данные Финляндией». Вместе с тем оно указывает на нежелательность какого-либо протеста, который лишь осложнил бы «благоприятную... политическую обстановку» (телегр. Сукина Сазонову 20 мая)... Эти успокоительные заверения Верховный Правитель считает «вполне удовлетворительными». «С Финляндией, — телеграфирует он Юденичу 24 мая, — необходимо установить самые дружественные отношения. Вопрос о видах Финляндии на русские территории должен быть отложен до момента, когда Русское Государство вернет себе голос в международных делах».
В заседаниях Политического Совещания реалистично ставил вопрос Савинков: «Петроградская операция может быть этим летом только русско-эсто-финляндской и никакой иной. Значит, либо надо сговариваться с финнами и эстонцами, либо отказаться от нее. С финнами и эстонцами, по-видимому, возможно сговориться только на платформе признания факта их независимости с тем, чтобы окончательное решение вопроса о взаимоотношениях с ними было повергнуто на усмотрение будущего Всероссийского и их правительств на началах равноправия договаривающихся сторон» [с. 105— 106].
Тем не менее Колчак пытается непосредственно обратиться к Маннергейму (23 июня):
«От имени русского правительства я хочу вам заявить, что сейчас не время сомнениям или колебаниям, связанным с какими-либо политическими вопросами. Не допуская мысли о возможности в будущем каких-либо неразрешимых затруднений между освобожденной Россией и финляндской нацией, я прошу вас, генерал, принять это мое обращение как знак неизменной памяти русской армии о вашем славном прошлом в ее рядах и искреннего уважения России к национальной свободе финляндского народа» [с. 128].
Ответ Маннергейма был достаточно определенен:
«Финляндскому народу и его правительству далеко не чужда мысль об участии регулярных финляндских войск в освобождении Петрограда. Не стану от вас скрывать, господин адмирал, что, по мнению моего правительства, финляндский сейм не одобрит предприятия, приносящего нам хотя и пользу, но требующего тяжелых жертв, если мы не получим гарантии, что новая Россия, в пользу которой мы стали бы действовать, согласится на некоторые условия, исполнение которых мы не только считаем необходимым для нашего участия, но также необходимой гарантией для нашего национального государственного бытия» [там же. С. 137].
Не верил в выступление Финляндии адм. Пилкин:
«Так как в интересах Германии — продолжение неурядиц в России, то Германия всячески старается помешать всяким антибольшевицким организациям. Попытка Юденича создать «Петроградский фронт» вызывает поэтому со стороны Германии энергичную кампанию против Юденича и всех русских в Финляндии. Сама Финляндия опасалась и опасается России, и хотя большевики ее беспокоят, но она тоже против Юденича и русских...
Надежды на то, что Финляндия позволит Юденичу сформировать и вооружить и начать наступление русскими добровольческими дружинами на (территории) Финляндии, по-моему, никакой нет. Казалось бы, что нет поэтому и дальнейшего смысла нашему здесь пребыванию». Но вот что говорит Юденич:
«Слишком соблазнительна идея Петроградского фронта, чтобы отказаться от нее. Пока хоть есть один шанс, я не уеду» [там же. С. 110].
Сомневается и Сазонов: Маннергейму помешают прежде всего «внутренние политические затруднения». В это время Верховный правитель был поставлен перед фактом соглашения Юденича с Финляндией. Он отказался его санкционировать: и условия соглашения казались ему неприемлемыми, и не верил он в «активную помощь» Финляндии (телеграмма 20 июля).
Не без внутренних колебаний принял Колчак такое решение. Среди его окружающих многие его шагу не сочувствовали. Многие верили в реальную возможность выступления Финляндии. Генерал Миллер из Архангельска телеграфировал, что Маннергейм «обещает немедленно двинуть 100 тыс. штыков на Петроград» [Субботовский. С. 249]17. Чайковскому в Париже кажется, что только негибкость Сазонова в переговорах с Финляндией помешала ее выступлению. Будберг в Омске 14 авг. разражается большой филиппикой: «Казалось, что для здравых политиков... не могло быть и минуты колебания в том, чтобы немедленно ответить полным согласием на предложение Маннергейма». Уже «теперь Россия была бы свободна от большевиков». Но в действительности Маннергейм и не думал конкретно предлагать движение «стотысячной» армии в случае признания Верховным правителем независимости Финляндии.
Был ли, однако, так не прав Верховный правитель, когда не верил в реальность выступления Маннергейма, когда боялся в случае самостоятельного выступления Финляндии отторжения новой части России18? Не знаю, могла ли иметь какое-нибудь государственное значение в будущем декларация временной власти, хотя бы формально и всероссийской? Очевидно, значение это не выходило бы за пределы морального обязательства данной временной власти. Могло ли иметь практическое воздействие на помощь Финляндии Российскому правительству декларативное признание ее независимости в момент, когда успехи Сибирской армии остановились? И тем не менее нежелание признать без санкции Учредительного Собрания независимость Финляндии, официально провозглашенную Францией, Англией и С. А. С. Штатами19, было, скорее, тактической ошибкой. Признание независимости Финляндии не могло повредить восстановлению России. Верховный правитель мог бы не бояться тени исторической ответственности. Но политика Меттерниха и Талейрана — политика «нечестная» — для Колчака была неприемлема, как сам он сказал ген. Иностранцеву, когда тот говорил ему о разумной дипломатии, руководствующейся государственным расчетом. Иностранцев указал, что «ответственность» пала бы на Юденича. Колчак «весь изменился в лице» — не в его правилах было сваливать ответственность. Неприемлема была такая политика и для Деникина (в этой щепетильной честности оба чрезвычайно походили друг на друга), который, по собственной инициативе поддержал позицию Верховного правителя: 20 августа Деникин телеграфировал в Омск, что он в связи с известием о предполагавшемся походе Маннергейма на Петроград поручил указать союзным представителям в Екатеринодаре, что «ввиду особых отношений, существующих между Россией и Финляндией, русский народ не может допустить вооруженного вмешательства финнов в свои внутренние дела. Территория России может и должна быть освобождена исключительно русскими же при содействии союзных держав»... Деникин заявил, что договор Юденича с Маннергеймом нарушает «высшие интересы Русского Государства», является, с его точки зрения, «недопустимым и не имеющим... юридической силы» [«Кр. Арх.». XXXIII, с. 144].
Политика Деникина была еще более отрешена от тогдашней международной конъюнктуры20. Колчак шел гораздо дальше, расходясь в этом отношении со своим официальным руководителем международной политикой, считавшим «активную роль» Финляндии вообще крайне опасной. Сукин, по поручению Колчака, уведомляет Сазонова 13 июня, что он не видит причины противодействовать движению финских войск на Петроград и считает «такую операцию крайне желательной, при непременном, конечно, условии участия русских войск и установления в занятых местностях русской администрации, подчиненной ген. Юденичу» [там же. С. 124].
Как ни стали бы мы трактовать правительственную тактику в этом вопросе, необходимо было бы отбросить все соображения об антидемократичности Омского правительства, которая будто бы толкала его на непримиримую позицию — как раз все наиболее правые настаивали «на привлечении Финляндии ценою немедленного признания ее независимости» (телеграмма Набокова 29 мая).
Финляндский вопрос — прекрасная иллюстрация к той искренности, которая отличала политику Верховного правителя и которая служила лучшей гарантией для выполнения тех моральных обязательств, которые он принимал на себя... Считая невозможным от своего имени декларировать независимость Финляндии, Верховный правитель твердо подчеркивает ненарушимость ее «фактической независимости».
3. Международная ориентация
Если бы Верховный правитель признал независимость Финляндии, Эстонии и Латвии без санкции Учредительного Собрания, можно не сомневаться, что со стороны многих из его противников было бы брошено обвинение в расчленении России. Удивительно, как легко рождались эти обвинения. Мы всего вправе ожидать от большевицких агитаторов, мало стесняющихся с историей. Но эсеровские публицисты? И они не далеко ушли от большевицкой демагогии. Заключая соглашение с Японией, Колчак «торговал Россией». Таково смелое утверждение эсеров, пошедших на союз с большевиками [Буревой. Распад. С. 20]. «Колчак предлагал Камчатку и Сахалин Японии за посылку японских войск», — не мигнув глазом пишет автор воззвания Сибирского военно-социалистического союза защиты народовластия, т. е. сибирских эсеров [«П. Дн.». С. 84]21.
Казалось бы, от Зензинова нельзя ожидать подобных выпадов, но и он в «Pour la Russie» [№ 29] называет Колчака чуть ли не японским агентом и удивляется, каким образом Колчак может оставаться в глазах некоторых национальным героем. Едва ли надо даже опровергать эти измышления после всего, что уже было сказано о взаимоотношениях Колчака и Японии. Если у него была мысль пригласить японские войска, то была она скорее у Директории. Уорд [с. 90] говорит, что Япония требовала предоставления в ее распоряжение всей Сибирской железной дороги и что Директория за несколько дней до переворота, в критический момент наступления большевиков на Уфу, на это согласилась22. Колчак же отказался допустить присылку японских войск в Омск, где были войска союзников (телеграмма в Лондон 21 дек.). Может быть, разницей во взглядах и объясняется то сожаление, которое высказывали позже Болдыреву японские представители, уверявшие бывшего члена Директории, что они поддержали бы его, если бы он единолично взял власть в свои руки (запись 20 дек.).
Позже, в марте, продолжая находиться в оппозиции Колчаку, Болдырев все-таки пытается на него воздействовать в смысле необходимости соглашения с Японией. Он сам рассказывает: «Я сделал попытку предупредить и намекнуть ему (т. е. Колчаку) на необходимость более тесного сотрудничества с Японией» [с. 212]23. Письмо Болдырева осталось без ответа, — во всяком случае, Колчак на него не реагировал в смысле каких-либо авансов Японии24. Последняя, по-видимому, пыталась оказать влияние на общественные круги в Омске. Контрразведка при штабе отмечает: «Об успехах японской «политики» в Сибири расписываются курьезности. Так, «Фунабаси» сообщает, что Верховный правитель, убедившись в нежелании союзников сражаться с большевиками, единственную надежду стал возлагать на Японию. В соответствии с этим он круто изменил и свое отношение к ней [№ 16 газ. «Наша Заря»]:
«Японская миссия в гор. Омске со времени прибытия в г. Омск адмирала Танаки весьма интересно работает в смысле привлечения на свою сторону симпатий общественных групп: беседует с ними на политические темы, причем в разговорах упоминает о том, что японцы не любят много говорить, что они люди дела, а не слова и что в самом непродолжительном времени японцы окажут реальную помощь России. В целях привлечения на свою сторону органов печати в японской миссии широко открыты двери для сотрудников газет, которым даются весьма охотно всякого рода информации, предлагается угощение и даются подарки.
Видимо, миссия стремится использовать в свою пользу настроение общества, за последнее время резко изменившего свою позицию по отношению к западным союзникам» [доклад н-ка контрразв. части. — Партиз. движение. С. 169].
Впервые в Правительстве вопрос о привлечении Японии ставится в июле. 6-го Пепеляев записывает: «Предстоит решить вопрос о чехах: воевать они не желают. В связи с этим выдвигается вопрос о приглашении японцев к охране желез, дор. к западу от Байкала. Поднимает этот вопрос Ставка. Сукин не возражает. Кто поправее, — дополняет запись 17 августа, — ругает за неиспользование японцев, полевее — слышать не хотят о японцах и ругают за нежелание воевать чехов, проистекающее, по их мнению, от недостаточной демократичности Правительства. Поправее — казаки, полевее — Белоруссов. Идиоты слушают и уверены, что Правительство пропускает готовую помощь»25. Этой помощи в действительности не было. Об этом свидетельствует меморандум, переданный российскому послу в Токио 22 июля:
«Японское правительство в полной мере отдает себе отчет о положении, в силу которого Российское правительство в меморандуме от 17 июля передало просьбу о расположении двух японских дивизий на запад от Иркутска. Правительство вполне сочувствует усилиям адмирала Колчака обеспечить безопасность этого участка Сибирской железной дороги. К сожалению, оно должно заявить с полной откровенностью, что не находит возможным развить свою вооруженную помощь в указанном направлении, предполагая, что такое предприятие в настоящее время, по всему вероятию, не может встретить общего сочувствия японского народа. Правительство считает себя вынужденным придерживаться решения, о котором оно заявляло неоднократно, — ограничить сферу озером Байкал. В то же время оно неизменно остается при своем решении лояльно сотрудничать с русскими властями в деле поддержания порядка и безопасности в районе, лежащем на восток от Иркутска» [Субботовский. С. 158].
Факты, таким образом, не соответствуют голословным и фантастическим утверждениям противников адм. Колчака.
* * *
Можно с определенностью сказать, что общая политика союзников вызывала в Омске глубокое разочарование. Вероятно, и недовольство политикой мин. ин. дел объяснялось растущим недовольством в отношении союзников. Телеграмма Черчилля 10 октября о том, что британское правительство приняло решение сосредоточить свою помощь на фронте ген. Деникина в предположении, что Соединенные Штаты «энергично разовьют помощь
Сибирской армии» [Субботовский. С. 60], в сибирской обстановке была учтена как прекращение помощи союзников. В это время приходит сообщение, что Юденич продвигается к Петрограду, что Юденич вновь поднимает вопрос о сговоре с Финляндией26, где сильны немцефильские симпатии, где именно влияние немцев препятствовало созданию русских добровольческих частей, что Рига взята корпусом фон дер Гольца, что образован русский добровольческий отряд полк. Вермонта — тогда «накопившееся в глубине недовольство союзниками стало выявляться открыто» [Гинс. II, с. 384]. Для спасения России вновь некоторым кажется наиболее реальным германо-русско-японский союз. В газете «Русское Дело» — орган «кадет-беженцев» — с открытой «германофильской» пропагандой выступает Устрялов: «При создавшихся международных условиях восточная ориентация есть последняя возможность и естественная надежда для обломков центральной Европы. Мы, русские, — по его словам — переходим к новому фазису в истории наших ориентации» [№ 16]. В личной беседе с проф. Пёрсом Колчак пояснил, почему среди офицеров начинает распространяться убеждение, что «будущее России в союзе с Германией и Японией». «Необходимо, — сказал он, — чтобы Россия чувствовала, что она не была побеждена и что ее место в лагере победителей. Если произойдет обратное, среди русских создастся впечатление, что ей нет места среди победоносных держав — она невольно, фатально начнет думать о противоположном победоносному лагере и, быть может, даже искать (с ним) сближения». Саблин, передающий эту беседу, со слов самого Пёрса, вернувшегося в Лондон (телеграмма 22 октября), добавляет: «Я не удержался, чтобы не возразить, что союзники в значительной мере способствуют этим настроениям и что признание адм. Колчака положило бы конец многим колебаниям. Пёрс вполне согласился и сказал, что намеревается именно это высказать в своем докладе Л. Джоржу и лорду Керзону».
Общее политическое и международное положение обсуждается в октябре в Совете министров. «Ориентации менять, что ли?» — с каким-то отчаянием вырвалось у Колчака. Так Гинс определяет настроение Совета и Верховного правителя. «Но никто не высказался в пользу Германии», — добавляет автор [с. 388]. Колчак все-таки запросил Деникина. Ответ был, как всегда, определенный: как ни трудно положение, борьбу надо вести в прежних рамках. «Адмирал был очень доволен, — добавляет Гинс. — Совет министров и Деникин помогли ему сбросить тяжелый камень сомнения, который кто-то старательно вдвигал в его наболевшую душу». Гинс часто впадает в некоторый патетизм и, в силу этого, иногда, пожалуй, даже сгущает краски. По дневнику Пепеляева, германо-русская проблема в Совете министров ставилась не так трагично. «Решено, — записывает он, — выяснить способ завязать нормальные отношения с Германией, исходя из намерения (очевидно, предположения), что война фактически кончилась» [«Кр. Арх.». XXXI, с. 80].
«Дитерихс, — рассказывает Гинс, — был очень доволен результатом заседания Совета министров. Он был убежденным сторонником союзнической ориентации, между тем как среди военных чинов армии назревало, по-видимому, какое-то новое направление» [с. 388]. «Новое направление» олицетворялось, до некоторой степени, ген. Сахаровым и Ив.-Риновым. Первый пишет в своих воспоминаниях:
«Мною был отправлен в Омск к Верх, правителю мой помощник ген.-лейт. Иванов-Ринов с докладом обо всем этом; также я доводил до его сведения мнение армии, что было бы очень полезно войти с германскими кругами в непосредственные переговоры, что этим путем мы, быть может, приобретем настоящее содействие и помощь в нашей священной борьбе. Адмирал ответил мне, что он разделяет этот взгляд, но запросит, прежде чем принять решение, ген. Деникина. Так вопрос этот и затянулся»... [«В. Сиб.». С. 152].
Действительно ли «разделял» Адмирал этот взгляд? Что-то очень сомнительно. Во всяком случае, проекты Сахарова и Ив.-Ринова не характеризуют нам главенствующей точки зрения. Рассуждения не являются еще действием... Между тем ген. Жанену представлялось уже, что Сахаров организует против союзников немецких военнопленных [«М. S1.», 1925, III, р. 354]. Одному из представителей Франции в Сибири, Лази, автору воспоминаний «La Tragedie sibirienne», кажется, что все кругом германофилы. Поддерживая Кодчака, союзники делают «германскую политику» [с. 209]. Лази передает фантастические рассказы своим читателям (в бытность в Сибири он корреспондировал в «Matin»), Ген. Розанов у него человек немецкого происхождения — его подлинная фамилия von Roosen. Политикой Верховного правителя руководят четыре балтийских немецких барона: Будберг, Вольф, Фиксенгаузен и Mende (?). В отряд Семенова и Калмыкова уже внедрились немецкие офицеры. Казацкие офицеры на вечеринках по-немецки поют немецкие песни и т. д. и т. д. За необузданной фантазией мемуариста не уследишь27. Все это преподносится наивному европейскому читателю. По поводу «германофильства» статей в «официальной» газете «Русское Дело» Драгомирецкий патетически восклицает: «И это заявлялось, писалось и поддерживалось тогда, когда чехословаки истекали кровью, сражаясь с немецкими военнопленными, руководимыми из Берлина» [с. 143]. Маленькая хронологическая ошибка!
Когда эти ошибки делают мемуаристы, это безобидно для жизни. Когда же ошибки делают политики, тогда наносится удар по живому организму. И Жанен и Лази (один официально, другой неофициально) осведомляли французское правительство о сибирских делах. О характере донесений Жанена можно судить по тому, как он сам резюмирует содержание одного из них 6 июля:
«...B его (Колчака) окружении находятся женщины, связанные с людьми более чем подозрительными в смысле шпионажа, германофильства и противосоюзных действий. Далее я резюмирую сказанное мною в этих заметках: захват правления группой министров, руководимой Михайловым, Гинце, Тельбергом, ширмой синдиката спекулянтов и финансистов; отставка министра снабжения из-за поддержки, оказываемой этой группе; злоупотребления Государственного банка. Тенденция этого синдиката чисто реакционная и антиреволюционная. В нем, как и среди офицерства, рядом с искренними монархистами или людьми, озлобленными потерями и страданиями, (причиненными) революцией, встречаются тоже люди, стремящиеся поживиться, прежние большевики, желающие заставить забыть свои ошибки. Что касается иностранной политики, то надо отметить чисто германофильские тенденции у влиятельных особ в этом синдикате. Такое германофильство приходится отметить и у многих офицеров, в особенности в генеральном штабе армии, где оно все растет. Известие о подписании мира Германией, признающей ее разгром, вызвало в различных вышеупомянутых кругах изумление, смешанное с очень сильным сожалением. Затем я отмечаю враждебность по отношению к союзникам, ненависть к Антанте, подозреваемой в сочувствии революции»... [«М. S1.», 1925, III, р. 350].
«Правительство Колчака — Правительство «реакционное и немецкое». Это я непрестанно твердил, и все телеграммы в Париж ген. Жанена говорили то же самое», — пишет Лази [с. 225]28
Эта информация вольно или невольно работала на руку противников адм. Колчака: Верх, правитель выставлялся «германофильствующим реставратором старого режима»; она не могла не влиять на судьбу вопроса о международном признании власти «диктатора»29.
Недаром односторонне осведомленный Масарик обвиняет «сибирских руководителей» чехословацкой легии в том, что они не разобрались сразу в германофильском окружении Колчака [II, с. 83]. В действительности это не более как историческая легенда. Истинное происхождение этой легенды лежит в плоскости той не нравившейся Жанену и другим прямоты и резкости, с которой Колчак «пытался отстаивать суверенность Российского правительства от притязаний союзников». Характерно, что эти слова принадлежат противнику адмирала — коммунисту Ширямову.
Примечания к седьмой главе:
1 Деятельность Политического Совещания, оппозиция, которую она встречала в пропаганде заграничных «левых», мною достаточно подробно изложена в книге о Н. В. Чайковском — он, среди демократов, больше всех ратовал за признание Омского правительства во имя интересов восстановления русской государственности, в нем наиболее решительного противника находила политика «нинистов» («ни Ленин, ни Колчак»).
В мае появилась известная общедемократическая декларация по вопросу о признании Правительства адм. Колчака, под которой стояла подпись и парижского отдела «Союза Возр. России». Декларация намечала условия, при которых могло бы произойти это признание. Условность признания вызвала протест со стороны многих членов «Союза» — прежде всего Чайковского. В письме в редакцию «La Russie Democratique» (орган «Союза») 21 сент. Авксентьев пояснял, что, убеждая членов «Союза» подписать декларацию наряду с более непримиримой «Республ. Лигой» и пойти таким образом на уступки, он надеялся создать вновь общедемократический фронт. Но из попытки соединить «козу с капустой» ничего не вышло, ибо инициаторы декларации были далеки, по словам Авксентьева, от того, чтобы предлагать союзникам приостановку помощи антибольшевицким правительствам до получения согласия на требования, выдвинутые декларацией. Между тем орган республиканской лиги («La Repub. Russe») — орган последовательных «нинистов» — резко высказался сейчас же против помощи и интервенции. (Декларация «Респуб. Лиги» 24 июня против признания «реакционного» Правительства Колчака была напечатана в «Nos libertes» 5 июля.) Эта полемика наглядно свидетельствует о диапазоне расхождений среди политических лидеров самой демократии. Надо сказать, что и «La Russie Dem.» далеко не была последовательна. Помещая, напр., статью Аргунова в № 2 о том, что реакционная диктатура может способствовать продлению гражданской войны, орган «Союза Возрождения» заявлял, что признание власти адм. Колчака желательно лишь при условии, что Верх, правитель будет держаться демократической политики. Другими словами, парижские возрожденцы говорили о том условном признании, против которого так решительно протестовал Н. В. Чайковский. Большинство заграничных эсеров в конце концов объединились вокруг парижского «Pour la Russie». Этот орган возник 29 сентября 1919 г. под редакцией Минора, Зензинова, Сталинского и Лебедева при участии Керенского, Роговского, Махина и др. Он боролся против «диктатуры генералов» (Колчак, Деникин, Врангель), вооруженной интервенции и политики блокады Советской России.
2 Правильность оценки английских настроений Набоковым подтверждается и письмом из Америки советн. мин. ин. дел Клемма, от 14 мая, в котором он передает аналогичное сообщение Эллиота [Субботовский. С. 43]. Только со стороны Вильсона идет, по мнению Набокова, систематическая обструкция всякому политическому мероприятию, клонящемуся к возрождению русской государственности.
3 Нота не упоминает, что от каких-либо разговоров отказались все антибольшевицкие правительства. Уорд рассказывает о том тяжелом впечатлении, которое вызвало приглашение на Принцевы острова в Омске [с. 104]. Определенно против высказался, конечно, «блок». Его резолюция, между прочим, напечатана в «Кр. Арх.» [XXXVII, с. 85]. Но характернейший инцидент произошел в Иркутске на объединенном заседании Городской Думы и земства 4 февраля. Собрание приняло, по инициативе эсеров, резолюцию, предлагающую всем правительствам принять предложение союзников о прекращении гражданской войны. На другой день начался, однако, «кавардак». Многие гласные не участвовали в собрании... Всем членам земской управы пришлось сложить свои полномочия. Командующий войсками Иванов-Ринов аннулировал постановление [«Мысль», № 7].
4 Ноты этой нигде в полном виде в литературе я не встречал. У Милюкова она только кратко изложена, у Гинса только упомянута. Поэтому я in extenso привожу всю резолютивную часть. Ответ Колчака напечатан у Гинса, но документ этот столь важен, что я вновь его повторяю.
5 В воспоминаниях ген. Иностранцева [«Бел. Дело»] рассказана застольная беседа, в которой Колчак саркастически говорит об экзамене и о своем «демократизме». Сцена производит впечатление искусственности и как-то мало соответствует характеру Колчака.
6 Почему-то у Милюкова всегда имеется стремление несколько принизить омскую власть. Он считает нужным подчеркнуть, что этот ответ составлен в Париже под давлением Сазонова. При этом автор, пользуясь данными Субботовского, ссылается на телеграмму от 12 июня [с. 141]. Переписка между Парижем и Омском была очень оживленна. Но ответ 4 июня не мог зависеть от секретной телеграммы 12 июня.
Характерно, что некоторым радикализмом ответа Колчака как раз были не удовлетворены омские кадеты, усматривая в этом ответе опасность «расчленения» России. Под влиянием Пепеляева в ответ было внесено несколько смягчений о национальностях.
7 Отметим, что и лондонское «Народоправство» удовлетворилось омским ответом. Возражая английской радикальной прессе, заподозревавшей искренность ответа Колчака, «Народоправство» решительно выступало против признания Учредительным Соб. того Собрания, которое было разогнано в 1917 г. Попутно «Народоправство» дает характеристику Колчака — это честный человек, серьезно желающий блага России и неспособный обмануть в день победы. Своим ответом Колчак показал, что он понимает дух времени. Союзники могут сказать, что Колчак, борясь с большевиками, выполняет волю народа и действительно, победив большевиков, созовет У. С. Признанием власти Колчака союзники выполнят свой долг перед Россией [№ 10 и 11].
8 В этих выступлениях было много своей внутренней политики и традиционного демократического декорума. Алданов, бывший секретарем ясской делегации, чрезвычайно образно передает свои впечатления от посещения английских социалистов в Лондоне: «Гендерсон искренне был бы рад, если бы помощь антибольшевицким правительствам была бы оказана в тайне от него и рабочей партии» [из воспоминаний. — «Поел. Нов.», № 3, с. 347].
9 Чайковский и создание Экономического Совещания относил в свое время за счет известной телеграммы Политического Совещания 6 января об усилении демократических идей [ Чайковский. С. 104]. Мы знаем, что Экономическое Совещание было создано вне зависимости от этой телеграммы.
10 Вильсон считает необходимым соглашение с социалистическими и демократическими группами (из письма Маклакова Сукину 6 февраля).
11 Любопытно замечание проф. Масарика: «Вильсоновский лозунг самоопределения не был достаточно разработан, чтобы стать безопасным руководством для Европы» [И, с. 125].
12 Напомню, что Врем. пр. в 1917 г. не считало себя вправе давать «автономию» не только Украине, но и Финляндии до Учр. Собр. См. речь Керенского на июльском всероссийском съезде советов [«Рев. 1917 г.» (хроника). Т. III, с. 23]. Закон 5 января (Уч. Соб.) о федерации никем почти не признавался, и мы видели, что в этом отношении и эсеры на Уф. Сов. пошли на компромисс.
13 В «Красном Архиве», в книге Субботовского. Часть этой переписки, на основании бумаг, сохранившихся у Чайковского, опубликована в моей книге.
14 В более ранней телеграмме 14 февраля, со слов Струве, Набоков сообщает, «что русские деятели, группирующиеся в Финляндии вокруг Юденича и Карташова, без оговорок стали на почву лояльного признания независимости Финляндии».
15 Первое наступление в мае, второе в сентябре и октябре в период существования Северо-западного правительства. Переговоры продолжаются и в декабре — письмо Сазонова 1 декабря.
16 Надо, однако, иметь в виду, что ядром Олонецкой добровольческой армии явился полуторатысячный отряд финских «активистов» под командой полк. Г. Е. Эльвенгрена, выступавшего за свой страх [Геронимус А. Разгром Юденича. С. 45]. Эльвенгрен повторил свою попытку в октябре во время наступления Юденича. Едва ли приходится сомневаться в симпатиях Эльвенгрена к России. В 1927 г. Э. нелегально проник в Россию, был обвинен в организации террористических актов и расстрелян.
17 Бывший член Архангельского правительства Игнатьев, перешедший позже к большевикам, в своей книге «Некоторые факты и итоги 4 лет гражданской войны» [с. 47] повторяет версию ген. Миллера о готовности Маннергейма занять Петроград двумя дивизиями при условии признания независимости Финляндии и комментирует отказ Колчака такими словами: «Справедливо опасаясь превращения нашего Правительства в случае занятия Петрограда в конкурирующее с ним Правительство». Конечно, обе версии не выдерживают никакой критики.
18 Несколько позднее (19 сентября) Саблин в телеграмме передавал мнение Черчилля — он скептически относился к возможности военной кооперации с Финляндией: она потребует слишком высоких компенсаций. Еще вернее грубоватый вывод Геронимуса, автора последней работы о походе Юденича: «Финляндия разводила канитель, чтобы выиграть время и увильнуть под благовидным предлогом от участия в противобольшевицком походе» [с. 78]. Надо помнить, что мартовские выборы в сейм дали 40% голосов с.-д., «активисты» получили 17%, «аграрии» — приверженцы мира с Советской Россией — 20%. Соц,-демократы боялись в случае выступления взрыва большевизма у себя [Горн. Граж. война в С.-Зап. России. С. 314]. Несомненно и то, что Правительство Свинхувуда следовало в значительной степени «германской линии» в стремлении создать «великую Финляндию». Провал Маннергейма на президентских выборах (он получил лишь 50 гол. в сейме из 143) показывает, что к «обещаниям» Маннергейма надлежало относиться с осторожностью.
19 Трудность положения при таких условиях сознавал сам Сазонов. Его письмо к Вологодскому 17 июня [«П. Дн.». С. 99].
20 В «Очерках» [т. ГѴ, с. 18] Деникин пишет: «Я лично вначале не исключал возможности содействия финляндской армии в противобольшевицкой борьбе... Но с конца 1918 г. я стал окончательно на точку зрения, что помощь Финляндии была бы куплена нами слишком дорогой ценой и что поэтому вступление финляндских войск на русскую территорию недопустимо.
21 В Сибири упорно распространяли слухи о предоставлении Японии Сахалина. Каково было в действительности отношение Правительства, показывает тот факт, что Правительство не допустило даже продажи Японии Черемховских копей, как предполагали владельцы [Сукин].
22 Едва ли такое определенное постановление было принято Директорией. Но с несомненностью можно установить, что у большинства членов Директории не было той опаски, которая заметна у Колчака. Японская интервенция считалась эсерами и в более ранний период допустимой при условии контакта с союзниками. Напр., письмо из России, напечатанное в № 9 «Bul. de la Ligue Russe pour la Defense Rev.» (8 июня 1918 г.) определенно говорит, что при японском десанте можно было бы образовать ядро власти из бывших членов У. С.
23 В приложении к тексту Болдырева комментатор напечатал и все это письмо 20 марта [с. 540]. На почве привлечения Японии Болдырев неожиданно оказался в связи с «Курбатовым», т. е. с Завойко [с. 178—197]. Болдырев составляет записку, наиболее существенные пункты которой гласят:
«Силами Японии немедленно приступить к организации и переброске в Сибирь 150—200-тысячной армии, из коих 100 тыс. на Уральский фронт, остальные — для охраны порядка внутри Сибири и на железной дороге.
Предложить остальным союзникам оказать немедленную денежную помощь Японии и снабдить ее необходимыми материальными и техническими средствами.
Взаимным соглашением Японии и Омского правительства избрать из русских военачальников лицо, объединяющее руководство боевыми действиями русской и японской армий с двумя начальниками штабов, русским и японским, и с представительством от других союзников.
Впредь до окончательного сосредоточения японской армии на Уральском фронте и установления прочного порядка в тылу временно воздержаться от широких активных действий силами русской армии и использовать это время на окончательную организацию, снабжение и обучение...
Ближайшая очередная задача — овладение линией реки Волги.
Заявить Омскому правительству, что, в случае явного использования его полномочия в интересах каких-либо одних партий или классов в ущерб интересам всего народа, союзные войска выводятся к границам Монголии и Маньчжурии и Правительство предоставляется своим собственным силам» [с. 539].
24 Вологодский писал Сазонову: «Использование японской военной помощи в смысле посылки войск к западу от Иркутска при обнаружившихся на опыте оккупационных приемах последних могло бы постепенно нас поставить в полную зависимость от Японии» [«Внешняя политика контрреволюц. Правительств, 1919 г.». Переписка. — «Кр. Арх.». XXXVII, с. 99].
25 Сукин рассказывает, что обращения к Японии требовала «несоциалистическая общественность». Но Верх. прав, считал такое обращение, в сущности, бесцельным.
26 27-го Юденич срочно сообщает Колчаку: «Пока не поздно, прошу срочно уполномочить меня войти в соглашение с Финляндией для ее немедленного выступления» [Субботовский. С. 262.]
27 Чешский журналист Р. Fink в книге «Biby admiral» образно расписывает близкий якобы Верховному правителю омский «салон» Гришиной-Алмазовой, где «пьяный Красильников» пел тенором «Боже, Царя храни» и где вечера кончались то дружным хором «Deutschland, Deutschland uber alles» или восторженным японским «банзай» [с. 185]. Безответственных мемуаристов не устыдить. Я упоминаю об этой книге только потому, что она, как это ни странно, часто цитируется. Автор не затрудняется на ее страницы занести даже не сплетни, а такую необузданную уже фантазию, как сообщение о посылке «влюбленным адмиралом» Гришина-Алмазова на Юг, к Деникину, чтобы «служебной командировкой и смертью» избавиться от «соперника». Гришин-Алмазов, как известно, уехал до Колчака.
28 Лази несколько наивно делает пояснение в связи с одной своей телеграммой 23 сентября: он посылает свое официальное сообщение о германофильских манифестациях в Чите под диктовку Гайды и Гирсы [с. 205]. Любопытно, что «тайные агенты» союзников усиленно подчеркивают эту черту в окружении адмирала вплоть до того, что приписывают ее «лучшему генералу» (отзыв Рукероля) Дитерихсу, «союзническая ориентация» которого вне сомнения. Курьезно, что русские деятели находили, что Жанен был целиком под влиянием своего начальника штаба Бюкшеншутца [Гинс. II, с. 60] — очевидно, «немецкого» происхождения.
29 Теряясь в противоречивой информации, союзники носились с фантастическими планами. По-видимому, в некоторых кругах культивировался план созыва в сентябре конференции русских политических партий для создания новой, всеми признанной всероссийской национальной власти. «Лозаннская Газета» этот план приписывала Клемансо. Проектировалось будто бы Правительство с кн. Львовым во главе. Колчак должен был занять пост военного мин., Деникин — его помощника. В состав министров намечались: Сазонов (ин. д.), Путилов (фин.), Савинков (вн. д.), Каминка (пром.), Винавер (юст.), Авксентьев (нар. обр.), Чайковский (тр.), Коновалов (снаб.), Бахметьев (почт.), Карташов (культ.) [«La Rep. Russe», 1919, 18 сент., № 12]. Если Жанен, Лази и др. всемерно дискредитировали власть адм. Колчака, то проф. Мазон, хорошо знающий Россию и один из активных проводников «интервенции» в Москве весной 1918 г., призывал демократию к поддержке адм. Колчака [см. «La contrerevolution russe» в сентябре «L'Europe-Nouvelle»].
Часть III. Том 2. КАТАСТРОФА
ГЛАВА ПЕРВАЯ Грозные симптомы
1. Эсеры и Гайда
Историку описываемой смутной поры, по-видимому, еще долго придется бродить в потемках и, как бы ощупью, отыскивать отдельные звенья происходивших событий. Завесой темной сокрыты еще материалы от нескромного взора. Они лежат не только в разбросанных на территории действия архивах, но и в различных тайниках партийных групп. Участники событий не говорят полной правды, скрывая закулисную сторону. Лишь медленно в разных местах приоткрывается завеса. И приходится пока делать некоторые догадки и подчас собственной интуицией соединять обнаружившиеся кулисы в одну общую декорацию, изображающую нам на зелено-белом фоне Сибири обстановку, в которой действовали местные политические актеры.
Мы говорили о деятельности ген. Гайды, упоминали о военных организациях в «Сибирской» армии, давали характеристику «земского» движения и отдельных разветвлений социалистических партий. Все это иногда под легальной формой, иногда в подполье представляло «левую», революционную оппозицию власти Верховного правителя1. Эта общественность, монополизирующая идею защиты народных интересов, выступила под флагом народовластия.
Была ли она объединена? Организационно, очевидно, нет. Каждая группа думала о «перевороте», но желала получить власть в свои руки по принципу: кто паіку взял, тот и капрал... Попытаемся проникнуть в эту заговорщицкую атмосферу.
Придет время, и участники движения или за них документы расскажут последовательно о деятельности военной организации при штабе Сибирской армии. Какое участие в ней принимал ген. Пепеляев? По-видимому, он не был осведомлен о закулисной работе тех, кто действовал за его спиной. Непосредственный и впечатлительный, он также склонен был предъявлять «ультиматумы» Верховному правителю, но все-таки до последней минуты поддерживал Колчака. В его откровенных, дружественных беседах с братом, который сделался последним премьером Совета министров, не проскальзывает даже намека на то, что он мог быть в курсе подлинно заговорщицкой деятельности, которой занималось Центральное бюро военных организаций Сибири, возглавляемое кап. Калашниковым (заведовал контрразведкой у Гайды). Возлагая все свои надежды на созыв «Земского Собора», Пепеляев, надо думать, не знал, что в действительности скрывается за этой проблемой в умах инициаторов движения.
Знал ли ген. Гайда? Ехал ли он на восток с определенной целью, или эта цель явилась в процессе получения информации о происходящих событиях? В напечатанных воспоминаниях Гайда об этом молчит или, вернее, отрицает свою инициативу. «Если кто меня и может в чем упрекнуть, — говорит он, — то только в том, что я должен был произвести переворот тогда, когда имел в своих руках армию, чем сохранил бы тысячи жизней, которые погибли в безнадежном бою с большевиками. Несмотря на то что я пришел к окончательному убеждению, что адмирал Колчак не имеет сил выполнить данное им обещание, я все-таки решил, что лучше выйти из армии, чем вести Сибирь к новым испытаниям переворотом на фронте перед лицом неприятеля» [с. 188].
Мы оставили Гайду в момент, когда он получил отставку и уезжал в Чехию, по его словам, в «отпуск» [с. 139]. Выбыл он из Омска 14 июля (а не июня) с большой помпой — в собственном поезде, со своей свитой (в том числе Калашников) и довольно многочисленной охраной. Адмирала обвиняли тогда в излишней уступчивости (Будберг предлагал выслать Гайду наподобие Директории), но Гайда, опираясь на чешский штаб и на Жанена, грозил выступить с оружием, если у него отберут его поезд2.
Колчак не хотел новых осложнений. В результате б. командующий «Сибирской» армией отъезжал на восток под особым покровительством союзников — его поезд был как бы экстерриториален. Ехал Гайда не спеша, останавливаясь на дороге в больших городах (Новониколаевск, Иркутск), зондируя почву, ведя пропаганду против верховной власти и договариваясь с теми, которые замышляли переворот. Имел ли право Гайда пользоваться титулом и прерогативами командующего Сибирской армией? Казалось бы, нет. Жанен рассказывает (дневник от 12 июля) о посещении его Гайдой, явившимся с жалобой и с просьбой оказать поддержку: он-де боится ареста. «Я ему ответил, — пишет Жанен, — что он абсолютно может рассчитывать на мою поддержку; раз он не служит больше у русских, последние не имеют никаких прав в отношении его» [«М. S1.», 1924, XII, р. 235].
«Дорогой из Омска до Владивостока, — повествует Гайда, — я еще раз имел возможность убедиться в симпатиях и надеждах, которые питали ко мне самые широкие слои населения. Не один раз и во многих городах приходили ко мне в поезд представители разных политических направлений с просьбой не уезжать из Сибири... Я видел, что в своих спорах с Колчаком я был прав и что вся Сибирь следила за нашими спорами и была на моей стороне». Не так все было безобидно, как это пытается изобразить Гайда. Кое-какие данные о его переговорах в печать уже проникли. «Я рассказывал правителю, — записывает Пепеляев 19 августа, — о действиях ген. Гайды в Иркутске, что мне сообщил приехавший управляющий губернией Яковлев. Генерал Гайда, злоупотребляя именем Анатолия, говорил общественным деятелям о необходимости переворота». Другой весьма осведомленный свидетель N, отрывки из воспоминаний которого были напечатаны в «Сиб. Огнях»3, уже более определенен. «Поезд Гайды, — говорит он, — вооруженный весьма основательно, проехал от Екатеринбурга до Владивостока, будя политическую жизнь партий, земств, городов, призывая к восстанию, которое начнет он, ген. Гайда, во имя ликвидации диктатуры, создания правительства борьбы с большевизмом и немедленного созыва Учредительного Собрания...»
В Томске один из офицеров штаба Гайды явился к Колосову и передал ему о желании Гайды иметь с ним свидание4. Колосов согласился. «Впоследствии, — говорит он, — я вынес много нареканий за то, что согласился на этот шаг». Колосов считает нужным зачем-то очень подробно объяснить мотивы, побудившие его пойти на свидание с «филистимлянином»: во-первых, это свидание можно было сделать «только информационным», во-вторых, для Колосова было ясно, что со стороны Гайды не было опасности «новой военной диктатуры...». Но зная Гайду, можно было думать, что он «не остановится на полпути, а дойдет до крайних выводов»:
«Не важно, если первоначальным стимулом для этого послужит пусть даже уязвленное самолюбие властолюбивого генерала, но важно, что этот генерал все еще имел крупное имя в армии... Привлечь такого человека на свою сторону значило бы получить авторитетный доступ во все слои командного состава, в том числе и низшего. Я вообще полагал тогда, что без командного состава с Правительством Колчака справиться будет не легко... Наконец, имя ген. Гайды имело вес не только во внутрисибирских отношениях, а и на весах международной политики, с чем тоже приходилось считаться в обстановке не изжитой интервенции».
Соглашаясь на свидание с Гайдой, Колосов поставил условием, что никто не должен был знать об этом:
«За ген. Гайдой слишком тщательно следили в городе специальные агенты (по особому приказу Колчака). Я не знал, кроме того, кто с ним едет, и потому рисковать оглаской свидания не хотел. Эта осторожность впоследствии принесла мне большую пользу, ибо до самого конца Правительство Колчака не знало о моих сношениях с Гайдой». (Плохо исполняли агенты «приказы» Колчака. — С. М.)
Колосов предложил устроить свидание в поезде во время пути с тем, чтобы на любой промежуточной станции он мог сойти с него так же незаметно, как предполагал войти. «Около полуночи я пришел в условленное место, около вокзала и... никем не замеченный вошел в поезд Гайды. Мой первый разговор с ним о Колчаке и о том, что делать, состоялся на перегоне от Новониколаевска к ст. Тайга. С этого момента начался новый период моей деятельности в Сибири...»
Колосов не рассказал в своей книге, о чем беседовал «филистимлянин» Гайда, с которым знающему, «каким смерчем проходил он иной раз по... Сибири», «недопустимо» было даже садиться за один стол для разговора, и эсер-политик, презревший «соображения моральные» и решивший по соображениям политической целесообразности «вырвать у генерала золотой клинок, которым филистимляне соблазняли его заколоть русскую свободу» и вложить в его руки «меч для борьбы с врагами». Очень картинно. Но кто кого уловил и соблазнил — пока остается неразъясненным. Какой-то договор на перегоне Новониколаевск — Тайга был заключен.
«Весь Иркутск, — рассказывает N, — от земцев и горожан до представителей биржевого комитета включительно, явился в поезд Гайды, чтобы приветствовать своего любимого героя. Со всеми серьезными и влиятельными иркутянами Гайда беседовал сам, и положения его, формулированные при участии Колосова, были приняты сочувственно. В то же время шт.-кап. Калашников вел переговоры и с эсерами, с эсдеками и, как говорили злые языки, даже с большевиками. Но эсеры... пойти на новую генеральско-социалистическую авантюру не соглашались; эсдеки-меньшевики деликатно намекнули заговорщикам в погонах, что демократичность Гайды, а следовательно, содержание будущего переворота для них более чем проблематично» [«Сиб. Огни», 1922, № 11, с. 70].
Эсеры как партия отказались иметь дело с генералом-филистимлянином, но эсеры как отдельные личности эсеры как «земцы» в контакт с ним вошли.
Поезд Гайды двигается дальше на восток. Как настоящий заговорщик, Колосов продолжает потаенно видеться с генералом — последний его разговор был на ст. Слюдянка уже в Забайкалье [XX, с. 267]. Характерно, что Гайда в воспоминаниях даже не обмолвился о свиданиях с Колосовым — в индексе имен в его книге даже нет этой фамилии5.
* * *
Во Владивостоке произошел окончательный сговор Гайды с группой эсеров во главе с Якушевым (с этой группой персонально был связан и Колосов). Группа имела свой собственный план — от нее шел призыв самочинного созыва Земского Собора. Каковы были беседы Якушева с Гайдой, какую роль сыграло здесь посредничество Колосова, мы не знаем. Знаем только то, что рассказывал Гайда в своих воспоминаниях... Но воспоминания эти местами весьма своеобразный источник для познания былого. Вот что рассказывает Гайда: «Приблизительно через три дня после моего приезда... Якушев и Моравский с некоторыми другими политическими деятелями из правых с.-р. дали знать, что очень хотели бы со мною говорить... Говорили о катастрофическом положении. По обмене мнений разошлись. Никакого сговора на этот раз не было, так как мое решение уехать в Европу было неизменно. Но на тех же днях я был поражен... совершенно неожиданным для меня известием. В газете «Дальний Восток» появилась заметка, что адмирал Колчак лишил меня чина ген.-лейтенанта... И до получения сатисфакции (!) за нанесенное мне оскорбление я решил остаться во Владивостоке...» Опровергать очевидную неправду, которую автор публикует в мемуарах, просто не стоит — Гайда лишен был генеральского звания через месяц. Эта мера явилась ответом за обнаруженное участие Гайды в подготовке переворота.
Результатом свиданий и разговоров Гайды с эсерами явилась довольно странная переписка, ныне опубликованная в приложении к «Вольной Сибири» [VI]. Надо думать, что это сделано для «истории». Письмо Якушева от 1 сентября обращено к командующему Сибирской армией:
«Я получил Ваше письмо, объясняющее причину оставления Вами армии... Счастлив убедиться, что в эти тяжелые минуты, переживаемые страной и армией, Вы мыслите одинаково со страной. Я признаю, что Ваше положение было очень тяжелым, но все же — мне думается — Вы не должны покидать армию в столь тяжелый для нее момент. Не входя в объяснение причин катастрофы на фронте, нужно признать одно, что Правительство, которое не смогло организовать сопротивление большевикам и поставило армию в очень тяжелое положение, как сейчас, должно быть устранено. Вот почему я в качестве первого народного избранника Сибири, творя волю народа (выделение мое. — С.М), счел себя обязанным принять чрезвычайное и ответственное решение. Мною в ближайшие дни будет издана грамота о созыве сибирского Земского Собора в составе представителей, избранных всеобщим голосованием от земств и городов, а равно казачьих и национальных самоуправлений. На смену безответственной власти... будет создано правительство, опирающееся на широкое общественное доверие и ответственное перед Зем. Собором... Ваш военный опыт, Ваш авторитет среди населения и в армии необходим в этот ответственный момент, когда должна создаться истинная народная власть...» [«Сиб. Арх.». И, с. 87-88].
Гайда отвечал: «...мой ответ краток: раз создается власть, опирающаяся на народ, я — в ее распоряжении. Ее приказы — для меня священны и будут выполнены во что бы то ни стало».
В целях созыва Земского Собора во Владивостоке создана была инициативная группа — комитет содействия в лице эсеров Якушева, Моравского, Сидорова, Краковецкого, Павловского и Негрескула. Комитет при посредстве «главного комитета Сибземгора» (в единственном лице Сидорова) разослал приглашение земствам и городам немедленно командировать членов на земско-городское совещание в Иркутск. Это совещание должно было явиться «техническим выполнителем» в деле созыва «Собора», причем предполагалось, что совещание, пополнившись казаками, должно будет объявить себя Земским Собором — так упрощенно осуществлялись принципы «народовластия». Естественно предположить, что нелегальный земский съезд, о котором говорилось выше, и есть осуществление владивостокской инициативы. Отнюдь нет, так как на Д. Востоке создалась лишь «аналогичная организация», с которой Колосов был в личных непосредственных отношениях (для «информации»!) — и только потом уже по поручению иркутского бюро6. Производит впечатление, что «первый избранник Сибири»... вначале пытался творить «волю народа» самостоятельно, привлекши к делу Гайду. В разосланном комитетом меморандуме для союзников7 говорилось: «Высказывая свои соображения о необходимости немедленного созыва Земского Собора, комитет принимает все зависящие от него меры, чтобы подготовительная работа по созыву происходила в мирных парламентских условиях. Вместе с тем комитет, приняв на себя указанную задачу, не в состоянии будет отказаться от принятия иных необходимых мер, если и в осуществлении созыва Земского Собора намеченным выше путем встретит непреодолимые препятствия» [«Сиб. Арх.». II, с. 90]. В доверительном же циркулярном письме по Сибири 10 октября комитет прямо отмечал, что главная его работа сосредоточивается на создании «аппарата военного переворота», который должен устранить существующую власть Верховного правителя. Этим техническим аппаратом было Центрбюро военных организаций с Калашниковым во главе.
А Гайда? Это — свадебный генерал: таким, по крайней мере, его выставляли во внутренних русских сношениях. «Почему движение возглавляет Гайда?» — спрашивает Моравского «партизан» Володин. «Это — ширма неприкосновенности. Вся работа идет под флагом Сибирской Обл. Думы», — отвечает Моравский [из воспоминаний Володина в праж. Арх.]. Но кандидат в «сибирские Наполеоны» отнюдь не собирался быть только свадебным генералом. В своих воспоминаниях он приписывает себе пассивную роль, довольно ипокритски ссылаясь на пресловутый нейтралитет. «Комитет для созыва Земского Собора, — пишет Гайда, — ни на минуту не сомневался в том, что Омское правительство... не подчинится его постановлениям. Поэтому он решил для свержения диктатуры произвести вооруженный переворот». Дело это должно было быть «исключительно русским» для того, чтобы не дать иностранцам повода «вмешаться во внутреннюю жизнь страны». Основной принцип переворота давал Гайде «возможность остаться верным своему решению не принимать тотчас же активного участия».
«Работа началась, — продолжает Гайда — Я со своими чешскими офицерами не принимал прямого участия ни в подготовке восстания, ни в агитации между солдатами. Мы имели лишь постоянную связь с членами комитета, а членам военной организации, которые подвергались наибольшей опасности, предоставили приют в своем поезде. Нашей прямой задачей — была, главным образом, поддержка связи с представителями союзников, находящимися во Владивостоке, и расследование, до какой степени можно надеяться, что они не допустят вооруженной интервенции Японии против переворота».
Мы увидим, в какой мере это изложение соответствует действительности.
Итак, Гайда взял на себя обработку союзников. «Конечно, — поясняет циркулярное письмо Якушева, — мы далеки от мысли обрабатывать союзников в нашу пользу... ибо... не считаем для себя возможным на этом строить свои планы. Наша позиция... в отношении к интервентным войскам и союзникам может быть определена с принципиальной стороны и с точки зрения национальных интересов как отрицательная, но, разумеется, реальная политика требует подхода к этому вопросу с некоторой осторожностью» [там же. С. 93—94].
«Реальная политика», в смысле воздействия на союзников, требовала соболезнования о неудачах на фронте, вызывающих большую тревогу в обществе. Слезы эти крокодиловы, т. к. в выпускаемых прокламациях уже недвусмысленно говорится о возможности мирных переговоров с советской властью — «во имя создания единой, могучей, демократической России». «Мы не хотим продолжения гражданской войны, — будет заявлено по ту сторону фронта. — Если же предположения наши не будут приняты, мы сделаем все, чтобы защитить границы Сибири от захватнических посягательств советской власти». Эта мысль о соглашении с Советской Россией, утверждает post factum редакция «Вольной Сибири», проскользнула, «очевидно, случайно и, скорее, с агитационной целью». Она «не разделялась в целом комитетом». Однако мысль эта проскальзывает довольно часто. «Партизан» Володин недоумевает, почему в грамоте председателя Сибоблдумы 5 сентября упомянута амнистия «только участникам крестьянского восстания, боровшимся в защиту Учредительного Собрания?» А за советскую власть? Ему отвечают, что это сделано по тактическим соображениям перед лицом союзников8. В отношении большевиков пока еще прикрываются фиговым листком. «Этот вопрос должен разрешить Земский Собор», — говорит Якушев в циркуляре 14 октября. В «нынешней стадии» движения комитет не может заключать формальных соглашений, но фактически допускает до разрешения теоретических вопросов на Земском Соборе тесное сотрудничество. Якушев пояснял, что его грамота издана «после предварительных разговоров и решений местными общественными кругами». Он ссылается на конференцию во Владивостоке всех социалистических партий (от нар. соц. до большевиков включительно), на которой постановлено оказать «нам» (т. е. комитету) поддержку, причем большевики отказались от каких-либо враждебных выступлений до очищения Сибири от власти Колчака и переговоров новой демократической власти об уничтожении гражданского фронта. И только «максималисты» остались при мнении, что необходимо бороться в Сибири за утверждение советской власти [цирк, письмо 14 окт.].
Компромиссных ширм владивостокские «делатели» ставят не мало. Вспомнили они и о ген. Болдыреве. Их беспокоит Япония — не будет ли с ее стороны «интервенции» против переворота. Привлечение Болдырева к делу может способствовать повороту симпатий Японии от дальневосточных атаманов к «земству». По-видимому, у некоторых являлась мысль о замене Гайды Болдыревым. Павловский посылает 25 сентября Болдыреву, по выражению последнего, «крайне интересное письмо»:
«...Неопределенность положения на фронте и неустойчивость позиции Омского правительства выдвигали неизбежно вопрос о необходимости решительных действий до созыва Собора. Эти действия мыслились во Владивостоке и одновременно по линии от Нижнеудинска до Тайшета. На этот случай совещанием общественных организаций была выдвинута в качестве временной, до Зем. Собора, власти группировка из пяти лиц. В связи с этим вам была послана телеграмма о немедленном приезде. Грамота адм. Колчака, некоторые колебания союзных представителей (Франции и Англии)9, неполная готовность военных организаций сделали необходимой отсрочку решительных действий и переносят центр внимания на съезд, собирающийся в Иркутске... Обстановка, однако, побуждает нас торопиться. Движение начинает все более и более захватывать широкие массы. Рабочие профессиональные организации, относившиеся первоначально пассивно сочувственно к нашему движению, партийные организации, относившиеся даже индифферентно, теперь начинают все более и более раскачиваться. Дать «раскачаться» широкому массовому движению при нЬінешних условиях крайне опасно. Необходимо действовать, пока нити еще в наших руках» [Прил. к тексту Болдырева. С. 547] 10
В своем дневнике 2 октября осторожный Болдырев записал:
«Представители этого течения развивали довольно большую энергию, почти не считались уже с существующим еще Омским правительством и выдвигали, впредь до созыва Земского Собора, временную власть в виде пятичленной Директории. Причем опять указывалось на крайнюю необходимость моего немедленного приезда во Владивосток. Положение мое становилось похожим на положение Колчака в отношении Директории 1918 г. Но я не хотел повторять его ошибки, тем более что обстановка была бесконечно сложнее. За год были растрачены все те моральные и материальные ресурсы, которые имелись осенью 1918 г. Сибирь была охвачена восстаниями, тыл для Омска становился опаснее фронта. Золотой запас был значительно израсходован. Кроме того, одним из активнейших членов среди призывавших меня группировок (?) был впавший в немилость, недавний еще близкий сподвижник Колчака, ген. Гайда, сотрудничество с которым по многим причинам было для меня неприемлемым... Осторожность нужна была сугубая. Во всей этой истории большой привкус авантюры. От поездки я, конечно, воздержался» [с. 248-249]11.
2. Владивостокский «фарс»
То, что происходило во Владивостоке, может служить наглядной иллюстрацией значения международного признания власти. Раз власть официально не признана, иностранные дипломаты и представители союзных военных миссий (многие из них) не считают себя с ней связанной, даже в пределах общепринятого сотрудничества. Против власти, которой «союзные и дружественные державы» официально помогают, создается заговор. Заговорщики открыто осведомляют союзные миссии о своих планах, оставляют в их руках даже письменный документ, и эти дипломаты, и военные атташе беседуют и даже злоумышляют вместе с заговорщиками. Удивительная страница из истории международной дипломатии!
Из циркулярного письма Якушева мы узнаем, что союзные представители во Владивостоке отнеслись в общем «довольно благоприятно» к перевороту. Дополняет Гайда: «Английский комиссар О'Рейль был уже до моего приезда во Владивосток вполне на стороне движения. Я несколько раз говорил с ним в присутствии д-ра Гирсы и видел, что перемену власти, пусть насильственную, считает за единственную возможность остановить занятие большевиками всей Сибири...»
«Позицию, определенно дружественную к нам, заняли все круги американские и китайские. Американский штаб был тогда, собственно, самою большою опорою... Японцы играли двойную роль. Их гражданские представители, а частью и офицерство, поддерживали связи с членами комитета, симпатизируя их намерениям и подавая большие надежды»12.
В отношении французов, по словам Гайды, приходилось различать представителей гражданских от военных. Комиссар гр. де Мартель и главный владивостокский консул Буржуа глядели на все несколько сверху, как на бунт, с которым не хотели иметь ничего общего»!13 По-другому смотрели члены французской военной миссии. Гайда пользовался полным их признанием, они оказывали ему даже особый почет после того, как он лишен был звания русского генерала. Лази рассказывает, с каким удивлением консул Буржуа увидел на обеде (во второй половине октября) у англ. ген. Гревса «заговорщика» Гайду посаженным на почетное место. На обеде присутствовал ген. Лаверн и автор мемуаров [с. 198].
Омск на это никак не реагировал. Только 12 сентября Сукин доложил в Совете министров о готовящемся перевороте. Он узнал о нем через дальневосточных агентов мин. ин. дел, сообщивших, что представители Англии и Америки уже уведомили свои правительства о грядущих событиях14. Тов. мин. внутр. дел подтвердил правильность сообщенных Сукиным сведений15.
«Как прав был я, — записывает Будберг, — когда советовал адмиралу отправить Гайду за границу через Монголию и Китай; ведь и другие лица предупреждали адмирала, что Гайда очень мстителен и всякая задержка его нахождения в Сибири очень опасна... Непонятно, однако, почему же уже в Иркутске не были приняты шаги для ликвидации этого заговорщика. Было достаточно времени, чтобы снестись с Прагой и принять меры к обезвреживанию подпольной деятельности Гирсы... Данные о заговоре... были заявлены ген. Жанену, который заявил, что за владивостокских чехов он не ручается, а что касается Иркутска, то он послал ген. Сыровому телеграмму с подтверждением приказа президента Масарика, воспрещающего чехам вмешиваться в русские внутренние дела»... «Слепенькие эсерчики, — добавляет автор дневника, — усердно работают на пользу Ленина со товарищи; они воображают, что, свалив Омск, они сделаются властью. Трудно понять поведение союзников; они держат в Омске своих представителей и оказывают нам помощь, и... в то же время их представители имеют сношения с теми, которые собираются на днях сковырнуть этот самый Омск... Я не могу защищать омскую власть... но всякий насильственный переворот будет сейчас только на руку большевикам, ибо эсеровское правительство, попав ко власти при такой обстановке, не удержится и десять недель и будет сломлено большевиками без всякого труда» [XV, с. 310].
23 сентября в Омск пришла телеграмма ген. Розанова о попытке совершить переворот в ночь на 19 сентября, парализованной вводом во Владивосток верных Правительству войск. Была ли реально совершена эта попытка или введение войск являлось лишь мерой предупреждения со стороны Розанова — во всяком случае действия командующего войсками Приамурского округа вызвали протест междусоюзного военного совета, предложившего 26 сентября ультимативно в течение 12 часов вывести войска, собранные в «последний месяц». Командование союзными войсками заявляло, что оно применит вооруженную силу в случае невыполнения ультиматума. «Командующие союзными войсками принимают ответственность за обеспечение общественного порядка во Владивостоке», — гласил ультиматум. Розанов ответил, что подобное требование выходит из рамок его компетенции и затрагивает принципиальный вопрос о правах русских, поэтому он должен запросить центральную власть. «Повелеваю вам, — телеграфировал в ответ Колчак, — оставить русские войска во Владивостоке и без моего повеления их оттуда не выводить... Требование о выводе их есть посягательство на суверенные права Российского правительства. Сообщите Союзному Командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчиняются мне»... [Гинс. II, с. 339]. Совет министров единодушно высказался в том же смысле и послал Розанову приветственную телеграмму.
Союзники в данном случае вынуждены были отказаться от «ультиматума», посланного по инициативе как бы военных без ведома дипломатических представителей...
* * *
«Совет Министров, — записал Будберг, — радуется благополучному исходу владивостокских событий; не разделяю этой радости, ибо инцидент не ликвидирован, а только предотвращен, а если к лиге наших внутренних врагов присоединятся эсеры, то наше дело плохо и нас в конце концов слопают в тылу, если даже мы выкарабкаемся на фронте» [XV, с. 320]. Будберг был прав. Владивостокская авантюра лишь начиналась.
Мы знаем из письма Павловского Болдыреву (25 сентября), что заговорщики решили отсрочить решительные действия (очевидно, 19 сентября предполагалось выступление) и перенести центр действия в Иркутск.
«Если бы речь шла только о Владивостоке, — сообщал Якушев в своем октябрьском циркуляре, — то переворот мог бы быть совершен в любой момент. Но наша задача несколько иная. Мы мыслим себе переворот, во всяком случае во времени очень близком, по возможности одновременно в крупных центрах Сибири: Омск, Иркутск, Томск, Владивосток. Владивосток, будучи технически подготовлен к перевороту более других городов, все же не может быть местом начала действий и потому, что здесь узел международного влияния чрезвычайно велик, но для ответного действия Владивосток совершенно подготовлен. Вот почему необходимо подготовительную работу усилить на Западе... Необходимо более интенсивно развернуть работу против Государственного Земского совещания в Омске, широко информировать население о шагах, предпринятых комитетом по созыву Земского Собора. На местах должны быть созданы организационные центры, которые должны находиться в живой, постоянной связи с военными организациями. Капитан (Калашников) для Иркутска, а через него и дальше, может служить для вас связывающим центром. Необходимо также выяснить возможность контактной работы с сибирским союзом партии с.-р. и Сибкомучем, поскольку эти организации являются действительно активными на местах».
В другом документе весьма энергичный б. председатель Сибоблдумы дает оценку сил: «Правительственных сил на Д. В. мало, «атамановских» больше... Конечно, и наших сил немного, но с нами популярный генерал16, за нас же весь характер движения...»
Заговорщики пытаются представить дело так, что они стоят уже во главе «широкого» движения против Колчака под флагом Земского Собора. Бывший начальник штаба заговорщиков Солодовников сообщает об информации, которую давали Павловский и Моравский: по их словам, чуть ли не весь фронт был покрыт тайными организациями во главе с популярными среди офицеров ген. Каппелем и ген. Пепеляевым, ожидающими приказа из Владивостока; говорили они и о больших партизанских отрядах защиты Уч. Собрания, сосредоточенных около Владивостока и т. д. [Сиб. аван. С. 26—27]. «Информация эта, — добавляет автор, — оказалась без конца преувеличенной, а за спиной первого избранника Сибири И. А. Якушева никого и ничего, кроме морального авторитета и сочувствия сырого материала, никем не организованного и ничем не связанного... С финансами было еще хуже. Вместо ссуды на организацию в несколько миллионов кооператоры в октябре нашли возможным отпустить полторы и две сотни тысяч» [с. 38—39].
Мечты о всесибирском масштабе оставались мечтами, — местная подготовка во Владивостоке шла своим чередом. Технический аппарат восстания готовили в поезде ген. Гайды, который распоряжением междусоюзнического командования находился на жел.-дор. путях и, следовательно, был экстерриториален. Такая «сказочная» неприкосновенность поезда придавала излишнюю самоуверенность переворотчикам. Солодовников, действительно, рассказывает «сказочные» вещи о поезде продолжающего щеголять в форме русского генерала б. командующего Сибирской армией, и в частности о том вагоне № 119, где помещалось бюро военной организации и где открыто, под охраной союзнических войск, готовилось восстание и выпускались соответствующие воззвания. Решительно все источники утверждают, что переворотчики снабжались оружием из штаба ген. Чечека. Солодовников рисует поразительные бытовые картины из жизни этого «революционного штаба». По-видимому, сам Гайда испугался, когда работа пошла «полным темпом». Когда появилась связь с большевицкими профессиональными союзами и коммунистическими военными ячейками, когда в поезде появились левые эсеры и коммунисты, генерал стал поговаривать об отъезде всем эшелоном в Иркутск [Солодовников. С. 55]17
Совершенно естественно, что коммунисты, державшиеся тактики «приспособления к моменту», приняли самое «живое» участие в организации переворота. Коммунисты впоследствии открещивались от этого непосредственного участия и утверждали, что присутствовали в «поезде» ген. Гайды только для «информации» [«Красное Знамя», 1920, 14 февр.]. Упоминавшийся нами «партизан» Володин решительно утверждает, что коммунист Раев, бывший делегатом в оперативном штабе поезда, принимал непосредственное участие в разработке плана восстания. «Гайдовская авантюра, — заключает один из современников, — поддерживалась не РКП, которая даже предупреждала рабочих о сомнительном успехе этой авантюры, а эсерами, меньшевиками, часть которых позже влилась в коммунистическую партию» [«Рев. на Д. В.», с. 268]18. Эсеры, конечно, тоже ни при чем во владивостокских событиях, свидетельствовала в октябре владивостокская «Воля» [«Св. Край», № 358]. Эсеры и меньшевики принимали участие только в целях «информационных».
* * *
Как реагировала местная «колчаковская» власть на приготовления, которые шли в поезде? Розанова некоторые обвиняют в двойной игре. Мне кажется, что если двойная игра и была, то она шла в иной плоскости, чем представляют мемуаристы. В поведении Розанова не было двурушничества в отношении Верховного правителя, и его не захватили неожиданно раскрывшиеся перед ним перспективы попасть в новую «Директорию» наряду с Гайдой. В изображении Гинса Розанов играет как бы тройную игру — он покровительствует атаманам и в то же время заигрывает с приморским земством, к которому стала приглядываться Япония. Мнение Гинса подтверждает Болдырев (запись 15 ноября): «Генерал X. мне говорил о владивостокских событиях. Он сближал Розанова с Медведевым и Гайдой. Комбинация весьма сложная. Одно время там очень ждали меня» [с. 273]19.
Подробности переговоров Гайды с Розановым с большой долей фантазии сообщает телеграмма войскового старшины Магомаева Семенову20:
«Гайда уверял, что он всеми силами удерживает революционные партии от преждевременного выступления, но, однако, не ручается за отдельные вспышки нетерпеливых групп, даже в ближайшее время. Завтра представит Розанову письменные требования революционной военной и гражданской партий. Предстоит свидание Гайды с главой кооперативов Балакшиным, по инициативе Розанова. Гайда сомневается в согласии вашем примкнуть к эсерам и даже в вашем нейтралитете — в случае предполагаемого контакта ген. Розанова с этой партией. Гайда не постесняется открыто заявить Розанову, что если вы не войдете в соглашение с эсерами, то вас необходимо ликвидировать, и исполнение сего он берет на себя включительно до вашего убийства. Розанов решил вас вызвать срочно во Владивосток на совещание эсеров с Гайдой, что является просто преступным по отношению вас. Полковник Изоме считает ваш приезд во Владивосток теперь совершенно нежелательным, стремясь оберечь вас от безусловного риска вашей жизни. Полк. Изоме подтвердил, что ему известны враждебные замыслы против вас Гайды, поэтому японцы были бы рады удалить его в Западную Сибирь, под предлогом участия в образовании враждебного адмиралу Колчаку правительства. При всем моем желании быть осторожным в заключениях, я, однако, не могу не указать на признание изменения настроения Розанова в сторону самостоятельной политики, с целью получения от эсеров с Гайдой в полном смысле наместника на Дальнем Востоке с исключением вас из политического влияния... Положение исключительно тяжелое, а с падением Омска будет безнадежное. Калмыков нервничает и хочет выступить против политики Розанова, что грозит осложнениями. Розанов, видимо, ждет падения Омска и перерыва связи с центром, чтобы открыть свои карты, выдав их за вынужденно взятые» [Последние дни Колчаковщины. С 155].
Эта телеграмма и вся деятельность Розанова на Д. Востоке, не удовлетворявшая Правительство21, побудили Колчака вызвать Розанова в Омск для объяснения. Розанов указал на возможность беспорядков в случае его отъезда, и от него было потребовано только письменное объяснение.
Возможно, что все обвинения в отношении Розанова как администратора и соответствовали действительности. Сейчас дело не в этом. Мне представляется, что игра Розанова с «земцами» и Гайдой, скорее всего, являлась осуществлением своего рода провокационного плана одного из помощников Розанова кап. Крашенинникова. У Розанова было слишком мало сил для того, чтобы бороться с возрастающим влиянием Гайды, которому, несомненно, оказывал покровительство и чешский военный штаб, и дипломатический представитель д-р Гирса, и союзники. Это покровительство временами переходило в прямую поддержку. Сентябрьское выступление Розанова показало, что на Д. Востоке трудно было разрубить не только атаманский узел22. Крашенинников будто бы хотел, если не провоцировать прямо восстание, то ему содействовать и потом провалить, показав союзникам опасность этих противоколчаковских авантюр... Пока это только предположение и посильное объяснение не всегда понятного как будто бы поведения Розанова и тех безответственных обвинений, с явными инсинуациями, которые можно встретить у очевидцев этих владивостокских дней. Читая повествование Солодовникова, местами мало правдоподобное, видишь, что штаб Розанова и штаб Гайды были взаимно пронизаны «шпионами». Штаб поезда Гайды, или бюро военных организаций, получали шифры, списки и все, что его интересовало [с. 49]. «Шпионы» Розанова были в равной мере в курсе заговорщицкой деятельности гайдовского эшелона, находясь по рекомендации «абсолютно надежных» людей в самом поезде. «Мексиканские нравы» эсеровско-гайдовского поезда отнюдь не уступали прославленному атаманскому обиходу. С наивной простотой рассказывает Солодовников, как одного такого «шпиона», юнкера Соколова, убивают в салоне кап. Маха. Оказываются замешанными и чины международной милиции, и начальник американской военной миссии, и офицеры чехословацких войск. Все они привлечены для допросов захваченных в поезде членов «террористической» организации Розанова, которая должна была дезорганизовать гайдовскую дружину путем «изъятия» отдельных лиц [с. 54].
* * *
17 ноября во Владивостоке произошло восстание, которое «Голос Приморья» назвал «просто смешным фарсом». Оно было довольно легко ликвидировано. Парижскому «Pour la Russie» [№ 23] было известно, что во время восстания Розановым было расстреляно 660 чел. Таких данных нигде — даже в большевицких источниках — я не нашел. Жертвы восстания с обеих сторон исчисляются от 200—300 человек убитыми и ранеными. Каковы бы ни были подлинные цифры23, в этих жертвах отнюдь уже не повинно ни колчаковское Правительство, ни его дальневосточные агенты, ни местные атаманы. В эти дни вообще атаманы оказались государственнее, нежели заговорщики под демократическим флагом.
Восстание, поскольку оно распространилось на город, оказалось полукоммунистическим — «вооруженным бунтом местной голытьбы», по выражению «Дальнего Востока». Под «голытьбой» надо подразумевать владивостокских портовых грузчиков, сорганизованных в самостоятельную часть. Восстание поддержало Центр, бюро профессиональных союзов, призвавшее рабочих ко всеобщей забастовке. Непосредственное участие коммунистов несомненно. Розановская контрразведка имела полный поименный список членов заговорщиков, где одна четверть причислялась к большевикам. Это не измышление контрразвед. отдела штаба, не очень разбиравшегося в политической окраске заговорщиков, так как позже «Дело Народа» [№ 392] осторожно признавало, что во владивостокской организации, насчитывавшей 2000 чел., принимали участие все социалисты «до большевиков» включительно.
Судьба переворота, конечно, зависела от решения междусоюзного командования. «Коммунистический» характер несколько изменил настроение союзных военных властей, и особенно японцев. Солодовников уверяет, что перед восстанием, изменяя своему прежнему предположению, союзная власть решила занять полный нейтралитет и заранее ограничить площадь военных действий, не допуская восставших в город. Это открывало возможность Розанову обстрелять из орудий повстанцев и мешало последним зайти в тыл розановскому штабу. Своевременно осведомленный об этом решении, Гайда почему-то не довел его до сведения своего начальника штаба. Японцы активно поддерживали принятое решение — с утра 17-го главные улицы города были заняты сильными японскими патрулями... Когда американцы, в свою очередь, послали несколько автомобилей в сторону вокзала — места сосредоточения повстанцев, японский отряд угрозой стрельбы по ним их не пропустил...24 Позже это было названо заговорщиками «вооруженным вмешательством» японских войск.
Повстанческий эшелон, по-видимому, рассчитывал на другую тактику, ибо в воззвании к юнкерам определенно говорилось: «Мы предлагаем вам, братья, не проливать напрасно крови, защищая безнадежное дело, а сдать оружие. Мы обещаем вам полную безопасность и на время боя передадим вас под защиту союзного командования» [«Сиб. Арх.». II, с. 96]. Захватив на первых порах вокзал, восставшие считали себя как бы хозяевами положения. По крайней мере, РТА передало уже беседу, которую сотрудник агентства имел с Якушевым: «Мы считаем переворот законченным. Сегодня вечером поедем в город и образуем временное правительство в Сибири» [«Св. Кр.», № 381]25. «Поездное правительство» (Якушев, Моравский, Краковецкий) поспешило даже заготовить приказ № 1 за подписью военного министра Краковецкого, которым Гайда назначался главнокомандующим Сибирской армии26.
При захвате станции повстанцы рассчитывали на присоединение в первую очередь солдат и офицеров артиллерийской школы на Русском Острове. По словам самого Гайды27, прибыло триста таких перебежчиков, но без орудий.
Таким образом, засевшие на вокзале не имели артиллерии, а японские патрули помешали захватить пулеметы, которыми вокзал обстреливался с холма. «Мы были, — сказал Гайда, — пойманы в западню». Видя безнадежность своей позиции, Гайда предпринял попытку переговорить с Розановым через ген. Чечека. Розанов обещал прекратить атаку на вокзал... Солодовников (кстати сказать, описывающий «боевые» действия очень близко к интервью Гайды), говорит, что Чечек обещал даже прислать подкрепление в две роты чехов, если Розанов начнет бомбардировку вокзала [с. 66]. Ночью, однако, бомбардировка возобновилась28. «Тогда я отдал приказание вновь открыть стрельбу», — рассказывал Гайда по первому впечатлению. — Но уже в то время мораль моих людей была разрушена и было невозможно вновь их организовать. Я понял, что наше дело проиграно...»29
Существует около десяти версий пленения самого Гайды. Он был контужен, пытался спастись бегством и в конце концов был арестован отрядом правительственных войск. Его отвели в штаб округа, откуда он и бывшие с ним чехи были взяты на поруки ген. Чечеком. Гайда был отвезен на квартиру д-ра Гирсы (его воспоминания). В подвальном этаже чехословакского штаба (другим местом была американская миссия) собрались и остальные беглецы. Укрылись в этих местах и те отдельные эсеры, которые приняли во главе с Якушевым, Краковецким и Моравским участие в заговоре...
* * *
Невольно все-таки встает вопрос, зачем же был устроен этот «фарс» с кровавыми жертвами? Некоторые склонны утверждать, что владивостокское восстание явилось осуществлением задуманного в Иркутске плана в дни проезда ген. Гайды и что в осуществлении этого плана приняли непосредственное активное участие представители чехословацкого войска. Газета «Дело России» [№ 10, 25 мая 1920 г.], часто хорошо осведомленная о закулисной стороне сибирских событий, но далеко не всегда сообщавшая точные данные, говорит, что при обыске в вагоне Гайды во Владивостоке будто бы была найдена телеграмма из Иркутска нового чехословацкого уполномоченного Гирсы: «Начинайте, все готово». Существование такой телеграммы маловероятно30, так как в Иркутске не только ничего не было еще «готово», но, очевидно, не было достигнуто и полной договоренности с якушевской группой во Владивостоке. Только после сентябрьской неудачи самостоятельная попытка председателя Сибоблдумы была вставлена в другую оправу31 и тут, как мы видели, стал намечаться другой революционный центр, причем, однако, зачинатели пытались сохранить за Владивостоком самодовлеющее значение. Естественно, что в случае удачи владивостокские заговорщики, развивавшие широкую пропаганду, несмотря на отдаленность основной территории своей деятельности, могли бы явиться устроителями сибирской жизни, — по крайней мере, они мечтали возглавить временное революционное правительство до созыва Земского Собора.
С военной стороны владивостокское восстание является как будто бы планомерным осуществлением единого организационного плана. В самом деле 18 ноября, т. е. немедленно после эвакуации Омска, несколько неожиданно был выпущен чешский меморандум. Владивостокские инициаторы восстания с самого начала, по словам Солодовникова, предполагали ударить по Колчаку с тыла в момент общего отступления Сибирской армии. Что-то в эти ноябрьские дни готовилось уже и в Иркутске. По уверению N (автора воспоминаний, напечатанных в «Сиб. Огнях»), чехи гарантировали некую реальную помощь при восстании: это вызвало «большой переполох в военных сферах, определенно ожидавших чешско-эсеровского выступления в середине ноября» [с. 80]32. 16 ноября ген. Артемьев телеграфно докладывал «главковостоку».
«Имея сведения о подпольной работе лиц, состоящих на службе по выборам в городском и земском самоуправлении, органами государственного правопорядка в ночь на 12 ноября были произведены в городе обыски и аресты. Уполномоченный чехословацкого правительства д-р Благош заявил протест против ареста Данбинова, Ковальского, Гольдберга, Бланкова, обыска управляющего народным банком Погребицкого, сообщая в противном случае остаться нейтральным при могущем быть антигосударственном выступлении. Д-ру Благошу сообщено, что его протест принят мною к сведению, будет представлен на благоусмотрение русского правительства. Независимо от сего, указанные арестованные, кроме Бланкова, освобождены после расследования. У последнего, по сведениям чешской контрразведки, в квартире скрывался штаб большевицкой партии; по сведениям русской контрразведки, — было тайное отделение партии эсеров. При обыске найден компрометирующий материал...» [Последние дни Колчаковщины. С. 68-69].
Не случайно, казалось бы, и владивостокское восстание приурочено было к годовщине омского переворота. В интервью в «Джанкой-Адвертайзер» Гайда определенно подчеркивал, что владивостокское «народное» восстание было осуществлением обдуманного плана. Сам-де он был «вынужден» в силу обстоятельств занять пост командующего военными силами. По его тогдашним словам, «переворот» предполагали совершить «мирно, путем захвата правительственных учреждений». Желая избежать кровопролития, Гайда не поощрял набора добровольцев из правительственных войск, так как это привело бы к «неизбежности» вооруженного столкновения, которое он «всеми силами старался предотвратить». И только, когда розановские войска стали обстреливать юнкеров, направлявшихся в эшелон Гайды, оказалось неизбежным вооруженное столкновение: «когда обстоятельства принудили нас сражаться — мы сражались»33.
В это изложение надо ввести одну поправку, которую и делает сам Гайда в воспоминаниях. Восстание произошло «преждевременно». Возможно, что на такое ускорение и повлияла тактика ген. Розанова... Гайда переносит ответственность на членов комитета: «Думаю, что кто-нибудь из комитета... без моего ведома дал сигнал...» Солодовников обвиняет самого Гайду. Он подтверждает сообщение о частных беседах Гайды с Розановым. Одно из таких посещений происходило 12—13 ноября. Оно носило странный характер в изображении самого Гайды. Чересчур как-то благородно поступает заговорщик. Он решил «ввиду надвигающихся событий» вернуть «слово», данное Розанову 21 сентября34.
От этого «проклятого визита к Розанову» все и провалилось: «еще бы два-три дня генеральского молчания и успех почти бескровного перехода власти в наши руки можно было бы считать обеспеченным» [с. 59]. Теперь Розанов был осведомлен, и ночью 15-го в хвосте состава гайдовского эшелона встал бронепоезд «Калмыковец», готовый в любой момент открыть артиллерийский и пулеметный огонь. Вечером, 16-го, эшелон был окружен со всех сторон юнкерами инструкторской школы Нокса, восемь унтер-офицерских рот которой должны были, по плану заговорщиков, разоружить четыре роты офицерские. «В дальнейшем, — добавляет Солодовников, — пришлось действовать без руля и без ветрил, в зависимости от создававшихся условий, когда инициатива была отдана нашими же руками».
16 ноября Гайду «зачем-то» два раза посетил японский генерал и принят был им без посторонних свидетелей. Еще раньше, 14-го, в поезде, под председательством помощника Гайды Гусарика, было устроено совещание, на котором обсуждалось вторичное предложение Гайды переехать в Иркутск. Совещание отвергло это предложение. Производит впечатление, что у Гайды большие колебания. Он сам говорит в своих воспоминаниях о том, что «старался задержать события до возвращения Гирсы, который тогда был в Иркутске, потому что боялся, что в его отсутствие может произойти неожиданный оборот в поведении союзников, особенно японцев». Но 1е ѵіп est tire, il faut le boire. Отступать с честью было уже поздно — в этом, может быть, и крылись те «обстоятельства», которые заставили Гайду принять на себя командование...
«Фарс» окончился. Гайда, взятый на поруки чешским штабом, дал обязательство уехать в течение трех дней в Чехию. Солодовников убеждал генерала уйти в горы с остатками организации, объединить партизанские отряды и продолжать борьбу. Но Гайда был уже отыгранной картой. Очевидно, он это чувствовал.
Чешская печать в Сибири, в свое время недовольная исключением Гайды с русской службы35, сочла нужным взять на себя реабилитацию неудачного заговорщика. Телеграмма «Чехосл. Дн.» 23 ноября [с. 225] гласила: «Гайда пал в неравном бою, спровоцированный героем енисейских погромов ген. Розановым. Он уходит из Сибири, в освобождении которой принимал такое участие и которой владеют люди того же Розанова. (О Розанове говорилось, что, когда Гайда поднимал знамя борьбы, он служил в большевицком штабе36.) Гайда может уходить спокойно... Гайда заблуждался, но под конец он решительно стал на сторону демократии. Ген. Гайда может «гордо возвратиться» в Чехию».
«Демократизм» Гайды уже тогда был особый — с оттенком большевицко-фашистских тенденций. В упомянутом интервью он говорил: все, что союзники сделали для России, — это поддержка «черной монархии» Колчака, Деникина и др. В будущем могут быть только абсолютная монархия или большевизм. Соединить Россию смогут, однако, только большевики. Они переродились. Это не те «красные», когда господствовал террор. В настоящее время у них замечается «национальное движение». Прежние формы сами себя изживают... Гайда с чрезвычайной похвалой отзывается о дисциплинированной армии противников. У коммунистов исчезла коммунистическая доктрина. «Мир, — заключает он, — должен знать больше фактов, относящихся к действительному положению в Сибири».
Гайда не герой нашего романа... Противопоставление его Колчаку, «несчастному моряку», который «не сумел быть Наполеоном», как это делает Медек в своей хронике-романе «Anabase» (1928), — профанация чистого образа покойного русского патриота. От Гайды поспешили отгородиться и его соучастники по владивостокскому заговору. «Организованные эсеры, — писал Раков, — ничего общего с владивостокскими событиями не имели» [с. 45]. Более осторожен, однако, Гуревич в статье, напечатанной в «Летописи Революции». «Участвовала, — говорит он, — не организация, а некоторые эсеры» [с. 309]37.
3. Эвакуация Омска
Владивостокские события произошли в дни тяжелого кризиса для омской власти, наступившего с момента эвакуации Омска. Как бы оправдались слова Колчака, считавшего необходимым защищать Омск до последней возможности. Задержка с эвакуацией Омска — возражают на это — была пагубной ошибкой. Она окончательно разрушила фронт и повела к гибели армии. Плохие советчики вновь толкнули Колчака на неверный путь. Не сказывается ли здесь больше попытка найти виновника последовавшей катастрофы? Вся Сибирь стала обвинять в неудаче преемника Дитерихса ген. Сахарова, который якобы внушил адмиралу пагубную мысль. Эта «традиционная» точка зрения — таковые уже имеются — вновь нашла себе выражение в тексте Милюкова [с. 144—145]. «Традиционное» изложение требует, однако, существенных поправок.
Бар. Будберг имел в августе свой рецепт.
«Третьего дня, — записывает он 5 августа, — в кабинете председателя Совета министров я очень осторожно начал разговор о своевременности подумать о переезде на восток, но на меня накинулись так, как будто я говорю нечто недопустимое; особенно горячился искренний, решительный и импульсивный Пепеляев... Ответил им, что остаюсь при старом мнении, так как считаю, что лучше переехать заблаговременно, чем в обстановке общего пожара... Нужно думать... о том, чтобы бросить бредни о наступлении, а перейти к обороне на укрепленных позициях до тех пор, пока не укрепимся настолько, чтобы иметь действительное право на наступление» [XV, с. 258].
По Будбергу, Колчак как бы всегда полон «наступательными тенденциями». Между тем любопытное свидетельство имеем мы от ген. Занкевича: «Мне известно, что адмирал хотел начать эвакуацию Омска еще в конце июля. Эта мысль, однако, встретила решительную оппозицию в Совете министров» [«Белое Дело». II, с. 150]. Вопреки «своему убеждению», Верховный правитель мысль о своевременной подготовке эвакуации Омска оставил. В этом смысле давление прежде было оказано со стороны союзников.
Ген. Занкевич, очевидно, имеет в виду заседание Совета министров 8 августа, о котором имеется такая запись Будберга:
«Продолжительное заседание Совета министров с вызовом туда Лебедева и всех генерал-квартирмейстеров. До начала заседания поднял вопрос об эвакуации Омска, указав, что таково общее желание фронта... Получил ответ, что часто категорически против сам адмирал и все союзники, которые-де считают, что отъезд Правительства из Омска — это его гибель и что таково мнение всех знающих настроение Сибири... Тон совещания был дан Михайловым, который с огромным пафосом... заявлял, что отъезд Правительства из Омска невозможен... Слушал в полном недоумении: какой злой рок отнимает у очень неглупых и по-своему дельных людей здравый смысл в таком серьезном деле» [XV, с. 261].
Никаких данных о том, как смотрел сменивший Лебедева Дитерихс на своевременную эвакуацию Омска, у нас нет. Мы знаем только, что даже в октябре Дитерихс был настроен весьма оптимистически [дневник Пепеляева]. И только после новых неудач, т. е. в момент крушения плана, Дитерихс поднимает вопрос о спешной эвакуации Омска, против чего уже решительно возражает Верховный правитель. Он считает эвакуацию в такой момент началом гибели всего дела. Отступить в глубь страны, окопаться в Новониколаевске или даже в Иркутске под защитой союзников — вот план Дитерихса, горячо поддерживаемый ген. Иностранцевым. К сожалению, воспоминания Иностранцева — я имел возможность с частью их познакомиться в рукописи — еще не напечатаны. В записках Иностранцева довольно обстоятельно изложены беседы с Колчаком и развита взаимная аргументация. Оставление Омска, по мнению Колчака, равносильно проигрышу всей кампании (это и физически невозможно — нужны месяцы). Эвакуация приведет к падению Правительства. Колчак мотивирует соображением, что в переживаемый момент политика должна стоять выше стратегии. Не он ли был прав в данном случае? Ген. Иностранцев убежден, что осуществление его плана предотвратило бы катастрофу. Неужели неделя, протекшая с момента разговора до оставления Омска, могла быть столь решающей? Если принять точку зрения Какурина, что на Тоболе была уже решена судьба армии Колчака, — точку зрения, в значительной степени разделяемую, кажется, Головиным, то позиция Колчака как будто бы была единственно правильной.
На Верховного правителя в решении вопроса о защите Омска оказывала влияние и «общественность». Я не знаю, почему Милюков поставил это слово в кавычках. Подлинная омская общественность — не та, конечно, которая поднимала вопрос об окончании гражданской войны под тем или иным предлогом, — говорила о защите Омска [делегация Экон. Сов. с Червен-Водали во главе. Гинс. II, с. 408—409]. Никто в эти дни не переживал, вероятно, таких мучительных колебаний и тяжелого раздумья, как Верховный правитель. Ответственность была на нем. «Я дал бы много за то, если бы в настоящее время был простым генералом, а не Верховным правителем», — передает настроение верховного правителя рапорт майора Моринса38.
Трудность положения осложнялась разногласиями с Дитерихсом. Поведение Дитерихса вообще не совсем понятно. Колчак жаловался, что мнения Дитерихса всегда шли наперекор его мнениям и что ему приходилось напоминать своему начальнику штаба, что лицом решающим все-таки является он, Колчак. Эту странную черту отмечают весьма авторитетные свидетели того времени.
Им даже кажется, что Дитерихс как бы сознательно подводил Колчака. Может быть, здесь играла роль политическая антипатия. Колчак для Дитерихса — демократ, следовательно, политический антипод. «Мистика» Колчака весьма мало сближалась с «мистикой» Дитерихса: у Колчака на первом плане была Россия, у Дитерихса — монархическая Россия. Недаром омские сплетни с обычной для себя поспешностью окружили имя Дитерихса слухами о готовящемся «перевороте».
На Колчака неприятно подействовало сообщение, что Дитерихс, зная отрицательное отношение Верховного правителя к отступлению без боя, отдал распоряжение о выводе 1-й армии Пепеляева в тыл, не осведомив даже адмирала. Когда прибывший с фронта Дитерихс, в силу несогласия с Колчаком, заявил о своей отставке, Колчак ее принял, несмотря на тяжелый момент для армии. Тогда и выплыла кандидатура Сахарова. Дело как будто бы заключалось не только в том, что «нашелся генерал, карьерист и реакционер Сахаров, который убедил Колчака, что защищать Омск возможно» [Милюков]. Мы не имеем права игнорировать и показания самого Сахарова, обычно довольно точные39. Он был вызван 4 ноября телеграммой. Верховный правитель в присутствии Дитерихса предложил ему пост главнокомандующего. Вопреки трафаретному представлению, многие военные специалисты считают Сахарова отличным боевым начальником, может быть, несколько самоуверенным, но решительным человеком. В данной обстановке только решительность могла иметь значение. Других кандидатов у Колчака, пожалуй, и не было. По словам И. И. Сукина, Верховный правитель преемником Дитерихса хотел назначить Войцеховского, но это вызывало «обиду и соперничество». «Мне приходилось подчиниться приказу», — говорит Сахаров, утверждая, что он вовсе и не ставил себе невыполнимой задачи во что бы то ни стало удержать Омск. Адмирал просил «сделать все возможное, чтобы попытаться спасти
Омск, и сейчас же отдал приказ о возвращении 1-й Сибирской армии на фронт» [с. 181].
На другой день приехал Пепеляев и сделал попытку непосредственно воздействовать на Верховного правителя.
«Адмирал встретил меня словами, — рассказывает Сахаров: Вот, ген. Пепеляев убеждает не останавливать его армию, дать ей возможность сосредоточиться по жел. дор. в тылу». Я ответил, что это невозможно... Пепеляев поднялся во весь рост, посмотрел в упор на адмирала. «Вы мне верите, в. в.?» — спросил он каким-то надломленным голосом. «Верю, но в чем же дело?» Пепеляев тогда перекрестился на стоявший в углу образ, резко и отрывисто, ударяя себя в грудь и плечи: «Так вот Вам крестное знамение, что это невозможно, если мои войска остановить теперь, то они взбунтуются». Я доложил Верх, пр., что не могу при таком отношении к приказу оставаться главнокомандующим... Адмирал усталый и подавленный... начал уговаривать меня»... [с. 181].
Отступления остановить уже было нельзя. 10 ноября в Иркутск выехало Правительство. 12-го поздно вечером вместе с войсками покинул Омск Верховный правитель. 14-го утром Омск пал.
«Фактически армия теперь сошла на задачу прикрытия эвакуации», — говорит Сахаров. «...Армия свелась, в сущности, к целому ряду небольших отрядов, которые все еще были в порядке... Сохранилась организация, но дух сильно упал. До того, что проявлялись даже случаи невыполнения боевого приказа. На этой почве... ген. Войцеховский принужден был лично застрелить из револьвера ком. корпуса ген. Гривина»... [с. 183].
Общественное мнение осудило сдачу Омска. Инструктор новониколаевского осведомительного отдела Лeпарский доносил начальству:
«Я пишу о «слухах», о тех слухах, которыми переполнен воздух, от которых никуда не скроешься, которые переходят непроизвольно, как всякий звук, но из-за которых создается представление — мнение и в результате известное отношение, действие, тактика. Слухи эти разнообразны, часто противоречат друг другу, но в разных вариациях ясно звучит общая усталость, жажда мира, покоя; но это было бы еще полгоря, а главное, то, что «потеряна надежда» на победу, надежда, без которой немыслим успех никакого дела. Вот этой-то надежды, воодушевляющей и побуждающей, у большинства нет. Если и тлится эта надежда у немногих, то в связи с надеждою или на сверхъестественную помощь Божию, или на вмешательство союзников. До падения Омска, это не так было слышно, теперь же слышно везде. Сидите ли вы в кафе, ходите ли по базару или на вокзале, — везде таинственные, чудовищные, прямо-таки сказочные рассказы о сдаче Омска, и как на главную причину сдачи — отсутствие твердой власти, распорядительности, и, что обидно, говорят: к моменту появления красных у нас в Омске не было военачальника-распорядителя, и в результате бежал кто куда мог, чувство животного страха и личного самосохранения преобладало над всеми другими соображениями» [Последние дни Колчаковщины, с. 67].
4. Чешский меморандум
С моментом отъезда Верховного правителя из Омска совпал другой сильный удар, нанесенный Правительству из Иркутска со стороны тех, которые так или иначе по различным мотивам вынуждены были в течение года вести совместную с ним борьбу против большевиков. 13 ноября в «Чехосл. Дн.» был напечатан представленный союзникам «меморандум» за подписью политических представителей чехословацкого государства в России Павлу и Гирсы.
Для омской власти меморандум был неожидан — и особенно подпись под этим документом д-ра Павлу, которого в свое время еще Штефанек рекомендовал Омскому правительству как человека, наиболее способного найти путь для здорового сотрудничества [Сукин]. Он был неожидан уже потому, что с момента, когда Правительство взяло «демократический» курс, т. е. заговорило о создании хотя бы суррогата народного представительства, у членов Правительства и у некоторых представителей общественности в связи с военным успехом начались переговоры о привлечении чехословаков к более активным действиям на фронтах40. 24 августа Пепеляев записывает: «Я был с отдельным визитом у майора Кошека. Говорили о многом. Кошек не исключает возможности участия чехов на фронте». В заседании Правительства 12 сентября было упомянуто о более уже серьезных переговорах через особо уполномоченных лиц, к чему весьма скептически отнесся «чехоед» Будберг (наименование, которое дал ему Колчак за всегдашний скептицизм). Очевидно, имелась в виду поездка Белоруссова в Иркутск. О ней Кроль пишет: «Чехов решили привлечь путем обещания им земельных участков в Сибири и денежных выгод. Переговоры, однако, (не) налаживались. Главным камнем преткновения был вопрос о травле печати. И тут решился пойти на большое самопожертвование А. С. Белоруссов. Старик, много сил положивший на травлю чехов41, решил поехать в Иркутск упросить чехов пойти на помощь. От него получены были известия, что соглашение налаживается. Но тут произошло новое обстоятельство» [с. 192].
«Новое обстоятельство» заключалось в разжаловании ген. Гайды. «Казалось бы, — пишет Кроль, — что чехам, резко разошедшимся с Гайдой после переворота 18 ноября, это должно было быть безразличным. Но чехи это приняли иначе42: как-никак, но Гайда был для них своеобразным героем. Переговоры с Белоруссовым были внезапно прерваны, и старик не вынес: скончался от разрыва сердца».
Очевидно, заминка произошла не из-за самого факта лишения Гайды русских генеральских погон, а в связи с телеграфным обращением 26 сентября через союзников к правительству чехословаков.
«Давая лестную оценку прежней, «блестящей боевой деятельности» Гайды на Уральском фронте, указывая, что верховное командование всегда рассматривало его как «исключительно одаренного и ценного» начальника, Правительство говорило, что вмешательство Гайды в вопросы внутренней политической жизни привело к тому, что он должен был оставить занимаемый пост. Принимая во внимание заслуги Гайды, Верховный правитель сохранял за ним звание командующего армией и разрешал ему заграничный отпуск, «обставленный всеми материальными условиями и внешним почетом». Но Гайда занялся противоправительственной работой во Владивостоке. «В этом отношении к Гайде присоединился и чешский представитель в междусоюзном железнодорожном комитете д-р Гирса, также вмешавшийся во внутреннюю политику России и сделавшийся не только пособником, но чуть ли не вдохновителем противогосударственных течений на Дальнем Востоке. Глубоко сожалея о поступках Гайды, прежние заслуги которого русское правительство не перестает ценить, но не допуская в то же время мысли, чтобы настоящее поведение его и д-ра Гирсы могло встретить сочувствие правительства Чехословакии, мы считаем долгом дружбы и славянства просить о немедленном отозвании указанных лиц из пределов России, полагая, что этого требуют жизненные интересы обоих народов».
Очевидно, Кроль сильно преувеличивал разрыв переговоров. По крайней мере, Гинс рассказывает:
«...У Вологодского в начале октября состоялся дружественный завтрак, на котором присутствовали Павлу и Тайный, а от военных — Дитерихс. Стали намечаться приемлемые для обеих сторон условия сотрудничества. Чехи ставили вопросы практично. Они просили, чтобы их сбережения, внесенные в государственные сберегательные кассы сибирскими деньгами, выдавались романовскими, чтобы Правительство приняло на свой счет все перевозки чехо-войск, чтобы жалованье (привлечение чехов в армию предполагалось произвести на началах добровольческих) выдавалось золотом, чтобы чешские части снабжались собственным интендантством, чтобы Деникин гарантировал свободный проезд чехов на родину после соединения с ним, чтобы чехам так же, как и карпатороссам, разрешено было приобретать земли в Сибири. Правительство согласилось на все условия и немедленно провело закон о предоставлении чехам права приобретать земли в Сибири» [Гинс. И, с. 528-529].
В конце октября Павлу беседует на эти темы по прямому проводу с Вологодским. Текст ленты напечатан в «Приложении» к брошюре Солодовникова «Наш счет».
Вологодский. ...Я говорю с вами по поручению Совета министров. Ваш представитель, майор Тайный, изложил нам ваши требования, при исполнении которых можно надеяться, что ваша армия пойдет на фронт. Требования эти, между прочим, следующие: а) чтобы увеличенное жалованье выплачивалось золотом; б) чтобы все сбережения солдат были переведены на золотую валюту... Совет министров все эти требования в заседании 28 октября признал исполнимыми, и протокол заседаний был скреплен резолюцией Верховного правителя к исполнению43. Теперь разрешите задать вам несколько вопросов: 1) Что вы думаете о возможности наступления в ближайшем времени? 2) В какой связи с требованием момента может быть получен ответ из Праги? Если вы ожидаете положительного ответа, то не найдете ли вы возможным начать действия в том направлении, как это диктуется настоящей ситуацией? Если это возможно, то 3) не находите ли нужным обсудить теперь же совместно с нашим командованием вопросы военно-технического характера...
Павлу. ...Я... старался представить в Праге положение таким образом, чтобы скорее получить положительный ответ. Положение таково, что для серьезных действий нужно подождать предварительного согласия из Праги. Пока работаем на использование времени для необходимой подготовки. Я хорошо понимаю всю серьезность этого акта и желал бы только истинной пользы для России, но не ценою раскола в своем лагере... Разрешите одновременно предложить вопрос: можно ли ознакомить наших солдат с вашими предложениями? Полагаем, что это необходимо для создания определенного настроения...
Вологодский. ...Мы смотрим на ваше согласие, на ваши пожелания не как на торговлю или исполнение ваших требований, а как на условия, диктуемые жизнью и общими интересами будущей великой России и славной Чехословакии...
Павлу. ...Как я сказал уже вам: если и были небольшие недоразумения, то я тем сильнее желаю добиться, наконец, большого согласия...
Этот поворот в настроениях чешского военного командования и политического представительства приходится объяснять успехом Деникина. Южный фронт становится решающим. «Деникин взял Орел. Теперь, можно сказать, дорога на Москву открыта», — заносит в свой дневник Пепеляев. В другом аспекте представляется и чешский вопрос, т. е. вопрос о возвращении чехословацкого войска на родину. Путь через Россию становится более реальным, нежели все еще проблематическая эвакуация через Владивосток44. При возможных изменениях в положении России по-иному вырисовываются и национальные чешские задачи. Простая целесообразность диктует им желательность выступления на фронт и более активную поддержку существующей власти... Подобную точку зрения Павлу высказал в беседе с делегатами Зем. пол. бюро в Иркутске. По словам Колосова, Павлу находил, что «решающим фактором в политике является Деникин и вообще юг России». Сибирь, по его мнению, к тому времени сошла со сцены и роль ее кончилась. Вопрос решается тем, когда Добр, армия достигнет всероссийского центра — Москвы. По этому фактору Павлу и считал необходимым ориентироваться. У него был скепсис в отношении русской демократии. В одном из ранних своих публичных выступлений в Сибири Павлу рисовал такую символическую картину: чехи ураганом мировых событий оказались заброшенными в глубь сибирской тайги. Им приходилось своими собственными силами искать выхода из этих дебрей. Разыскивая такой выход, они наткнулись на раненого. Они подняли его к себе на плечи и пошли дальше, руководясь его указаниями. Этим раненым оказалась сибирская демократия. Заключая с этим раненым союз, чехам приходилось, однако, задумываться над вопросом, что будет дальше с ними и с их новым попутчиком: выздоровеет ли он и вернется ли к нему способность самостоятельно, без их помощи, продолжать свой путь, или он ранен безнадежно и тщетно ждать, чтобы он поправился. И если это так, то что с ним делать самим чехам, так как вечно служить ему костылями они не могут.
Теоретически Павлу верно определял основное несчастье русской общественности — в процессе революции не создалось большого коалиционного блока, который, не будучи ни интернационалистическим, ни монархическим, был бы просто национальным и демократическим [«Чехосл. Дн.», № 552]. Но возможный в Сибири «блок» ни Павлу, ни его единомышленники не поддерживали — они все-таки тянулись к «крайностям», ошибочно олицетворяя демократию в лице одной партии с.-р., которую не только кадетский «Св. Край», но они сами, в сущности, причисляли уже к контингенту «политических инвалидов». Отсюда вытекала двойственность позиции. Якушев в октябрьском «циркуляре» приводил отзыв Павлу: «Ни в какую политическую комбинацию, связанную с Колчаком, чехи не пойдут, ибо такая комбинация явно безнадежна и обречена на провал». Допустим, что слова переданы неточно. Но едва ли Якушев мог измыслить такой отзыв в широко разосланном по Сибири письме. Он, быть может, делал неверный вывод: при отрицательном отношении к Колчаку чехи должны пойти непременно с его противниками. Павлу же вел переговоры не с сибоблдумцами. Очень правдоподобно, что за этими переговорами стояла какая-то новая политическая комбинация. Не с Дитерихсом ли?
«Проекты» Павлу встречали оппозицию в самой чешской среде. Сибирское политическое представительство и военное командование расходились с мнением центрального Правительства, более точным выразителем которого явилась прибывшая во Владивосток делегация. «Командование легий, — пишет Кратохвиль, — должно было бороться с посольством государства». «Президент и министерство (Тусарово) твердо держались того мнения, что армии нельзя разрешить какого-либо участия в русских военных операциях». Верховное командование в это время «договаривалось» с Колчаком об интервенционной службе и о плате за нее. Целый ряд документов, утверждает Кратохвиль, удостоверяет, что для военного командования «действителен был лишь план бывшего председателя министров Крамаржа». «За золото, — патетически восклицает автор, — командование предложило армию из 50 тыс. тех, которые добровольно шли навстречу смерти за свои идеи!»
Исправлять некоторую специфичность изложения Кратохвиля едва ли надо. Проект Павлу «был отвергнут»45. Телеграмма Бенеша Жанену — последний также был противником привлечения чехов на фронт — говорила о неисполнимости «проекта» Павлу и высказывалась против какого-либо нового ангажирования войск и добровольцев... «Общественное мнение» в Чехословакии хотело иметь армию «по возможностям скорее дома и без новых жертв».
«Проекты» Павлу сами собой падали при катастрофической неудаче на антибольшевицком фронте в России... В Сибири, конечно, должна была победить официальная точка зрения, представленная поверенным в делах д-ом Гирсой. Среди чехов, в связи с продвижением большевиков, начались волнения из-за опасения грозившей им участи (телеграмма Сукина 20 ноября). Гирса попытался сделать ставку на социалистические группы, подготовлявшие переворот в Иркутске под флагом окончания гражданской войны. «Чехам, — говорит местный деятель, стоявший в курсе закулисных переговоров, упомянутый N, — нужно было более податливое, более дружественное правительство, чем Правительство адм. Колчака. Земское правительство было бы, в сущности, самым подходящим для чешских целей... Вот откуда явился у чехов вообще, а у Гирсы и ген. Сырового в особенности интерес к работе иркутского Политического Центра. И появление «меморандума» должно было реабилитировать демократичность чешской политики в глазах этих социалистических групп. Такое объяснение появления «меморандума» дает Кроль. И оно правдоподобно, если не предполагать за кулисами более серьезного сговора46.
На чехов произвело впечатление, когда Иркутская Городская Дума 28 октября отклонила празднование годовщины Чехословацкой республики.
Гласный Половников предложил устроить чествование этой годовщины. Председатель (с.-д. Константинов, впоследствии большевик) резюмировал наступившее молчание как принятие к сведению этого предложения.
Половников. Как это принять к сведению?
Холодовский (с.-р.) высказывается против чествования, принимая во внимание спутанность отношений.
Самохин. Еще неизвестно, какую роль сыграют чехи. Их деятельность во многом противоречит социалистическим партиям...
Половников. Произошло освобождение народа от чужеземного ига. Если вы настоящие социалисты, а не показные, должны приветствовать.
Холодовский и Шульман. Выражая приветствие, нельзя умолчать, что чехи попали в лапы международного империализма.
Половников напоминает, что чехи освободили Иркутск. Погребицкий соглашается на приветствие чехам и выражение пожелания, чтобы они пошли по пути, начертанному социализмом. Голосуются две формулы. За формулу Погребицкого высказываются 13, за формулу «принять к сведению» — 23 [«Св. Кр», № 364].
Вместе с тем иркутский Комитет партии с.-р. в одной из своих прокламаций говорил об участии чехов в преступлениях, насилиях и грабежах [Гинс. II, с. 52].
Надо было реабилитироваться. Павлу, скептически относившийся к декларации иркутского Политического Центра, после напечатания меморандума сделал даже демонстративный визит председателю П. Центра Федоровичу [«Сиб. Огни», 1927, №5, с. 95]47
Для рядовой массы чехословацкого войска призыв к окончанию гражданской войны, как бы обеспечивавшему быстрый возврат на родину, конечно, был самым желательным выходом. Но «меморандум» наносил сильный удар престижу власти, давая не только морально оправдание иркутских заговорщиков, но и показывая обществу, что союзники спешили отречься от Омского правительства. Без этого, конечно, чехословацкое правительство не решилось бы открыто выступить с таким ответственным официальным документом. Меморандум подрывал авторитет власти и за границей: чехи, по словам Ллойд Джорджа, раскрыли Европе глаза своим меморандумом. Для нее он в значительной степени и предназначался.
Трудно гадать, как могло бы пойти дело в Сибири при иных комбинациях. Гражданская война давала не раз примеры возрождения армии, как феникса из пепла, и, казалось бы, невозможное становилось возможным. В ноябрьские дни власть государственная в Сибири еще существовала; отступающая армия, несмотря на неудачи, представляла реальную силу — в этот момент возможность сотрудничества с чехословаками не осуществилась главным образом в силу политических разногласий среди самих чехов и препятствий, которые оказывал ген. Жанен. Я не говорю о роли большинства русских левых политических группировок — они, по замечанию Будберга, забыли о борьбе с большевиками. Не совсем даже так — они готовы были идти против Колчака совместно с коммунистами.
* * *
Хотя текст «меморандума» и приведен в книге Гинса, я его повторю. Опять это слишком важный документ:
«Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает нас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав... В настоящий момент пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности, равно как и вследствие самых элементарных требований справедливости и гуманности. Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности, составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию.
Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела, и она-то есть причина того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей становимся соучастниками преступлений. Извещая об этом представителей союзных держав, мы считаем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались довести до всеобщего сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась чехословацкая армия и каковы причины этого.
Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны, которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого возвращения нам была предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили».
Меморандум — акт определенного политического действия. Исторической объективности искать в нем не приходится. Его «неправда» заключалась в том, что только Правительство делалось ответственным за все, что происходило в Сибири. Правительство, конечно, отвечало — формально отвечало и за все правонарушения, совершенные чехословацкими войсками. Подлинная правда требовала бы признания общей ответственности за ужасы гражданской войны. «Неправдой» было и то, что .пассивность чехословаков в смысле протестов против беззаконий гражданской войны являлась «прямым следствием принципа... невмешательства». Эту версию само по себе разрушало последнее обращение перед отъездом чехословацкого войска к населению Сибири; оно гласило: «Мы поддерживали Комитет У. С. и Сибирскую Областную Думу. Предложили Директории поддержку в тылу против элементов, работавших в духе реакции. Директория не хотела и не сумела использовать нашей поддержки. Своим протестом Нац. Совет отказался поддерживать Колчака... Нам говорят: мы охраняли Колчака. Неправда, мы передали Колчака Политическому Центру...»
Этим все сказано. И, конечно, был прав Кроль, заметивший: «Говорить серьезно о невмешательстве чехов в наши внутренние дела само собою нельзя было» [с. 199]. Но много раз мы указывали, что к этому вмешательству, вопреки всем теориям чешских политиков, приводила сама жизнь.
Меморандум соответствовал действительности в одном: чехословацкая армия находилась с самого начала в «морально-трагическом положении». В такое положение ее поставила союзническая политика. В одном из перлюстрированных чешских писем об этой политике сказано довольно зло: «Вместо лести лучше бы тысяча воинов. Здесь их горсточка достаточная, чтобы идти на бал». В морально-трагическое положение ставила чехословаков в Сибири и внутренняя чешская политика, не считавшаяся с российской реальной обстановкой. Отсюда вытекала с самого начала та изменчивость и шаткость, которые отметил еще ко дню Уфимского Совещания эсер Утгоф. Чехи в России были все-таки только иностранцами. Один из них сказал откровенно Утгофу: «Просто ничего не понимаем, что творится у вас». А те русские, которые сумели малоразбирающимся иностранцам представить дело так, что только в их лице представлена российская демократия, толкали чехов на вмешательство во внутренние русские дела в степени большей, чем этого неизбежно требовала жизнь. Они вмешивали их во внутреннюю политику, не только посылая в чехосл. Нац. Совет все свои протесты [напр., иркутское земство по поводу убийства Новоселова. — «Сибирь», № 67], но и непосредственно привлекая чехов к участию в политических действиях48.
«Морально-трагическое положение чехословаков осложнялось и их восприятием тогдашней действительности. Вновь одно из перлюстрированных писем подчеркивает внутреннюю драматичность этих переживаний: «Напрасны наши жертвы. Недальновидный несчастный народ снова возвращается к старому режиму».
Понять — простить! История оправдание найдет. Она будет справедливее современников и не возложит всю вину только на «белого адмирала». Те, которые были на его стороне, совершенно невольно воспринимали действительность так, как воспринимал ее Гинс: враги существовавшей власти создали себе как бы революционное подполье в чешских эшелонах. Им казалось, что Правительство совершало ошибку, доверяя чешскому нейтралитету [II, с. 519].
* * *
Гинс говорит по поводу опубликования меморандума 13 ноября: «Возмущению русских патриотов не было пределов». Кроль, конечно, оценил общественное настроение по-другому: «Меморандум был встречен широкими кругами, как отзвук их собственных чувств, независимо от источника их выявления, весьма сочувственно». Он растревожил осиное гнездо реакции — скажет сам «Чехослов. Дн.» [25 ноября, № 227]. Производит, однако, впечатление, что «осиное гнездо» отнеслось к меморандуму очень осторожно. Вот, напр., как реагировал на него иркутский «Св. Кр.» [№ 379]: «От чехов, живущих с нами бок о бок и прекрасно знающих те трагические условия, в которых протекает процесс восстановления нашего государства, мы вправе были бы ждать более чуткого и внимательного отношения к положительным и отрицательным явлениям этого процесса». И находившееся в Иркутске Правительство, и поддерживавшая его общественность понимали, что протест никогда не будет содействовать засыпанию образовавшегося рва. Приходилось держаться другой тактики.
Резко реагировал на меморандум Верховный правитель. Меморандум для него был незаслуженным ударом бича... Нервно-издерганный человек, не столько в силу своей экспансивности, сколько в силу естественного возмущения, по первому впечатлению послал Жанену, Ноксу и другим дипломатическим представителям составленную для него телеграмму:49
«...я ни в какой мере не могу рассматривать чешского меморандума, подписанного Павлу и Гирсой, как документ, имеющий отношение к чешскому правительству или даже к военному чешскому командованию, и рассматриваю этот меморандум как акт, за который персонально ответственны только именующие себя чешскими представителями Павлу и Гирса. Я не считаю нужным давать какой-либо ответ по существу этого меморандума, который оцениваю как поступок политического интриганства и шантажа со стороны лиц, его подписавших. Я не могу только не обратить внимания на связь этого меморандума с попыткой большевицкого восстания во Владивостоке и на характер его как стремление получить санкцию великих держав на вмешательство вооруженной силой в русские внутренние дела. Допуская возможность такого вмешательства, я заявляю, что малейшие шаги в этом смысле будут мною рассматриваться как враждебный акт, фактически оказывающий помощь большевикам, и я отвечу на него вооруженной силой и борьбой, не останавливаясь ни перед чем. Что же касается лиц, подписавших упомянутый меморандум, то мной отдано распоряжение Правительству о прекращении с ними всяких сношений и о представлении чешскому правительству отозвать этих лиц из России и, если угодно, прислать представителей, которые, по крайней мере, умели бы себя вести прилично» [Последние дни Колчаковщины. С. 114].
Между Иркутском, где находилось Правительство во главе с новым премьером Пепеляевым, и поездом Верховного правителя начался оживленный обмен мнениями, из которого прежде всего следует заключить, что сама телеграмма фактически не была еще пущена в ход50.
Эти переговоры (26—30 ноября) и приведены в сборнике «Последние дни Колчаковщины».
Возьмем разговор по прямому проводу (очевидно, 26-го):
Пепеляев. Полученные телеграммы приводят Совет министров в сомнение, что они действительно вами подписаны.
Колчак. Да, удивлен вашему запросу. Пепеляев. Необходимость требует, чтобы они немедленно были вычеркнуты из списков. Положение здесь критическое, если конфликт немедленно не будет улажен — переворот неминуем. Симпатии на стороне чехов. Общественность требует перемены правительства. Настроение напряженное. Ваш приезд в Иркутск пока крайне нежелателен, я слагаю с себя всякую ответственность.
Колчак. Вычеркнуть из списка телеграммы? — я этого сделать не могу. Я стою на своей точке зрения и такого отношения со стороны союзников ко мне и моему Правительству не потерплю. Я возрождаю Россию и, в противном случае, не остановлюсь ни перед чем, чтобы силой усмирить чехов, наших военнопленных. Я полагаюсь на вас, что с формированием нового кабинета сумеете устранить все препятствия к моему скорейшему приезду в Иркутск и сумеете восстановить связь и добрые отношения населения ко мне и моему Правительству, пригласив в кабинет некоторых видных деятелей из земств и кооперативов.
Пепеляев. Я этих телеграмм не принимаю и считаю их, по крайней мере, мной не полученными. Мне здесь на месте виднее, и осмеливаюсь вам заметить, что следовало меня запросить, прежде чем отсылать таковые телеграммы. Мне вверено вами Правительство, и я являюсь ответственным за все. Если В. п. другого мнения — я прошу о моей отставке.
Колчак. Я вас прошу остаться на месте51.
28-го Пепеляев вновь обращается к Верховному правителю:
«Последний раз делаю попытку, в. в. Ллойд Джордж нанес русскому делу тягчайшее оскорбление, но мы вынуждены терпеть, стиснув зубы. Поверьте, не стал бы тревожить вас, если бы находил какой-нибудь иной способ смягчить накопление вражды. Наличность этой телеграммы разрушает возможность оформить новый кабинет, хотя кандидаты на все посты уже есть, ибо все, к кому я обращался, считают ее гибелью всего национального дела, силы которого и так подорваны. Мы все понимаем побуждения, но мы обязаны хладнокровно подсчитать средства. Ведь что у нас осталось? Вы принимаете меры во имя чести и достоинства России. История наша свято чтит память также и тех собирателей Руси, которые умели терпеть обиды во имя сбережения сил. История поймет нас. Мы бы вышли морально победителями, если бы протест был написан в другом тоне. Этого нельзя достигнуть взаимным раздражением. Я не буду больше утруждать вас и в зависимости от ответа приму решение».
Колчак, оторванный от своего Правительства, не знал, что меморандум был не всеми одобрен и в чешской среде. Во всяком случае, Третьякову, как заместителю председателя, было представлено разъяснение, смягчавшее резкость документа52.
Узнав об этом, 30-го Верховный правитель телеграфировал:
«Вследствие сделанного Третьякову заявления по поводу чешского меморандума, я приостанавливаю мой протест со всеми вытекающими отсюда последствиями. Усматривая в документе, предъявленном Гирсой, чувства искреннего пожелания содействовать нам в нашей тяжелой борьбе за будущность России и славянства, считаю крайне желательным привлечь внимание чешских представителей на необходимость приостановить и с их стороны передачу их меморандума кабинетам, что, несомненно, даст прочную почву для содружественной нашей работы».
Примечания к первой главе :
1 Якушев неправильно утверждает, что все партии вынуждены были уйти в подполье [«Вольн. Сиб.». VI, с. 73].
2 Описание поезда, небезынтересное в бытовом отношении, — можно найти у Солодовникова.
3 В указателе литературы воспоминания эти фигурируют уже под именем Яковлева. Имеются все основания думать, что автор их действительно бывший управляющий Иркутской губ.
4 Колосов добавляет: теперь этот офицер коммунист. Надо думать, что речь идет именно о Калашникове.
5 В Иркутске, по-видимому, Гайда «примирился» с чешским штабом.
6 Характерно, что Якушев в «введении к материалам», опубликованным в «Вольн. Сиб.» [VI], лишь мимоходом обмолвился об иркутском бюро и нелегальном съезде.
7 Они были «ознакомлены» и путем личных бесед.
8 Характерна отметка шведа Эссена [«Zwischen der Ostsee und dem Stillen Ozean». P 100]: «Было известно, что Гайда принял официально программу соц.-рев.; это значит, что он стремился к ликвидации гражданской войны, пытался заключить мир с Советским правительством».
9 Телеграмма представителя мин. ин. дел во Владивостоке Куренкова на имя Сукина сообщала, что союзные представители «встретили манифест (адм. Колчака) с полным удовлетворением, усматривая в нем надежду на примирение Правительства с оппозиционными элементами... Особенно горячо приветствует манифест Моросс, который просил меня передать... что он в «восторге» от этого мудрого шага Верховного правителя. Один д-р Гирса настроен пессимистически, считая, что манифест уже запоздал...». «Что же касается до политической атмосферы, — добавлял Куренков, — то таковая едва ли разрядится, так как эсеры не отказались относительно своих поползновений, еще не убедившись в искренности побуждений Верховного правителя» [«Сиб. Арх.». II, с. 79]. Последний мотив, конечно, никакой роли не играл. Эсеры делали ставку на переворот.
10 Якушев со своей стороны приписывает: «Ваше присутствие здесь крайне необходимо. Это же думает ген. Гайда».
11 Это не помешало Якушеву в упомянутом «циркуляре» записать Болдырева в число «друзей», при содействии которых можно будет изменить линию поведения Японии.
12 «Несмотря на вполне благоприятные заявления со стороны главы дипломатической миссии Мацудайро и высокого комиссара Като, — писал Якушев, — я продолжаю с большой осторожностью расценивать их заявления». Тут и возникали надежды на влияние Болдырева в кругах японского командования, склонного подчас идти в разрез с дипломатическими заявлениями.
13 Якушев мнение «господина де Мартеля» передает в несколько смягченной форме: «Уезжая к себе во Францию, он находил переворот нежелательным потому, что удобный момент упущен, так как наступление большевиков приостановлено».
14 13 сент. Клемм из Владивостока телеграфировал, что имел объяснения с представителями Антанты по поводу заговора, из которых понял, что они отнесутся если и не поощрительно, то совершенно нейтрально к этому перевороту [Какурин. II, с. 354]. Пепеляев передает, что Нокс получил от Черчилля инструкцию поддерживать исключительно Верховного правителя (22 сент.).
15 В Ставке, по словам Будберга, ничего не знали о заговоре.
16 Иркутское земство, между прочим, демонстративно 3 октября приветствовало Гайду — «молодого вождя славянства, освободителя Сибири [«Сибирь», № 66].
17 Может быть, здесь играло роль и охлаждение между Гайдой и местными с.-р. и сознание, что центр событий уже не во Владивостоке.
18 Большевицкие историки подчас уже забывают о тех версиях, которые ими же давались, и Парфенов в новой своей работе [На Дальн. В.] уже определенно говорит, что выступление Гайды было поддержано Далькомпартией [с. 107].
19 Намек у Солодовникова о каком-то проекте Медведева, сорванном Краковецким, явившимся в Думу с десятью вооруженными членами боевой организации. Упоминается в новой «интриге» имя Вис. Гуревича [с. 39].
20 Семенов, передавая телеграмму в Омск через своего представителя, полковника Сыробоярского, просил «доверия и помощи». Гинс говорит, что в конце октября в Омск вернулся из командировки его помощник Бутов, который несколько раз подробно беседовал и с Семеновым и вынес впечатление, что атаман искренне покончил с «дурными пережитками...» [II, с. 398].
21 Гинс указывает, что Розанов держал себя вызывающе по отношению к центральной власти, предъявляя министерству ультиматумы, нарушая установленные Советом министров правила и т. д. [II, с. 400—401]. Характеристика политической деятельности Розанова отчасти была дана прибывшим в Омск комендантом Владивостока Бутенко. Надо иметь в виду, что, по утверждению Солодовникова, Бутенко сам был замешан в заговоре, но, очевидно, тоже испугался направления, которое приняла деятельность вагона № 119 в поезде Гайды.
22 Имеются данные, указывающие, что союзным командованием было принято решение разоружить ту сторону, которая выступит первой. Следовательно, Розанов не мог покончить с заговорщиками по собственной инициативе.
23 Сам Гайда впоследствии в интервью в «Гайд-пресс» исчислял жертвы своего отряда в 500 чел. Один из военных друзей Лази писал 27 ноября, что в первый день было расстреляно 500 чел. Расстрелы продолжались. Странным кажется молчание союзников во Владивостоке, так часто вмешивавшихся не в свое дело [Лази. С. 237].
24 Сказался антагонизм японцев и американцев. Недаром Гайда в беседе с Колосовым в июле указывал на необходимость привязать гири к японским дивизиям — это могли быть, по его мнению, лишь американские броненосцы.
25 Упомянутый друг Лази писал уже о временном правительстве соц.-рев.
26 Солодовников рассказывает, что Гайда в соответствии со своими вкусами был очень увлечен разработкой формы одежды будущей армии.
27 Я беру его шанхайское интервью, представляющееся мне более верным источником, чем его «воспоминания».
28 По словам довольно осведомленного «Славянофила», полк. Томилин не подчинился приказу Розанова [Чешские аргонавты в Сибири. Токио, 1921, с. 17]. Я не нашел данных, подтверждающих сообщение «Pour la Russie», что японцы в это время специально освещали вокзал прожекторами.
29 О панике говорит и Солодовников: «Обезумевшие люди стреляли друг в друга».
30 Я допускаю, что в связи с появившимся 13 ноября «меморандумом», который, по словам Гайды, наилучшим образом говорил о симпатиях чехословаков (Гайда об этом упоминает в связи с характеристикой отношения союзников к подготовке переворота), кое-кто мог использовать имя д-ра Гирсы. В Сибири это бывало.
31 О том, какую роль могли здесь играть чехословаки, см. ниже.
32 Активное участие чехов подчеркивалось еще в сентябрьском заседании Совета министров. На чехов, очевидно, рассчитывали восставшие. Воззвание к «братьям-чехословакам», выпущенное «бюро военных организаций», заканчивалось словами: «Нам важно и дорого, чтобы ваше сочувствие было на нашей стороне, чтобы вы при малейшей к тому для вас возможности помогли нам в этом многотрудном и тяжелом деле» [«Вольн. Сиб.». V, с. 97].
33 Рус. Бюро печ. (Владив. отдел), № 292.
34 Все это мы узнаем в передаче Солодовникова. Гайда молчит в своих мемуарах. Очевидно, обещание не выступать было дано после неудачной сентябрьской попытки, как, в свою очередь, и подтвердил мне ген. Розанов.
35 Гайда считал это увольнение (распоряжением Верховного правителя и постановлением Совета министров) «незаконным» (?!) и заявил во владивостокской печати, что союзники не признают этого увольнения и что он сам не уедет, пока не получит удовлетворения (?!). В письме 5 ноября к французскому консулу Буржуа, уведомившему Гайду о распоряжении министра Пишона французским властям оказать все почести, соответствующие положению Гайды, в случае согласия покинуть Сибирь, Гайда более театрально мотивировал свой отказ выехать: ему невозможно покинуть Сибирь, пока там находятся чехословацкие солдаты. Когда они уедут, уедет и он: «Покинуть Сибирь — это отдых для меня; оставаться — долг» [Лази. С. 200].
36 Автор статьи не знал, что Розанов был прислан в Сибирь от военной московской организации при «Нац. Центре» (через посредство Н. Н. Щепкина).
37 Открещиваться целиком от восстания нельзя было, ибо партийная печать в свое время слишком ангажировалась: о «трагедии» революционного движения во Владивостоке писала «Pour la Russie» [№ 5, 20 ноября 1919 г.]; протестовала против «вмешательств» союзников во владивостокские события, когда население восстало против Колчака, и « La Rep. Russie» [№ 17, 19 дек.]. Та же «Pour la Russie» позднее сообщала сведения, конечно совершенно фантастические, что в восстании участвовала «группа Белоруссова, сделавшаяся непримиримым врагом Колчака» [№ 17, 21 февр. 1921 г.].
38 Этот рапорт напечатан в сб. «Посл. дни Колчака» [с. 54— 55]. Вероятно, он относится к той серии донесений тайных агентов, о которой приходилось упоминать. Моринс — очевидно, Марино.
39 По словам Сукина, защиту Омска отстаивали также Каппель и Войцеховский.
40 В «истории» Драгомирецкого дело изображается так: до первых чисел ноября продолжались попытки установить «добрые отношения с адмиралом, но когда между членами Правительства очутились некоторые уже, не партийные люди, а просто неуравновешенные и легкомысленные типы, когда они своими действиями стали восстанавливать все слои населения» и т. д. — тогда уполномоченные правительства Чехосл. Республики, «не имея возможности иначе реагировать на все эти ужасы», обратились к союзникам за советом и помощью [с. 145]. Все это, как видим, мало соответствует действительности.
41 Об этой травле склонны были говорить и сами чехи. Так, «Чехосл. Дн.» [3 декабря 1918 г., № 245] писал в статье, озаглавленной «Отечественные Ведомости»: «Если мы теперь на страницах «Отеч. Вед.» встречаемся со скрытой и открытой критикой, иногда и с враждебностью к себе, то в этом видим только лишь признак перемены взглядов и настроений в определенной части русской общественности, которая отдохнула от большевицких ужасов и хочет уже устраиваться по-своему, открыто признавая, что мы ей, напр., уже начинаем мешать, даже простым своим присутствием, хотя и занимаем положение союзников и стоим часто вне всяких русских политических партий.
...Право свободной критики в границах союзнических отношений само собой должно быть признано за русской печатью. Наоборот, когда в первые месяцы нашего вступления в Сибирь мы читали постоянно дешевые хвалебные гимны нам — освободителям и спасителям России, нам было как-то неловко и мы желали бы тогда больше уверенности и критицизма в отношении к себе. Мы не артисты, которым нужны во что бы то ни стало аплодисменты. Теперь же мы дождались того, что печать и как раз тех кругов, которые большевиками были больше всего угнетены, которые для освобождения своего меньше сделали, начинает нас не критиковать, а нападать несправедливо, утверждая фактическую неправду. Но мы остались спокойны при гимнах, презираем и неправду. Но мы этого не забудем».
Я не нашел в «Отеч. Вед.» такой «травли». Лишь обостренное чувство могло так воспринимать критику. Не только «Отеч. Вед.», но и более «правый» орган, «Сиб. Речь» Жардецкого, был далек от «травли», иначе было бы слишком нелогично призывать, напр., на своих страницах сибиряков к учреждению стипендий в честь чехословаков (1 января).
42 «Чехи недовольны исключением Гайды», — записывает Пепеляев.
43 Эти требования или условия в разговоре приведены укороченно по сравнению с передачей сути их Гинсом. Между прочим, разговор по прямому проводу помещен и в книге Финка «Вііу admiräl» [с. 156—157], причем выпущены (без отметки этого в тексте) весьма существенные пункты — там нет никакого намека об условиях. Солодовников не указывает, откуда он заимствовал свой текст. Приходится предположить, что или один автор добавил от себя (что маловероятно), или другой сознательно убавил. Не имея подлинника, невозможно проверить. Это служит наглядной иллюстрацией необходимости критической еще проверки материалов, приводимых мемуаристами.
44 В иллюстрированном чехословацком журнале «Качели» помещались карикатуры на эвакуацию через восток. Напр., одна из них представляла три картины. Первая — 1880 г. Сибирскую магистраль строят каторжане в колодках. Вторая — 1921 г. Сибирскую магистраль охраняют чехословаки, закутанные от холода, с колодками, на которых написано: «Союзники», на ногах. Третья — 1977 г. Берег Тихого океана. На берегу стоит глубокий старик в чехословацкой форме, на голове у него выросли грибы, сам он оброс мхом. Это последний чехословак ждет, когда ему подадут пароход союзники [Кожевников С. Конец борьбы с чехословаками. — Борьба за Урал. С. 339].
45 5 ноября телеграмма из Парижа в «Народных Листах» сообщала уже о решении главного командования чехословацкой армии возвращаться на родину сухопутным путем и через Урал достигнуть юга России [ Солодовников. С. 22; Финк. С. 138].
В записках Сукина, между прочим, приводится отзыв «поверенного» Омского правительства в Праге. Он телеграфировал: «На мои настояния побудить сибирские легионы пробиться в Поволжье през. Масарик дал мне отрицательный ответ. По его сведениям, легионы деморализованы и больше не хотят сражаться. Через месяц в Сибирь поедет миссия Клофача, чтобы бороться с деморализацией. Сам же президент больше брать на себя ответственность за раскол в войске, в случае призыва пробиваться, не желает, новые жертвы считает невозможными без подготовок обеспечения легионам снабжения по пути на юг. Здешние социалисты против участия в сибирской борьбе.
46 Некоторые намеки мы находим в другой книге Финка, «Mezi mohylami», в главе «В период подготовки» [с. 184—190]. Как всегда, у автора изложение неотчетливо, и правда с вымыслом переплетаются между собой. По словам Финка, члены Сибкомуча в Иркутске прежде всего обратились к местному политическому представителю чехословацкого войска — к д-ру Благошу. Последний категорически ответил, что чехи не допустят формирования оппозиционного правительства и подавят в самом зародыше попытку восстания. Такова была официальная позиция. Но солдаты горели желанием свергнуть «иго самозванной олигархии»; нарождавшимися событиями были захвачены и «некоторые члены посольства». Через д-ра Г., который имел возможность «каждый день видеть, что делается на черной кухне заговорщиков», эсеры установили правильную связь с чехословацким войском (в половине октября). Одним из «деятельных посредников» был И. Давид, систематически посещавший «конспиративные квартиры заговорщиков» и устроивший двум из них (Маркову и Сперанскому) свидания с «вождем посольства» д-ром Крейчи. Результат беседы будто был такой: Крейчи указал, что чехи будут сочувствовать восстанию, если во главе его встанет владивостокская группа. Эту дальневосточную «фирму» усиленно рекомендовал д-р Гирса — по его мнению, якобы важно было, чтобы, «когда часы пробьют двенадцать», во главе восставших войск стоял чех (т. е., очевидно, Гайда). Между тем иркутские эсеры не доверяли владивостокской группе. Самостоятельные же действия иркутских эсеров, заподозреваемых в сочувствии большевикам, значительно расходились с планами чехословацкой политики. Наконец, при содействии чехов было достигнуто соглашение в русском социалистическом лагере, и «отточенный меч», который должен был разрубить гордиев узел, был вручен Калашникову. Финк отмечает, что между чехами и русскими установилась «удивительная связанность», которая выражалась, между прочим, в том, что в поездах перевозилась нелегальная литература — не было санитарного поезда, который не развозил бы этой «бациллы революции».
47 Производит впечатление, что д-р Павлу делает эти шаги как бы вынужденно, подчиняясь распоряжению Правительства. В письме его из Иркутска омскому представителю чехословаков 7 ноября имеются, напр., такие не совсем ясные строки: «...оставайся в Омске как только можешь дольше. Но держи себя пассивно. Знаю, что это нравственное наказание и что ты его не заслужил. Однако мы должны подчиниться и в этом смысле действовать. В такие моменты нужно чашу выпить до дна»... [Fink. Ор. cit. Р. 159].
48 Получалось большое несоответствие между догмой и политикой. До чего, напр., характерно постановление рабочей конференции Омска в июне 1918 г.: «Передать все караулы в местах заключения и производство арестов чехословакам» [«Заря», № 12].
49 Я беру лишь конец телеграммы. Вначале повторяется известный нам протест Правительства против деятельности Гайды и Гирсы и требование отозвания их из Сибири, телеграмма отвечала, что чехословацкое правительство не сочло даже нужным осведомить русское правительство о функциях и полномочиях д-ра Гирсы на русской территории: чехами ведь ведал французский ген. Жанен.
50 Кроль говорит, что будто бы Жанен ввиду недопустимости тона телеграммы отказался ее передать. Но телеграмма была адресована вовсе не одному Жанену. Ясно, что передавалась она через правительственный аппарат.
51 В предшествовавшей разговору телеграмме Пепеляев отмечал, что он бы высказался за протест, но не в таких выражениях, не принятых в международных отношениях... Пепеляев указывает, что ему с большими усилиями удалось было сменить активно-враждебное к власти отношение чехов выжидательным. «Теперь мне нанесен удар этой телеграммой. Сегодня ко мне явился доктор Благош и официально спросил, ссылаясь на телеграмму, заявляю ли я о разрыве сношений».
52 Майор Кошек заявил Гинсу, что меморандум был составлен «для спасения Правительства, чтобы успокоить железнодорожных рабочих, предполагавших забастовать» [II, с. 530].
ГЛАВА ВТОРАЯ Крушение власти
1. Реорганизация Правительства
Надо вернуться к дням, предшествовавшим эвакуации Омска. 22 октября Верховный правитель «изложил обстановку, которую считал грозной» [запись Пепеляева]. В минуту опасности начинаются особенно усиленно разговоры о необходимости изменения состава Правительства — в этих переменах ищут панацею от зла. «В городе опять толки о смене председателя Совета министров. Кандидатами считаются Третьяков и я», — записывает Пепеляев 20-го. Изменение состава министров могло быть целесообразным лишь в том случае, если новый кабинет удовлетворил бы оппозиционные элементы. Найти пути сближения с земцами и чехами и пытается Пепеляев. Для осуществления этой задачи он намерен ехать в Иркутск. Колчак его торопит. «Правитель чего-то ждет от моей поездки особенного», — гласит последняя запись той части дневника Пепеляева, которая опубликована в «Кр. Архиве».
Почему за эти переговоры взялся Пепеляев, имя которого, по мнению JI. Кроля, было в Сибири «синонимом реакции»? Очевидно, играли роль связи с братом Анатолием. Популярность генерала в левых кругах поддерживала и авторитет министра вн. дел.
Кроме того, надо иметь в виду, что характеристика Кроля — характеристика, данная однопартийцем, очевидно, тенденциозна. Автор воспоминаний в «Сиб. Огнях», принадлежавший к социалистическому лагерю, дает несколько иной портрет Пепеляева: «Честолюбив, упрям и настойчив; значительный запас самомнения и негибкий, примитивный ум; безусловно, не монархист, демократ, но республиканец сомнительный; много доверия к старой бюрократии; полное недоверие и враждебное отношение к социалистам за их негосударственность; и храбр, и безукоризненно честен» [с. 83].
В намеченное время Пепеляеву выехать не удалось. В Иркутск он попал уже после омской эвакуации.
16 ноября Совет министров прибыл в «сибирские Афины». Он попал сразу во враждебную обстановку, среди которой и должен был осуществлять «демократизацию» правительственного курса. На первом же заседании Совета выступил с информацией управляющий губернией Яковлев. Его речь довольно полно приводится в воспоминаниях N1:
«Мы в полосе заговоров... Если не выступают иркутские большевики, то только потому, что они уверены в скором прибытии большевиков с запада... Эсеры не выступают, да и не выступят одиноко, потому что одни они, несмотря на обычную шумиху, бессильны сделать что-либо. Но опасны они тем, что... могут войти в соглашение с чехами... А чехи признают... всякую группу, которая создаст демократическое правительство внутреннего мира и порядка...
Между тем кольцо восстаний, окружающих Красноярск и Иркутск, становится с каждым днем все теснее и у Правительства нет сил бороться... Настроение военных, правительственных служащих паническое: настроение обывателя таково, что кто бы ни поднял восстание, оно будет иметь успех... «Доклад произвел на всех тяжелое впечатление — некоторое время все молчали. «Что же надо сделать? — спросил докладчика Вологодский. — Необходимо отречение Верховного правителя, смена его Правительства и высшего военного командования; переход от военного к гражданскому управлению страной в рамках не всероссийских, а только сибирских и, наконец, созыв Земского Собора». Совет министров заволновался... Опять все говорили о мелочах в то время, когда каждый сознавал, что поставлен... вопрос о бытии самого Правительства. И только Пепеляев заявил, что Яковлев изложил, конечно, программу максимума, но что часть ее может... быть выполнена, и это примирит Правительство, сознающее и исправляющее свои ошибки, с обществом. Но и он конкретных предложений не сделал, и снова Совет разошелся, не вынеся никакого решения» [с. 81—82].
Гинс своей инициативе приписывает последовавшее вскоре затем назначение Пепеляева министром-председателем Правительства Спасения. Он, как управляющий делами, послал 19 или 20 ноября Верховному правителю большую телеграмму с характеристикой положения. Но аналогичную телеграмму послал и Вологодский с указанием на необходимость приглашения в состав министров «представителей общественных течений». 21-го Вологодский говорит с Верховным по прямому проводу. Его «правдивое слово» о демократическом переустройстве власти довольно резко. Производит действительно впечатление, что он как бы повторяет чьи-то чужие слова и ломится в открытую дверь!
«...Позвольте в этот грозный и ответственный момент ставить вопрос прямо. Нужен вам Совет министров или не нужен? Если да, то дайте ему полную возможность быть действительно властью, которая, опираясь на широкие общественные круги, вывела бы страну из создавшегося тяжелого положения. Пусть военные делают свое военное дело и не вмешиваются в сферу гражданского управления. Довольно обвинять только тыл, нужно оздоровить и фронт. Вы должны властно разрушить то средостение, которое на гибель общего дела создано происками честолюбцев и интриганов между вами и Советом министров, вручившим вам год тому назад осуществление верховной власти... В частности, в отношении себя... теперь более, чем когда-либо, я чувствую слабость своих сил руководить деятельностью Совета министров». Верховный правитель, подчеркивая свое согласие с положениями Гинса, так как «они были уже обдуманы в Омске», отвечает: «Я считаю необходимым призвать на пост председателя... В. Н. Пепеляева и ему поручить составить солидарный кабинет. Я считаю совершенно необходимым существование Совмина и не мыслю без него управления страной, ввиду тяжелого положения армии и необходимости связать ее потребности с управлением государства» [Последние дни Колчаковщины. С. 129].
В цитируемом сборнике имеются и заметки самого Пепеляева о формировании нового кабинета, заимствованные из его записной тетради:
1. Совет министров, согласно конституции 18 ноября, есть орган законодательный... Отсюда ясно следует, что он один ведает вопросами внешней и внутренней политики...
2... Необходимо немедленно призвать на ответственный пост командующего армией человека, пользующегося доверием страны... Таковым могу назвать лишь одно лицо, именно М. К. Дитерихса.
3. В[аше] В[ысокпр.] должны находиться там, где Совмин, т. е. в г. Иркутске.
4. Совет министров должен знать, что происходит в армии.
5. Генерал..., позорно сдавший Омск без боя, должен быть... предан военному суду.
6. Господа министры..., приведшие страну к краху, а теперь жаждущие... уехать за границу, не могут быть отпущены. Они должны или предстать перед судом народной совести, или продолжать работу на низших ступенях госуд. службы... или поступить в действующую армию.
7. Деятельность... Михайлова, погубившего русский рубль, Сукина, окончательно запутавшего наше международное положение... Неклютина, погубившего дело снабжения нашей армии и развившего правительственный грабеж в стране, должна быть гласно выявлена... путем назначения над этими лицами судебного следствия.
8. Наша внешняя политика должна иметь... совершенно определенную программу, каковая совершенно ясно вытекает из международного положения.
9. Взаимоотношения... Гойера и Р[ус.] Аз.[банка] должны быть ясно выявлены порядком судебного следствия.
10. Программа Правительства — борьба с большевизмом, отметая все, что идет на соглашение с мировым злом, как справа, так и слева.
11. Гинс должен быть уволен [Последние дни Колчаковщины. С. 130-131].
Очень интересен разговор Пепеляева по прямому проводу с адмиралом. Пепеляев говорит об «общей ненависти к нынешней уродливой двоевластной системе внутреннего управления тылом».
«Я совершенно не закрываю глаза, — отвечает Колчак, — ибо мне лучше, чем кому-либо, известна вся тяжесть настоящего положения. Основной причиной неудовлетворительности внутреннего управления является беззаконная деятельность низших агентов власти, как военных, так и гражданских. Деятельность начальников уездной милиции, отрядов особого назначения... представляет собой сплошное преступление. Все это усугубляется деятельностью военных частей польских и чешских, ничего не признающих и стоящих вне всякого закона. Приходится иметь дело с глубоко развращенным контингентом служащих... Такова среда, в которой приходится работать, но эту работу продолжать необходимо...»
Пепеляев намечает «основы» будущей деятельности:
«1. Верховный правитель управляет страной через назначенных им министров, командование — воюет. 2. Необходимо проникновение в народ, сближение с оппозицией, объединение здоровых сил страны. 3. Отказ от исключительно военной системы управления страной, поддержка широкого добровольческого движения, решительное выступление на путь законности... 4. Расширение прав Государственного Земского совещания. 5. Попытка сближения с чехами».
У Верховного правителя остаются «две неясности»: какое расширение прав Земского Совещания Пепеляев считает необходимым и какие пути сближения с чехами существуют?
«Чехи сами не желают этого сближения, и вопрос об их уходе уже решенный в этом смысле... Я был сторонником всегда содружеской работы с чехами и поляками, но признал, что деятельность чехов отшатнула от них армию... Я обращаю ваше особое внимание на более тесное сближение с... польским правительством. Поляки желают помочь нам... и не прикрываются никакими демократическими лозунгами, чтобы оправдать свое нежелание драться — желание, правда, вполне законное, понятное».
Пепеляев разъясняет, что расширение прав Гос. Зем. Совещания он мыслит себе «пока как возможность эволюции его в законодательное учреждение», но ставит это «сейчас в запасе, не выдвигая на первую очередь...». По этому поводу Колчак замечает: «Вопрос о расширении прав Земского Совещания в принципе не вызывает возражения, но практически я не могу сказать, к чему приведут выборы...» Беседа заканчивается полным как будто бы соглашением [Последние дни Колчаковщины. С. 132—135].
Приведенные переговоры служат лучшим ответом на обвинение Верховного правителя в том, что он будто бы тормозил всякую «демократизацию» власти. Больших надежд на эти реформы Колчак не возлагал. Но неужели он был не прав в этом отношении? Пепеляев носился с утопиями. Колчак реалистичнее оценивал ход событий.
* * *
Пепеляев сделался премьером. Первой трудной задачей для нового премьера являлось устранение конфликта с чехами. Гирса «заверил» Пепеляева, что против нового Правительства «никаких выступлений чехи не допустят»2. Далее предстояло решить задачу примирения с иркутской общественностью.
«С этой целью в кабинете Яковлева, — рассказывает N, — сошлись совершенно негласно В. Н. Пепеляев и эсеры Я. Н. Ходукин и Е. Е. Колосов. Никому не известны подробности этого разговора, но собеседники, проговорив более двух часов, вышли из кабинета дружно и довольно беседуя друг с другом, а Пепеляев просил Яковлева на следующий день, тоже негласно, созвать для собеседования с ним представителей социалистических и общественных организаций. Позднее Колосов говорил, что Пепеляев, изложив свою программу и выслушав возражения собеседников, предложил обоим войти во вновь формировавшийся кабинет, на что ни тот, ни другой не дали определенного ответа, так как предложение было неожиданно, а им неизвестно было мнение их товарищей. На другой день в столовой Яковлева за чаем и закусками собрались представители эсеров, эсдэков, энэсов, Земства, Городской Думы, кооперации, профессиональных союзов; присутствовал Колосов и покойный М. Н. Богданов как представитель бурят и забайкальского земства.
— Я не могу, — говорил Пепеляев, — принять лозунг: «Долой гражданскую войну», ибо это значит мир с большевиками, а я формирую Правительство борьбы с ними; я не могу согласиться на отрешение адм. Колчака от звания Верховного правителя, ибо нам, хотя бы для иностранцев, нужен символ государственного единства России, и адмирал есть этот символ, носитель этой идеи. Я могу рекомендовать ему уехать к Деникину, на юг России, если его имя стало так одиозно, но и только. Я говорил уже по проводу с братом и обещаю, что высшее военное командование будет заменено новыми честными и способными людьми; я готов в состав правительства ввести лиц, которых вы мне укажете. Я твердо решил ликвидировать военный режим и перейти к новому гражданскому управлению. Я добьюсь признания законодательных прав Земского Совещания и превращения его в Земский Собор... Я отлично вижу ошибки прошлого; честно хочу их исправить и избегнуть в дальнейшем. Иду вам навстречу с открытой душой и прошу вашей помощи в трудной работе.
В оживленном обмене мнениями, последовавшем за этой декларацией, не было ни возражений, ни даже дополнений; даже разногласие о гражданском мире и войне осталось как-то в стороне, не было и намека на то, что гости собрались с готовым решением, продиктованным партийным комитетом. Был момент, когда казалось, что падет завеса взаимного недоверия и непонимания и в этой столовой произойдет бескровный переворот. Но задания были даны. Правительство Пепеляева решено было изолировать, и Колосов разрубил иллюзию сближения.
— Для того чтобы общество поверило новому Правительству, — сказал он, как бы резюмируя беседу, — нужно устранить всех виновных в создании диктатуры и ее ужасов, и прежде всего одного человека.
— Кого же именно? — простодушно спросил Пепеляев.
— Вас, Виктор Николаевич, — отрезал Колосов.
Что-то надорвалось...
Соглашение оказалось невозможным, и призрак нового кровопролития придвинулся ближе» [«Сиб. Огни», № 83-84].
В период формирования нового кабинета3 «революционная демократия» решила устроить Правительству открытую демонстрацию. 26 ноября состоялось заседание Городской Думы по вопросу о текущем моменте — это было первое публичное выступление Политцентра. На него пригласили весь «консульский корпус». Половина иностранных представителей явилась, по выражению Крейчи, на «манифестацию противоправительственных течений»4 и выслушала речи Константинова, Гольдберга и Колосова. «Правительство лишний раз могло увидеть, — добавляет N», — что социалистическое крыло иркутской демократии стремится к его свержению, а не к соглашению с ним».
Не отставал от социалистического крыла и противник социализма JI. Кроль. 8 декабря возобновились заседания Экономия. Совещания. Открывавший его заместитель председателя Совета министров Третьяков счел уместным выступить с критикой прошлого омской власти, которая-де ориентировалась на карательные отряды и не умела прислушиваться к нуждам народа. Ему аплодировали «левые», и критиковали «правые», считая такое выступление «безответственным митингованием». «Бледная» декларация Третьякова была сильной в этой критической части. Последнюю охотно развил Кроль. Всячески «смягчая» свою речь, Кроль говорил о том, что Правительство, «когда ему становилось туго», прибегало к «частным совещаниям» членов Экон. Совещ. по политическим вопросам (в действительности, скорее, было как раз наоборот). Но «стоило хоть чуть-чуть улучшиться положению», Правительство «старалось обойтись без этого плохенького суррогата народного представительства».
«Нашим требованием созыва действительного народного представительства, — продолжал Кроль, — пренебрегли. Если бы перед нами выступил старый Совет министров, я бы ему ответил: вы не имеете права выступать перед нами по политическим вопросам и мне с вами говорить не о чем». «Правительство не должно опираться на штыки, ненавистные населению!» — воскликнул оратор. Он «верил», конечно, в «искренность Правительства», но не был убежден в его реальной силе для проведения новой программы [Кроль. С. 200].
Было море критики в эти дни — море хороших слов о водворении законности, о подчинении военной власти гражданской в делах управления, о немедленном созыве народного представительства: Земский Собор станет источником объединения всей России и установления гражданского мира [тел. Р. Т. Аг. 12 декабря]. Все как будто бы соглашались на созыв Земского Собора — в нем спасение: власть должна быть ответственна перед народом. В действительности происходил кавардак.
В городах и уездах шли уже выборы в Госуд. Земское Совещание, положение о котором было утверждено Верховным правителем и выборы в который должны были закончиться не позже 1 января. «Левые» эти выборы бойкотировали. В Иркутске земцы, «долго и честно» поддерживавшие Омское правительство, разрабатывали свое положение о выборах в Земский Собор. Созвать его должна была какая-то новая власть. И действительно, теряла смысл та «левая политика», которую пытался проводить новый состав министров5. «Левые», по выражению «Св. Края», «с миной оскорбленной добродетели отворачивались в сторону» [№ 388], и их мало уже интересовало осуществление проектов Пепеляева о демократизации власти и о предоставлении Гос. Земск. Совещанию законодательных прав. «Долой Правительство», — говорило каждое их слово и каждое их действие.
2. У Верховного правителя
8 декабря Пепеляев выехал из Иркутска для переговоров с Верховным правителем.
Когда видишь Колчака в эти сумбурные дни, невольно поражаешься, до чего люди могут быть несправедливы.
Удивительное спокойствие отмечает Верховного правителя по сравнению с истерикой, которая подчас охватывала его министров. С редким хладнокровием и достоинством отвечает он даже на глубоко оскорбительные по форме требования. У него не видно дряблой растерянности в тяжелый момент, и он как бы стоит над мятущейся толпой.
Вопреки настойчивости Совета министров, Колчак хотел быть с армией и разделять ее судьбу. Скоро, однако, он от нее отделился и поехал вперед с золотым запасом — по-видимому, в значительной степени под влиянием телеграммы Нокса (так рассказывал мне Гинс): для будущего надо было спасти золото, хотя бы ценою собственной гибели. Началась тяжелая страда для Верховного правителя и его восьми «эшелонов».
Эвакуирующиеся из Омска войска и беженцы очень скоро соприкоснулись с лихорадочно двигающимися на восток чехословаками. В распоряжении последних фактически была сибирская магистраль. Чехословаки двигались, не считаясь с распоряжениями ни железнодорожной администрации, ни русских военных властей6. На этой почве происходили столкновения, еще больше обострявшие взаимные отношения. Колчак обвинял чехов в расстройстве движения, которое внесло еще больший сумбур в эвакуацию, дезорганизовало окончательно отступление армии и поставило под угрозу гибели многочисленные транспорты беженцев, санитарные поезда с ранеными и больными. Все попытки добиться соглашения для регулирования движения не достигли цели и приводили лишь к взаимному озлоблению. 28 ноября главноком. Сахаров из Новониколаевска, ссылаясь на заявление начальника Томской ж.-д. линии, обращается к иностранному командованию с указанием на то, что «вмешательство чешских войск опрокинуло все расчеты...». Когда паровозы забираются принудительным порядком и угрозами, невозможна планомерная работа. Указывая на то, что чешские поезда забивают крупные распределительные станции, Сахаров заканчивает:
«Спасти положение еще можно, если чешские войска будут отправляться в числе трех эшелонов в сутки с каждой распределительной станции и будут подчиняться требованиям ж.-дор. администрации»7.
«Плохо было то, что в официальной бумаге заключалась угроза: "Видя перед собою верную гибель, нам не остается ничего, как решиться на последнее средство, которое я здесь не называю"» [ Субботовский. С. 209].
21 ноября после ряда бесплодных обращений посылает протест Жанену и сам Верховный правитель, предлагая чешским эшелонам предоставить половину всех поездов [Последние дни Колчаковщины. С. 116]. Ни Колчак, ни Сахаров, по-видимому, непосредственного ответа не получили. На телеграмму Колчака, в связи с задержанием его поезда на ст. Красноярск, Жанен ответил Третьякову. Ответ этот чрезвычайно показателен. Он начинался так: «Его превосходительству господину Третьякову. Я получил сегодня циркулярную телеграмму Колчака...8 Он обращается к помощи дипломатических представителей по поводу некоторых мелких фактов для того, чтобы представить ряд неопределенных ходатайств, которые трудно удовлетворить даже в нормальное время». Жанен ссылается на саботаж и «жемчужную» (?) забастовку жел.-дор. служащих. В этом — причина дезорганизации. С неуместной и, пожалуй, даже слишком грубой иронией Жанен говорит:
«Я сообщил Занкевичу для адмирала, что его поезд пройдет сперва один, но я бессилен в отношении семи поездов, на 5 больше, чем для продвижения его величества, и на шесть больше, чем для продвижения его высочества великого князя Николая Николаевича... К тому же, повторяю, ежедневно я получаю пять или шесть просьб на так называемые внеочередные поезда, которые при наилучших намерениях удовлетворить невозможно... Я должен добавить, что опубликование телеграммы... адмирала будет, к моему сожалению, рассматриваться чехословаками как вид объявления войны. Соответствующее состояние умов лишит результатов всякое вмешательство, которое я желал бы предпринять для удовлетворения требований положения дня».
Совершенно ясно, что Жанен сделать ничего не мог. Но престиж не позволял признать собственное бессилие. В дневнике Жанен говорит, что чехословаки всегда выполняли его приказания. В действительности же установленный порядок эвакуации — чехи, поляки, сербы, румыны, русские — не мог быть изменен: Сыровой определенно заявил, что, в случае непредоставления чехословацким эшелонам первенства в эвакуации на восток, он не ручается за последствия [Парфенов. С. 115]. При хаосе трудно найти настоящего виновника в каждом отдельном случае. Но не очевидно ли, что эшелоны Верховного правителя, на которые негодовали чехи [Дюбарбье. С. 140], не могли нарушить правильности движения.
Естественно, что иностранные войска подлежали эвакуации в первую очередь. Но здесь не была соблюдена нужная пропорция. И это привело к тяжелым сценам в ближайшем же будущем. Русские негодовали на то, что иммунитетом в смысле транспорта пользовались не только живые силы, но и огромное имущество, принадлежавшее чехословацкому войску. Имуществу (не военному даже) отдавали первенство перед ранеными, женщинами и детьми. Это — факты, которые, к сожалению, оспаривать нельзя9. И как-то дико читать в красноярском «Народном Голосе» охотно перепечатанное враждебными газетами обвинение Колчака в том, что по его вине между ст. Чулим и Новониколаевск замерзло 200 вагонов с беженцами: вследствие запрещения движения встречных поездов, так как эшелоны верховного правителя шли по свободному пути, остановлены были поезда, которые беженцам подавали воду и топливо [цитирую по иркутскому «Делу Народа», № 390].
В такой обстановке произошло и резкое реагирование Колчака на «меморандум» 13 ноября. Нельзя забывать об этом. Ответом был «саботаж» чешскими жел.-дор. комендантами поезда Верховного правителя10. Сами чешские военные власти в Иркутске были бессильны: «Здешние начальствующие лица обещают все сделать, — передает в разговоре по прямому проводу 18 декабря Харитонов секретарю предсовмина, — а в действительности на местах положение не только не улучшается, а ухудшается. Так, напр., несмотря на обещание не задерживать эшелоны Верховного правителя, который сейчас в Красноярске, на ст. Каштан (?) был отобран паровоз и начальник эшелона арестован [Последние дни Колчаковщины. С. 152].
Грондиж уподобляет положение русских и чехов в дни эвакуации положению двух людей, потерпевших кораблекрушение и ухватившихся за одну доску, которая может вынести только одного. Дело было не в угрозах и запугивании: сильнейший должен был выжить, другой — погибнуть в море [с. 533].
Таковым ли в действительности было положение?
* * *
Несмотря на афронт, полученный в Иркутске со стороны «левых», Пепеляев ехал к Верховному правителю с целью убедить его в необходимости превратить Земское Совещание в законодательный орган и таким путем добиться сговора с иркутскими «земцами». Пепеляев подхватывал чужой лозунг, и притом уже фактически изжитый: декабрьская декларация П. Ц. от имени «сибирской демократии» ни о каком Земском Соборе уже не говорила. «Земский Собор» оставался темой для разговоров тех из «земцев», которые не принимали непосредственного участия в подготовке заговора. Попытка же Пепеляева войти в соглашение с конкурирующей силой — Пол. Центром, нашедшим поддержку у чехословаков и выставлявшим лозунгом создание новой власти на «социалистических» основах, конечно, была более чем эфемерна.
У Верховного правителя «волевой» Пепеляев в союзе с братом тем не менее действовал с экспрессией. Он сам достаточно ярко описал свое поведение в телеграфном сообщении со ст. Тайга Совету министров в Иркутске:
«...Я пришел (к) окончательному выводу, что необходим крупный политический шаг, который бы остановил сползание (в) пропасть по инерции. Считаю совершенно необходимым созыв сибирского Зем. Собора... Верховный правитель должен остаться для верховного объединения всех частей России... Два дня я убеждал правителя (в) необходимости Земсобора. Он выдвигал вопрос (об) отречении в пользу Деникина. Я высказался против отречения. (В) вопросе (о) Земсоборе я остаюсь непреклонным. Иного выхода нет. Вчера я и командарм, учитывая грозную обстановку и то, что остается (в) нашем распоряжении несколько дней, послали Верховному правителю на ст. Судженка телеграмму (с) настоянием издания указа о созыве Зем. Соб.11, назначив срок для ответа. Определенного ответа нет. Я больше не нахожу возможным оставаться на посту предсовмина» [Последние дни Колчаковщины. С. 148].
«Мы не были уверены, — вспоминает Гинс, — что Пепеляев не совершит какого-нибудь насилия над Верховным правителем. Поступки и телеграммы премьера казались дикими. Мы отправили ему в ответ резкую отповедь» [II, с. 465]. Пепеляев действительно «почти вымогал решение». Естественно, что адмирал протестовал, так как решения Пепеляева не были вовсе решениями Совета министров, а результатом местной ориентировки, т. е. влияния закулисных дирижеров в пепеляевской армии12.
Колчак поручает ген. Мартьянову выяснить у Пепеляева смысл его ультиматума (Пепеляевы находились на ст. Тайга). Верховный правитель принципиально соглашается на обсуждение в Совмине после приезда в Иркутск поставленного Пепеляевым вопроса. «А посему, — спрашивает Мартьянов, — как прикажете понимать вашу телеграмму: как ультиматум или представление главы кабинета, а также, что означают ваши слова в телеграмме, что «во имя родины вы решились на все и что вас рассудит Бог и народ»?» Пепеляев дает какую-то странную по своей уклончивости реплику: «Я отвечу через некоторое время». В конце концов ответ гласил: «Нашу телеграмму, отбрасывая юридическую ее природу, нужно понимать как последнюю попытку спасти Верховного правителя, помимо его воли, и все дело. Больше я ничего не могу сказать».
Гинс дает такое объяснение несколько непонятному поведению Пепеляева: «Пепеляев обладал психикой, напоминающей взрывчатое вещество... Долго гореть ровным пламенем он не мог. Его телеграмма была взрывом». Объяснение можно найти действительно только в крайне нервной обстановке под влиянием «безумного выступления кучки офицеров». Пепеляевы хорошо относились к адмиралу и едва ли могли принять участие в заговоре против него13. Пепеляев, пропагандировавший отъезд Колчака, в то же время был решительным противником его отставки. Вероятно, не только чувство чести говорило в нем, но и сознание, что с отставкой Верховного правителя крушилась бы идея борьбы с большевиками, от которой Пепеляев не отходил ни на минуту. Я думаю, что мысль об отъезде Колчака вытекала из его намерения привлечь на командный пост Дитерихса, который ставил условием выезд Верховного правителя.
Остыв, Пепеляев сообщает верховному правителю:
«Ген. Каппель передал мне желание в. в., чтобы я прибыл в Иркутск. Для этого я должен быть уверен, что Зем. Собор приемлем для вас, хотя принципиально. Конец моей телеграммы мог быть понят неверно, если забыть основную идею моей деятельности, в силу которой я ни теперь, ни когда-либо ничего не предприму против носителя верховной власти. Мои слова значат следующее: по моему мнению, государственность, в случае непринятия указанного мною шага, погибнет...» [Последние дни Колчаковщины. С. 149].
Колчак никакой оппозиции проектам Пепеляева не оказывал, как свидетельствуют его переговоры с Третьяковым, находившимся в Иркутске, и хотел лишь выяснить мнение Совета министров по столь важному вопросу. Последний не стоял на позиции Пепеляева и склонялся к сохранению старой конструкции Земского Совещания при условии исключения членов по назначению и придания ему законодательных функций. «Все это совершенно совпадает с моими взглядами», — отвечал Колчак. Только Государственное Совещание должно носить местный «сибирский» характер [там же. С. 150]. Соглашался Колчак и на увольнение Сахарова, указывая, однако, Совету министров на то, что «формулировать обвинение можно только по окончании расследования». Верховный правитель предлагал назначить Чрезв. следственную комиссию, чтобы тем самым «прекратить взаимные обвинения фронта и Правительства14.
Тактика Совета министров довольно элементарна. При «демократическом» курсе надлежало вину свалить на наиболее одиозные фигуры. К числу их принадлежал, напр., Сукин. В новом министерстве Сукина уже не было. По-видимому, предполагалось привлечь его к ответственности, как и Гойера. Сукин был даже подвергнут домашнему аресту. Но Колчак телеграфировал: «Я не допускаю придавать ознакомлению Совета министров с нашей политикой характера какого-то следствия. Бывшему управляющему министерством надлежит дать все необходимые разъяснения. И. И. Сукин исполнял указания только мои и Сазонова, и я требую, чтобы вопрос этот (в) Совете министров не выходил из рамок осведомления» [Последние дни Колчаковщины. С. 144]. Позиция Совета еще может быть понята у новых его членов — Третьякова, Червен-Водали, Бурышкина, но она несколько наивна со стороны старых членов кабинета: ведь первое расследование надлежало бы направить по адресу бывшего министра внут. дел, т. е. самого премьера реорганизованного кабинета.
Колчак в эти дни проявил все благородство своей натуры. По красоте духа человек познается именно в такие моменты.
* * *
Увольнению Сахарова предшествовало довольно необычное обстоятельство. Главнокомандующий еще до своей отставки был арестован братьями Пепеляевыми. Иркутское «Дело Народа» [№ 390] объясняло арест чрезвычайно просто. Сахаров-де с момента отъезда из Омска все время пьянствовал. Поэтому и был арестован Пепеляевым... На этом инциденте Сахаров, естественно, останавливается довольно подробно. По его словам, он предложил реорганизовать 1-ю армию в неотдельный корпус и подчинить его Войцеховскому.
«Адмирал поморщился, — рассказывает Сахаров, — и начал уговаривать меня отложить эту меру, так как она может-де вызвать большое неудовольствие и даже волнения, а то и открытое выступление. «Вот, — добавил он, — и то мне Пепеляевы уже говорили, что Сибирская армия в сильнейшей ажитации и они не могут гарантировать, что меня и вас не арестуют»...
Верховный правитель не соглашался. Тогда я поставил вопрос иначе и спросил, находит ли он возможным так ограничивать права главнокомандующего, не лишает ли он этим меня возможности осуществить тот план, который мною составлен и адмиралом одобрен...
Колчак стал очень мягко уговаривать пойти на компромисс; здесь он, между прочим, сказал, что оба Пепеляева и так уже выставляли ему требование сменить меня и назначить главнокомандующим опять ген. Дитерихса... «Хорошо, — сказал адмирал, — только я предварительно утверждения этого приказа хочу обсудить его с Пепеляевыми. Это мое условие»...
Сначала Пепеляевы, видимо, растерялись, но затем генерал оправился и заговорил повышенным, срывающимся в тонкий крик, голосом:
«Это невозможно, моя армия этого не допустит»... Верховный правитель вспыхнул. Готова была произойти одна из... гневных сцен... Но через мгновение адмирал переборол себя. Лицо потемнело. Потухли глаза, и он устало опустился на спинку дивана.
Прошло несколько минут тягостного молчания, после которого Верховный правитель отпустил нас всех. «Идите, господа, — сказал он утомленным и тихим голосом, — я подумаю и приму решение. — Ваше превосходительство, обратился он... — этот приказ подождите отдавать!!!»
На другой день, 9 декабря, поезд Сахарова на ст. Тайга был окружен пепеляевскими егерями, а сам Сахаров объявлен арестованным15. Таким образом, те, которые поднимали знамя введения принципа законности, начинали с явного беззакония. Арест главнокомандующего, конечно, лишь демонстрировал начавшийся развал...16 Верховный правитель, начав переговоры с Дитерихсом, временно главнокомандующим назначил Каппеля17.
Премьер Пепеляев между тем совсем «остыл». Он догнал поезд адмирала и, следуя за ним по пятам, не только не проявлял никакого расхождения с Верховным правителем, но скорее поддерживал его [Гинс. II, с. 466]. Судьба их связала и обоих обрекла на смерть.
* * *
Не только Пепеляев «вымогал» решение у Верховного правителя. В роли «вымогателя» выступил и представитель ат. Семенова, полк. Сыробоярский. В отношении его этот термин был употреблен самим адмиралом.
Выступление Семенова на авансцену как бы вытекало из программы Пепеляева, намеченной еще в Омске и предполагавшей возможность активной поддержки со стороны Японии. У Семенова в Забайкалье была реальная неразложившаяся военная сила. Нетрудно было уже предвидеть, что центральным событиям предстоит разыграться в Иркутске, где у командующего войсками Артемьева не было своих сил. Нужна была помощь Семенова. Пассивная поддержка Японии могла бы парализовать опору, которую находили революционные силы у чехословаков, и распутать запутанный клубок. Вероятно, таковы были рассуждения многих из тех, кто стоял за более тесный союз с Японией, который выдвигал на первые роли забайкальского атамана. Но Верховный правитель слишком хорошо сознавал отрицательную сторону семеновской «атаманщины» и отнюдь не склонен был потворствовать демагогии Семенова и поддерживавших его обществен, кругов. Отсюда вытекала большая настороженность в отношении забайкальского атамана. Сахаров рассказывает, что в дни пребывания Верховного правителя в Новониколаевске в его вагоне происходил ряд совещаний [с. 193]. По словам Сахарова, намечалось два выхода: использование Забайкалья или отход на юг в
Алтайский край на соединение с Анненковым и Дутовым. Адмирал «отверг второй план совершенно и остановился на первом», причем, однако, «категорически отказался отправить золото в Читу»18. С Семеновым шли переговоры о возможности занятия им Иркутска «на случай предупреждения возможных событий». Семенов ответил, что выполнение этого он может взять на себя «только при полном подчинении ему всех вооруженных сил Д. Востока и полосы отчуждения». Колчак запросил главнокомандующего союзными войсками на Д. Востоке, ген. Ойея не вызовет ли назначение Семенова протест держав. Может быть, подобный запрос являлся простой оттяжкой ответа, на котором настаивал представитель ат. Семенова. Это как будто бы вытекает из доклада, который Сыробоярский представил Семенову после посещения Верховного правителя:
«...Не могу же я здесь в пути, в поезде, отдавать такой серьезный и важный приказ, — ответил Колчак на домогание Сыробоярского, — а главное, я совершенно не вижу, что может... это назначение... изменить в реальных действиях атамана? Я считаю, что если ат. Семенов имеет реальные силы, то он и без этого приказа может захватить Иркутск и воздействовать на чехов, а если нет, то и приказ не поможет с его высокими правами и полномочиями» [Последние дни Колчаковщины. С. 159].
Наконец, Колчак не выдержал: «это просто какое-то вымогательство» данного назначения...
Но события не ждали. В Черемхове, близ Иркутска, 21 декабря произошло восстание по директивам Пол. Центра. 23 декабря Колчак получает телеграмму военного министра Ханжина: «Иркутский гарнизон... не (в) состоянии выделить достаточного отряда в Черемхово для восстановления порядка. Необходима немедленная присылка войск Забайкалья... Временное подчинение Иркутского округа а т. Семенову необходимо» [там же. С. 168]. В ответ Семенов получил назначение главнокомандующим вооруженными силами Д. Востока. Очевидно, что без такого назначения Семенов не двинулся бы на помощь Правительству.
Гинс пытается быть конституционалистом до конца. В своей книге он пишет:
«...Верховный правитель, разговаривая со мной и ген. Артемьевым и выяснив положение в Иркутске, принял решение, которого не сообщил ни мне, ни генералу, а именно: назначить ат. Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока.
По существу, едва ли Верх, правитель мог найти иное решение. Положиться на военные силы ген. Артемьева не представлялось возможным, подавление мятежа в Иркутске могло быть произведено только при содействии войск Забайкалья; отсюда логически вытекало назначение ат. Семенова командующим всеми войсками. Нельзя, с другой стороны, упрекать несчастного адмирала, человека глубоко патриотичного, честного и чуткого, но исключительно военного по психологии, не привыкшего и не умевшего усвоить приемов управления через министров, в том, что он в такой тревожный момент не запросил предварительно мнения Совета министров... Назначение ат. Семенова главнокомандующим без ведома Совета министров и без точного определения прав главнокомандующего поставило Правительство в чрезвычайно неловкое и затруднительное положение» [II, с. 473-474].
Итак, «по существу», Колчак был, по мнению Гинса, прав — «оставалось спасти остатки государства на Д. Востоке». Помощь Семенова была необходима. Так рассуждал и Совет министров, иначе заместитель председателя Третьяков не поехал бы в Читу разговаривать с Семеновым. Следовательно, как будто бы Колчак действовал в полном соответствии с намерениями Совета министров. Разговаривать же по проводу с министрами после 23-го было невозможно: у поезда адмирала «связи с Иркутском уже не было». При Колчаке был сам председатель Совета.
Пожалуй, претензии на несоблюдение в таких условиях «конституции» чрезмерны. В сущности, с 23 дек. никакого Совета министров фактически в Иркутске уже не было — 8 министров были в отсутствии. Но главнейшее в том, что Гинс не знал или забыл о процитированной выше телеграмме военного министра. Следовательно, только на последнего могли бы претендовать те министры, которые не были осведомлены о проекте назначения Семенова. Кстати, можно думать, что и для командующего войсками Артемьева ничего неожиданного не было в назначении Семенова, так как 24-го ат. Семенов был запрошен о срочной высылке войск в Иркутск в связи с появлением «революционного штаба» в Глазковском предместье [Последние дни Колчаковщины. С. 168]. Семенов сообщил, что войска его будут в Иркутске 28—29 декабря и что они примут энергичные меры к подавлению восстания. Правительство облегченно вздохнуло и выпустило даже прокламацию, в которой говорилось уже не о семеновских войсках, а о войсках Японии, которые идут из Забайкалья и будут охранять Иркутский военный округ.
Маленькое отступление о неконституционных действиях Верховного правителя достаточно характерно. Слишком легко рождаются обвинения у современников, и слишком легко со страниц мемуаров попадают они на страницы истории: у Милюкова Колчак в данном случае «по привычке» игнорирует Совет министров. Это один из примеров того, как создаются исторические легенды. А вот и другой — из дневника ген. Жанена:
«Иркутск, 11 декабря... Вильтон, прибывший с ген. Дитерихсом, приходил поговорить вчера и сегодня. Мы согласны в том, что адмирал одержим манией величия и обладает наивным лукавством безумных. Стало известно, что он сносился с Семеновым по прямому проводу, побуждая его продвинуться досюда, чтобы перевешать министров, и предлагая ему даже часть поездов с золотом, которые он тащит за собой» [«М. S1.», 1925, III, р. 353-354].
Назначение Семенова еще более обострило отношение чехов лично к Верховному правителю. Причиной послужила телеграмма, якобы посланная Колчаком окружным путем Семенову и предписывавшая ему в целях воздействия на чехословаков воспрепятствовать продвижению их эшелонов через Забайкалье, не останавливаясь даже перед взрывом туннелей на Кругобайкальской жел. дор. Странным образом текст этой телеграммы — на нее любят ссылаться все иностранные свидетели, и особенно чешские мемуаристы, — я нигде не нашел. О телеграмме из русских упоминает только Сахаров, относя ее к ноябрю месяцу [с. 186]... Думаю, что телеграмма эта — один из многих апокрифов19. Угроза непропуска эшелонов раздалась со стороны Семенова, но едва ли не по собственной его инициативе. Это было шумное выступление, адресованное всем, всем, всем (в том числе и адмиралу Колчаку), в котором забайкальский «брат» обращался к чехословакам во имя «общеславянских идей», призывая их помочь «последней борьбе за Россию» и заканчивая требованием беспрепятственного пропуска до Иркутска поездов с русским командованием, ранеными воинами, семьями бойцов и ценностями: «В случае неисполнения вами этого требования я с болью в сердце пойду и всей имеющейся в моем распоряжении вооруженной силой заставлю вас исполнить ваш долг перед человечеством и замученной сестрой — Россией» [Парфенов. С. 116].
3. Восстания
По плану «бюро военных организаций», председатель которого Калашников давно уже находился в Иркутске, в пепеляевской армии, отводимой в тыл, должны были одновременно, в момент разрухи отступления, вспыхнуть восстания: в Томске, Новониколаевске, Красноярске и Иркутске. Частично этот план и получил осуществление, но не в том виде, как предполагали зачинщики переворота.
Началось в Новониколаевске 6 декабря. Председатель Совета министров в своей телеграмме в Иркутск характеризовал его как «безумное выступление кучки офицеров под лозунгом мира с большевиками». По словам Сахарова, восстание было как бы провоцировано Ан. Пепеляевым в целях воздействия на Колчака. Предположение это, конечно, неосновательно. Но выступлением полк. Ивакина Пепеляевы воспользовались для того, чтобы охарактеризовать настроение 1-й Сибирской армии и вынудить у Верховного правителя решение объявить о созыве Земского Собора: «Идея Земского Собора, — говорил Пепеляев в том же сообщении Совету министров, — ультимативно развита первой армией». Совершенно прав, однако, Сахаров, когда говорит, что самочинное действие войск под начальством полк. Ивакина было инспирировано и подготовлено теми эсерами или эсерствующими, которые гнездились в военной тайной организации при штабе Пепеляева. Прокламации сибирского военно-социалистического союза поразительно совпадают с творчеством якушевской группы во Владивостоке — это были эсеровские прокламации20. Одна из прокламаций с чрезвычайной наглядностью показывает, что инициаторы восстаний рассчитывали не столько на идейное содержание своих воззваний, сколько на психологию усталости от гражданской войны, при которой призыв к окончанию борьбы мог найти отклик даже в офицерской массе. В воззвании, выпущенном от анонимной «офицерской группы», прямо говорилось:
«Что нам до спасения России, когда 99% не хочет ее, а кто хочет, он желает сделать ценою тысяч жизней других, но никак не своей... Будет, ни капли крови больше — и начнем переговоры с большевиками о мире в залитой братской кровью России. Этим мы в тысячу раз сделаем лучше для России, чем то, что хочет кучка болтунов-созидателей великой России. Бояться нечего: наши требования поддержат народ и братья-чехословаки... Медлить нечего: начнем с Томска. Эти воззвания рассылаются во все части гарнизона, и начальники частей... должны собрать офицеров и взводных 6 декабря...»21
В изображении Сахарова, инициатор новониколаевского восстания — наивный 26-летний офицер, уверенный, что вся Сибирская армия «эсеровская», и рапортующий об этом даже главнокомандующему [с. 188]. Сахаров рассказывает, что до Колчака дошли слухи, что этот «полумальчик», начальник дивизии собирается его арестовать. Колчак вызывает к себе Ивакина и около часа говорит с ним. Тем не менее Ивакин при поддержке губернского земства выступает 6 декабря, пытается арестовать командующего 2-й армией ген. Войцеховского, захватывает с Барабинским полком 1-й Сибирской дивизии город, образует «комитет спасения родины» и объявляет о прекращении борьбы с советами. При столкновении, однако, с полком 5-й польской дивизии восставшие части Ивакина положили оружие. Сам Ивакин был убит.
* * *
Красноярское выступление имело свои специфические черты. Во главе восстания как бы встал командующий первым сибирским корпусом ген. Зиневич. Но, в сущности, это — простая пешка в руках образовавшегося «комитета общественной безопасности».
Заговор подготовлялся давно в «офицерских собраниях» — в действительности же в редакции официальной корпусной газеты «На страже свободы», где устраивались совещания «при участии Колосова и большевиков»22. Сам редактор газеты, Сабашников, — бывш. большевик, секретарь Мищенков — «плехановец», ставший скоро большевиком. Таков весь руководящий персонал газеты, выпустившей в момент нахождения поезда адмирала в Красноярске (здесь произошла задержка на 6 суток из-за недоразумений с чехами) воззвание от имени «группы демократических организаций» с призывом к миру с большевиками и к неподчинению Верховному правителю. Эту компанию Зиневич посвящает в свои планы созыва Земского Собора. Затем Зиневич созывает собрание «демократических организаций», которое от себя уже посылает делегацию к начальнику повстанческой армии Кравченко. От имени этих организаций начинаются переговоры с чехами и французами о задержке Верховного правителя в Нижнеудинске. В целях умиротворения местных элементов командующий войсками ген. Марковский передает командование Зиневичу. Вступив 23 декабря в командование, Зиневич передает управление гражданской частью комитету общественных организаций.
Сумбурному, ничего не понимающему генералу кажется, что он своими действиями предотвратил взрыв в пороховой бочке, остановил паралич власти и спас фронт (фактически своими действиями Зиневич прервал связь адмирала с армией). У комитета нет еще «полной» платформы, не урегулировано еще отношение его с верховной властью. Зиневич обращается с открытым письмом к адмиралу. Как «честный солдат, чуждый всякой политической авантюры и политических интриг», Зиневич предлагает Колчаку не цепляться за власть и передать её Земскому Собору — выразителю воли русской демократии.
Обстановка в Красноярске показательна. Мы можем пойти на митинг рабочих жел.-дор. депо, на котором председательствует коммунист Михайлов, а докладчиками выступают ген. Зиневич, с.-р. Колосов и левый с.-р., вскоре коммунист, Левинов. «Братья-труженики», — начинает свою речь Зиневич. «Сними сначала погоны»... — кричат ему. Большевицкий оратор предлагает не верить Колосову. Власть должна быть советская...
Заканчивается красноярская эпопея образованием большевицкого Революционного Комитета и арестом «братьями-тружениками» революционного генерала. Зиневич нервно заболел. Но это было уже позже23. Раньше, 2 января, Колосов и Зиневич ведут переговоры с военно-политическим комиссаром наступающей бригады Красной армии — с тов. Грязновым. Небезынтересно начинается разговор:
Грязнов. ...Завтра мы займем Красноярск. Третья армия нами отрезана. Ни на какие соглашения не пойдем.
Колосов. А информацию не желаете получить?
Грязнов. Пожалуйста.
Колосов информирует о задачах Пол. Центра в Иркутске, и о переговорах с краевым комитетом партии большевиков, и о желательности переговоров с советской властью. Комиссар спрашивает об условиях. Колосов увиливает.
Грязнов. Меня удивляет, что вы, видный политический представитель, не можете, хотя схематически, угадать точки соприкосновения с нами как с революционной демократией... Нам нужны конкретные шаги.
Колосов. ...Сибирское Народное Собрание должно определить программу мира. Я говорить за него не могу, но не потому, что не имею политической платформы. Наша основная цель — созыв сибирского У. С. для окончательного установления формы власти. Но мы... не закрываем глаза, что у нас нет фронта, и мы не имеем сил его создать против Советской России. У нас есть фронт на востоке против реакции... Я думаю, что на нем придется сосредоточить все силы, объединив их в одном стремлении. Я знаю, что вы отнесетесь отрицательно к идее У. С. Конечно, вы победители, и нам необходимо в этом пойти на уступки... необходимо создать в борьбе с реакцией единый фронт...
Грязнов. Переговоры и политика сближения для совместной борьбы с капиталом всех социалистических группировок до сих пор кончались или неудачей, или простой недобросовестностью, предательским поведением центра и правых социалистических партий... Мы надеемся выйти победителями в мировой борьбе... пролетариат... достаточно пострадал от этих... блокирований...
Колосов. Здесь много говорили об изменении политической физиономии коммунистов и о том, что они теперь совсем иные. На этом многие не только из мелкобуржуазной среды строили свои упования. Слушая вас, я вижу, как много в этом наивности... Будем продолжать разговор в Красноярске лично... Еще два слова: в Енисейске состоялось соглашение земства с отрядом Бабкина, вышедшим с Тасеевского фронта, на условии признания советской власти. Еще раз желаю вам... полного самообладания, дабы не слишком быть опьяненными победой [Последние дни Колчаковщины. С. 179—182].
Затем идут переговоры с Зиневичем о сдаче Красноярского гарнизона. Начбриг был очень разочарован, узнав, что «бандиты» Каппеля не собираются сдаваться и что мир с Пол. Центром вовсе еще не означает ликвидации «Восточного фронта».
Красноярск был сдан. Так закончился переворот «в пользу Полит. Центра». Первая Сибирская армия положила оружие. Остатки ее Пепеляев распустил «до лучших времен». Его последний приказ гласил: «Сибирская армия не погибла, а с нею вместе не погибло и освобождение Сибири от ига красных тиранов. Меч восстания не сломан, он только вложен в ножны. Сибирская армия распускается по домам для тайной работы — до того времени, пока грозный час всенародного мщения не позовет ее вновь для борьбы за освобождение Сибири. Я появлюсь в Сибири среди верных и храбрых войск, когда это время наступит, и я верю, что это время скоро придет»...
Около Каппеля объединяется все, что сохраняет еще организованность и бодрость духа.
11 декабря Колчак в телеграмме в Иркутск так характеризует состояние армии:
«Первая Сибирская армия, отведенная в глубокий тыл и составляющая стратегический резерв фронта, подверглась влиянию пропаганды, и многие части находятся в состоянии полного разложения. В некоторых частях определенно высказываются требования заключения мира с большевиками и обычные эсеровские лозунги. Подтверждением служит сдача сорок третьего и сорок шестого полков в полном составе повстанческим бандам и задавленный в его начале бунт в некоторых частях новониколаевского гарнизона. Следует отметить, что часть офицеров также затронута этой пропагандой и даже выступает активно.
Вторая армия находится на фронте и хотя имеет слабую сопротивляемость, но еще не обнаруживает тех признаков разложения, как 1-я армия. В нее вливаются небольшие добровольческие части, которые, быть может, поднимут ее боеспособность.
Третья армия находится в лучшем состоянии. Многие ее части, несмотря на огромные потери и ряд тяжелых боев, все же сохранили полную боеспособность.
Эти части состоят преимущественно из добровольцев и оренбургских казаков» [Последние дни Колчаковщины. С. 86].
* * *
21 декабря произошло восстание в Черемхове — это была уже прелюдия к иркутским событиям. Началось восстание по прямому телеграфному предписанию Пол. Центра. Мы имеем описание черемховских событий в виде доклада, представленного уполномоченным П. Центра. Устюжанином-Алко.
Восстание вылилось в форму выступления гарнизона, среди которого в ноябре была создана соответствующая организация «военно-социалистического союза» [Последние дни Колчаковщины. С. 165]. Большевики делают поправку, утверждая, что переворот произвел не комиссар Алко, а черемховские рабочие, руководимые коммунистами [«Сиб. Огни», 1922, № 2, с. 85].- Это, пожалуй, вернее. Во всяком случае, коммунистические организации играли первенствующую роль24.
Алко в докладе говорит, что была опасность срыва восстания рабочими, несмотря на «полную договоренность с краевыми коммунистическими организациями» представителей Пол. Центра. Договоренность заключалась в признании невозможности «выкидывать советские знамена» при наличии международных сил. Рабочие, среди которых было много коммунистов, неохотно подчинились таким директивам. Алко утверждает, что организаторы восстания избегали привлекать в широком масштабе черемховских рабочих ввиду специфичности их состава. Русских рабочих вообще было немного, причем все это были случайные элементы, пришедшие из деревни на заработок. Основную массу составляли китайцы и пленные мадьяры — черта, отмеченная еще Уордом [с. 58]25. Между последними и русскими организованными рабочими (коммунистами) существовала довольно тесная связь. Вооружение русских предрешало вопрос о вооружении мадьяр. Это представлялось опасным ввиду острого антагонизма между мадьярами и чехами. Можно было ожидать столкновений с чехословацкими частями, стоявшими в городе и на станции. Очевидно, однако, в расчете на эту рабочую силу предполагалось начать восстание именно в Черемхове.
Движение под руководством военно-социалистического союза происходило в полном и «строгом» соответствии с платформой Пол. Центра — утверждает Алко. Согласно декларации П. Ц., органом политической власти на местах должны были явиться земские и городские самоуправления. Но «борьба с черными силами реакции» фактически заставила в Черемхове создать по иному образцу орган коллективной власти. Черемховский Революционный Комитет на началах паритетного представительства был возглавлен членами партии с.-р., соц.-дем. и большевиков-коммунистов. Таким образом, открыто уже был осуществлен принцип «единого фронта»26.
Круг замкнулся. Сибирское движение началось под лозунгом единого социалистического фронта. Под тем же лозунгом для «революционной демократии» оно заканчивалось после двух лет кровавой борьбы с большевиками27.
Примечания ко второй главе :
1 Автор только ошибочно относит заседание к 22 ноября.
2 Крейчи даже утверждает, что д-р Гирса оказал «немалое влияние» на образование (?) пепеляевского министерства и что чехи видели в нем «заручку добрых отношений» с правительственными кругами [с. 197]. Чешскому соц.-демократу казалось, что новое Правительство могло бы удовлетворить и «земцев» и «социалистов».
3 Сведения об указанном совещании проникли и в газеты. Напр., «Св. Край», № 384.
4 Крейчи подчеркивает особую предупредительность в отношении чешских представителей (Крейчи, Гирса, Благош), которые были посажены на возвышении рядом с ораторами. Ясно, что их присутствию придавали «особое значение». Их ждали для открытия заседания [с. 187].
5 От «общественности» в него вошли Третьяков, Червен-Водали, Бурышкин. Кооператоры отказались выставить своих кандидатов. Любопытно, что Болдыреву назначение Третьякова и Пепеляева казалось резким поворотом «вправо» [с. 276].
6 Объяснение ген. Сырового см. ниже.
7 Отмечу, что мин. пут. сообщения Устругов в период эвакуации все время сам был на линии.
8 Приходится пользоваться текстом, приведенным у Субботовского. Этот автор не принадлежит к числу тех, на которых можно положиться в точности воспроизведения документа.
9 Уполномоченные Красного Креста в особом акте, составленном в Красноярске 15 января, засвидетельствовали то, что пришлось пережить эшелонам Кр. Кр. — как у них отбирали паровозы, воду, топливо, как посылали их поезда на пути, заведомо забитые замерзшими вагонами, и т. д. Уполномоченный 2-й армии под влиянием пережитого застрелился. Красноярский акт подписан пом. главноуполномоченного кн. Куракиным.
10 См.: Кроль. С. 199. Рассказ подп. Малиновского в № 8 «Дней России» воспроизведен в «Чешских аргонавтах». С. 13.
11 «Умоляем вас в последний раз о немедленном издании акта о созыве сибирского Зем. Собора, в лице которого народ возьмет в свои руки устройство Сибири. Мы действуем исключительно во имя защиты родины от большевиков... Мы ждем согласия до 24 часов девятого декабря. Время не ждет, и мы говорим вам теперь, что во имя родины мы решимся на все. Нас рассудит Бог и народ» [там же. С. 146].
12 Пепеляев, по словам Гинса, «забыл о всех текущих делах, не доложил адмиралу ни одного из присланных нами законопроектов и вместо расширения прав и демократизации состава Гос. Зем. Сов. потребовал созыва Зем. Собора». Из этих слов вытекает, что проект указа, предложенный Колчаку Пепеляевым от имени Совета министров, таковым не был.
13 У меня имеются данные, указывающие на то, что жел.-дор. рабочие Омска присылали к ген. Пепеляеву делегацию с предложением встать во главе движения и обещали его поддержать. Пепеляев отказался.
14 Совет министров (телеграмма Третьякова 9 декабря) предъявлял Сахарову обвинение в том, что он «сдал» врагу город, служивший центром возрождающейся России... и нанес удар всему национальному делу. «По мнению Совмина, Сахаров подлежал суду для справедливой ответственности перед родиной по всей тяжести законов военного времени» [Последние дни Колчаковщины. С. 149].
15 В письме к Колчаку 27 декабря Сахаров, излагая подробно историю своего ареста, сам просил о всестороннем гласном и широком расследовании его деятельности [Приложение к «Борьба за Урал», № 348].
16 Сахаров был освобожден подошедшим отрядом Каппеля. И, по-видимому, у Каппеля произошло резкое объяснение с Пепеляевым.
17 Первоначально вновь Колчак хотел назначить на этот пост Войцеховского, но тот, по словам Сукина, отказался.
18 Семенов захватил в свои руки первый эшелон с золотом, отправленный в сентябре во Владивосток [Будберг. XV, с. 316]. Это самоуправство могло объясняться предвидением падения Омска и желанием обеспечить себя деньгами. Только полная неосведомленность ген. Жанена может объяснить все его рассуждения о передаче Колчаком золота Семенову. Мы уже отмечали ту щепетильность, которую в отношении золотого запаса проявлял все время Верховный правитель.
19 Существование такой телеграммы решительно опровергает подчас хорошо осведомленный в закулисных сибирских делах Ган (Гутман) в «Белом Деле» [III, с. 174].
20 Многих могло ввести в заблуждение то обстоятельство, что военная эсеровская организация приняла старое большевицкое наименование в Сибири — военно-социалистического союза.
21 Последние дни Колчаковщины. С. 85. О восстании в Томске перед захватом его Красной армией я, к сожалению, никаких характерных деталей не мог найти.
22 «Последние дни Колчаковщины»; «Красн. Лет.». X, с. 218.
23 Зиневич был расстрелян большевиками.
24 При выступлении, между прочим, был убит начальник милиции Малиновский, старый член партии с.-р.
25 Надо иметь в виду, что это явление, в той или иной степени, присуще было всей Сибири. У меня нет точных статистических данных, но показательно, что на одном Урале к концу 1916 года исчислялось на общую цифру рабочих в 178 630 человек, 53 434 военнопленных и 10 тыс. китайцев. На некоторых крупных предприятиях процент военнопленных доходил до 44 [ Сидоров К. Рабочее движение в России в годы империалистической войны. — «Очерки по истории окт. революции». Т. I, с. 216]. Несомненно, все это не могло не оказывать влияния на несколько специфический характер сибирского «пролетариата».
26 В г. Зиме состав Комитета был исключительно коммунистическим [Последние дни Колчаковщины. С. 197].
27 Я не останавливаюсь на разрозненных выступлениях в отдельных городах, не имевших непосредственной организованной связи с общим планом, который пытались осуществить «революционные» кадры. Пользовались каждым поводом для того, чтобы внести сумятицу в тылу. Напр., поводом для восстания 12 декабря в Верхоленске послужил приказ об избрании делегатов на Государственное Совещание. Восстанием руководил представитель эсеровской партии. Местные коммунисты (около Верхоленска) немедленно, конечно, примкнули к восстанию [сведения заимствованы из № 1 «Зем.-Нар. Газ.» в Иркутске].
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Политический Центр
1. Под лозунгом мира
Непосредственный участник всех событий того времени, пристрастный свидетель, к.-д. Кроль страницы своих воспоминаний о Пол. Ц. заканчивает несколько неожиданным признанием, что «массы не осознали насущной необходимости для них подлинного демократизма». «Если навязывать силой диктатуру пролетариата, коммунизм безнадежное стремление «загнать ослов дубиной в рай» (по удачному выражению покойного А. И. Шингарева), — продолжает Кроль, — то прямо химера попытка заставить народ против его воли бороться за народовластие». Те, которые считали только себя в Сибири истинными представителями народа, отнюдь не собирались призывать этот народ к борьбе за немедленное народовластие — их лозунгом являлись призывы к прекращению гражданский войны. Они базировались не на активной воле страны к действию, а на пассивном чувстве безразличия и апатии, которое постепенно охватывало не только массы, но и значительный круг квалифицированных борцов антибольшевицкого лагеря. «Выставляя лозунгом мир с большевиками, — говорит коммунист Ширямов, — Пол. Ц. правильно учитывал, что солдатские массы охотно пойдут на любое восстание, обещающее им этот мир» [Борьба за Урал. С. 283]. Призыв к прекращению гражданской войны и к миру с Советской Россией красной нитью проходит через всю агитационную литературу военно-социалистического союза и на практике воплощается в том соглашении с большевиками о признании единого с ними фронта, которое мы отмечали в первых восстаниях. Завершение свое он получил в Иркутске, где находился руководивший восстаниями орган.
Надо думать, что к концу ноября военные организации калашниковского бюро объединились уже около Пол. Центра1. «Сибоблдумский» этап с «Земским Собором» был пройден. Движение брала в свои руки организованная общественная сила в лице партийных комитетов, а не отдельных и случайных их представителей, действовавших больше на свой страх и риск и «снюхавшихся», по образному выражению Ракова, с таким «архиавантюристом», как Гайда». Декабрьская декларация Пол. Центра, отпечатанная в нелегальной типографии всесибирского краевого комитета партии с.-р., была подписана этим комитетом, бюро организации соц.-дем., земско-политическим бюро и цент. ком. объединенного трудового крестьянства (все те же эсеры).
После введения большевицкого пошиба «военно-буржуазной диктатуры» колчаковского Правительства, которое, спекулируя на войне с большевиками, декларируя лицемерно борьбу за демократический строй и «опираясь на союз реставрационных военных каст с паразитической... буржуазией», готовило при поддержке «других реакционных империалистических стран» священный союз мировой реакции, — после всех этих слов и «революционных» фраз П. Ц. объявляет, что принимает на себя руководство в борьбе с реакцией и ставит себе целью организацию временной революционной власти, в задачу которой входит прежде всего (пункт первый) «прекращение состояния войны с Советской Россией»2. Далее говорилось о созыве сибирского Народного Собрания, составленного из представителей органов местных самоуправлений, крестьян и рабочих на основе положения о выборах, принятых П. Ц., и об установлении «договорных отношений с революционными (?) государствами в целях совместной самозащиты от мировой реакции». Декларация подчеркивала, что П. Ц. «категорически отвергает всякую возможность учреждения на урезанной территории Сибири власти, претендующей на всероссийское представительство. Для сибирской демократии остается один путь — путь создания местной власти и установления договорных отношений с государственно-демократическими (выделение мое. — С.М.) образованиями, возникшими на территории России» [Последние дни Колчаковщины. С. 123—125]3.
Но вопрос шел не только о прекращении гражданской войны, «разбивающей демократию на два лагеря» (речь Калашникова на заседании Иркутской Городской Думы). Прекращение борьбы с большевиками возможно было лишь при низвержении власти «реакции». В этих целях надлежало все враждебные антиправительственные течения свести в одно русло — действовать «единым фронтом» с коммунистами. Понятно, почему на ноябрьское «земское» совещание в Иркутске приглашаются и коммунисты [«Сиб. Огни», 1927, № 5, с. 95]. Приходится признать, что большевики были последовательнее. Ширямов рассказывает:
«Наша организация считала момент еще недостаточно подходящим для самостоятельного выступления с лозунгами советской власти... Политцентр попытался вступить в переговоры с иркутской организацией партии и привлечь ее к участию в восстании под лозунгами, выставляемыми Политцентром. Вначале эти переговоры велись довольно интенсивно. Но в ноябре в Иркутске состоялось совещание сибирских организаций партии (3-й съезд...). Выбранный на совещании сибирский комитет... запретил не только выступления, совместные с буржуазными партиями, проводимые не под лозунгами советской власти, но и выступления в губернских городах вообще, не связанные с одновременными действиями Красной армии... Сибирский Комитет ставил задачей... сделать совершенно непроходимою ту пропасть, которая отделяет... партии с.-р. и меньшевиков от масс... Представитель иркутского Комитета был отозван из Политцентра, и переговоры прервались. Не входя в Политцентр, наша организация готовилась, конечно, принять в восстании самое активное участие.
Прежде всего надо было достать денег. С этой целью решено было потрясти крупные кооперативные организации... Центросоюз, Закупсбыт, Потреб. Об-во служащих Забайк. ж. д. и др. Предложили им дать Комитету «заимообразно», до восстановления сов. власти, но на всякий случай предупредили, что в случае отказа не остановимся перед эксом. Таким способом было собрано до миллиона руб.»... [Борьба за Урал. С. 283—284].
Пол. Центр высказал «искреннее сожаление» по поводу ухода коммунистов и продолжал с ними держать «контакт», причем представитель коммунистов посещал для «информации» заговорщицкие собрания.
Таким образом, в постановке Пол. Ц. заключалось несколько больше, нежели простое замалчивание борьбы с большевиками, как мягко отмечал в связи с «декларацией» автор статей в «Чехосл. Дн.» [№ 231], склонный поддерживать эсеровщину, но враждебный к советчине. Дело было даже не в том, что сибирские эсеры и эсдеки, поднимая знамя «активной борьбы с колчаковщиной», могли сыграть на руку большевиков. Они с самого начала работали против «колчаковщины» рука об руку с большевиками, отвергая формально эту коалицию.
2. Иркутские бои
Подготовительная деятельность П. Ц. протекала в благоприятной обстановке, несмотря на весь правительственный «террор»4. Иркутск стал для «революционной» демократии «родным городом». «Легкость атмосферы» — по признанию Ракова — притянула туда чуть не всех сибирских эсеров5. И тем не менее восстание задерживалось. В Черемхове, где подняли восстание по предписанию из центра, лишь недоумевали, почему в Иркутске «начало» затягивается. Затяжка объяснялась полной неуверенностью в своих силах.
Тянула и власть. Яковлев доказывал Третьякову, что борьба невозможна, что «против 4500 человек гарнизона, разложенного агитацией... один Щетинкин имел 11 тысяч хорошо организованных партизан при двух десятках пулеметов и двух-трех орудиях». Спасение было как будто бы только в подходе семеновских частей. Для выяснения вопроса о реальности этой помощи Третьяков выехал в Читу.
Перед угрозой прибытия семеновцев и в связи с арестом 22 декабря 17 членов революционного штаба власть наконец решила приступить к ликвидации Пол. Центра6. 24 декабря была сделана попытка начать восстание.
Вечером этого дня в казармах 53-го полка, расположенных в Глазковском предместье, которое примыкает к железнодорожному вокзалу и отделяется от города Ангарой, появился шт.-кап. Калашников с приставленным к нему от Пол. Ц. комиссаром Мерхелевым. 53-й полк считался наиболее распропагандированным. Здесь и была провозглашена власть Полит. Центра.
В основу последующего изложения событий я возьму рассказ N, дающий поденную запись. Она наиболее точна по сравнению с другими источниками7. Буду этот рассказ дополнять, а иногда и исправлять другим имеющимся материалом. Конечно, представляет интерес освещение, которое дает коммунистическая литература. Ширямов тотчас же вводит в изображение глазковского захвата характерную деталь: в Глазкове орудует одновременно и коммунист Марков, под руководством которого примыкают к восстанию железнодорожные рабочие [Борьба за Урал. С. 285]. Ширямов в другой статье признает, что силы восставших были столь незначительны, что восстание легко было подавить [Последние дни Колчаковщины. С. 26]. Военные власти, по словам N, и отнеслись к этому событию «очень спокойно». Ген. Артемьев передал командование нач. гарнизона Сычеву, который заявил, что «завтра же он все ликвидирует». Успеху в Глазкове содействовало случайное (а может быть, и неслучайное) обстоятельство — 21 декабря ледоходом сорвало понтонный мост, соединявший город с железной дорогой. Гарнизон в городе не примкнул к восстанию, но в силу указанной причины нельзя было двинуться против повстанцев. Чехословаки, владевшие железной дорогой8, сохраняли наружный нейтралитет — они получили приказ9 своего правительства абсолютно не вмешиваться (de ne pas bouger).
Собравшиеся ночью члены П. Ц. вызвали к себе для переговоров Яковлева. Дело в том, что «штаб» рассчитывал, что события в Глазковском предместье заставят Яковлева с верной ему милицией выступить на стороне П. Ц. Яковлев со своим отрядом особого назначения, составленным из б. красноармейцев, и с милицией решил, однако, держаться нейтралитета10. Таким образом, П. Ц., потеряв значительную часть штаба (арест 17), остался, в сущности, без армии.
На другой день намерение Сычева неожиданно встретило решительную оппозицию со стороны ген. Жанена. Получив сообщение, что Сычев пустит в ход артиллерию, Жанен заявил, что в таком случае он прикажет чехам обстрелять город11.
Таким образом, оказалось, что полоса, где сосредоточились повстанцы, становилась вообще нейтральной; повстанцы могли развивать свои действия, а гарнизону Иркутска, по справедливому замечанию Гинса, оставалось — или пребывать в осаде, или отступать, или... разлагаться [II, с. 479]. Коммунисты воспользовались благоприятной обстановкой и стали энергично действовать, назвав себя штабом рабоче-крестьянских дружин и разослав гонцов в партизанские отряды с приказом стягиваться в город [Борьба за Урал. С. 288]. Оружием «дружины» были снабжены штабом Политцентра.
В городе контрразведка продолжала творить свое «темное дело». Были произведены новые аресты среди военных руководителей движения. П. Ц. отсрочил выступление на «неопределенное время».
Между тем Яковлев в заседании Правительства выступает с предложением договориться с губернской земской управой, которая-де разделяет точку зрения Правительства на дальнейшую борьбу с большевиками. Для того, чтобы договориться, нужна отставка Верховного правителя. Червен-Водали, заменявший председателя, охотно пошел на переговоры в целях предотвращения кровопролития. «Миролюбие Чер.-Водали, — объясняет N, — объяснялось просто. Чехи заявили П. Центру, что семеновцев в Иркутск они не пустят. И действительно, отряд ген. Скипетрова, посланный на помощь Иркутску, завяз где-то на линии, задержанный союзниками, т. е. чехами. Чехи... умалчивали, что ген. Сыровой дал по линии приказ своим войскам избегать всяких конфликтов с семеновцами в том случае, если они будут поддерживаться японскими войсками».
Вечером 26-го в кабинете председателя Совета министров собрались земцы, городской голова и представители П. Ц.12 Соглашение, однако, никак не могло состояться из-за вопроса о золоте: «земцы» желали сохранить его в Иркутске, «Совет» министров, соглашаясь на передачу «земству» власти, требовал отправки золота на восток «под охрану союзников, впредь до образования единой общепризнанной власти в России».
27-го утром Сычев получил телеграмму из с. Листвиничного от командира семеновского дивизиона броневых поездов Арчегова: «...двигаемся к ст. Иркутск и давно были бы там, но союзники энергично протестуют.
Вчера весь день не разрешали продвинуться дальше Михалева (30 верст от Иркутска). Силами располагаем... У нас настроение бодрое, у всех желание идти вперед»13. Сычев издает приветственный приказ «славным войскам Забайкалья». У защитников города поднимается дух. «Соглашение», пожалуй, и не нужно.
Эти колебания были «не безызвестны» П. Ц. «Чтобы оказать давление, — рассказывает N., — и сделать его (Правительство) более сговорчивым Городская Дума решила произвести вооруженную, но мирную демонстрацию сил, стоящих на стороне Центра. Представители Думы заехали к управляющему губернией, прося его дать приказ милиции и отряду о выступлении на площадь для демонстрации. Зная, что это будет вызов ген. Сычеву, после которого немедленно начнется бой, считая, что это является актом не нейтральным, а активным, Яковлев отказал, и демонстрация не состоялась. Движение пошло другим путем. В 3 часа Яковлев, у которого в то время пили чай главари Центра Ходукин и Алексеевский, сообщил, что начальник его отряда, кап. Решетин, «именем управляющего губернией» приказал двум ротам отряда выступить против гостиницы «Модерн», где находилось правительство. Яковлев поехал их уговаривать. Шел уже бой». N рисует жанровую картину: «...методически стучали пулеметы, а в стороне от боя звонили ко всенощной. Яковлев вышел из саней и пошел пешком. У какого-то забора вдруг остановился и тяжело разрыдался. А позади разрасталось второе декабрьское кровопролитие, которое он тщетно старался устранить»...
В это «отчаянное время» по байкальскому тракту подоспевала на грузовых автомобилях помощь в лице 112 семеновцев. Весть об их прибытии, распространившаяся среди сычевцев, «ожидавших своего конца», подняла их настроение. Но надо было бросить ее и в ряды восставших. Это и было сделано Яковлевым. Офицеры восставших увели тогда свои войска в казармы. «Молча расходились солдаты по казармам, не понимая, почему их именем управляющего то бросают в бой, то отзывают»...
Сам Яковлев еще 25-го подал в отставку, мотивируя свой отказ несогласием с новой ориентацией Правительства на Семенова. Но только 28-го Яковлев фактически осуществил свое намерение, прося Чер.-Водали сообщить Пепеляеву, с которым он был «в особых личных отношениях», что «долг свой он исполнил до конца». В тот же день Яковлев «исчез с группой солдат и офицеров из Иркутска, проклинаемый правыми как глава и организатор восстания, и некоторыми левыми как провокатор, сорвавший выступление 27 декабря своим сообщением о прибытии семеновцев»...
Непонятна вся эта двойственная роль губернского комиссара, эсера, первого председателя «революционного иркутского земства». Его характеристику дает Гинс:
«Безусловно даровитый губернатор, социалист по убеждениям, Яковлев всегда сочувствовал оппозиции и покровительствовал ей. Яковлев — человек тонкий и лукавый. На каторгу он попал за участие в экспроприации, в тюрьме он сочинил кантату с верноподданническим мотивом, в губернаторы попал при Павле Михайлове, а доверием пользовался и у Пепеляева. Правительство всегда относилось к Яковлеву с сомнением, но дорожило им... как представителем левых течений, сближение с которыми всегда являлось предметом вожделений омской власти... Я убежден, хотя и не могу этого доказать иначе, как косвенными уликами, что Яковлев принимал участие в подготовке переворота. Но он не мог сочувствовать передаче власти большевикам, которые никогда не простили бы ему службы Омскому правительству... Ход событий привел к мосту, переброшенному от Омского правительства прямо к большевикам. Поэтому Яковлев 28 декабря счел за благо уйти» [II, с. 485—486].
Двойственность Яковлева (он первый предупредил Пепеляева о заговоре) может быть до некоторой степени понята только в том случае, если предположить, что Яковлев, сочувствующий эсерам, считал их тактику безнадежной и хотел действительно избежать кровопролития14. И все-таки многое остается неясным и странным. Для проф. Легра Яковлев — вождь иркутского восстания.
Действующим лицом на иркутской арене оставался кап. Решетин, вошедший еще раньше, до восстания, в соглашение с подпольной организацией коммунистов. 28-го утром со своими большевицкими частями (это и была «национальная сибирская революционная армия») Решетин повел из Глазкова наступление на город, но был отброшен. Враги стали на берегах, и так как силы были почти равны, то «борьба затянулась так же, как и в 1917 г., на 9 тяжелых дней»... «»В это время господа иностранные высокие комиссары, — заключает автор иркутской летописи, — сидя в своих вагонах на станции, которую они предусмотрительно объявили нейтральной, наблюдали борьбу, ожидая развязки». 29-го бой продолжается. 30-го сычевские егеря переходят на сторону Решетина, но на следующий день возвращаются назад15. Судьба части их была печальна — они были перебиты во время перебежки; раненых... никто не хотел убирать. И они замерзали, обращались в комья, которые топорами вырубались по окончании боев... 31-го начался бой с подошедшими семеновцами16. Бой повел Калашников во главе двух батальонов 53-го полка и пулеметной команды подошедшего партизанского отряда. Успех колебался. В это время железнодорожники остановили броневой поезд Семенова, пустив ему навстречу паровоз. Удачной атакой Калашников захватил 70 чел. пленных. «Иркутское восстание было спасено этой минутой», — говорит обозреватель. Во время боя на правом берегу Ангары сотни иркутян, собравшись у здания университета, с разными чувствами следили за исходом.
— Семеновцы разбиты, семеновцы побежали, — пошла молва по городу. — Исчезли последние надежды на спасение Совета министров, исчезла последняя угроза революционному Иркутску.
— Но что же японцы?
— Ничем не могли помочь...
— Почему же? Союзники опять помешали?
— Нет. Смешно сказать, но их четыре эшелона, следовавших в Иркутск, напугавших чехов и русских, оказались почти с пустыми вагонами.
Поведение семеновцев не совсем понятно — оно как-то слишком пассивно. Швед Эссен, проводивший этот день на вокзале, определяет число их «на глаз» от 1500— 2000 чел.17 Победоносные реляции «нар.-рев. армии» первый же день боя представляют разгромом семеновцев: «потери убитыми и ранеными велики; у нас один убит и шесть ранены». В чем секрет этого странного отступления и пассивности всех действий? Или у Семенова не было большого стремления спасать колчаковское Правительство, или его помощь встретила слишком большую оппозицию у союзников18, не всегда пребывавших в состоянии того «странного нейтралитета», о котором говорил в Иркутске Благош сотруднику Р. Т. А. 1 января Благош отмечал в интервью, что семеновцы не были лояльны и не очистили жел. дороги, но чехи выступят только в том случае, если восстание примет «большевицкий характер» [«Из. Р. Т. А.», № 148]. По словам того же Эссена, чехи не скрывали своих чувств: «было ясно видно, что симпатии чехов принадлежали красным»19. В значительной степени прав Ган, утверждающий, что «нейтралитет» союзников свелся к недопущению семеновцев соединиться с правительственными войсками [Два восстания. С. 174].
1 января разгорелся «самый упорный и самый жестокий уличный бой». «Ухали пушки, трещали в морозном тумане пулеметы и ружья. В первый день нового года брат убивал брата, товарищ товарища, — описывает все тот же современник. — С небывалым ожесточением обе стороны шли друг на друга, добивая раненых, не беря никого в плен. На стороне Решетина дрались даже подростки 14—16 лет; у Сычева их ровесники — ученики кадетских корпусов. Наступление снова и с большими потерями было отбито отчасти и потому, что в бою впервые приняли участие семеновцы, прибывшие с тракта и на пароходе из Листвиничной с Байкала».
Городская милиция продолжала держать нейтралитет; почти аналогичную позицию занимали и казаки. Надо было как-то разрубить узел запутывавшихся событий. На сцену выступают «нейтральные» союзники.
3. Переговоры
По рассказу N, инициатива пришла от ген. Жанена, решившего под влиянием якобы Сырового «кончить затянувшуюся борьбу, приведя обе стороны к миру в пользу П. Ц., представители которого дневали и ночевали в вагоне ген. Жанена». По словам Гинса и в изображении документа, носящего название «Стенографический отчет переговоров о сдаче власти Омского правительства Пол. Центру в присутствии высоких комиссаров высшего военного командования Держав, г. Иркутск (станция). Январь 1920 г.»20, инициатива исходила от «троектории» (так называлось министерство Червен-Водали, Ханжина, Ларионова, несших еще «бремя власти»).
Нам предстоит вновь попасть на представление написанной в торжественных тонах лжеклассицизма трагикомической пьесы, которая разыгрывалась на иркутских подмостках.
Картина первая представляет заседание 2 янв. в вагоне ген. Жанена. Присутствуют высокие комиссары Франции, Англии, представители Соед. Штатов, Японии и Чехии (персонально Монгра, Ходсон, Гаррис, Като, Блос и др.). Ждут прибытия членов Правительства адм. Колчака. Открывается заседание. Жанен указывает на необходимость достигнуть если не соглашения между противными партиями, то, по крайней мере, мира и прекращения кровопролития. Для того чтобы иметь ясное представление о всем происходящем, необходимо выслушать обе стороны.
Като (нервно). О чем они будут просить?
Жанен (раздраженно). О пустяках. Вы можете быть в этом уверены.
Затем Жанен говорит, что «войска Семенова абсолютно не способны защитить свое правительство... Они бы принесли гораздо больше пользы, если бы оставались спокойно в Чите. Здесь же они только мешают движению (железнодорожному)».
Монгра. Но ведь это революционеры портят путь.
Де Латур (маркиз-майор). Потому что там войска Семенова...
Входит Червен-Водали. Речь его носит странный характер в передаче стенограммы Джемса. Она грубо элементарна — очевидно, в целях воздействия на высоких комиссаров... Такая демагогия была, однако, в корне ошибочна. Червен-Водали говорит, что политика Правительства была до сих пор никуда негодной:
«Мы поделились нашими21 впечатлениями с адм. Колчаком, но... он... не сделал ничего другого, как только передал власть Пепеляеву. Это обстоятельство поставило нас перед следующей дилеммой: или дать возможность образоваться совершенно реакционному кабинету и отказаться войти в него, или же согласиться и сотрудничать с Пепеляевым, чтобы попытаться по возможности улучшить положение». Лица, прибывшие с юга России, выбрали последнее. Дальше Чер,-Водали излагает политику соглашения с земцами, но последние высказались в пользу соглашения с большевиками. Такая точка зрения была недопустима. «Вы, может быть, думаете, что движение, которое теперь развертывается перед вашими глазами, не что иное, как движение соц.-рев. земства, но мы убеждены, что это не так. Сегодняшнее возмущение направлено к тому, чтобы открыть дверь большевизму». Указывая, что оставшиеся министры намереваются предложить адмиралу передать титул Верховного правителя Деникину, Червен-Водали ставит вопрос: «Может ли Правительство рассчитывать на поддержку в борьбе с возмущением?»
Дипломатические делегаты и военные представители удаляются и затем сообщают, что «не имеют возможности дать окончательный ответ на предложенный вопрос»22. Тогда Чер.-Водали указывает, что остается только просить о посредничестве и об установлении перемирия. Правительство готово принять следующие условия:
«1) Военные действия между обеими сторонами должны быть немедленно прекращены. Чтобы гарантировать исполнение этого первого пункта, город, станция и предместье Глазково будут заняты войсками союзников.
... Союзники... обеспечат свободный проезд на Восток адм. Колчаку, председ. Совета Пепеляеву, министру Устругову и другим военным и политическим деятелям, желающим быть эвакуированными... Будет обеспечена быстрая эвакуация Иркутского гарнизона, который за недостатком подвижного состава отправится форсированным маршем до Байкала, чтобы затем пароходом переправиться до Мысовой. Также будет разрешено Правительству, чиновникам правительств, учреждений и их семьям покинуть область. Кроме того, Союзное Командование обеспечит всему русскому золоту... эвакуацию на Восток. Золотой запас, находящийся в поездах, должен считаться принадлежащим Всероссийскому правительству и, следовательно, не может быть передан никакому частному Правительству, а только представителю всей страны, и все это под охраной междусоюзнических частей и при формальном удостоверении Высоких Комиссаров...
Что касается бумажных денег... можно будет оставить... некоторую часть новой власти, приблизительно... одну десятую...
Мы не желаем и не можем передать нашу Правительственную власть, т. к. считаем себя центральной властью всей России, тогда как здесь составится только областная организация» [с. 13-14].
Ответ «Союзных Комиссаров» гласил:
«Союз. Выс. Комиссары были бы готовы официально предложить услуги для того, чтобы установить отношения между обеими сторонами и, следовательно, прозондировать членов Иркутского Полит. Центра на тот случай, если бы они были готовы начать переговоры с Правительством. Союзн. Представители, однако, считают для себя невозможным распространить свое вмешательство так далеко, а также не могут взять на себя ответственность за исполнение предложенных условий, они должны обсуждаться непосредственно между делегатами обеих сторон».
Запрашивается кап. Калашников. Тот отвечает:
«Хотя мы и располагаем достаточными силами, чтобы достичь хорошего результата при помощи оружия, я присоединяюсь к предложению Г.г. Выс. Комиссаров нам дружественных Держав, сделанному... во имя человеколюбия и чтобы остановить кровопролитие в бесполезной борьбе между гражданами одной страны».
Представители П. Ц., находившиеся в это время в штабе револ. войск, присоединяются к декларации кап. Калашникова и назначают трех делегатов для переговоров.
Таким образом, устанавливается перемирие на 24 часа.
Первое действие закончено.
* * *
3 января.
Делегаты Правительства собираются в поезде ген. Жанена, представители П. Ц. — в поезде Ходсона. Происходит обмен условиями, которые пересылаются со смешной торжественностью в запечатанных конвертах. Ответные условия П. Ц. заключали следующие пункты:
«1) Во время перемирия не должно быть предпринято ни одно военное действие.
2) В настоящее время из Иркутска не могут быть вывезены или эвакуированы имущество и драгоценные предметы Правительства.
3) Пароходы, как и всякая другая национальная собственность, которые были увезены куда-либо Правительством Адм. Колчака, должны быть возвращены.
4) Войска Семенова должны отступить за пределы Иркутской губ.
5) Охрана туннелей и путей от Слюдянки до Иркутска будет поручена и немедленно передана войскам Национ. Революц. армии.
6) Юнкерские школы и все политические организации, принимавшие участие в бою, будут разоружены.
7) Локомотивы и весь подвижной состав Иркутской ж.-д. сети должны остаться на месте.
8) Адм. Колчак должен немедленно подать в отставку.
9) Совет министров должен подать в отставку.
10) Ат. Семенов должен отказаться от всех должностей, которые ему были пожалованы Адм. Колчаком.
11) Политические личности, которые виноваты в настоящей гражданской войне, должны быть переданы Новому Правительству.
12) Все виновные лица должны быть преданы суду» [с. 20—21].
Правительственная делегация просит враждебную партию отказаться от пунктов 11 и 12, указывая, что «Правительство всегда пыталось найти мирный исход; в конфликте всецело виновны восставшие». Представители П. Ц. упорствуют:
«Ответы данные Правительством на 12 пунктов наших условий перемирия, производят впечатление полного отсутствия искренности. Кажется, будто Правительство желает выиграть время, чтобы восстановить свои силы и мобилизовать их в Забайкалье с тем, чтобы продолжать гражданскую войну, от которой уже достаточно страдала страна. Согласно условиям, которые нам предложены, вновь установленная власть с самого начала была бы под угрозой от власти, находящейся в Забайкалье. Не имея достаточно смелости, чтобы с пользой провести задачу демократической реорганизации, которую власть хочет предпринять, эвакуация частей Сибирской армии открыла бы совершенно свободный доступ в страну советским войскам (sie!). К тому же образование Нового Государства в Забайкалье заставило бы новое Правительство капитулировать перед большевизмом. Эти ответы ни в каком случае не могут удовлетворить делегатов Политического Центра» [с. 23].
Так или иначе, в конце концов, делегаты обеих сторон решают все же собраться вместе. Опять идут прения о невывозе ценностей, о недопустимости эвакуации армии, потому что предполагается организовать «буферное» государство и армия должна быть с Правительством («демократическое Правительство», по словам с.-д. Ахматова, «не покидает мысли о борьбе с большевизмом»).
Предложено перемирие продолжить еще на 12 часов.
* * *
4 января.
Налицо представители П. Ц. Члены Правительства отсутствуют. Иваницкий-Василенко спрашивает высоких комиссаров:
«...Мы достаточно сильны, чтобы отбросить реакцию, но мы беспокоимся за то, что может произойти извне. Вот почему мы обращаемся к Вам, г.г. Выс. Комиссары, и надеемся, что Вы дадите нам искренний ответ, обращаясь не только к нам, но и ко всему народу в стране и армии, которые спрашивают Вас, не окажет ли союзное вмешательство в виде союзных войск помощь для спасения умирающего Правительства?» Монгра. Я могу ответить от имени Иностран. Представителей, что иностранные войска сохранят полнейший нейтралитет и не вмешаются в борьбу П. Ц. против настоящего Правительства.
В ожидании членов Правительства заседание не открывается23. «Это наводит на подозрение относительно соблюдения перемирия», — беспокоится Ахматов. Союзные комиссары смотрят на часы и «качают головою». Врывается новый персонаж в лице какого-то казачьего офицера. Сняв папаху, он произносит довольно сумбурную (во всяком случае, по записи Джемса) речь:
«Я представитель Казачьих Войск... Я пользуюсь этим случаем, чтобы довести до сведения г.г. представителей Полит. Центра, что у меня есть бумага, уполномочивающая меня (...) начать переговоры с вами. Иркутские войска, все время имеющие в виду борьбу с большевиками, были искусственным образом вовлечены к употреблению оружия против земств. Желая покончить возможно скорее эту борьбу, изменнически замышленную Правительством, мы решили, что сегодня в 12 ч. ночи, каково бы ни было принято решение, протрубить сбор всех наших частей и объявить, что мы не желаем больше принимать участия в борьбе. К тому же... мы еще ставим в известность Полит. Центр о следующем: настоящая борьба больше продолжаться не может, продолжение ее только развивает большевизм и возбуждает страсти. На фронте в Канске у нас есть полк, который мы желаем эвакуировать и поставить в безопасное место. Для этого мы обращаемся к Полит. Центру, которому к тому же объявляем, что мы не потерпим никакого вмешательства в наши внутренние дела, решаемые выборными депутатами, избираемыми среди казачьих войск и казачьего народа. Я вам говорю это с согласия Казачьего Круга».
Последние слова произвели «ошеломляющее впечатление» на всех присутствующих... некоторое молчание... Казачий офицер стоит на месте, ожидая ответа и желая подать свое верительное письмо... никто не берет его... Отвечает наконец Ахматов:
«От имени Полит. Центра я прошу Вас передать Казачьим Войскам и Народу, что мы благодарим их за то... что они поняли... свое место. По отношению к ним мы исполним обязательства, которые мы на себя приняли. Они не будут преследуемы, так как они были искусственно вовлечены в борьбу. Мы ручаемся, что оставим неприкосновенным образ демократического исторического Казачьего Правления, который казаки установили у себя уже так давно» [с. 47].
Прибывают наконец члены Правительства, и начинается словопрение о сдаче власти.
Ахматов. Сегодняшнее заседание начинается с большим запаздыванием, перемирие близится к концу, и... ввиду того, что мы вчера обсудили политическую сторону всех вопросов, мы можем сегодня строго ограничиться практическим решением и привести нашу работу к двум пунктам:
1) Акт отречения Адмирала Колчака и отставка министров.
2) Передача власти Полит. Центру.
Я должен Вам, господа, заявить, что Политич. Центр решил ни в коем случае сегодня после 12 часов ночи не продолжать перемирие, и приказ Полит. Центра последовал Военному Командованию о возобновлении военных действий, если от нас не поступит другой приказ до 11 с половиной часов.
Червен-Водали. Позвольте мне спросить по поводу первого пункта. Распространится ли Ваша власть на всю Россию или она будет только в Сибири? Мне кажется, что она скорее местная ввиду своего примитивного характера. Разрешив этот вопрос, мы легче можем приступить к другим. Мы совершенно согласны с Вами относительно адмирала Колчака, и... мы считаем, что созданное им Правительство не может быть восстановлено... тем не менее... идея обшей власти должна быть сохранена. Колчак должен сойти со сцены и одновременно с ним Совет министров. Он же передает Вам всю власть. Оставляя в стороне общую русскую власть, Омское пр-во, передавая все свои права с точки зрения Сибири,... настоятельно желало бы, чтобы власть на всю Россию была бы передана единственному Представителю Русского Объединения — Ген. Деникину. Я уже говорил об этом с моими коллегами, у нас не было достаточно времени в нашем распоряжении для осуществления этого желания. Мне кажется, что и теперь... это очень важно, чтобы не забылась... мысль об единой России. Мы полагаем, что Полит. Центр не таит в своих намерениях никакой идеи сепаратизма и что отделение Сибири лишь временное явление.
Ахматов. Мысль о передаче власти, которая была в руках Адмирала, Ген. Деникину должна быть в настоящее время оставлена. От Адмирала до сих пор не имеется известий. Насколько доходят сюда сведения с Юга, участь Сибири постигнет и территорию Южного пр-ва Деникина. Можно со спокойной душою сказать, что происходит самоликвидация Всероссийского пр-ва, основанного Адм. Колчаком, и только, так как Союзники это Пр-во Всероссийским не признавали. Мне кажется, что Пр-во без территории в гражданской войне не есть Пр-во. Этого... г.г. ... не следует забывать. Образуя Сибирское пр-во, мы не покидаем мысли о Единой России, но у нас совершенно иные способы осуществить это, чем у Вас. Мы желаем произвести объединение всех демократических ячеек, которые составились вокруг советской власти. Они приобретут власть и примут все вместе взятые единую Россию24. Отставка Колчака должна быть полная и совершенная, его министры также должны отказаться от власти в Сибирском пр-ве.
Червен-Водали. Я понял, что власть Омского пр-ва должна быть Вам передана в смысле власти всей России. Что касается Деникина, то не годится отклонять разрешения этого вопроса, он... занимает слишком большое протяжение территории и совершенно очевидно... что наша отставка не может означать его подчинение Вам... Лучше было не затрагивать этого вопроса... [с. 49-50].
Пол. Ц. желает не только ликвидации Правительства в Иркутске, но и преемственной передачи власти на всей территории Сибири.
Червен-Водали. ... Восток в действительности... от нас ускользнул. Было бы логичнее сказать, что мы перестаем существовать... прибавив, что в теории власть должна быть передана сибирск. Наииои. Собранию, которое определит се будущую форму.
Ахматов. По этому поводу мы можем принять решение, которое мы формулируем таким образом: «Власть передается Национ. Собранию, которое будет созвано Полит. Центром или правительственным органом, созданным этим последним и берущим на себя власть до созыва Собрания». Это можно принять при условии, что некоторые другие пункты получат удовлетворение. Самое главное... это отдать в наши руки все ценности, которыми располагает Правительство [с. 57-54].
Нудно тянутся переговоры и неожиданно сразу обрываются. Приходит сообщение, что правительственные войска уже оставили город. Тогда вмешивается Жанен и берет на себя охрану города. Но кап. Калашников успел его предупредить и ввести в город свои войска, — конечно, «по просьбе самого населения».
Переговариваться уже не о чем. Все расходятся, «не подписав ни протокола, ни порядка дня». 11 час. 25 мин. вечера. Делегаты враждебных партий мирно беседуют маленькими группами. Получается впечатление вечера, который заканчивается... Все смеются, даже раздаются шутки... Слышно, как на перроне вокзала расставляются караулы революционных войск... Все эти штрихи зарегистрировала стенографическая запись.
Я думаю, сам читатель даст оценку этого изумительного документа и персонажа, в нем фигурирующего. Только прочитав его целиком, можно понять всю бытовую красочность одной из последних драм гражданской войны. Шутка и смех... могли быть жутким предзнаменованием личной судьбы Червен-Водали.
* * *
В дни «переговоров» при «нейтралитете» союзников в пользу Пол. Ц., при отсутствии активной помощи со стороны Семенова, при своеобразном нейтралитете части русских вооруженных сил дело Правительства, очевидно, уже было проиграно. Это должно было быть ясно «троекратии». Поэтому очень неблагоприятное впечатление производит факт — посылка «Советом» министров 3 января телеграммы Верховному правителю с предложением отказаться от власти в пользу Деникина:
«...Положение в Иркутске... заставляет нас... решиться на отход на восток, выговаривая через посредство союзного командования... перевод на восток антибольшевиикого центра, государственных ценностей и тех из войсковых частей, которые этого пожелают. Непременным условием вынужденных переговоров об отступлении является ваше отречение, так как дальнейшее существование в Сибири возглавляемой вами российской власти невозможно. Совмин единогласно постановил настаивать на том, чтобы вы отказались от прав Верховного правителя, передав их ген. Деникину... Это даст возможность согласить идею единой всероссийской власти, сохранить государственные ценности и предупредить эксцессы и кровопролитие, которые создадут анархию и ускорят торжество большевизма на всей территории. Настаиваем на издании вами этого акта, обеспечивающего от окончательной гибели русское дело. О необходимости обеспечить передачу верховной власти Деникину телеграфировал уже раньше Сазонов» [Последние дни Колчаковщины. С. 162—163]25.
Это был ненужный уже жест. Его возможно объяснить только полной растерянностью иркутской власти и слабой надеждой таким путем воздействовать на ген. Жанена и Сырового совершить ту эвакуацию на восток, о которой говорила вторая половина посланной адмиралу телеграммы26.
Жизнь всегда разбивает утопии. Гинс говорит, что он предупреждал «троекторию», что «заключение перемирия до принятия противником предварительных условий и без получения от союзников письменной гарантии, что они будут поддерживать основные условия, было равносильно предательству» [с. 492]. Гинс утешает себя тем, что фактически «передачи» власти Пол. Ц. не произошло и что «согласия на такую передачу никогда официально заявлено не было». «Политическая смерть, — заключает он, — лучше измены убеждениям»...
По внешности легкую победу П. Ц. дало бегство ген. Сычева. Одна деталь объясняет поведение начальника Иркутского гарнизона. В момент обсуждения в «Совете» министров вопроса о передаче власти Чер.-Водали вызвал Сычева и заявил ему, что Правительство уже решило сдать власть [Гинс. II, с. 496]. Сычеву после этого ничего не оставалось более, как отдать приказ о стягивании остатков войск в определенное место для отступления: ведь «виновники» борьбы подлежали ответственности.
Отступление остатков сычевского гарнизона сопровождалось вывозом арестованных раньше участников восстания в количестве 31 человека27. Попав позже в руки отряда ген. Скипетрова, они, как сообщалось, погибли ужасной смертью. Эту гибель сделали демагогическим средством агитации против Колчака. Парижская «Pour 1а Russie», не колеблясь, приписала и здесь ответственность лично Верховному правителю: он взял из Иркутска «заложников» и передал их Семенову, а проф. Легра не только отметил эту ответственность в дневнике (это было бы еще понятно), но и через 10 лет твердо стоит на своей позиции. (При чем здесь Колчак, изолированный и фактически «арестованный» в Нижнеудинске?) В действительности это было, конечно, одним из безумий гражданской войны, вызванным чувством мести со стороны тех безответственных, огрубелых и примитивных людей, которых было так много в Сибири. «Садический разгул агентов забайкальского атамана предрешил судьбу адм. Колчака», — констатирует Парфенов, но никто, кажется, потом не поднимал голоса протеста против разгула появившегося в Иркутске партизанского отряда Каландарашвили, который жестоко расправлялся с учениками кадетских корпусов, участвовавшими в боях.
Обстановка, при которой произошла забайкальская расправа, может быть, даже снимает долю ответственности за нее и с непосредственных начальников семеновских отрядов. После конфликта 1 января с чехами (на ст. Байкал семеновские солдаты были обстреляны чехами из пулеметов) семеновцы прервали движение на жел. дороге (сделали это, возможно, и не семеновцы). Для чехословаков перерыв пути был зарезом. Они потребовали очищения Кругобайкальской жел. дор. от семеновских войск. Такой ультиматум был предъявлен Семенову через японцев Дипломатическим корпусом.
За ультиматумом последовало 8 января насильственное разоружение отряда Скипетрова, причем, по извещению Пол. Ц. [«Бюллетень,» № 7], операциями против семеновских войск на Байкале руководил сам ген. Жанен. В такой обстановке и произошло убийство «заложников» 6 января — перед этим были частично неожиданно разоружены отдельные семеновские части. Между тем само разоружение официально мотивировалось только фактом убийства заложников28. Специальная комиссия, организованная 13 января П. Ц. и расследовавшая (при участии представителей военных миссий: французской, британской, чешской и японской) условия гибели «заложников» на ледоходе «Ангара», установила, что «зверское убийство на Байкале было произведено по распоряжению начальника читинской контрразведки Черепанова». По сведениям комиссии, было убито 31 чел.: 13 соц.-рев. максималистов, 6 коммунистов-большевиков, остальные — сторонники Пол. Ц. Среди погибших были так много сделавшие в первый период борьбы с большевиками члены У. С. эсеры П. Михайлов и Б. Марков29. Убийства задевали самолюбие Жанена, потому что он до некоторой степени гарантировал безопасность арестованных (обращение П. Ц. к комиссарам иностранных держав [Последние дни Колчаковщины. С. 179]). Это не помешало генералу с некоторым удовлетворением при переговорах с П. Ц., требовавшим выдачи виновных в расправе (они были арестованы чехами), заявить: «Не будь меня, эти люди были бы в Чите. Надо сделать так, чтобы преступники получили надлежащую кару возмездия. Это надо обсудить в военных союзных миссиях»...
Но в действительности «отцы крестные» новой власти стремились только поскорее уехать из злосчастного Иркутска. «Содружество союзных армий, — говорит Грондиж, — распалось вследствие падения Омского правительства. Они разбились на рассеянные национальные группы, каждая из которых, обуреваемая страхом запутаться в сибирских препятствиях, пыталась с этого момента бежать из Пандемониума на свой страх, не взирая на соседа» [с. 548]. Дополняет картину Гинс описанием иркутской обстановки:
«Едва только закончилась катастрофа, как загудели гудки, ожила станция, зашевелились эшелоны. Спешно, один за другим, мчались на восток поезда иностранных представителей, грузились миссии, эвакуировались иностранные подданные, как будто бы новая власть, народившаяся при благожелательной поддержке иностранцев, была им врагом, а не другом... Некоторые иностр. эшелоны оказывали гостеприимство отдельным политическим деятелям. Вывезли многих американцы, кое-кого из офицеров — французы, но больше всего, целыми поездами, вывозили русских японцы» [II, с. 502].
4. «Волею народа»
«Власть Российского правительства адм. Колчака, власть реакции, сметена волею восставшего народа», — торжественно вещало сообщение П. Ц. 5 января [Последние дни Колчаковщины. С. 175]. «Народные массы встретили свержение колчаковского ига восторженно», — добавляют официальные «Известия Инф. Бюро» [№ 2]. Неофициально итоги подводились иные. «Вечером 5 января у одного из местных эсеров, — рассказывает N, — был обед, на котором присутствовало большинство «центропупа» (так окрестила демократия новую власть с первого дня ее существования). «Итак, вы власть, — сказал один чех, присутствовавший на обеде. — Надолго?» — «Не знаем сами», — откровенно кто-то ответил из членов». Власть перешла «ко всему народу», власть «должна быть устроена самим народом». Но так как в условиях «переживаемой действительности и непрерывающейся борьбы с темными силами реакции» не было возможности «скоро созвать орган, вполне и совершенно выявляющий народную волю», Пол. Ц. объявил 5 января созыв на 12-е «Временного Совета сибирского Народного Собрания», которому и обещал передать власть по его сформировании. В состав Временного Совета должны были войти: 8 членов от Пол. Ц.; 6 членов, избранных от земства, 3 от городских самоуправлений, 3 от кооперации, 3 от «трудового крестьянства», 3 от «проф. раб. объединений» [Последние дни Колчаковщины. С. 176]. Чрезвычайно характерно, что обещанное раньше казачье представительство совершенно исчезло.
Одновременно, очевидно, той же «волею народа» создавались городские и уездные следственные комиссии для рассмотрения дел о лицах, арестованных в период свержения власти Правительства Колчака во внесудебном порядке, а равно для производства, в случае неотложной необходимости, в связи с происшедшим государственным переворотом, новых арестов и обысков в том же порядке. Следственные комиссии получили право освобождать «задержанных без достаточных к тому оснований, за исключением лиц, занимавших «ответственные должности» или видное положение в органах свергнутой власти» [там же. С. 177-178].
П. Ц. уведомил представителей иностранных держав, что власть низвергнута «в значительной части не занятой советскими войсками Сибири» народным движением «под лозунгом демократической государственности». По привычке деятели П. Ц. спешат надеть тогу самого «последовательного демократизма», которая так мало подходила ко всей их деятельности, и заявить:
«...B этой борьбе с пережитком автократического строя П. Ц. и объединенная им демократия не ищут вооруженной помощи извне, считая недопустимым и пагубным для самой идеи истинно демократической государственности вмешательство иноземных сил в разрешение внутренних конфликтов, переживаемых страной и народом. Однако П. Ц. должен констатировать, что иностранные правительства... проводят политику систематического и последовательного вмешательства, нарушая суверенитет страны... Одним из фактов, грубо нарушающих суверенные права русского народа, является нейтрализация жел.-дор. линии... При этом сама форма нейтрализации выражается в систематическом препятствовании... оперативным действиям Народной армии П. Ц. и в предоставлении свободы ат. Семенову и его наемным войскам в борьбе с демократией...
...Усматривая в политике союзных держав стремление насильственно навязать России чуждый народному правосознанию антидемократический строй, П. Ц. настаивает на немедленном прекращении гибельной для страны поддержки реакционных отрядов... всякую политику вооруженного вмешательства со стороны иностранных держав он будет рассматривать как объявление войны русской демократии... [Последние дни Колчаковщины. С. 174].
Вся эта помпа была какой-то «демократической» забавой.
Фактические союзники П. Ц. в иркутских боях считали, что воля-то народа у них, но временно полагали нужным еще сохранить состояние «вооруженного нейтралитета». Это с самого начала создало в Иркутске двоевластие. Посылая своих представителей во Врем. Сов. Нар. Упр., губернский совет проф. союзов доводил до сведения П. Ц., что «единственной твердой, выражающей волю трудящихся формой власти является советская конституция, осуществляющая диктатуру пролетариата и крестьянства». Совет посылал своих представителей «с наказом о скорейшем осуществлении советской конституции как обязательной победы над реакцией и замены ею власти П. Ц.» [там же. С. 190].
В манифесте к населению П. Ц. говорил: «Власть П. Ц., власть гражданского мира, предпринимает немедленные шаги к установлению перемирия на советском фронте и начинает переговоры с советской властью» [Борьба за Урал. С. 289]. С этой целью в Ревсовет 5-й Советской армии в Томск была отправлена особая делегация во главе с меньшевиком Ахматовым, к которому должен был присоединиться ведший в Красноярске переговоры с.-р. Колосов30. С делегацией ехал коммунист Краснощекое. Делегация должна была достигнуть признания со стороны большевиков «буферного» демократического государства и заключить совместный союз для борьбы с реакцией.
Пока велись переговоры в Томске, иркутские коммунисты открыто собирали свои силы. Положение П. Ц., по мнению иркутского коммуниста Ширямова, почти с первого же дня ничем не стало отличаться от положения только что свергнутого Правительства:
«Почти вся область была уже советской, и только Иркутск должен был занять выжидательную политику, вследствие присутствия в городе чехов и союзников... Мы поставили себе две цели: добиться Созыва совета раб. деп. и создать для него вооруженную силу, достаточную для отпора чехам... Опираясь на дружины, мы с первого же дня восстания легализировали свою работу. Объявили запись в партию, с 7 января стали издавать газету «Сиб. Правда»... «Сиб. Пр.», резко нападая на Полит. Центр, открыла кампанию за Советы и вызывала ежедневные запросы чехов Политцентру о ее правах на существование... Политцентр вынужден был принять это требование (созыв Совета р. д.), была образована специальная избирательная комиссия, и созыв Совета был назначен на конец января. Одновременно шло накопление наших вооруженных сил... Спешно проводились новые формирования, к Иркутску были подтянуты некоторые из партизанских отрядов; один из них, отряд Каландарашвили, стоял под самым городом. Еще в дни восстания к нам присоединились левые эсеры. Они занимали в армии и в штабе Политцентра ряд командных должностей; при их посредстве ни одно распоряжение штаба не ускользало от нашего внимания. Мы стремились собрать вокруг себя достаточно сил для борьбы за советы, не против Политцентра, который никакой силы не представлял, а против чехов... В сущности, с первого же дня после занятия города и широковещательного манифеста Политцентра началось и его разложение. Вступить в пего мы отказались, но представителя комитета послали с мандатом «присутствовать на заседаниях с информационной целью» [Борьба за Урал. С. 290—291]31
Центр. Ком. партии с.-р. успел принять постановление, в котором выражалось «глубокое моральное удовлетворение» по поводу происшедших событий. Московские руководители партии усматривали «в них осуществление в жизни решения IX Совета партии — перенести центр тяжести борьбы против контрреволюции на территорию этой последней, взрывая ее изнутри и борясь против нее не под знаменем большевиков, а самостоятельно и независимо от них, в первых рядах самого восстающего народа». ЦК «горячо» приветствовал «товарищей, сумевших выполнить долг чести партии по отношению к Сибири и к Правительству Колчака, предательски задушившему в Поволжье (?), Урале и Сибири дело Учредительного Собрания». В то же время ЦК одобрял «примирительную тактику по отношению к наступающим большевицким силам» и возлагал «всю ответственность за дальнейшие внутренние смуты и роковые международные осложнения... всецело на совесть безответственных диктаторов правящей партии» [постановление 28 января. — Последние дни Колчаковщины. С. 187-188].
Когда принято было только что процитированное постановление, «социалистического» правительства в Иркутске уже не существовало. За время своего кратковременного функционирования оно успело лишь в области экономической принять ассигнование на покрытие расходов по организации восстания Пол. Центра (10 1/2 млн руб.) и Воен. Соц. Союза (2 '/2 млн), объявить врагом народа Верховного правителя и восстановить смертную казнь32, причем в законопроекте о военно-полевых судах наказанию до смертной казни включительно подлежали виновные в нападении на жел. дор., на места заключения, в убийствах и т.д. [«Бюл. П. Ц.», №9, 17 января].
Примечания к главе третьей:
1 С.-р. «Воля» позже [1 января 1928 г.] сообщает, что краевым комитетом была выбрана пятерка для диктаторского руководства всей партийной работой на время подготовки и проведения восстания.
2 Спрашивается, каким образом мог Зензинов 17 января 1920 года в «Pour la Russie» [№ 12] категорически заявлять о лживости телеграммы Колчака, будто бы эсеры в Иркутске хотят мира с большевиками. Зензинов писал: «имя партии» с.-р., которая «первая (?!) подняла знамя борьбы против большевизма», гарантирует от подобного шага. Такой телеграммы в эти дни Колчак, конечно, давать не мог в тех условиях, в которые он был поставлен. Надо думать, что здесь имеется в виду или сообщение Червен-Водали 26 декабря о том, что «эсеровщина только прикрытие большевизма», или с запозданием проникшая в печать телеграмма Сукина 20 ноября, в которой говорилось, что лозунгом противоправительственного движения является «начатие мирных переговоров с большевиками». Зензинов в то время проявил лишь неосведомленность и непонимание своих партийных единомышленников в Сибири. Краковецкий, напр., в своем «покаянном» письме [«Сиб. Огни», 1922, № 1, с. 189] усиленно подчеркивает, что, принимая участие совместно с коммунистами в двух восстаниях, он держался коммунистических взглядов уже в 1919 г.
3 Экономическая платформа заключала, между прочим, пункт о «коллективизации тех отраслей промышленности, которые могут быть обобществлены при настоящем уровне... народного хозяйства», и о регулировании земельных отношений на основе закона о земле Учр. Собр. По поводу этой декларации «Чехосл. Дн.» [№ 231] писал: «Мы серьезно сомневаемся в том, что Сибирь в данный момент является зрелой для чисто социалистического правительства». Чешский орган указывал представителям российской «революционной демократии» на то, что конструкция классового представительства, намечаемого ими, противоречит представлению о демократии.
4 Достаточно прочитать отчет об «очередной субботке» в клубе Патлых 6 декабря, на которой собравшейся публике была доложена «живая газета» № 3. Это было сплошное издевательство не только над властью, но и над неудачами на фронтах [доклад контрразв. отд. — Последние дни Колчаковщины. С. 70].
5 Раков объясняет эту «легкость атмосферы» деятельностью Яковлева и промежуточным (!!) географическим положением Иркутска между Колчаком и Деникиным.
6 О готовящемся восстании знали решительно все, говорили и об участниках заговора вплоть до раскрытия псевдонимов (Йог. Фауст — Пав. Михайлов).
7 События довольно точно изложены также у Гинса.
8 По словам Гинса, все пароходы через Ангару находились также в руках чехословацкого отряда.
9 Интервью чешского представителя в Марселе [«Matin», 16 июня 1920 г.]. Гинс в декабрьской телеграмме Колчаку не так определенно рисует местную чешскую политику: «Чехи, понимая безвыходность положения, не желая воевать, мечутся между эсерами и большевиками, боясь активных действий, но опасаясь, в случае бездействия, попасть под иго анархии или оказаться лицом к лицу с большевиками. Их выступления типичны: они выражают полное недоверие к тому, что существующая власть способна остановить напор большевиков и уберечь страну от анархии. Отсюда их колебания между преобразованием власти и миром с большевиками» [Последние дни Колчаковщины. С. 126]. В. Иванов, со слов д-ра Гербека (пом. ред. «Чехосл. Дн.»), говорит, что Калашников накануне переворота имел с ним совещание [«В гражданской войне», № 76].
10 N сообщает, что поздно ночью к Яковлеву явился «представитель большевицкого штаба» Михайлов, который просил Яковлева гарантировать безопасность политических заключенных. Яковлев дал такую гарантию, а взамен получил слово, что при переходе власти к советам ни солдаты, ни офицеры отряда и милиции не будут преследоваться за прошлую борьбу с большевиками. Михайлов с своей стороны утверждает, что с просьбой прислать представителя для переговоров обратился в иркутский Комитет коммунистов сам Яковлев.
11 Дюбарбье объясняет это стремление чехов сохранить вокзал «нейтральной зоной» желанием обеспечить себе эвакуацию [с. 442].
12 Губернское земство было «целиком эсеровское». Меньшевики называли его «с.-р. вотчиной» [Раков].
13 Б. И. Элькин, опубликовавший этот документ (из собрания «Кабинета русской культуры» в Берлине) в «Голосе Минувшего», приводит и телеграмму «Чехосл. Дн.» 28 декабря о какой-то семеновской части, находившейся будто бы на иркутском вокзале и частью сдавшейся повстанцам, а частью разбежавшейся. Автору представляется это сообщение «непонятным». Оно просто неверно.
14 По словам Ширямова, в середине еще декабря иркутский Комитет большевиков получил через жену одного из партийных работников, Масину-Янсон, предложение от Яковлева командировать для переговоров с ним представителя Комитета. Им был Ширямов. «Предупредив меня, — рассказывает последний, — что он был, остается и останется навсегда непримиримым врагом советской власти, он сказал, что считает не только дело Колчака проигранным и дни его власти сочтенными по минутам, но и глупой и наивной попытку эсеров захватить власть. Он не верил в успех восстания, но, если бы даже оно удалось, — ясно, что это была бы власть «на час». Комитет, рассмотрев предложение Яковлева о гарантии, что его помощники не будут преследоваться советской властью, постановил: «Никаких дальнейших переговоров с Яковлевым не вести» [Последние дни Колчаковщины. С. 25-26]. В дни восстания, однако, переговоры возобновились.
15 «Их убедили в казармах, — говорит Гинс, — что переворот даст мир. Но, когда революционный штаб предложил им занять передовую линию, они опять перебежали» [II, с. 488]. Возможно, что на это решение повлияло и прибытие семеновского отряда.
16 Оперативная сводка «нар.-рев. армии» исчисляет эту помощь в 600 чел [Последние дни Колчаковщины. С. 171].
17 Zwischen der Ostsee und dem Stillen Ozean.
18 Именно этим давлением Дюбарбье объясняет отход семеновцев [с. 143].
19 На глазах очевидца-шведа застрявшие семеновцы были выданы противнику.
20 Издан в Харбине 1921 г. На издании имеется пометка: «Стенографировано Эд. Джемсом». Кто же этот Джемс? Принимая во внимание присутствие при переговорах майора Марино, можно думать, что стенографист — один из его агентов.
21 Речь идет о впечатлениях тех общественных деятелей кадетского лагеря, которые прибыли с Юга.
22 Гинс отмечает своеобразную черту в поведении Жанена. Он заявляет протест против назначения Каппеля без предварительного договора с ним как с командующим союзными войсками [II, с. 498]. Если союз не разорван, очевидно, ген. Жанен пренебрег первейшими своими обязанностями. Большевицкие историки видят в нейтралитете союзников фактическую поддержку восставших [Субботовский. С. 168]. Во всяком случае, было ясно, что союзники не поддерживают больше Колчака [Кроль]. Не далека была от истины Гришина-Алмазова, писавшая в своих воспоминаниях [харбинский «Русский Голос», февраль 1921 г.]: «Кап. Калашников со всеми его недисциплинированными частями не посмел бы шевельнуть и пальцем при одном лишь твердом заявлении со стороны иностранного командования».
23 Это опоздание Дюбарбье объясняет переговорами Правительства с представителями Семенова в поезде высокого английского комиссара [с. 144]. Члены Правительства свое запоздание объяснили сильным туманом на Ангаре.
24 Эту тактику Ахматов более подробно изложил в предшествовавшем заседании: «Антибольшевицкие массы скорее склонны оставаться пассивными. Если нам удастся сообщить русскому крестьянину и солдату в советских войсках о том, что мы делаем на территории, не занятой ими... если они узнают, что мы даем народу истинную демократическую власть, к чему мы стремимся, и их победоносное наступление перейдет в колебание и замешательство... [с. 34].
... Мы хотим привлечь симпатию масс с обеих сторон фронта, применив к исполнению два принципа: 1) переход к чисто демократической конституции; 2) дать всем возможность передохнуть для преобразования армии и страны. Между временем мы предпримем мирные переговоры с Советской Россией, и солдаты будут знать, что перед ними та демократия, против которой им нет смысла воевать. Войска, взявшие Омск, составлены из уральских и пермских крестьян, которые были Вами обмануты. Они, однако, не большевики, и, зная, что мы либералы и что колчаковский царизм больше не существует, они начнут колебаться, их дух ослабеет, нам будет время вздохнуть. Вам, может быть, кажется это высокой фантазией, и Вы предпочитаете ехать к Семенову» [с. 37].
25 Это обращение Сазонова 2 января я нашел пока только у Грондижа; дело идет, очевидно, о кооператоре Сазонове. Обращение Сазонова заканчивалось: «Кончайте ненужное кровопролитие, покиньте власть и передайте восстановление России именем народа». «Что иное выражает эта тирада, — добавляет от себя Грондиж, — как не констатирование слабости Правительства, которому нанесен в спину удар кинжалом» [с. 545]. Автор прав в этой оценке. И приходится лишь пожалеть, что Сазонов поддался настроениям, изменил своей последовательной линии поведения и проявил слабость в такой тяжелый для Колчака момент. Точно ли, однако, Грондиж передал обращение Сазонова?
26 Может быть, влияло и сознание того, что при «злобном» отношении к адмиралу [Гинс. II, с. 497| без такого отказа нельзя будет гарантировать выезд Колчака. Последний прислал согласие на отречение в Верхнеудинске.
27 «Роur 1а Russie» |№ 19, 6 марта] исчисляла число «заложников» в 80 человек — цифра, никем другим не устанавливаемая.
28 Дюбарбье отмечает, что семеновцами был обстрелян поезд французской военной миссии [с. 146]. Возможно, это и послужило причиной энергичных действий ген. Жанена. Впоследствии чешские писатели отмечали, что, ликвидируя семеновские войска, они уничтожали опасность, которая с этой стороны грозила сибирской демократии [Штейдлер. Ceskosl. hnuti. С. 106].
29 Отчет комиссии напечатан в сб. «Борьба за Урал». С. 368—
30 Переговоры изложены Смирновым в журнале «Сиб. Огни» [1927, № 5] и в органе всесибирского с.-р. краевого комитета «Воля» [№ 2].
31 Характерно, что уже 8 января главнокомандующий Северо-Восточным фронтом советских войск Зверев доносил в Москву Совнаркому: «Колчак арестован, находится в надежных руках... Совет министров в полном составе в наших руках... В Иркутске образовалась единая социалистическая партия, стоящая на защите платформы советов» [Последние дни Колчаковщины. С. 172].
32 Только трое из членов Совета Нар. Упр. — в числе их Патушинский, — по словам Гинса, голосовали против смертной казни [II, с. 543].
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Гибель
1. Выдача
В иркутские дни Верховный правитель, оторванный от армии и Правительства, беспомощно прикованный к своим литерным поездам, находился в Нижнеудинске. «Я задерживаюсь в Нижнеудинске, где пока все спокойно, — телеграфирует он 27-го Каппелю. — Чехи получили приказание Жанена не пропускать даже моих эшелонов в видах их безопасности» [Последние дни Колчаковщины. С. 170]. «Адмирал жестоко страдал морально, — говорит сопровождавший Колчака ген. Занкевич, — от постоянных недоразумений с чехами в продолжение своего пути, начиная со ст. Тайга» [«Белое Дело». II, с. 149]. Отношение к поезду Верховного правителя России «казалось издевательством» — так характеризует положение Гинс [III, с. 53І].
Каковы бы ни были перспективы будущего, все же Колчак оставался еще «Верховным правителем». Это само по себе обязывало к некоторому, по крайней мере, такту со стороны иностранцев на чужой территории. К сожалению, такого такта соблюдено не было, как свидетельствует хотя бы обращение ген. Сырового, объясняющее «братьям» причины недоразумений на жел. дорогах. Упоминая, что эвакуация чехословацкого войска была решена еще 28 августа, «совершенно независимо от положения на Сибирском фронте», Сыровой говорил, что «десяток русских эшелонов, отходящих в паническом страхе из Омска по обоим путям, грозили прервать не только планомерное проведение нашей эвакуации, но завлечь нас в арьергардные бои с большевиками». Пришлось отказаться от первоначального намерения проводить «свою и русскую эвакуацию с русскими властями».
«Поэтому я распорядился остановить отправку эшелонов на линии от Николаевска на восток, пока не пройдут наши эшелоны в первую очередь, только таким образом мы выбрались оттуда. Это нисколько (?!) не повредило движению поездов по отправке на фронт и для снабжения. Между задержанными очутился и адмирал Колчак со своими семью поездами и стал жаловаться союзникам и Семенову на наше войско... Ген. Каппель даже вызвал меня на дуэль, будто за оскорбление, нанесенное Сибирской армии, задержанием поездов Колчака и других беженцев1. Не отвечаю на этот вызов, как следовало бы, единственно ввиду тяжелого душевного состояния ген. Каппеля»... Касаясь угрозы Семенова, Сыровой заключал: «Наше войско не позволит... чтобы его возвращение на родину кто бы то ни было подвергал опасности» [«Наш счет». С. 23—24].
На рядовую войсковую массу ничего не могло произвести большего впечатления, чем угроза помешать эвакуации. Отсюда растет враждебность к адмиралу. Молва усиленно муссирует несуществующие приказы Колчака о взрыве байкальских туннелей (молву повторяет и сам Жанен) и о проверке имущества чехов во Владивостоке2.
Многие подробности предпоследней как бы страницы жизни Колчака еще не ясны, так как мы не знаем во всех подробностях закулисной стороны. Но стоустая молва, мало, конечно, считавшаяся с фактами, подогревала и так уже достаточно разгоряченную атмосферу.
Только быстрый приезд Колчака в Иркутск мог бы спасти если не дело, то, во всяком случае, жизнь адмирала.
В этом отношении Грондиж прав [с. 533]. Вместо этого началось длительное двухнедельное «нижнеудинское сидение», причем Колчак, фактически арестованный, в последнее время почти был отрезан от внешнего мира, получая случайную информацию от чехословацкой стражи. Для этой страницы, которую нам надо вписать в биографию Колчака, мы имеем довольно хороший источник — подробное показание ген.-квартирмейстера Занкевича, напечатанное в кн. II «Бел. Дела»3. Когда адмиральский поезд прибыл в Нижнеудинск (станция была занята чешской пехотой и артиллерией), явился командир чешского ударного батальона майор Гассек с заявлением, что, по распоряжению штаба союзных войск в Иркутске, поезд адмирала и поезд с золотым запасом должны быть задержаны до дальнейшего распоряжения и что он намерен разоружить конвой адмирала. После протеста Занкевича майор Гассек, получив дополнительные инструкции от Жанена, сообщил, что:
1. Поезда адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав.
2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, Ссверо-Амсриканских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии.
3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда адмирала и с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске Правительства.
4. Конвой адмирала не разоружать.
5. В случае вооруженного столкновения между войсками адмирала и нижнеудинскими разоружить обе стороны; в остальном предоставить адмиралу полную свободу действий. Последний пункт ясно указывал, что союзники уже не рассматривали адмирала как Верховного правителя.
«Одновременно с этим майор Гассек, — продолжает Занкевич, — передал мне телеграмму ген. Лохвицкого на имя адмирала, в которой ген. Лохвицкий советовал адмиралу приостановить дальнейшее движение в Иркутск». (Вскоре по оставлении Омска ген. Лохвицкий был послан адмиралом в Иркутск с поручением организовать войска Иркутского гарнизона [с. 150—151].)
Таким образом, как будто выходит, что задержка поезда объяснялась заботами о безопасности адмирала. Что в действительности это было далеко не так, показывает выше цитируемый отчет уполномоченного Пол. Цен. Алко: «Остановить местными силами движение эшелона Колчака (Алко сообщал фантастические сведения о размерах его) возможности не представлялось, пропустить же его в тыл обложившим Иркутск революционным войскам было недопустимо. Пришлось повести дипломатические переговоры с чехами, пригрозив разрушением линии дороги, на предмет остановки его в Нижнеудинске» [Последние дни Колчаковщины. С. 166]. Мы видим, что Гинс совершенно точен в своих воспоминаниях, когда утверждает, со слов одного из офицеров колчаковского конвоя, что силы «нижнеудинской республики» были столь слабы, что один конвой адмирала мог бы справиться с «республикой», если бы чехословаки не закрыли доступа в город [с. 512]4. Поезд адмирала свободно мог бы двигаться вперед. Совершенно непонятна при таких условиях речь ген. Жанена, обращенная к Червен-Водали, при иркутских переговорах. По стенографической записи Джемса, Жанен спрашивал Ч.-Водали, имеет ли он какие-либо сведения, касающиеся адмирала:
«Третьего дня я получил от чешского коменданта из Нижнеудинска телеграмму, где говорится, что в этом городе объявлена республика. Эта республика хотела потребовать от адмирала его отречения и передачи всех ценностей, имеющихся в его распоряжении, новым местным властям, за исключением золота, которое должно быть передано сюда главному революционному Правительству... Возможно, что уже поздно говорить с адмиралом, так как, вероятно, ему уже предъявлен ультиматум от представителей республики в Нижнеудинске. Во всяком случае, Господа Высокие Комиссары решат, что возможно сделать. Имейте только в виду, что положение уже не то, что было неделю назад...» [«Отчет», № 9—11].
Или Жанен необычайно плохо был осведомлен, или он был чрезвычайно неискренен.
Охраняющие адмирала чехи действительно получили новую инструкцию: «Если адмирал желает, он может быть вывезен союзниками, под охраной чехов в одном вагоне, вывоз же всего адмиральского поезда не считается возможным»5.
Это новое распоряжение, как говорит Занкевич, поставило адмирала в чрезвычайно трудное положение:
«В поезде адмирала находилось около 60 офицеров (конвой, штаб, чиновники) и около 500 солдат конвоя. Ясно, что разместить всех этих людей в одном вагоне возможным не представлялось. Ясно также, что адмирал, человек в высшей степени благородный, не мог бросить своих подчиненных на произвол судьбы.
По приказанию адмирала, мною была послана высокому комиссару Японии, г-ну Като, телеграмма приблизительно такого содержания: «Адмирал настаивает на вывозе всего поезда, а не одного только его вагона, так как он не может бросить на растерзание толпы своих подчиненных. В случае невозможности выполнить просьбу адмирал отказывается от вывоза его вагона и разделит участь со своими подчиненными, как бы ужасна она ни была».
Тогда, — продолжает Занкевич, — возникла мысль искать спасения в походе в Монголию. Адмирал был горячим сторонником этой идеи. Я должен был принять на себя начальствование этой экспедицией. Переговорив конфиденциально, по поручению адмирала с майором Гассеком, я получил от него заверения, что со стороны чехов никаких препятствий нашей экспедиции сделано не будет; мало того, чехи дали нам сведения о силах большевиков, занимавших тракт, в предвидении нашей попытки пробиться в Монголию. Адмирал глубоко верил в преданность солдат конвоя. Я не разделял этой веры, тем более что большевики Нижнеудинска засыпали конвой прокламациями, требуя его перехода на их сторону. Адмирал собрал чинов конвоя и в короткой речи сказал им, что он не уезжает в Иркутск, а остается здесь, предложил желающим остаться с ним, остальным он предоставляет полную свободу действий. На другой день все солдаты конвоя, за исключением нескольких человек, перешли в город к большевикам. Измена конвоя нанесла огромный моральный удар адмиралу, он как-то весь поседел за одну ночь. Решено было пробиваться в Монголию с одними только офицерами. Поздно вечером я собрал старших офицеров в вагоне адмирала, чтобы отдать распоряжения для похода, который был решен на следующую ночь. Когда распоряжения были отданы и я уже хотел отпустить офицеров с разрешения адмирала, один из старших морских офицеров (моряки обслуживали броневик, охранявший поезд адмирала) обратился к адмиралу со словами: «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить». — «Пожалуйста». — «Ваше высокопревосходительство, ведь союзники соглашаются Вас вывезти?» — «Да». — «Так почему бы Вам, ваше высокопревосходительство, не уехать в вагоне; а нам без Вас гораздо легче будет уйти, за нами одними никто гнаться не станет, да и для Вас так будет легче и удобнее». — «Значит, вы меня бросаете», — вспылил адмирал. «Никак нет, если Вы прикажете, мы пойдем с Вами».
Когда мы остались одни, адмирал с горечью сказал: «Все меня бросили». После долгого молчания он прибавил: «Делать нечего, надо ехать». Потом он сказал: «Продадут меня эти союзнички». Я ответил адмиралу, что отданные союзниками до сего времени распоряжения не дают оснований для таких предположений, но что, если у него есть сомнения, я самым настойчивым образом советую ему этой же или ближайшей ночью переодеться в солдатское платье и, взяв с собою своего адъютанта, лейтенанта Трубчанинова, скрыться в одном из проходивших чешских эшелонов. (Эвакуировавшиеся чехи беспрепятственно принимали и вывозили в своих эшелонах спасавшихся от большевиков наших офицеров.) Для большей верности я предлагал адмиралу в течение 48 часов скрывать от всех его исчезновение. Адмирал задумался и после долгого и тяжелого молчания сказал: "Нет, не хочу я быть обязанным спасением этим чехам"» [с. 151—152]6.
Занкевич составил телеграмму на имя Като с уведомлением, что адмирал, ввиду изменившихся обстоятельств, согласен на выезд в одном вагоне. Колчак согласился на полное разоружение и отклонил предложение окружающих припрятать пулеметы [Гинс. С. 512].
Из своего вагона с 60 офицерами адмирал перешел в вагон второго класса под флагом английским, американским, японским, французским и чешским. Занкевич уверяет, что в инструкции, которую получил начальник чешского эшелона майор Кровак, помимо пункта об охране вагона союзными державами и поручения чехам конвоировать адмирала до Иркутска, значилось: «В Иркутске адмирал будет передан высшему союзному командованию».
«Путешествие до Иркутска, — говорит Занкевич, — длилось 6 или 7 дней и сопровождалось большими трудностями. На всех главнейших станциях большевики собирались в значительных силах, требуя от чехов выдачи адмирала; большевицкие банды из Тайги угрожали взрывом железнодорожного пути и нападением на эвакуировавшиеся чешские эшелоны, железнодорожники — забастовкой; по мере приближения к Иркутску возбуждение на линии и в самом Иркутске все росло и росло. При таких условиях было ясно, что чехи не повезут нас дальше Иркутска. Но мы знали, что в Иркутске находятся два батальона японцев, и твердо рассчитывали, что дальнейшее конвоирование вагона с адмиралом будет возложено на японцев. Так же думали и чехи, нас сопровождавшие» [с. 153]7. При приближении к Иркутску (ст. Иннокентьевская) нач. эшелона предупредил Занкевича, что в данное время происходят какие-то переговоры между ген. Сыровым и Жаненом и что он не знает, пойдет ли вагон адмирала дальше Иркутска. Позже он передал, что вопрос об адмирале решен и что решение он сообщит по прибытии поезда в Иркутск. По словам Занкевича, он не о чем не догадывался — так мысль его была далека о возможности какого-либо предательства. Наконец и Иркутск.
«Начальник эшелона почти бегом направился к Сыровому. Спустя короткое время он вернулся и с видимым волнением сообщил мне, что адмирала решено предать Иркутскому революционному правительству.
Между 5—7 часами вечера многим офицерам, сопровождавшим адмирала, удалось уйти из его вагона, пользуясь темнотой и тем обстоятельством, что окружавшие вагон адмирала чехи беспрепятственно пропускали всех выходивших из вагона офицеров, вооруженные большевики держались в это время еще поодаль, и от них было нетрудно скрыться на забитой вагонами станции» [с. 156].
На вокзале спешно составлялся акт передачи Верховного правителя и председателя Совета министров Политическому Центру8. Это происходило 15 января в 9 час. 55 мин. Арестованных приняли чл. П. Центра Фельдман, пом. ком. народ.-рев. армии кап. Нестерев, уполном. при армии Мерхелев, нач. гарниз. Петелин. Отвозил Верховного правителя в тюрьму наряд из большевицкой дружины под командой члена большевицкого штаба [Ширямов. — Борьба за Урал. С. 292]. Присутствовавшие японцы, по словам Гинса, молчаливо наблюдали.
2. Предательство или бессилие?
«Принимая близко к сердцу трагическую участь адмирала, — рассказывает Занкевич в своей записи 1920 г., — я приложил много стараний, чтобы выяснить причины неожиданной для нас всех выдачи адмирала. Опросом ряда лиц — русских, французов, чехов — мне удалось до известной степени восстановить картину этого печального события, но, не имея никаких документальных подтверждений, приводимых мною ниже фактов, я не могу ручаться за их достоверность. Решив «принципиально» спасти адмирала, высокие комиссары, — говорит Занкевич, — возложили вывоз Колчака из Сибири на Жанена. Последний отдал приказ чехам вывезти адмирала в Иркутск и вошел в переговоры с Иркутским правительством о беспрепятственном его пропуске. Соглашение было достигнуто9, но вследствие «недоразумений с войсками Семенова и зверств, ими произведенных», члены Иркутского правительства взяли свое решение назад и отказались подписать акт о беспрепятственном пропуске адмирала. Факт вывоза чехами Колчака вызвал «сильное против них движение среди большевиков и железнодорожников». Тогда чехи отказались выполнить приказ Жанена, и Жанен счел себя вынужденным санкционировать решение о выдаче адмирала... По прибытии Колчака в Иркутск помощник Жанена, полк. Марино, обратился к японцам с предложением принять адмирала от чехов. Они отказались, ссылаясь на неимение на то инструкций».
Таковы выводы расследования Занкевича. «Если изложенные мною факты верны, — заключает автор, — остается пожалеть, что союзники (или ген. Жанен) с самого начала не заявили адмиралу просто и прямо, что меры к его спасению ими принимаются, но они далеко не уверены, что им удастся спасти адмирала». Ведь в этом все дело. Поведение союзников в отношении Колчака потому и становится особо прекарным, что до Иркутска Верховный правитель был убежден, что едет под международной охраной. «При принятом же союзниками образе действий и при полном отсутствии связи с ними, адмирал, несмотря на овладевавшие им сомнения, все же имел вполне, как казалось, обоснованную надежду, что он не будет выдан своим врагам на растерзание» [Занкевич]. Не будь такой уверенности, Колчак во всяком случае действовал бы на свой риск: едва ли бы он распустил свою охрану, едва ли бы разоружил оставшихся и едва ли бы перешел в вагон под союзническими флагами10. Может быть, судьба его была бы еще ужаснее, но человек, действующий на свой страх, рискует своей жизнью по собственной воле.
Предпринимая некоторые меры для «спасения» Колчака, союзные миссии не сделали все-таки того, что сделать были обязаны. И менее всего сделал это ген. Жанен. Он просто уехал за несколько дней до прибытия Верховного правителя11 и тем самым дал право бросить ему обвинение, по меньшей мере, в политике Понтия Пилата, — «умывая руки, он уехал, чтобы не запятнать себя непосредственным предательством адмирала» [«Сиб. Огни», 1927, № 5, с. II]12.
Во фрагментах дневника Жанена, опубликованных в «Monde Slave» [1924, XII, р. 239], имеется более поздняя запись 23 января, где автор оправдывает себя и обвиняет «высоких комиссаров»:
«...серия телеграмм с сокрушением по поводу Колчака. Есть от высоких комиссаров, переданные через Фукуду, от Будберга и от моего старого друга Лохвицкого. Эти два сановника, мирно (живущие) во Владивостоке или в Харбине, откуда они издали заботливо следили за судьбою адмирала, проявляя трогательное негодование при мысли, что я не дал за него на убой чехов. Бюкшеншутц пишет им несколько суровых слов, чтобы сказать, что если они были преданы Колчаку, то должны были защищать его на месте, а не на конце телеграфного провода. Что касается высоких комиссаров, то я пополняю новой телеграммой то, что послано уже вчера».
Эта раздраженная запись мало убедительна и нисколько не оправдывает личного поведения Жанена. Шендриков в воспоминаниях, напечатанных в шанхайском «Русском Эхо» (12 дек. 1922 г.), утверждает, что Жанен в личной беседе с ним (в марте—апреле 1920 в Харбине), заявлял, что предлагал Верховному правителю полную гарантию личной безопасности при проезде через Иркутск при непременном условии, что Колчак проследует как простой смертный. По мнению Жанена, нельзя было верить обещанию адмирала отречься в Верхнеудинске. Следовательно, приходится предполагать, что адмирал готов был на словах идти на отказ для того, чтобы, миновав «революционный» Иркутск, попасть в пределы территории атамана Семенова, где он был бы свободен от принятых обязательств. Так изображает дело Дюбарбье [с. 146]. Почему Верховный правитель держался за Верхнеудинск? Мы точно не знаем. Мне кажется, что Колчак внутренне уже определил для себя, что его роль в Сибири кончена. Но отречение в условиях вынуждения, когда председатель Совета министров был с ним, а его заместитель в Чите, когда в Иркутске находилось лишь меньшинство членов Совета министров, действовавших в ненормальных условиях восстания, — такое отречение казалось Колчаку чреватым последствиями. Мне кажется, что Верховный правитель должен был понимать, что его гласное отречение в пользу Деникина означало бы полную ликвидацию Правительства и передачу власти Пол. Ц., на что Колчак, конечно, пойти не мог уже потому, что эта власть первым своим условием ставила переговоры с большевиками. Колчак поступил в данном случае последовательно и логично. Имеются указания на то, что он предлагал свои функции временно передать ген. Каппелю. Но с ген. Каппелем снестись он не мог. Адмирал был сознательно изолирован. Даже Жанен 24 декабря записал, что снестись с Колчаком сложно, так как это возможно только через посредство чешских телеграфистов.
Фактически нежелание Верховного правителя подписать отречение от власти до Верхнеудинска никакой роли играть не могло, так как у противной стороны не было сил задержать Колчака в Иркутске. В конце концов, несмотря на отказ, адмирал все же был легко вывезен из Нижнеудинска, и трудности, о которых Жанен говорил Червен-Водали, оказались преувеличенными. Путь от Иркутска до Владивостока был свободен. Но допустим, что эти трудности были непреодолимы — ведь в распоряжении ген. Жанена никаких своих войск не было...13 Если так, то Жанену надлежало бы просто признать свое бессилие. Бессилие не всегда может служить объективным оправданием, но оно снимает, по крайней мере, моральное осуждение... Что можно было сказать Жанену, когда он в беседе с Третьяковым 15 декабря о пропуске адмиральского поезда рекомендовал ему обратиться к представителям чехословацкого войска? К сожалению, в опубликованных фрагментах дневника ген. Жанен не проявил должного чувства меры. Весь тон его мемуаров мало подходит к описанию того драматического эпизода, одним из активных участников которого сделала его судьба. Казалось, элементарный такт должен был бы подсказать ему неуместность опубликования суждений вроде того, которое имеется в записях 14 декабря: «Окружение Колчака ищет утешения в вине (en buvant)14».
Тона дневника ген. Жанена держатся нередко и другие члены французской военной миссии в своих воспоминаниях. Особенно претенциозен Дюбарбье. Он, например, негодует, как смеют эти «белые русские» в Сибири («collection digne d'un jeu de massacre») обвинять французского генерала в предательстве [с. 139]. Сейчас же готово и объяснение: легенда о предательстве Колчака, конечно, германо-большевицкого происхождения. Дюбарбье сообщает только «строгую истину» — сам Дитерихс будто бы сказал: «Расстрел Колчака справедлив, это надо было бы сделать, если бы он мог прибыть в Верхнеудинск». Дюбарбье цитирует письмо Занкевича Жанену, в котором тот признает, что Жанен сделал все, чтобы спасти адмирала, но обстоятельства оказались сильнее [с. 149]. Мы не знаем, насколько точно цитирует Дюбарбье письмо Занкевича, но мы знаем, что сам Занкевич опубликовал в «Белом Деле». Суждения Дюбарбье характерны не только для него одного. Легра, возражая мне, писал:
«Признаюсь, что, если бы ген. Жанен помог захвату большевиками Колчака, поступок этот был бы некрасив, но все равно сожалению о нем места не было бы. Однако генерал в этом деле ни при чем. Г-н Мельгунов... мог бы с пользой для себя прочесть два фельетона в «Gasette de Prague» от 22 и 26 сентября 1923 г. Он бы из них узнал, что о выдаче Колчака и говорить не приходится (que Koltcäk а si peu ete livre), так как «он добровольно приехал в Иркутск и отказался бежать переодетым во время пути, что предлагали ему чехи» [«М. S1.», 1926, VII, р. 119].
Мнения об адмирале Колчаке, конечно, могут быть различны, но к вопросу о его выдаче субъективные оценки эти не могут иметь никакого отношения. Только моральной аберрацией можно объяснить то удивление, которое высказывало «Роиг 1а Russie» по поводу негодования «Eclair» и «Temps» на действия ген. Жанена. Эсеровская газета находила самы повод для негодования маловажным — арестована незначительная личность печальной памяти диктатора. А в № 14 газеты Минор определенно уже заявлял: «Антанта должна оставить всякие хлопоты об освобождении Колчака, находящегося в руках революционного Правительства, которое будет его судить». Такие голоса, правда, были сравнительно редки среди русской общественности. Л. Кроль, как мы знаем, не большой поклонник Колчака, находившийся в дни выдачи адмирала Политическому Центру в Иркутске, пишет: «Этого уже никто не ожидал». Приведя постановление верховных комиссаров, он говорит: «Выдать при таких условиях человека было актом высшего позора, к которому с презрением отнеслись даже те, кому выдали адмирала» [с. 207].
* * *
Проф. Легра с легкостью бросил мне упрек в том, что я берусь судить «sans rien connaitre de la question». Конечно, меня не было в Сибири. Я могу судить только по воспоминаниям очевидцев и по документам. И требовалось бы со стороны опровергающих опубликование прежде всего документов, хотя бы полностью дневника ген. Жанена за время переговоров с Политическим Центром и выдачи Колчака. Многое еще остается неясным, так как приходится реконструировать бывшее по отдельным намекам и документальным фрагментам, попавшим уже в печать. Полемизируя, иностранные свидетели молчат о главном. Русские противники Колчака также молчат до сих пор.
У ген. Жанена заметна некоторая склонность сложить вину на чехов. Не мог же он вмешательством в пользу Колчака рисковать жизнью тех, за кого он отвечал. В интервью, напечатанном 16 июля 1920 г. в «Matin», Верховный командующий союзными войсками в Сибири подчеркивал, что чехи не могли спасти адмирала, так как по распоряжению своего правительства должны были избегать каких-либо новых осложнений. Но одно дело — непротивление злу, другое — активное или даже пассивное в нем участие. Возможно, что у чехов не было никакого стремления спасать Верховного правителя. Возможно, что это было естественно при сгущенной атмосфере враждебного чувства, тем более что, если верить Дюбарбье, из Праги чехословацкой делегацией будто бы получена была особая телеграмма: «Не пещись о личной безопасности адмирала-авантюриста» [с. 140]. «Но нет никакого сомнения, — утверждает Грондиж, — что чехи могли бы спасти Колчака, если бы захотели». Но какими жертвами? Какие репрессии они навлекли бы на 200 эшелонов, медленно двигавшихся на запад? Это, по крайней мере, жизненная точка зрения — эфемерная честь и воинский долг должны быть принесены в жертву реальным потребностям. Чтобы доказать противное, в свое время чешский полк. Швец покончил самоубийством. Эту слишком практическую точку зрения можно оспаривать. Колчак был выдан не большевикам, а Полит. Центру. Власть еще не перешла в руки большевиков. Выдача Колчака отнюдь не остановила последующих столкновений с советскими войсками, следовательно, совсем не изменила status quo. «Действительно ли положение было в такой степени опасным, — пишет Рютгер Эссен, — что налицо не было иной возможности спасения, как согласие на такую одиозную выдачу с нарушением данного слова — это другой вопрос... Так или иначе чехи считали, что другого выхода нет, и если бы ген. Жанен на это не согласился, то это, несомненно, вызвало бы бунт» [с. 120]. Итак, выдача Колчака была мерою «необходимой для безопасности чешского войска»15. Хуже, когда житейская проза облекается какими-то принципиальными мотивами. «Адм. Колчак, — писал «Чехосл. Д.» 29 января [№ 22], — был передан Правительству Полит. Центра, потому что каждый гражданин подлежит за свои деяния законному суду. Адм. Колчак не мог рассчитывать на право политического убежища у чехов, в отношении которых он допустил прямое преступление тем, что дал приказ атаману Семенову, чтобы тот препятствовал эвакуации, не останавливаясь перед взрывом ж. д. и туннелей». Трудно понять, почему автор статьи в чешском официозе говорит о праве политического убежища в России для Верховного правителя. У чехов была, правда, фактическая экстерриториальность. Если бы Колчак осуществил предложение Занкевича и скрылся в чехословацкий эшелон, то с некоторой еще натяжкой можно было бы говорить о том политическом убежище, которое чехословаки и американцы давали во Владивостоке представителям разных политических течений как во время гайдовского восстания, так и позже при японском выступлении 5 апреля 1920 г. (штаб Кр. армии, эсеры, меньшевики и коммунисты — все нашли тогда убежище у д-ра Гирсы [Парфенов. С. 144]). Крейчи в своей работе и не скрывает, что Колчак был выдан «с разрешения Жанена» под «давлением, как он говорит, простой необходимости»16. Зная, что «земцы» и эсеры из П. Ц. были противниками смертной казни, чехи были уверены, что жизнь Верховному правителю гарантирована [с. 270]17.
3. «В плену»
Хотя деятели Полит. Цент, и были «смущены» выдачей Колчака, тем не менее Верховный правитель для них был слишком выгодной добычей. «Плененный»18 Колчак мог сыграть крупную роль в переговорах с большевиками. «Это был, — говорит Ширямов, — один из главных козырей Политцентра, доказывавший якобы благожелательное отношение к новой власти со стороны союзников. Он должен был побудить быть более сговорчивыми упрямых большевиков» [Последние дни Колчаковщины. С. 35]. Большевики считали себя уже победителями, и мы знаем, что Зверев доносил в Москву: Колчак в «надежных руках». А Политцентр внешне продолжал играть в демократизм. По словам Гинса, даже было заявлено, что объявленный «врагом народа» Колчак будет предан гласному суду с участием присяжных заседателей [II, с. 509]19. Демократ Кроль не очень верил этому демократизму или в его долговечность. Он подумывал об отъезде из Иркутска. Знакомые эсеры урезонивали его, говоря, что в нем «реакционера» не видят, что большевики прибудут в Иркутск «уже вегетарианцами» (еще бы! ведь Совнарком в тот момент, как Политцентр вводил смертную казнь, вновь торжественно отменил применение высшей меры наказания к врагам народа), а может быть, что вернее, и совсем не придут, так как согласятся на создание «буфера» [Кроль. С. 208]. Но Кроль предпочел все-таки уехать. «Реакционер» Червен-Водали, оставшийся после переговоров в поезде Жанена, в ответ на упрек «демократии», что он «бежал», бросив все на произвол судьбы, счел нужным явиться в Пол. Ц. и заявить, что он не намерен бежать и готов предстать пред судом народной совести. В результате арест, стоивший ему потом жизни. Арестованы были и другие министры и их товарищи, находившиеся в Иркутске: Краснов, Морозов, Ларионов, Шумиловский, Преображенский, Грацианов и др. Всего из «соратников» Колчака в иркутскую тюрьму попало 112 человек, среди них женщины — близкий друг адмирала, Тимирева, и жена покойного Гришина-Алмазова — та, у которой был «монархический» салон в Омске [«Д. Нар.», № 292—293]. Одновременно из тюрем были освобождены все большевики.
Союзники чувствовали себя все же не в своей тарелке. Грондиж, со слов японского полк. Фукуды, сообщает о следующем факте:
«Когда адм. Колчак был выдан повстанцам, — рассказывал полк. Фукуда, — я разыскал ген. Сырового и предложил ему, даже в этот момент (15 января), взять на себя перевозку адмирала, если чехи извлекут его из тюрьмы. (Я не мог подвергнуть уличному бою наш маленький отряд.) Ген. Сыровой отказал, говоря, что эта запоздалая услуга все-таки подвергла бы его войска мести... которой он хотел избежать, выдавая адмирала "трибуналу русского народа"». Позже полк. Фукуде, просившему у властей С. Р. гарантии жизни адмирала, было отвечено: «Мы не можем высказаться по поводу исхода суда, но до тех пор жизнь его для нас священна» [с. 552].
Член Пол. Центра Косьминский «дважды уверял чехословацкого представителя в полной безопасности адмирала». Очевидно, оказывали свое действие протесты, шедшие с разных сторон. Напр., в постановлении харбинского комитета партии народной свободы выдача Колчака называлась «совершенно беспримерным по своей вероломности актом предательства». Харбинские к.-д., полагая, что «священным долгом чести союзного командования... являлось принять... меры к недопущению предательской выдачи», выражали надежду, что «представители союзных держав... не останутся глухими к голосу возмущенной русской общественности».
Все, однако, шло своим чередом. Уже 9 января Политцентр создал особую Чрезвычайную следственную комиссию для расследования преступлений колчаковских министров. В ведение этой комиссии были перечислены все арестованные. В ведение этой комиссии попал и Верховный правитель20, и его последний председатель Совета министров. Почему JI. Кроль, выехавший из Иркутска в день убийства Колчака, называет эту комиссию большевицкой — совершенно неизвестно. Только формально, сохранив весь свой состав, она сделалась таковой с момента передачи П. Ц. власти коммунистам. Это произошло через неделю после ареста адмирала.
* * *
В свое время Будберг (запись 12 сентября) правильно определил положение: «Эсеровское правительство... не удержится и десяти недель и будет слопано большевиками без всякого труда». Срок только Будберг дал слишком большой. Центральная советская власть, с которой велись переговоры в надежде на признание «демократического буфера» в Иркутске, действительно склонна была идти на уступки; иркутские же коммунисты, реально учитывавшие обстановку, спешили захватить власть в свои руки.
20 января советские организации в Иркутске выпустили декларацию21, где заявляли, что они пришли к заключению, что:
«1) П. Ц. не имеет опоры в массах и состоит из представителей таких партийных группировок, программные требования которых не отвечают классовым интересам пролетариата и трудового крестьянства.
2) П. Ц., лишенный поддержки низов, не желающих идти под лозунгом Учредительного Собрания, не способен к решительной борьбе с реакцией, идущей как с востока, так и с запада, в виде семеновских и каппелевских банд.
3) П. Ц. не в силах гарантировать массам сохранность и неприкосновенность тех ценностей, которые захвачены иностранцами и могут быть увезены на восток.
4) Компромиссная и соглашательская тактика П. Ц. в отношениях с союзниками не только не устраняет союзной интервенции, губительной для трудовых масс страны, но даже, наоборот, власть П. Ц. превращается в одно из проявлений данной интервенции.
5) Несмотря на декларацию П. Ц. и его заявление о решительной борьбе с реакцией, им фактически для этого ничего не сделано» [Последние дни Колчаковщины. С. 192].
Естественно, что «объединенное заседание» означенных организаций признало, что организовать вооруженный отпор союзным интервентам может только советская власть, которая является наиболее целесообразной формой классовой диктатуры пролетариата и трудового крестьянства и признается единственной законной всероссийской властью. Поэтому декларация советских организаций объявляла о созыве 25 января в 12 час. дня Совета раб. и солд. и кр. деп. и предлагала Политцентру передать власть этому Совету. Но так как оставалось еще несколько дней, в течение которых «белогвардейские банды» могли занять важные в военном отношении пункты, предлагалось передать власть немедленно Военно-Револ. Комитету, в составе коммунистов и левых с.-р. Авторы декларации не сомневались в том, что «предложение» их будет принято. Они заявляли от имени В.-Рев. Ком., берущего в свои руки власть, что:
«1) В.-Рев. Ком. немедленно сложит свои полномочия, как только будет созван Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
2) В.-Рев. Ком. гарантирует чехам беспрепятственный проезд на восток с оружием в руках при условии передачи В.-Рев.
Ком. золота и безусловно полного невмешательства их в русские дела.
3) Рев. Ком. гарантирует полную неприкосновенность той демократии, которая с оружием в руках боролась против колчаковской власти.
4) В.-Рев. Ком. гарантирует полную неприкосновенность личного состава Политического Центра» [Последние дни Колчаковщины. С. 193].
Последний пункт говорит не о соглашении, а о сдаче власти. И происходит нечто удивительное. После всех пышных фраз во время переговоров с представителями прежней власти в вагоне высоких комиссаров, после Томского договора 19 января о государстве-буфере власть не только капитулировала перед большевиками, но призывает население всецело их поддержать:
«Пол. Цен., вступая на путь активной борьбы с реакцией, своей первейшей задачей ставил прекращение гражданской войны, расслабляющей силы революционной демократии и создающей почву для торжества реакции.
Силами, объединенными Пол. Цент., власть Правительства Колчака низвергнута. Но на смену ей идет новая опасность с Дальн. Востока, опасность злейшей реакции в лице ат. Семенова и тех сил, которые поддерживают его и руководят им.
Перед лицом этой опасности должны сомкнуться все силы революционной демократии. И территория Вост. Сибири, не обладающая достаточными боевыми и материальными ресурсами для активной и успешной борьбы за самостоятельность революционной России, должна объединить свои силы с силами всей России, должна перед грядущей реакцией стать единым и мощным революционным фронтом.
Учитывая все это, Врем. Сов. Сиб. Нар. Упр. считает необходимым и в этот ответственный для страны момент в целях сплочения сил революционной демократии для борьбы с реакцией во избежание раскола в ее рядах, а также для упрочения гражданского мира — передать власть сорганизовавшемуся в Иркутске Воен.-Рев. Комитету.
Слагая свои полномочия, Совет Нар. Упр. и Пол. Цент, призывают демократию к действенной поддержке новой власти в ее борьбе с остатками реакции, пытающейся разорвать единое тело революционной России» [Последние дни Колчаковщины. С. 195].
Позорный конец для власти! Позор этот не может прикрыть декларативная мишура22. Получив власть «по соглашению» с Полит. Центром, Военно-Рев. Комитет предписывал «всем, всем, всем»:
«...2. Арестовать лиц, контрреволюционная деятельность которых угрожает революц. порядку, и вообще принять все меры к обеспечению этого порядка...
4. Принять все меры к ликвидации двигающихся с запада остатков колчаковских банд и скорейшему продвижению советских войск к Иркутску.
5. Способствовать продвижению на Восток чешских людских эшелонов, поскольку они не будут противодействовать Ревкомам в осуществлении ими своих задач...
6. Производить самый строгий фактический контроль всех проходящих поездов и эшелонов с целью изъятия из них контрреволюционеров и русских подданных вообще, не нарушая движения чешских эшелонов» [Последние дни Колчаковщины. С. 196].
22-го Воен.-Рев. Комитет гарантировал всем, кто немедленно и непрекословно сдастся, «персональное сохранение жизни при разборке их дела судом Республики».
«Переворот, таким образом, был совершен с пролитием лишь небольшого количества чернил», — язвительно заметил Ширямов23. Через два дня из Москвы была получена телеграмма о согласии на существование Политцентра. Но было «уже поздно»...
Позже, 6 апреля, Ц. К. партии с.-р. вынес резолюцию, в которой признавал «правильным отказ от власти краевого комитета партии и передачу власти коммунистам». Ц. К. в Москве всю дальнейшую ответственность возлагал на «авантюристическую политику» большевиков. Вместе с тем Ц. К. еще раз приветствовал «товарищей сибиряков с удачным разрешением ими задач, поставленных перед партией фактом существования колчаковской контрреволюционной диктатуры». Эсеровские центровики считали, что «одной только ликвидацией колчаковщины товарищи в Сибири выполнили уже основное задание, поставленное перед ними IX Советом партии».
* * *
Политцентр призвал демократию к действенной поддержке власти. В действительности, отвергнутые большевиками лидеры сибирских эсеров и меньшевиков плелись в толпе, шествующей за колесницей победителей. Только в одном учреждении — в реформированной большевиками Чрезвычайной следственной комиссии — представителям демократии суждено было играть видную роль. Здесь шел допрос адмирала Колчака.
Состав комиссии был неизменен до конца: председатель коммунист Попов24, заместитель председателя с.-д. Денике, член комиссии с.-р. Алексеевский и Лукьянчиков. Ревком сознательно сохранил этот состав: «при наличии этих лиц в следственной комиссии больше развязывался язык у Колчака. Он не видел в них своих решительных и последовательных врагов» [предисловие к «Допросу»].
Допрос начался в день передачи власти Политцентром — уже первый протокол был подписан председателем в звании заместителя председателя иркутской губернской ЧК (председателем последней был Чудновский)25.
Таким образом, представители партии с.-р. и с.-д. официально и непосредственно участвовали как бы в заседаниях большевицкой ЧК26. Предполагалось после следствия отправить Колчака «на суд в Москву».
О показаниях Колчака мы говорили уже достаточно. К сожалению, документ оказался оборванным, быть может, на самом значительном месте — там, где началась, по признанию даже допрашивающих, «самая существенная часть». Последний допрос происходил 6 февраля, накануне гибели Верховного правителя. Чрезвычайно интересно, как сами политические враги характеризуют показания и поведение Верховного правителя в дни допроса. «В общем и целом эти показания были в достаточной мере откровенны. Колчак их давал не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира. Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-либо скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки»... [«Допрос». VI].
В своей откровенности Колчак проявлял, однако, большую осторожность, остерегаясь «малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые попали или могли еще попасть в руки восстановителей советской власти». Попову (редактору показаний) только не нравится, что Колчак «никак даже в отношении далекого прошлого не хочет признать себя монархистом. И свой монархизм, монархические цели борьбы с большевиками он прикрывает флером устремлений демократических». Как держался Адмирал на допросах? «Держался, как военнопленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по колчаковскому делу колчаковского Правительства. Там была, за редким исключением, трусость, желание представить себя невольными участниками кем-то другими затеянной, грязной истории, даже изобразить себя чуть не бойцами против этих других, превращение из вчерашних властителей в сегодняшних холопов перед победившим врагом. Ничего этого в поведении Колчака не было» [VII].
А каковы были следователи? Кроль рассказывает, что по «доходившим бесспорно точным сведениям адмирал импонировал не только членам П. Ц., но и большевицкой комиссии, допрашивающей его. По всем данным к адмиралу относились хорошо, с уважением» [с. 208]. В сущности, главную роль при допросе играет Алексеевекий — он главный следователь, — Попов, Чудновский, Денике сравнительно редко вмешиваются, их реплики носят по преимуществу формальный характер. Два-три раза роль допрашивающего переходит как бы к Денике. Во всех остальных случаях наиболее острые вопросы ставит всегда Алексеевский; он подает наиболее резкие реплики; он с наибольшим пристрастием допрашивает адмирала. Имя Лукьянчикова нигде не фигурирует — он ни разу ни одного вопроса не задал Колчаку. Вероятно, с.-р. Лукьянчиков и был тем членом комиссии, о котором упоминает один из иркутян, Мих. Струйский, передающий такую подробность: «Чудновский, заметив, что Колчак с большим удовольствием пьет чай, решил лишить его этого маленького удовольствия и приказал на следующий раз подать стаканы с чаем лишь по числу членов комиссии. Один из членов комиссии, видя, что Колчаку не дали чаю, передал ему свой стакан» [«Н. Р. Сл.», № 5700].
Допрос происходил в самой тюрьме в кабинете начальника. Здесь же допрашивался и Пепеляев, но допрашивался реже, и его показания пока еще скрыты для истории. Гришина-Алмазова, заключенная в камеру рядом с Пепеляевым и имевшая возможность переписываться с ним, говорит, что он был «совершенно спокоен».
Гришина-Алмазова оставила нам и описание быта тюрьмы. Исключения для Верховного правителя не было сделано.
«Раз в неделю допускались передачи для заключенных с воли. Этими передачами только и можно было спасаться от голода, потому что тюремная пища была невыносима. Едва только на лестнице появлялся тюремный суп, весь корпус наполнялся зловонием, от которого делались спазмы. К счастью, я получала передачи, которыми делилась с Тимиревой и адмиралом. Впоследствии они стали так же получать передачи от своих друзей. Разносили пищу и убирали камеры уголовные, которые относились довольно радушно к новым арестантам, хотя и были довольны переворотом, сулившим им близкое освобождение. Они охотно передавали письма, исполняли просьбы и поручения политических заключенных. Политические отвечали таким же дружелюбием. Один из уголовных был застигнут на месте преступления, когда брился безопасной бритвой, данной ему Колчаком. В ответ на негодование начальства он простодушно возразил: «Так ведь она безопасная, — и добавил: — Это — наша с Александром Васильевичем». Надзиратели держались корректно. Служа издавна, они столько раз видели, как заключенные становились правителями, а правители — заключенными, что старались ладить с арестантами. Поэтому власти не доверяли надзирателям, в тюрьму был введен красноармейский караул. Часовые стояли у камер Колчака, Пепеляева и в третьем этаже. Они не должны были допускать разговоров с заключенными и передачу писем. Но кто не знает русского солдата, который может быть до исступления свиреп, но и до слез добр! Очень скоро с караулом завязалась дружба. Тимирева и я свободно выходили в коридор, передавали письма, разговаривали с заключенными. Не вовремя явившееся начальство могло бы увидеть красноармейца, откупоривающего банку с ананасом, переданную нам с воли.
Но это благодушие длилось не долго. Скоро наступили безумные, кошмарные, смертные дни. Появились слухи о приближении каппелевцев. Сначала этому не придавали значения, но скоро власти были охвачены тревогой. Тюрьму объявили на осадном положении. Было дано распоряжение подготовиться к вывозу заключенных из Иркутска. С 4 февраля егерский батальон, несший караульную службу, был заменен красноармейцами из рабочих. Почти все уголовные были убраны из коридоров, по которым хищно бродили красноармейцы, врывавшиеся в камеры, перерывавшие вещи и отнимавшие все, что им попадалось под руку. Открыто делались приготовления к уничтожению заключенных в случае захвата города. Тревога и ужас царили в тюрьме»27.
Так жил «военнопленный командир проигравшей кампанию армии»...
4. Отступающая армия
Отступающей армии в условиях гражданской войны почти всегда предстоят жестокие испытания. Надо иметь перо художника, чтобы описывать эти ужасы и страдания. Еще не появился художник-летописец, который изобразил бы во всей выпуклости страдные дни сибирских армий. Трафарет ужасов уже не действует на нервы. Надо проникнуть в толщу людских страданий для того, чтобы произвести своим описанием впечатление.
Это особая трагедия, которой мы можем коснуться лишь вскользь. Да и как на нескольких страницах изобразить трагический исход уральского войска или отдельной Уральской армии, оторванной от Сибири и изолированной от Юга. Уральцы, под начальством своего атамана ген. Толстова, совершили зимой с женами и детьми фантастический, тысячеверстный путь через мертвую пустыню. Вышло 15 000, пришло в форт Александровск всего 3000. «Каждый ночлег был кладбищем», — повествует ген. Акулинин28. И на остановках, и в пути уральское казачество приносило «искупительные жертвы великому служению родине».
Что сказать про тот «страшный поход» Южной оренбургской армии, по сравнению с которым даже большевицкий повествователь считает другие эвакуации «увеселительными прогулками»...29 Оренбургская армия держалась на фронте, насколько могла. «Буду бороться, пока есть силы, — писал Дутов Колчаку 31 октября из Кокчетава. — Оренбургская армия, первая вас признавшая, всегда будет с вами и за вас» [Борьба за Урал. С. 351]. Отступая, она двигалась через гористые Тургайские степи и через безводные и пустынные пески Балхаша к Сергиополю на соединение с Анненковым в Семиречье. С армией двигались голодные, умирающие тифозные толпы беженцев. Те, кто не могли идти, должны были погибать. Их убивали собственные друзья и братья. Общее количество отходивших, по словам большевицких источников, колебалось от 100—150 тыс. К концу марта границу Китая близ города Чучугон перешло до 30 тыс.
Отступление центральной армии также быстро превратилось в катастрофу. Вся обстановка содействовала этому — вплоть до суровой зимы. «Это был «великий исход», снежная лавина, катившая с запада на восток», — писал в своем горестном отчете уполномоченный Кр. Кр. Миллер. Остатки армий Каппеля, Вержбицкого, Войцеховского, Сахарова двигались не по жел. дороге, занятой чехословаками, а вдоль ее полотна по старому сибирскому тракту. «Жестокие сибирские морозы и тиф, — говорит Ширямов, — безжалостно косили людей, но все же для нас это был серьезный враг. Каппель вел за собой наиболее стойкие и упорные в борьбе с советской властью части, выдержавшие всю двухлетнюю кампанию» [Борьба за Урал. С. 294]. «Это были, — дополняет характеристику другой наблюдатель из враждебного лагеря, — самые крепкие физически и духовно люди. Они отступали от Омска до Иркутска. Все слабые уже погибли от тягостей этого безумного долгого похода. Остались те, кто не ждал пощады от красных и сам никого не щадил» [Смирнов. Там же. С. 309]. Слова «пощада», «жалость» — вообще не подходили к моменту. Кровью написана 9 января телеграмма командующего пятой польской дивизией со ст. Клюквенная, умолявшая ген. Сырового пропустить вперед 5 эшелонов (из 51) «с семьями, детьми и ранеными». Сыровой, выполняя, быть может, свой жестокий долг в общей борьбе за существование, отвечал: «Удивляюсь тону вашей телеграммы... Согласно приказу ген. Жанена, вы должны двигаться последними. Ни один польский эшелон не может быть мною пропущен на восток»30.
Эвакуация оставила позади себя 200 замерзших «поездов смерти» с беженцами и семьями тех, которые отступали в армии. «Гибель эшелонов с семьями, — свидетельствует Занкевич, — нанесла огромный моральный удар офицерству армии и была одной из главных причин быстрого и окончательного ее разложения» [с. 149]. Десятки обозов с умершими в Омске, тысячи сжигаемых трупов погибших в лагерях Новониколаевска, штабели трупов в Красноярске и Томске31 — все это жертвы на кладбище гражданской войны. Но трудно представить себе нечто более кошмарное, чем то, что советский беллетрист Ф. Абрамов под заглавием «Воскресник» дал в 1926 году в «Сибир. Огнях» [было перепечатано в «Днях» 2 дек.]. Это было время, когда разгружали «мертвые поезда». Грубо, пожалуй, даже иногда цинично его изложение, но оно так ярко говорит о кошмарных ужасах в Сибири:
«...B январе двадцатого года в городе встречались подводы и целые обозы с трупами. Это свозили за город со станции, разгружали мертвые поезда, подбирали трупы в окрестностях. На санях везли десять-пятнадцать трупов, все больше раздетых, вымерзших белых, перетянутых веревкой. Бывает, что везут, а веревка лопнет, и они рассыплются. Женщины сначала в обморок падали, потом ничего — привыкли, стоят и смотрят, нет ли знакомых. Иногда находили. Возили трупы за город. Там стоял крематорий, но слабо работал: не больше 300 трупов сжигал, а привозили их в несколько раз больше. Пришлось для трупов могилы рыть. Работали какие-то воинские части, потом стали мобилизовать гражданское население. Окрестные крестьяне возили, а городские обыватели могилы рыли.
Воскресники устраивали тогда для того, чтобы привлечь к работам служащих и рабочих. Попал наш коллектив в одно воскресенье на рытье могил...
Опять воскресенье, опять воскресник и опять могилы. Утешают, что наш коллектив и вообще наш район на могилы в последний раз назначают. Пришли, распределились. Мы опять с ней в паре. Оказалось, что на этот раз нам досталось не могилу рыть, а так как две могилы были уже готовы, то нас заставили трупы в могилу таскать. Не повезет, так уж не повезет. Показали нам, как это делается. Очень просто. Дают веревку двоим. Веревкой зацепят мертвяка за голову или за руку и волоком к могиле, столкнут туда, а там уже есть люди, которые укладывают рядами, чтоб меньше места занимали. Совсем просто: зацепят, приволокут к яме, столкнут и марш за другими. Если бы это были чурки деревянные, так даже весело бы было. Лучше, чем копать...
Больше всего было мужской молодежи из колчаковской армии. Рядом с нами работали двое здоровых парней. Зацепили из кучи одного за голову, дернули и оторвали голову. Постояли, посмотрели на нее и, как ребятишки зимой гонят замерзший кал, погнали голову к яме, перебрасывая ее один к другому. Кто-то заругался на них. Многих тошнило. С несколькими женщинами случилась истерика: все были неразговорчивы. Бывает, что и женщины молчат. Работа по времени подходила уже к концу. Накинул я веревку петлей на какую-то женщину, вытянул из кучи. Смотрю, приятельница как-то дико смотрит на труп. Бросилась на колени, посмотрела, дико закричала: «Мама»!..»
* * *
«Около Нижнеудинска в тайге части Каппеля и Войцеховскего, к которым присоединились прорвавшиеся ижевцы и уральцы, отступавшие после Красноярска вниз по Енисею, встретились с группой воткинцев Вержбицкого и с колонной Сахарова и Лебедева. Образовалась, по исчислению Сахарова, сила «тысяч в тридцать бойцов»32. Захватив Нижнеудинск, Каппель 22 января устроил военное совещание. На нем был выработан план — двигаться двумя колоннами-армиями (под командованием Войцеховского и самого Сахарова) к Иркутску, стремиться подойти к нему возможно скорее, чтобы внезапно овладеть городом, освободить Верховного правителя, всех с ним арестованных, отнять золотой запас, затем, установив соединение с Забайкальем, пополнить и снабдить наши части в Иркутске, наладить службу тыла и занять западнее Иркутска боевой фронт» [Сахаров. С. 262—263].
Около ст. Зима обе колонны должны были соединиться. Войска получили общее наименование «каппелевцев». В пути Каппель, у которого уже были отморожены ноги, получил воспаление легких... 25 января он скончался. Ушел, по характеристике Сахарова, один «из доблестнейших сынов России», пользовавшийся «прямо легендарным обаянием».
Продвижение каппелевцев обеспокоило и Пол. Ц., и коммунистов. По словам Парфенова, кап. Калашников внес даже предложение о передаче власти коммунистам «ввиду создавшегося критического положения» [«Сиб. Огни», 1927, №5, с. 117]. Калашников в эти дни сделался уже верным слугой коммунистов33. «Мы стали готовиться к отпору каппелевцам, а заодно и чехам», — вспоминает Ширямов [Борьба за Урал. С. 297]. Коммунисты, не доверяя чехам, боялись с их стороны поддержки каппелевцам. Бороться одновременно и с теми и с другими, по признанию Ширямова, коммунисты не могли, так как армия их пополнялась только ненадежными партизанскими отрядами. Руководящие чехословацкие органы о такой поддержке каппелевцам и не помышляли. Они всемерно искали соглашения с местными большевицкими организациями и представителями наступавшей 5-й Советской армии. Последние в свою очередь, по предписанию из Москвы, желали избежать столкновений с чехами. Между тем повсюду чехословаки отступали, выдерживая арьергардные бои с головными частями 5-й армии. Так, крупное столкновение с дивизией польских легионеров произошло у большевиков около ст. Тайга под Красноярском. Новые столкновения были у Ниждеудинска и в Тулуне. Чехи уходили, взрывая мосты — тем самым замедлялось продвижение большевиков; «надо было во что бы то ни стало прекратить эти разрушения» [Смирнов]34. На почве самозащиты и могло произойти на местах, вопреки всякого рода предписаниям свыше, то соединение чехословацких отрядов с каппелевцами, которого боялись и деятели П. Ц., и коммунисты. Тем более что настроение окружающего населения было неопределенно. Сами «Изв. Ирк. Рев. Ком.» [№ 1, 24 января] должны отметить, что «среди населения селений и городов, расположенных вдоль линии ж. д., настроение выжидательное. Одни ждут с нетерпением приближения регулярных советских властей, другие — мечтают и вздыхают о Каппеле и посматривают на восток...». В хвосте эвакуировавшихся эшелонов шли польские, румынские и сербские части, мало считавшиеся с военным чехословацким командованием. При эвакуации неизбежно каждый начинал думать только о себе. Кроме того, значительная часть чехословацкого войска была настроена антибольшевицки. Январские события должны были многим раскрыть глаза и показать, что лозунг «демократии» в то время обозначал безоговорочное признание советской власти. Настроение было далеко не однородно. Если специально обличительная литература склонна приводить примеры, когда чехословацкие эшелоны, обезоруживая беглецов, к ним присоединившихся, выдают их большевикам35, то можно привести не менее многочисленные примеры содействия и спасения чехами беглецов. Даже в такой критический для польской дивизии момент, как бои под Красноярском, ею решительно было отвергнуто требование выдачи всех русских, ехавших в польских эшелонах [Витольдова Ст. На Восток. Рига].
Столкновение с каппелевцами, происшедшее у ст. Зима, показало, какую роль могли бы сыграть еще чехословаки и какая двойственность наблюдалась, в сущности, в их позиции. Из Иркутска «революционным» Правительством был отправлен на ст. Зима заслон, который должен был принять первый удар каппелевцев. По словам Ширямова, чехи «не препятствовали» его проезду по ж. д. и дали обещание не вмешиваться в бои и не оказывать никакого содействия каппелевцам, при условии соблюдения трехверстной нейтральной зоны вдоль линии ж. д. [там же. С. 279]. В действительности произошло нечто другое. В бою с большевиками принял участие конный чешский полк третьей дивизии, которой командовал майор Прхал. «Но уже через несколько часов, — рассказывает Сахаров, — от Яна Сырового пришли по телеграфу и строжайший разнос майору Прхалу, и приказание вернуть красным оружие, и требование... не оказывать нам никакого содействия. Установившиеся было отношения между нами и чехами были сразу прерваны. Майор Прхал, показав полученные им телеграммы, заперся в вагоне» [с. 268].
В дни столкновения у ст. Зима и обостренных отношений между большевиками и чехословаками чешское командование уже официально вступило в переговоры с 5-й Советской армией при посредстве иркутских коммунистов. Соглашение висело на волоске, так как в Иркутске получен был уже приказ об открытом выступлении против чехов и расстройстве их тыла [Борьба за Урал. С. 300, 321]. Тогда иркутский Ревком «решился на последний шаг, кажется, предложенный чехами: послать делегацию для непосредственных переговоров с 5-й армией». С охранной грамотой Благоша делегация двинулась в путь и прибыла на ст. Зима. «В вокзальном помещении, — рассказывает Сурков36, — нас встретил начальник чехослов. дивизии Прхал... Не успели мы изложить своей просьбы и показать Прхалу свои мандаты от д-ра Благоша, как в комнату вошел статный казачий офицер, который, взяв под козырек, быстро отрапортовал: «Ген. Войцеховскому стало известно, что на ст. Зима только сейчас прибыла делегация большевиков... Генерал просит их немедленно передать ему в руки, так как их движение по линии под чешской охраной нарушает нейтралитет чехов в отношении жел. дороги, который должен быть для всех русских одинаков...» Прхал заметно волновался и не знал, что делать... После краткого совещания решено было нас ген. Войцеховскому не выдавать, а, посадив в простой товарный вагон, двинуть с паровозом дальше»...
Новое осложнение было в «Тулуне, где чешский»37 полковник Бируль, противник мира с «красными», не хотел пропускать делегацию: «Высшее чешское командование, сидящее в Иркутске, ничего не знает о том, что творится здесь, на месте, и поэтому высылает всякие делегации [Борьба за Урал. С. 324—326]. Но все-таки делегация до места назначения доехала и соглашение с правительством РСФСР заключила. Оно было подписано в с. Куйтуки 7 февраля в 9 часов вечера по московскому времени. Один из пунктов соглашения гласил: «Чехосл. войска оставляют адмирала Колчака и его сторонников, арестованных иркутским Ревкомом, в распоряжение советской власти под охраной советских войск и не вмешиваются в распоряжения советской власти в отношении к арестованным» [договор напечатан в приложении к сборнику «Борьба за Урал и Сибирь». С. 358—361].
5. В предсмертный час
«Голова Колчака должна была служить выкупом за свободный уход на восток»... Слова эти принадлежат Ширямову и относятся еще ко времени выдачи адмирала Политцентру. Договор 7 февраля сам по себе не играл роли в судьбе иркутских пленников. Он был формально заключен тогда, когда ни Верховного правителя, ни председателя Совета министров уже не было в живых. Этот пункт договора носил, скорее, демонстративный характер, так как большевики прекрасно, конечно, знали, что чешская дипломатия и чешское командование спасать Колчака не будут. Большевиков же, по признанию Смирнова, больше беспокоила возможность увоза золота38. Но документ для истории остался. Договор 7 февраля «случайно» совпал с днем убийства Верховного правителя.
Эта «случайность», как понимает с.-д. Крейчи39, сделала «наше пребывание в Сибири в политическо-моральном отношении совершенно непереносимым». «Будут нас обвинять и ненавидеть, — продолжает автор, — но могли ли мы, ничего в Сибири уже не могшие сделать и всей душой обращенные к родине, для сохранения жизни Колчака ставить на карту судьбу нашего войска». На риторический вопрос Крейчи ответить легко. «Ненависти» не будет за прошлое — потомство поймет ту элементарную психологию, которая двигала поступками людей. Поймет... и простит. Хуже, когда исследователь пытается обмануть прошлое, говорит о вынужденной пассивности и взывает к своей спокойной «совести». В словах Крейчи остается непонятным, зачем ему понадобилось говорить, что смертный приговор над Колчаком был приведен в исполнение раньше, чем «наше войско могло этому помешать». Такая отписка перед историей противоречит и договору 7 февраля, и всей оправдательной концепции самого Крейчи. Но оставим потомство и вернемся к прошлому.
Еще до боя у ст. Зима большевики пытались завязать переговоры с каппелевской группой. Посредником явился Благош, который, по словам Ширямова, был убежден, что большевикам Иркутска отстоять не удастся. Чрез Благоша было предложено Войцеховскому сложить оружие при гарантии личной неприкосновенности его отряду. Войцеховский заявил, что «противобольшевицкие армии» могут отказаться от прохождения через город при следующих условиях:
«Беспрепятственный пропуск армий за Байкал по всем путям в обход Иркутска. Снабжение армий деньгами, имеющими широкое хождение на Дальнем Востоке в сумме двухсот миллионов рублей... Беспрепятственный пропуск раненых, больных и семей военнослужащих противобольшевицких войск на восток, в Забайкалье, в каких бы эшелонах они ни следовали. Освобождение адмирала Колчака и арестованных с ним лиц, снабжение их документами на право выезда их в качестве частных лиц за границу. Просьба к представителям иностранных государств взять названных лиц под свое покровительство и гарантировать им свободный проезд за границу» [Последние дни Колчаковщины. С. 201—202].
Посредничество Благоша потерпело фиаско. Тогда иркутский Ревком попытался войти в непосредственное сношение с солдатской массой. С этой целью во вражеский стан были посланы «ходоки» от проживавших в Иркутске семей тех воткинских и ижевских рабочих, которые составляли «ядро» боевых дивизий Войцеховского. Этот шаг также не имел реальных последствий. Трусливо Воен.-Рев. Ком. объявил населению, что город не будет эвакуирован, что бессильные40 «каппелевские банды» не смогут даже подойти к Иркутску, так как они могут продвигаться только под защитой чехов. Тем не менее на всякий случай Р. Ком. грозил расправой над «сдавшейся буржуазией и реакционными элементами» в городе. Не доверяя чехословакам, с которыми окончательное соглашение еще не было достигнуто, иркутский Рев. Ком. потребовал от командования в 24 часа вывести из города все части; все улицы были превращены в баррикады, юнкера и «белый комсостав» интернированы в пересыльные бараки, тюрьмы; произведены были массовые аресты; Чрез. след. комиссия была наделена судебными функциями с правом производить расстрелы.
И все-таки не было уверенности, что «во время боя город останется спокойным». Колчак оставался знаменем. Поэтому Ревкомом был дан приказ председателю следственной комиссии Чудновскому держать наготове отряд, который мог бы, в случае возможных попыток к освобождению Верховного правителя, взять его и вывезти за город в более безопасное место [Борьба за Урал. С. 201]. Одновременно поднят был вопрос и о расстреле адмирала. Не решаясь самостоятельно идти на такой шаг, иркутский Ревком постановил запросить представителя Реввоенсовета 5-й армии Смирнова. Как было это сделать? Прибегли вновь к услугам чехов. «К немалому нашему удивлению, — повествует Смирнов, — чешское командование, давая нашей делегации провод для сообщения в Иркутск о ходе мирных переговоров, не чинило препятствий в передаче телеграммы иркутскому Ревкому даже по такому щекотливому вопросу, как судьба Верховного правителя» [там же. С. 311].
Мнение Реввоенсовета было формулировано так: «Желательно Колчака сохранить и доставить в наше распоряжение, но, если обстановка сложится такая, что о сохранении Колчака нечего и думать, Реввоенсовет против расстрела не возражает» [там же. С. 334].
Судьба Колчака была решена.
* * *
Колчак предчувствовал свой удел. В предисловии к «Допросу» Попов сообщает:
«Последний допрос производился 6 февраля, днем, когда расстрел Колчака был уже решен, хотя окончательного приговора вынесено еще не было. О том, что остатки его банд стоят под Иркутском, Колчак знал. О том, что командным составом этих банд предъявлен Иркутску ультиматум выдать его, Колчака, и премьер-министра Пепеляева, Колчак тоже знал, а неизбежные для него последствия этого ультиматума он предвидел. Как раз в эти дни при обыске в тюрьме была захвачена его записка к сидевшей там же в одном с ним одиночном корпусе Тимиревой. В ответ на вопрос Темиревой, как он, Колчак, относится к ультиматуму своих генералов, Колчак отвечал в своей записке, что он «смотрит на этот ультиматум скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка». Таким образом, Колчак предвидел возможность своего расстрела. Это отразилось на последнем допросе. Колчак был настроен нервно, обычное спокойствие и выдержка, которыми отличалось его поведение на допросах, его покинули. Несколько нервничали и сами допрашивавшие. Нервничали и спешили. Нужно было, с одной стороны, закончить определенный период колчаковщины, установление колчаковской диктатуры, а с другой — дать несколько зафиксированных допросом ярких проявлений этой диктатуры в ее борьбе со своими врагами не только революционного, но и правосоциалистического лагеря — лагеря тех, кто эту диктатуру подготовил. Это, значительно забегая вперед от данной стадии вопроса, сделать удалось, но удалось в очень скомканном виде»...
«5-го, — рассказывает Гришина-Алмазова, — я получила точные сведения, что Колчак и Пепеляев будут расстреляны. Потрясенная этой вестью, я послала Пепеляеву письмо со словами дружеского привета и одобрения. 6-го утром в последний свой день он ответил мне письмом коротким и душевным: «Обо мне не беспокойтесь — я ко всему готов и совершенно спокоен. Грустно подумать, что меня будут расстреливать русские солдаты, которых я люблю». Расстреляли его, однако, не «русские солдаты».
* * *
6 февраля каппелевцы подошли к Иркутску — шли они днем и ночью с самыми минимальными отдыхами. Ширямов пытается изобразить так, что каппелевцы, разбитые в предварительных боях, подошли к Иркутску «бесформенной массой» и, следовательно, никакой уже угрозы не представляли. Очевидно, это было не так, ибо зачем же понадобилось начальнику боевых коммунистических сил, «товарищу Калашникову», издавать приказ: «Черные тучи каппелевцев у красного Иркутска». «Смердящий труп черной реакции», «голодные полузамерзшие банды остатков колчаковских войск» представляли для Иркутского гарнизона еще грозную силу.
6 февраля иркутский Воен.-Рев. Ком. вынес следующее постановление (его нельзя не привести целиком):
«Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных лент и проч. и таинственное передвижение по городу этих предметов боевого снаряжения. По городу разбрасываются портреты Колчака и т. д. С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение сдать оружие, в одном из пунктов своего ответа упоминает о выдаче ему Колчака и его штаба. Все эти данные заставляют признать, что в городе существует тайная организация, ставящая своею целью освобождение одного из тягчайших преступников против трудящихся — Колчака и его сподвижников. Восстание это безусловно обречено на полный неуспех, тем не менее может повлечь за собою еще ряд невинных жертв и вызвать стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не желающих допустить повторение такой попытки. Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить город до ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных следственного материала и постановлений Совета Народных Комиссаров РСФСР, объявившего Колчака и его Правительство вне закона, иркутский Военно-Рев. Ком. постановил:
1. бывшего Верховного правителя — адмирала Колчака и
2. бывшего председателя совета министров — Пепеляева — расстрелять.
Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв» [Последние дни Колчаковщины. С. 208-2091.
Этот документ подписан председателем Ширямовым, членами Сноскаревым, Левенсоном и управляющим делами Обориным. Ночью постановление Ревкома было передано для исполнения Чудновскому. На рассвете 7 января Колчак и Пепеляев были расстреляны. Много легенд сложилось уже по поводу последних минут их жизни. Может быть, все-таки наиболее достоверен рассказ самого Чудновского, зафиксированный им на страницах «Советской Сибири»41:
«Было поздно ночью, когда я отправился в тюрьму, чтобы выполнить приказ Ревкома. Со стороны Иннокентьевской слышны были выстрелы. Иногда они казались совсем близко. Весь город замер. Я осмотрел посты. Убедившись, что на постах стоят все свои люди, я направился в одиночный корпус и приказал открыть камеру Колчака». Адмирал Колчак не спал. В шубе и папахе он стоя встретил Чудновского. «Я прочел ему приказ ревкома. Окончив чтение, я приказал одеть ему наручники.
— Значит, суда не будет? — спросил Колчак. По правде сказать, я был несколько озадачен таким вопросом». Передав Колчака конвою, Чудновский отправился в верхний этаж, где находился Пепеляев. Пепеляев сидел на койке и тоже был одет. Постановление о расстреле, по словам Чудновского, сильно его потрясло. «Я приказал ему прекратить всякие разговоры и передал его конвою. Захватив внизу Колчака, мы отправились в тюремную контору»... Пока Чудновский делал распоряжение о выделении 15 человек из «дружины», охранявшей тюрьму, Колчак обратился к нему с просьбой о свидании с Тимиревой. Он грубо отказал, но осведомился, нет ли у «осужденного» еще каких-либо просьб.
— Я прошу передать моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына, — сказал адмирал Колчак.
— Если не забуду, то сообщу, — ответил Чудновский. Поднялся сидевший рядом Пепеляев и передал записку, в которой было написано обращение к матери и еще к кому-то, прося «благословить его на смерть и не забыть своего Виктора»...
Чудновский вышел доканчивать «оформление». Его нагнал часовой и спросил, можно ли разрешить Колчаку закурить трубку. «Я разрешил. Товарищ ушел, но вскоре вернулся обратно, бледный как смерть. Оказалось, что у адмирала Колчака нашли и отобрали носовой платок, в одном из углов которого было завязано что-то твердое. Я развязал узел и вынул маленький капсуль с какой-то белой начинкой. Посмотрел на Колчака: он сидит бледный. Не трудно было догадаться, что Колчак, убедившись, что через несколько минут будет представлять бездыханный труп, хотел отравиться...42
Все формальности, наконец, закончены. Выходим за ворота тюрьмы. Мороз 32—35 градусов по Реомюру. Ночь светлая, лунная. Тишина мертвая. Только изредка со стороны Иннокентьевской раздаются отзвуки отдаленных орудийных и ружейных выстрелов. Разделенный на две части конвой образует круги, в середине которых находятся: впереди Колчак, а сзади Пепеляев, нарушающий тишину молитвами. В 4 часа утра пришли мы на назначенное место. Я отдал распоряжение. Дружинники, взяв ружья наперевес, становятся полукругом. На небе полная луна: светло поэтому, как днем. Мы стоим у высокой горы, к подножию которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлен был Колчак и Пепеляев. Колчак — высокий, худощавый, тип англичанина, его голова немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи, лицо бледное, глаза почти закрыты, мертвец да и только. Команда дана. Где-то далеко раздался пушечный выстрел, и в унисон с ним, как бы в ответ ему, дружинники дали залп. И затем на всякий случай еще один»43.
Где происходил последний акт жизненной драмы адм. Колчака? Чекисты скрывали место... Упомянутый выше М. Струйский, передававший рассказ сидевшего в тюрьме на одном коридоре с Колчаком интеллигентного солдата, говорит, что расстрел был произведен у Знаменского кладбища... Расстреливала Верховного правителя и Пепеляева левоэсеровская дружина (свидетельство Ширямова) в присутствии председателя Чрез. след. комиссии Чудновского, члена Военревкома Левенсона и коменданта города Бурсака. Вместе с Колчаком и Пепеляевым был повешен палач-китаец, приводивший в исполнение в иркутской тюрьме смертные приговоры. Большевики хотели символически запечатлеть последний акт «кровавой сибирской трагедии», — упомянув в «истории» имя Колчака рядом с именем палача. Чувства элементарной порядочности у них не нашлось даже в этот предсмертный час... Но история пройдет мимо недостойной комедии этих кровавых паяцев...
Трупы убитых 7 февраля были спущены в прорубь реки Ангары. Очевидно, никогда не будет найдена могила Верховного правителя.
Расправа совершилась44... Ночью в лагере Войцеховского на Иннокентьевской происходило совещание, на котором разрабатывался план захвата Иркутска. Выступление было назначено в 12 час. дня. «Утром грянул гром», — рассказывает Сахаров. За подписью начальника 2-й чехословацкой дивизии полк. Крейчего45 пришло требование не занимать Глазковского предместья, иначе чехи выступят против каппелевцев. Затем пришло известие, что Верховный правитель убит... Войцеховский отдал приказ отменить наступление. С боем каппелевцы отходили в Забайкалье. Кап. Калашников, начавший во имя народовластия борьбу против Верховного правителя, организует забайкальские партизанские дружины для борьбы с отступающими каппелевцами. Бои под Иркутском ускорили развязку, но и только. Судьба Колчака, конечно, была предрешена... Но в этом продвижении каппелевцев было нечто такое, что должно было явиться бальзамом для измученной души Верховного правителя. Он со спокойной совестью мог встретить выстрелы левоэсеровских дружинников. Доблестные воткинцы и ижевцы — подлинная демократия — в самый критический момент испытания своего мужества не изменили делу, которому служил Колчак, не изменили и самому адмиралу. Их выступление — глас незагипнотизированного народа, его лучшей и сознательной части. Каппелевцы под Иркутском — это символ...
2 марта Войцеховский из Читы телеграфировал Болдыреву, находившемуся уже во Владивостоке, что он вывел в Забайкалье 30 тысяч бойцов, готовых поддерживать всякий демократический режим, но непримиримых к большевикам. Продвижение «каппелевцев» вызвало лишь переполох у «демократии», которая искала «безболезненных» путей соглашения с советской властью. Она приняла все меры, чтобы помешать продвижению каппелевцев в Приморье.
Примечания к главе четвёртой:
1 Каппель в своем открытом письме 19 декабря Сыровому требовал «извинения» и немедленного пропуска поезда адмирала, считая, что задержкой в Красноярске, насильственным отобранием паровозов нанесено оскорбление армии. «Я не считаю себя вправе, — писал Каппель, — вовлекать измученный русский народ... в новые испытания, но, если Вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступали и, взаимно уважая друг друга, дрались во имя обшей идеи, решились нанести оскорбление русской армии и ее Верховному главнокомандующему, то я, как главнокомандующий, требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной. К барьеру, генерал» [Парфенов. Последние дни правит. Колчака. — «Сиб. Огни», 1927, № 5, с. 92; Skacel J. S generälem Syrovym u Sibiri — здесь текст всей переписки. Р. 111-119). Через два дня после письма у самого Каппеля был отобран паровоз.
2 Об этом приказе говорит и Гутман [«Белое Дело». III, с. 176]. Никакого намека на такой приказ, посланный-де окольным путем и попавший в руки чехов, я не нашел.
3 В кн. III «Белого Дела» Гутман поместил некоторое опровержение, но фактически ничего существенного он не опровергает.
4 То же в «Св. Крае», №421.
5 Характерно, что в «Чехосл. Дн.» [№ 3, 1920] вопрос становится несколько по-иному: «Союзники, конечно, не думают отказать Колчаку в личной безопасности, если он обратится к ним с соответственной просьбой. Возможно, что потом он мог бы под охраной союзников быть вывезен куда-нибудь в безопасное место, дальше от средней Сибири, которая так разрушила его нервы».
6 По словам Гришиной-Алмазовой [«Рус. Гол.», февраль 1921 г.], против побега высказался Пепеляев, считавший достаточной гарантию союзников. Если Колчак остро воспринимал слова окружавших, то это не дает еще права говорить, что он был действительно всеми покинут [утверждение Грондижа. С. 538].
7 Занкевич отмечает предупредительность чехов, охранявших адмирала.
8 Техника передачи бьгла заранее установлена особым соглашением между Благошем и Косьминским.
9 О том, что члены П. Ц. много раз обещали беспрепятственно пропустить адмирала Колчака говорят и Дюбарбье, и Грондиж, и др.
10 Полк. Верже изображает дело так, что чехословаки дали адмиралу свой эскорт тогда, когда Колчак был оставлен своей сибирской охраной. Это-де и вызвало негодование против чехословаков, [с. 155]. Книга этого автора «Aves les thecoslovaques» [Париж, 1926] мало чем отличается от других описаний иностранцев. В свое время она ускользнула от моего внимания. Отмечу, что во главе «Coupe» можно найти преувеличенные сведения об участии в сибирской борьбе немецких военнопленных.
11 Конечно, в Иркутске, пока там были чехи, ему ничто не угрожало.
12 Также характеризует роль Жанена и автор воспоминаний под буквой N. Отметим, что Занкевич тщетно искал в это время возможности свидания с Жаненом.
13 Судя по телеграмме Крупенского Сазонову 1 января, междусоюзное командование обращалось к Японии с просьбой отправить 12-ю дивизию в Иркутск, но Япония ответила отказом.
14 «Monde Slave», 1925, III, р. 355. Если верить сообщению читинского «Восточн. Курьера» [19 января], Жанен на завтраке у японского генерала в Верхнеудинске поднимал бокал за несчастного Верховного правителя: адмирал сам виноват, он не слушал в последнее время доброжелательных советов Жанена и находился в дурном окружении.
15 Легра может видеть, что не одни «большевики» высказывают такие суждения. Монтандон передает аналогичные суждения, которые он слышал в Сибири [с. 69]. Слова осуждения Жанену нашлись и в истории гражданской войны Милюкова.
16 Через 10 лет д-р Патейдль уже определенно весь одиум возлагает на ген. Жанена. См. его статью в чешском официозе «Prager Presse» 14 декабря 1930 г. «Десятилетие возвращения легионеров».
17 У Эссена, однако, не было «ни малейшего сомнения» в судьбе, которая ожидала арестованных [с. 119]. Невольно хочется эту эпопею сопоставить с ответом, который 3 апреля 1919 г., в критический момент оставления Одессы, дал ген. Д'Ансельм представителям совета профсоюзов, требовавшим выдачи всех добровольческих офицеров. «Ответ неумного ген. Д'Ансельма, — рассказывает в своих воспоминаниях офицер-коммунист Марта, — был типичен: "Я — честный французский солдат и не могу выдать русских офицеров, находящихся под покровительством французского флага"» [Черноморское восстание. — «Новый Мир», 1925, №5, с. 85].
18 Термин «плен» был употреблен даже заграничной делегацией партии с.-р. [«Гол. Рос.», 14 марта 1922 г.].
19 Очевидно, имелся в виду учрежденный Верховный Народный Суд, который должен был рассматривать дела с участием 12 присяжных заседателей, выбираемых Иркутским городским самоуправлением, земством, кооперативами, проф. союзами, комитетом трудового крестьянства. Председатель и 4 члена подлежали назначению Советом Нар Упр. Специфической чертой этого суда являлось — недопущение обжалования и квалифицированное большинство (2/3) для смертного приговора. Такова была теория.
20 Колчак в тюрьме был помещен в нижнем этаже, в одиночной камере № 56. Пепеляев сидел во втором этаже.
21 Коммунисты, левые эсеры и штаб раб.-крестьянских дружин.
22 Поразительно, что сам текст соглашения помечен 22 января и что в пункты соглашения вводилось обязательство созыва Совета Р. С. К. Д., откуда заранее были исключены меньшевики и эсеры [Бор. за Ур. С. 310]. Военно-Рев. Ком. одновременно гарантировал пропуск чехосл. войск, при условии невмешательства и передачи золота [текст соглашения у Ширямова. С. 296].
23 «Чехи, — добавляет автор, — приняли известие о нашем официальном появлении спокойно... мы сообщили им о неизбежности переворота и получили ответ, что они сами видят все бессилие П. Ц. и что их здесь интересует лишь сохранение в силе их соглашения с П. Ц. об обеспечении им свободного выхода на восток. Представитель чешского командования присутствовал на заседании, где решался вопрос о переходе власти, и мы официально подтвердили соглашение» [с. 296].
24 Это характерно для Пол. Ц. Напомним, что Попов — прис. пов., председатель Омского Совета, находившийся в заключении в период «декабрьской драмы».
25 Со второго заседания он принимает участие в допросах, но подписывает протоколы Попов.
26 Это не помешало Алексеевскому, не вызывая протеста ни с чьей стороны, принять в 1921 г. участие в эмигрантском уже парижском съезде бывших членов Учредительного Собрания 1917 года.
27 Перепечатано было в «Руле» 24 марта 1921 г.
28 Уральское казачье войско в борьбе с большевиками. — «Бел. Дело». II. Дальнейший путь на Тегеран изображен Толстовым в книге «От красных лап в неизвестную даль» [Константинополь, 1922].
29 «Сибирские Огни», 1923, № 1—2. — «Белые в Китае».
30 Гинс. II, с 507; «Чешские аргонавты». С. 19. Кап. Ясинский-Стахурек письмом от 5 февраля тоже вызывал на дуэль Сырового.
31 Смирнов. От Колчака к Советам. — «Сиб. Огни», 1927, № 5, с. 136; Волков Н. К. Сибирь под властью большевиков. — «Общее Дело», № 117.
32 Сахаров дал наиболее полное описание сибирского «ледяного похода».
33 Любопытна его судьба — в конце концов, он все-таки попал в эмиграцию.
34 По-видимому, не «энтузиазм» Советской армии, на который ссылается Смирнов, а действия партизан являлись причиной арьергардных боев. По требованию самих железнодорожников, В.-Р. Ком. вынужден был от Нижнеудинска до Иннокентьевской установить 20-верстную нейтральную зону по обе стороны лишь во избежании конфликта с чехословацкими эшелонами [Последние дни Колчаковщины. С. 198].
35 «Осмотр местными русскими властями эшелонов чехо-войск, — сообщают «Изв. Ирк. Р. К.», — часто обнаруживает беглых русских офицеров, которые арестовываются без препятствия со стороны чехов».
36 Первая встреча партизан с Красной армией [Борьба за Урал. С. 324].
37 Со стороны чехов в делегацию входил поручик Гаупе.
38 Борьба за Урал. С. 293. Относительно вывоза золота (об этом имелся соответствующий пункт договора) было дано коммунистам 6 февраля распоряжение: «Портить путь, взрывать мосты, туннели и т.д.» [Последние дни Колчаковщины. С. 208].
39 «U Sibirske armädy». Р. 269—272.
40 Оперативная сводка 3 фев. говорила, что наступающие каппелевцы двигаются параллельно полотну ж. д. отрядами в 3000 из ударных частей и 12 000 больных, раненых и обмороженных [Последние дни Колчаковщины. С. 205].
41 Перепечатано в «Послед. Новое.» 17 февр. 1925 г. Между прочим, Чудновский говорит, что он настаивал тогда же на расстреле всей головки «контрреволюции» — около 20 человек.
42 Ген. Лохвицкий, со слов одного офицера-очевидца, рассказывал на парижском собрании памяти адм. Колчака, что последний снял перстень, в котором был заделан яд, и бросил его при аресте в Иркутске. Сделал он потому, что хотел чашу испить до дна. Рассказ Чудновского нам представляется более вероятным.
43 Очень широкое распространение получила версия, по которой красноармейцы отказались расстреливать адмирала и он был убит командовавшим отрядом чекистом. В дни памяти эта версия вновь обошла все зарубежные газеты. Ее, среди других, повторил и кап. Лукин на столбцах «Послед. Новостей», делая ссылку на статью проф. Перса, в которой эта версия воспроизводилась со слов американского журналиста, расспрашивающего какого-то чекиста Ивашева. По моему мнению, вся эта версия — вплоть до рассказа о золотом портсигаре, отданном адмиралом красноармейцам, — не заслуживает никакого внимания.
44 Передавая власть, П. Ц. передал большевикам и всех своих политических «пленников». В мае был инсценирован большой процесс «членов самозванного и мятежного правительства и их вдохновителей» — среди них оказалась и Гришина-Алмазова... Не стоит останавливаться на десятидневной комедии суда, при непосредственном участии партизанских вождей Щетинкина и Мамонтова. Червен-Водали, Шумиловский, Ларионов и Клафтон приговорены были к смерти. Приговор — как сообщали «Изв. Сиб. Ревкома» [№ 2) — был приведен в исполнение в ночь на 23 июля. (Подробности казенного сообщения были перепечатаны в «Общем Деле» 30 авг. 1921 г.) Суд признал обвиняемых виновными в подготовке монархического переворота, в распродаже России, в сношениях с буржуазными иностранными правительствами, в найме разбойничьих банд чехословаков, в клевете на советскую власть и в организации массовых расстрелов. Обвиняемые оказались виновными и в разрушении ж.-д. полотна, и во взрывах мостов и водокачек, и в объявлении царского гимна «Коль славен» национальным гимном, и в убийстве Новоселова, и в перевороте 18 ноября, и в денежных подлогах, и в ассигновании денег на розыски семьи Романовых, и проч. Официальное обвинительное заключение заведующего отделом «юстиции» Сибирского револ. трибунала Гойхбарга, бывшего когда-то сотрудником знаменитого «Права», напечатано в сборнике «Колчаковщина» [Екатеринбург, 1924).
45 Не надо смешивать с Крейчи, возглавлявшим политическую делегацию.
Эпилог
Смерть Верховного правителя знаменовала собой конец «губительной гражданской войны», т. е., другими словами, организованной в государственном масштабе антибольшевицкой борьбы в Сибири.
Та «передышка», о которой в салон-вагоне ген. Жанена красноречиво говорили представители Политцентра, оказалась блефом. «Третий» путь, по крайней мере, в сибирской обстановке мог означать только фактическое примирение с коммунистической властью. Коммунист Ширямов уверяет, что члены Пол. Центра впоследствии не раз заявляли, что их иркутский манифест предназначался для союзников, а в действительности П. Ц. «стремился сделать лишь более безболезненным переход от колчаковщины к советской власти» [Последние дни Колчаковщины. С. 30], которая рисовалась «революционной демократии» неизбежным этапом. Чешский политик с.-д. Крейчи так и воспринимал происходившее. По его словам, идея «сибирских эсеров» и меньшевиков заключалась в том, чтобы новый государственный переворот («когда после нас [т. е. чехов] придут красные») произошел без катастрофических потрясений». «По той же линии, — добавляет он, — ориентировалось и командование нашей армии» [с. 238]. Другому чешскому деятелю, Штейдлеру, уже представлялось, что мир с большевиками означает мир со всей сибирской демократией, так как после пережитого советская власть для «прогрессивной и демократической общественности» становилась единственной защитой от победы реакции и охраной перед распадением государства [«Ceskosl. hnuti». С. 110].
Иркутский мираж легко рассеялся. П. Ц. оказался карточным домиком. Тем не менее ослепленные политики продолжали еще создавать себе новые иллюзии. Самообманом была и возникшая в Верхнеудинске «демократическая дальневосточная республика» и «демократический» владивостокский буфер правительства приморского земства под главенством известного нам с.-р. Медведева. Только специфическая дальневосточная обстановка под угрозой японской «оккупации» могла создать лживую форму национального объединения, приведшего во Владивосток к временному и недолгому сотрудничеству в одном правительстве буржуазных элементов и коммунистов — такую форму принял провозглашенный в Иркутске единый социалистический фронт. Штейдлер склонен был думать, что ход событий превращал догматически интернациональную власть в выразительницу общерусских национальных стремлений. Но история не может обольщаться ни наивными иллюзиями современников, ни теми «наружными вывесками», к которым, по откровенному признанию Краснощекова на читинской конференции, прибегали коммунисты — для них эти «буферы» являлись лишь «тактическим этапом» захвата власти.
Иные склонны были миражи принимать за действительность. К числу обманывающих себя принадлежал и Болдырев. С падением власти адм. Колчака он не считал себя вправе уклоняться от участия в новом периоде борьбы за целость России. Вдохновляемый идеей «восстановления единой России через союз оздоровленных областей и скорейшую ликвидацию гражданской войны», Болдырев оставляет свое уединение в Японии, приезжает во Владивосток и, как «гражданин-солдат», входит в состав новой земско-коммунистической власти: ген. Болдырев, командовавший войсками Директории, оказался в одном военном совете с коммунистом Лазо — вдохновителем владивостокской партизанщины; Болдырев пытался строить мост между Лениным и Колчаком1! Очень скоро, однако, Болдырев должен признать (запись И марта), что новое Правительство с первых же дней своего появления у власти постепенно стало поглощаться истинным хозяином положения — Дальбюро ЦК РКП. Это было неизбежно, так как все совершалось по указке «полномочного» представителя советской власти Виленского (Сибиряка), представленного консульскому корпусу во Владивостоке д-ром Гирсой. Демократия «капитулировала», и ее руками только «загребали жар» большевики. Пятиконечная звезда, красовавшаяся на «буферной» армии, была символом того, что происходило. 9 ноября на конференции областных «демократических» правительств2, собравшейся в освобожденной от «атаманских» войск Чите, избирается «именем народа» центральное Правительство того буферного «государства» от Байкала до Тихого океана, которое должно было существовать в порядке договорных отношений России и Японии (заявление Чичерина 16 апреля). Во главе центрального Правительства оказался, конечно, коммунист Краснощеков-Тобельсон. 12 февраля открылось «Учредительное Собрание» ДВР. Не менее знаменательным представлялось избрание председателем Собрания бывшего «главнокомандующего» партизанскими отрядами Амурской обл. кап. Шилова.
В Чите круг завершился. Жизнь Приморской области пошла несколько иным путем. Мы не будем следить за историей внутренних переворотов во Владивостоке, возникших на почве отрицания сотрудничества с коммунистами, и той ролью, которую суждено было еще сыграть остаткам каппелевцев, все же проникших во главе с ген. Вержбицким3, после новых тяжелых испытаний, на территорию Приморья4. Оставим в стороне и судьбы приморского народного собрания, и нарождающиеся попытки продолжать борьбу с советской властью. Это совершенно особая страница. Было здесь и здоровое национальное чувство, были и репья присущего гражданской войне авантюризма...5 Искания «безболезненных» путей осуществления национальных задач привело даже недавнего еще барда диктатуры Устрялова на сменовеховскую стезю проповеди преступности свержения советской власти (статьи в харбинской «Новой Жизни»),
Только игнорируя местную своеобразную действительность, в деятельности Владивостокского правительства бр. Меркуловых и кратковременно сменившего их «воеводы земской рати» Дитерихса можно увидать логическое завершение так называемого «белого движения»6, и особенно того, что происходило в Сибири при адм. Колчаке. Это были лишь судороги...
26 октября 1922 г. во Владивосток, наконец, победоносно вступила, под начальством Уборевича, 5-я Советская армия. Болдыреву все еще казалось, что идет «новая Россия». Нет, не «новая» Россия выступала из-под маски, которой временно прикрывался кровавый, но подлинный лик коммунистов. «Демократические вывески» были больше не нужны. «Буферная» игра, придуманная сибирской «революционной демократией», была ликвидирована. Перестала существовать и призрачная «дальневосточная республика».
«Самоотречение» демократии, простиравшееся до того, что эсеры, меньшевики, коммунисты выработали общую форму и даже издавали в Благовещенске совместно газету, было вызвано, по уверению эсеровского публициста, «жестокой необходимостью». Демократия, оказавшаяся «между большевицким молотом и контрреволюционной наковальней», выбрала большевицкий молот7 и сделала ставку на несбыточную эволюцию звериного облика большевиков. Тяжело оказалось пожатие каменной десницы пришедшего командора: дальневосточная эпопея дала «красноречивый и неопровержимый ответ на все призывы пересмотреть непримиримое отношение к большевизму8.
«Синяя птица», которую искал благородный мечтатель, многими не понятый и оклеветанный, осталась таким образом несбывшейся мечтой... Колчак не был римским Юлианом, защищавшим «умирающую антику от побеждающих молодых хамов»: на развалинах старых он пытался строить новую Россию. Сравнивший Колчака с Юлианом Кратохвиль уподобил его и рыцарю крестовых походов, погибавшему в песках палящей пустыни за призрак «святого Иерусалима». Но разве история увидит в этом рыцаре только прозаического колонизатора? Нет, она опоэтизировала его, окружила его облик героическим нимбом защитника слабых и униженных, сделала рыцарем долга и подвига. И в этом ее правда. Суровые искатели «Святого Иерусалима» открывали и новые пути, и новые горизонты.
Сотворит история и легенду о мечтателе-идеалисте, искупившем трагедией своей жизни и «героической» (термин Кратохвиля) смертью невольные ошибки Верховного правителя и «чужие грехи», которых было так много в Сибири. С этим именем, а не с именами тех, кто ставит себе в «честь и заслугу» — слова Чернова — «взрывание белых фронтов», свяжет легенда национальную Россию. За ее освобождение погиб адм. Колчак, а те, кто с ним боролись, привели ее к порабощению на долгие годы. Пусть даже сделали они это бессознательно, подчиняясь фантому обуздывания большевизма, становясь, по образному выражению упомянутого публициста, «перед ними на колени»: «жизнь не оправдала той высшей жертвы, которую сибирская демократия принесла во имя любви к родной земле. Самопожертвование оказалось никчемным» [Вишняк. С. 103].
Оправдываясь перед историей за эту тактику, «демократия» будет ссылаться на «гарибальдиискую» психологию: «сделать Италию хоть с чертом». Этой «психологии», во всяком случае, у нее не было тогда, когда возрождение России в активной борьбе с наступающим большевизмом было действительно возможно. Тогда «гарибальдизм» этой части социалистической демократии носил особый характер. Его отчетливо выявляла передовая статья петроградского партийного эсеровского органа, «Дела Народа», в ответственные октябрьские дни 1917 г.: двойная опасность стоит перед демократией — демагогия военно-революционного комитета и буржуазные классы, принимающиеся за организацию контрреволюции; если неприемлемо участие в большевицкой демагогии, «еще меньше приемлемо калединское усмирение» [№ 191].
Это положение последовательно проводилось в Сибири (с уклоном в сторону соглашения с демагогией большевизма) вплоть до того момента, когда на партию соц.-рев., по выражению обращения ее заграничной «делегации к социалистическим партиям всех стран»9, выпала «честь» ликвидации Колчака и его «пленения»... Жизнь, в конце концов, дала определенный ответ своим поистине суровым уроком. Неужели она оправдала ту «черту крови», которую часть демократии пыталась провести между «революционной Россией» и «белым движением»10?
Примечания к эпилогу:
1 Так Юрий Галич, встретивший Болдырева во Владивостоке, позднее в газете «Сегодня» передавал его собственные слова.
2 Их было целых пять: Хабаровское, Владивостокское, Читинское, Амурское и Верхнеудинское.
3 Войцеховского в Чите сменил Лохвицкий, в свою очередь уехавший в Харбин для переговоров с иностранцами. Войцеховский не мог, конечно, ужиться с Семеновым. Переговоры его с Владивостокским правительством привели к разрыву «каппелевцев» с «семеновцами». Любопытно, что приморское земство одновременно вело переговоры о «соглашении» с Семеновым и об его аресте.
4 Подробности см. в воспоминаниях Болдырева и в книгах Парфенова «На Дальнем Востоке» и «На соглашательских фронтах».
5 Отмечу только, что продолжал вести «конспиративную работу» и бывш. начальник штаба ад. Колчака Лебедев. На ней он и погиб.
6 Таков вывод Милюкова, посвятившего в истории гражданской войны дальневосточному «опыту» чуть ли не больше страниц, чем всей борьбе за освобождение России при Колчаке.
7 Позднейшая эсеровская декларация 1922 г. указывала, что партия выступила из гражданской войны, т. с. из вооруженной борьбы с большевиками, еще в период несостоявшейся конференции на Принцевых Островах. IX Совет партии, как известно, в отношении коммунистов объявлял только «непримиримую идейную борьбу». (Более или менее подробно эти взгляды рассмотрены мною в книге, посвященной деятельности Н. В. Чайковского [с. 112].)
8 Вишняк М. Дальний Восток. — Сб. «Черный год». Париж, 1922 [статья из № 3 «Соврем. Записок»]. Автор считает соглашательскую тактику ошибочной. Но едва ли он правильно характеризует тогдашние жертвенные настроения сибирских эсеров. Они не за страх, а за совесть предавались самообольщению. В «Роиг 1а Russie» [№ 16, 14фев. 1920 г.] О. С. Минор сравнивал владивостокские думы после переворота 31 января с настроениями февральских дней 1917 г. И. Н. Коварский в № 10 лозаннской «Родины» (орган, издававшийся при участии группы «правых» эсеров: Руднев, Вишняк и др.) вспоминал, как он «упорствовал» в своем недоверии к тому, что во Владивостоке может образоваться «ядро истинной демократии» — так смушали его симпатии демократического «Циба» (Центр, инф. бюро) к Советской России, где строится «новая жизнь». В указанной декларации эсеров, 1922 г., адресованной социалистам всех стран, подчеркивалось, что, обращая оружие против Колчака, партия не заключала соглашения с большевиками. Мы уже видели, насколько такое утверждение соответствовало фактам. Позднее с.-р. «Воля» [1 янв. 1921 г.] в полном согласии с действительностью констатировала, что всесибирский краевой комитет не раз предпринимал попытки договориться с большевиками.
9 Воззвание 9 марта 1922 г., подписанное среди других Бензиновым и Черновым, было напечатано в №915 «Голоса России». Цель обращения — реабилитировать свой «демократизм» перед социалистами всего мира в момент эсеровского процесса в Москве. Этим, вероятно, объясняются его большие неточности и специфичность изложения.
10 «Письмо социал-демократа» в «Днях» 2 апреля 1928 г.
ЛИТЕРАТУРА
Мне нет надобности давать полный перечень существующей уже литературы. Желающие с ней познакомиться могут обратиться к специальному указателю, выпущенному в 1928 г. «Сибкрайиздатом» в Новосибирске: Турунов А. И. и Вегман В. Д. Революция и гражданская война в Сибири (указатель книг и журнальных статей). Указатель включает в себе литературу, как изданную в России, так и зарубежную. Включена сюда и часть литературы на иностранных языках. Краткий перечень можно найти в «Хронике гражданской войны в Сибири 1917—1918 гг.», составленной Максаковым и Туруновым и ранее выпущенной в Москве (1926). В сущности, в 1928-1929 гг. больших работ в России не появлялось. Таким образом, первый указатель для России является почти исчерпывающим.
Я везде в тексте делаю ссылки на источники, которыми пользовался. Раз ссылки нет, это означает, что у меня имеется соответствующий документ или его копия. Так как книга моя предназначается для русского читателя, я стараюсь делать, где возможно, ссылки на русские издания, если они даже касаются иностранного источника. Равно для удобства пытаюсь я ссылаться на общие издания, раз ссылка моя на первоисточник может быть проверена по этому общему изданию. Ниже я привожу список лишь тех книг, на которые мне более или менее часто приходится ссылаться, делая эти ссылки сокращенно (я указываю в тексте автора и соответствующую страницу). Остальная литература указана в подстрочных примечаниях.
I. ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
а) Книги
1. Аргунов А. А. Между двумя большевизмами. Париж, 1919.
2. Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. I и II. Харбин, 1921.
3. Гутман А. Я. (Ган). Россия и большевизм. Ч. I. Шанхай. 1921.
4. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Тома IIІ-Ѵ. 1924.
5. Драгомирский В. С Чехословаки в России 1914-1920. Прага, 1928.
6. Зензинов В. М. Государственный переворот адм. Колчака в Омске 18 ноября 1918. Сборник документов. Париж, 1919.
7. Кроль Л. А. За три года. (Воспоминания). Владивосток, 1922.
8. Лебедев В. И. Борьба русской демократии против большевиков. Нью-Йорк, 1919.
9. Масарик Т. Г. Мировая революция. Воспоминания. Т. I и И. Прага, 1926.
10. Мельгунов С. П. История гражданской войны в освещении П.Н.Милюкова. Париж, 1929.
11. Мельгунов С. П. Чайковский Н. В. в годы гражданской войны. Париж, 1929.
12. Милюков П. Н. Россия на переломе. Т. II. Антибольшевицкое движение. Париж, 1927.
13. Раков Д. Ф. В застенках Колчака. Париж, 1920.
14. Сахаров К. В. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923.
15. Серебренников И. И. К истории Сибирского правительства. — Сибирский Архив. Т. I. Прага, 1929.
16. Солодовников Б. Сибирские авантюры и ген. Гайда. Прага.
б)Статьи
1.Андрушкевич Н. А. Последняя Россия. — «Белое Дело», кн. IV.
2.Архангельский В. Г. Казань во время борьбы с большевиками. — «Воля России», № 28, 1922.
3.Брушвит И. М. Как подготовлялось волжское восстание. — «Воля России» 28, X.
4.Будберг А. Дневник. — «Архив Русской Революции», тт. IX, XIII, XIV, XV.
5. Глос И. Чехословаки и Сибирская Дума. — «Вольная Сибирь», IV.
6. Гутман А. Я. (Ган). Два восстания, — «Белое Дело», кн. III.
7. Занкевич (ген.) Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адм. Колчака. — «Белое Дело», кн. II.
8. Изюмов А. Ф. (ред.). Уфимское Госуд. Совещание. «Рус. Ист. Арх.». Прага, 1929.
9. Кириллов А. А. Сибирская армия в борьбе за освобождение. — «Вольная Сибирь», IV.
10. Климушкин И. Д. Перед волжским восстанием. — «Воля России», 28. VIII—IX.
11. Кроль М.А. Сибирское правительство и Сиб. Обл. Дума. — «Вольная Сибирь», IV.
12. Лебедев В. И. От Петрограда до Казани. — «Воля России», 28. VIII—IX.
13. Нестеров И. Перед выступлением на Волге. — «Воля России», 28. X.
14. Николаев С. Возникновение армии Комуча. — «Воля России», 28. ѴІІІ-ІХ.
15. Флуг В. Е. Отчет о командировке из Добров. Армии в Сибирь в 1918 г. — «Архив Русской Революции», IX.
16. Чечек О. От Пензы до Урала. — «Воля России», 1928. ѴІІІ-ІХ.
17. Штейдлер Ф. Выступления чехословаков в России 1918. — «Вольная Сибирь», IV.
18. Якушев И. А. Комитет содействия созыву Земского Собора. — «Вольная Сибирь», № VI—VII. (Прил. «Соб. Арх.» Вып. II).
19. Якушев И. А. Очерки областного движения в Сибири. — «Вольная Сибирь» III, V.
II. СОВЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ
1. Анишев А. Очерки истории гражданской войны. Ленинград, 1925.
2. Болдырев В. Г. Директория, Колчак, интервенция. Воспоминания / Примечания Вегмана. Новониколаевск, 1925.
3. Борьба за Урал и Сибирь. / Ред. Смирнов и др. 1926.
4. Буревой К. Г. Распад 1918-1920 гг. М„ 1923.
5. Вегман В. Как и почему пала советская власть в Томске. — «Сибирские Огни», 1923, I, II.
6. Владимирова В. Год службы «социалистов» капиталистам. М., 1927.
7. Допрос Колчака. / Ред. Попова. Ленинград, 1925.
8. Ильюхов, Титов. Партизанское движение в Приморье. 1928.
9. Какурин И. Е. Как сражалась революция. Т. 1 и II. М., 1925.
10. Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке. Ленинград, 1923*.
11. Левидов М. К истории союзной интервенции в России. Т. I. М„ 1925.
12. Майский И. М. Демократическая контрреволюция. М., 1923.
13. Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири 1917-1918 гг. (Особенно приложения). М., 1926.
14. Парфенов П. С. (Петр Алтайский). Гражданская война в Сибири 1918-1920 гг. изд. 2. М., 1925.
15. Пепеляев В. Н. Развал Колчаковщины (дневник) «Красный Архив», т. XXXI.
16. Пишон (майор). Союзная интервенция на Д. Востоке. М., 1925.
17. Подшивалов. Гражданская борьба на Урале 1917-1918 гг. М„ 1925.
18. Партизанское движение в Сибири. Т. I. Приенисейский край. Сборник. Ленинград, 1925.
19. Последние дни Колчаковщины / Ред. Константинова и Ширямова. Сборник. 1926.
20. Ракитников Н. И. Сибирская реакция и Колчак. М., 1920.
21. Революция на Дальнем Востоке. (Сборник). Вып. I. 1923.
22. Святицкий И. В. К истории Всероссийского Учредительного Собрания. Съезд членов УС (сентябрь-декабрь 1918). М„ 1921.
23. Субботовский И. Союзники, русские реакционеры и интервенция. Л., 1926.
24. Уорд. Союзная интервенция в Сибири 1918-1919 гг. М„ 1923.
25. Утгоф В. Л. Уфимское Гос. Совещание, — «Былое», 1921, № 16.
26. Яковенко. Записки партизана. М., 1925.
27. N. (Яковлев П.Д.?) Последние дни Колчаковщины.— «Сибирские Огни», 1922, № 2.
III. ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Dubarbier. En Siberie apres l'armistice. Paris, 1924.
2. Gajda R. Moje pameti. Praha, 1921.
3. Grondijs L. La Guerre en Russie et en Siberie. Paris, 1922.
4. Janin M. Frangments de mon journal siberien. "Le Monde Slave" 1924, XII; 1925, III, IV.
5. Kratochvil J. Ceskä revoluce. 1922.
6. Krejci F. U Sibirske armady. 1922.
7. Lasies J. La tragedie siberienne. Paris.
8. Legras J. L'agonie de la Siberie (1918-1920). - "Le Monde Slave" 28, II.
9. Montandon. Deux ans chez Koltchak et chez les bolcheviques. Paris, 1923.
10. Pavel Ant. Sibirski uvahy. I и II. / Сборник статей ред. «Чехословацкого Дневника», 1925.
11. Pichon (col). Le coup d'etat de l'amiral Koltchak. — "Le Monde Slave" 25, I, II.
12. Prikryl B. Sibirskä drama. 1929.
13. Rouquerol. L'avanture de l'amiral Koltchak. Paris, 1928.
14. Sadoul J. Notes sur la revolution bolchevique. Paris.
15. Steidler F. Cechoslovenski hnuti na Rusi. 1921.
* К сожалению, экземпляр книги Колосова у меня пропал. Мне приходится ссылаться на его статьи в «Былом», «Крестьянское движение при Колчаке» (кн. XX) и «Как это было» (кн. XXI). В остальных случаях я цитирую точную копию, снятую мною с других частей работы Колосова, не имея возможности делать указания на страницы. Ни в Париже, ни в пражском «Русском Историческом Архиве» я не мог найти книги Колосова.
УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ III
Том 1. Конституционная диктатура
От автора.................. 6
Глава первая. Диктатор
1.Черты для характеристики............ 11
2.Декабрьская драма.................. 35
Глава вторая. Вокруг фронта
1.Гражданская война.................. 57
2.Чехословаки...................... 75
3.Миссия Жанена и Нокса.............. 93
4.План кампании.................... 109
5.Соперники.................... 120
Глава третья. Партизанское движение
1.Элементы движения.................. 144
2.Большевики и стихия............... 159
3.Восстания..................... 169
4.Борьба с партизанством............... 189
Глава четвертая. Атаманшина
1.Анненков, Калмыков и Семенов........... 209
Глава пятая. Правительство
1.Совет министров.................. 219
2.Теория и практика................. 223
3.«Звездная палата»................. 242
Глава шестая. Общественность
1.Настроения и группировки.............. 249
2.Подпольщики.................... 259
3.Народное представительство........... 268
Глава седьмая. Перед лицом Европы
1.В ожидании признания .............. 284
2.«Политическая недобросовестность»......... 293
3.Международная ориентация............. 305
Том II. Катастрофа
Глава первая. Грозные симптомы
1.Эсеры и Гайда ..................316
2.Владивостокский «фарс» ..............327
3.Эвакуация Омска.................. 345
4.Чешский меморандум................. 350
Глава вторая. Крушение власти
1.Реорганизация Правительства........... 368
2.У Верховного правителя............... 376
3.Восстания..................... 390
Глава третья. Политический Центр
1.Под лозунгом мира.................. 398
2.Иркутские бои................... 402
3.Переговоры..................... 410
4.«Волею народа».................. 424
Глава четвертая. Гибель
1.Выдача....................... 429
2.Предательство или бессилие?........... 436
3.В плену»...................... 444
4. Отступающая армия................ 454
5. В предсмертный час................ 461
Эпилог.......................... 470
Литература........................ 477
Указатель личных имен.................. 482
По вопросам оптовых закупок обращаться:
тел./факс: (095) 785-15-30, e-mail: trade@airis.ru
Адрес: Москва, пр. Мира, 106
Наш сайт:
Вы можете приобрести наши книги с 1100 до 1730,
кроме субботы, воскресенья, в киоске по адресу: пр. Мира, д. 106, тел.: 785-15-30
Адрес редакции: 129626, Москва, а/я 66
Научное издание
Мельгунов Сергей Петрович
ТРАГЕДИЯ АДМИРАЛА КОЛЧАКА
Книга вторая
Ведущий редактор £. М. Гончарова Художественный редактор А. М. Драговой Подготовка иллюстраций Е. А. Кшугина Технический редактор С. С. Коломеец Компьютерная верстка Г. В. Доронина Корректоры Н. С. Калашникова, 3. А. Тихонова
Подписано в печать 26.03.04. Формат 84x108/32.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Печ. л. 15,5. Усл.-печ. л. 26,04. Тираж 3000 экз. Заказ № 2872
ООО «Издательство “Айрис-пресс”»
113184, Москва, ул. Б. Полянка, д. 50. стр. 3.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200. г. Можайск, ул. Мира. 93



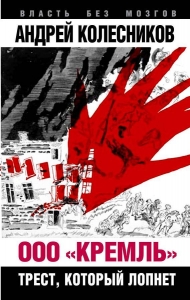


Комментарии к книге «Трагедия адмирала Колчака. Книга 2», Сергей Петрович Мельгунов
Всего 0 комментариев