Армен Гаспарян Операция «Трест». Шпионский маршрут Москва – Берлин – Париж
© ООО Издательство «Питер», 2017
© Серия «Книги Армена Гаспаряна», 2017
Предисловие
С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ», Встречались мы, наверное, не раз. Меня Господь спасал среди пожарищ, Да и тебя Господь не там ли спас? Обоих нас блюла рука Господня, Когда, почуяв смертную тоску, Я, весь в крови, ронял свои поводья, А ты, в крови, склонялся на луку. Н. ТуроверовКогда-то очень давно я впервые увидел четырехсерийный телевизионный фильм «Операция “Трест”», снятый на киностудии «Мосфильм» в 1967 году. Целое созвездие блестящих актеров, среди которых Игорь Горбачев, Армен Джигарханян, Донатас Банионис, Людмила Касаткина, сумело великолепно передать основную идею фильма, выпущенного к 50-летнему юбилею Октябрьской революции: советская республика, находящаяся в кольце врагов, ведет отчаянную борьбу с недобитыми белогвардейцами, которые все как один пошли служить иностранным разведкам. Противостоят им доблестные сотрудники Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), просчитывающие на много ходов вперед любую ситуацию. Но самим им было не под силу справиться с такими опытными врагами. Тогда на помощь приходят патриоты-некоммунисты из вчерашних монархистов и националистов. Совместными усилиями коварный враг повержен…
Это классический шпионский детектив, где герои не играют бессмысленно мускулами и не стреляют по-македонски каждые 15 секунд. В центре сюжета психологическое противостояние своих и чужих. Чтобы еще больше усилить эффект, в кадре то и дело появляется профессиональный историк, который с документами в руках рассказывает о подробностях того или иного эпизода. Надо отдать ему должное – рассказывает почти правду. Даже не так: он рассказывает советскую правду, которая была правдивее всех правд, потому что печаталась в газете «Правда». Будь иначе, сей ученый муж наверняка бы знал настоящую фамилию отпетого врага рабочих и крестьян «фон Лямпе». И уж конечно бы он знал, что таких шикарных домов у русских эмигрантов никогда не было. Но кому в Советском Союзе об этом было известно?
Годы шли. Рухнул СССР, открылись архивы. Историки получили доступ к важнейшим документам. Однако полную историю того самого «Треста» так никто и не удосужился написать. Да что там говорить про всю операцию, если даже ее основные этапы до сих пор неизвестны широкому кругу. Узкому, кстати, тоже. Одни мифы сегодня сменились другими. Теперь палачи-чекисты, взяв в заложники ближайших родственников своих помощников монархистов-националистов, неисчислимыми жертвами добыли победу в кровавой схватке с белогвардейскими недобитками. Ничего общего с историей такая трактовка не имеет. Это была схватка достойных соперников. Не случайно Артузов с уважением отзывался о Захарченко-Шульц, а Кутепов – о самом Артузове. Об этом стоит помнить накануне 100-летия тех событий.
Пользуясь случаем, я выражаю огромную признательность читателям моего «Твиттера» за помощь в работе над книгой.
Часть I «Синдикат-2». ОГПУ против Бориса Савинкова
Нет родины – и все кругом неверно, Нет родины – и все кругом ничтожно, Нет родины – и вера невозможна, Нет родины – и слово лицемерно, Нет родины – и радость без улыбки, Нет родины – и горе без названья, Нет родины – и жизнь, как призрак зыбкий, Нет родины – и смерть как увяданье… Нет родины. Замок висит острожный, И все кругом не нужно или ложно… Б. СавинковГлава 1 Охотник за царскими сановниками
«Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации Партии социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Каляева, участник убийств Плеве, великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках. Я признаю безоговорочно советскую власть и никакой другой. Если ты русский, если ты любишь свой народ – преклонись перед рабоче-крестьянской властью и признай ее безоговорочно…»
Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поверить в то, что Савинков признал советскую власть, никто не мог. Это было невозможно по определению. И все-таки это произошло в результате блестяще проведенного первого этапа операции иностранного отдела Государственного политического управления (ИНО ГПУ). Той самой операции, которую впоследствии назовут «Трест».
Кто же такой Борис Савинков? Родился в январе 1879 года в Харькове в семье юриста и писательницы. Детство провел в Варшаве. В год окончания гимназии впервые был арестован полицией за участие в беспорядках. Польская интеллигенция протестовала против открытия памятника усмирителю восстания графу Муравьеву, который получил прозвище «вешатель» за то, что любил повторять: «Я не из тех, кого вешают. Я из тех, кто вешает!», намекая таким образом на своего родственника-декабриста. В подтверждение этого он издал приказ: «Тех, кого на улицах Варшавы застанут с оружием в руках, – повесить. Остальных – расстрелять».
Поступив в Петербургский университет на юридический факультет, Савинков снова принял участие в студенческих беспорядках и снова попадал в полицию. Тогда, к слову сказать, он исповедовал марксизм и был принципиальным противником террора. Но это не спасло его от тюрьмы, куда он попал вместе со своим старшим братом. Затем произошла трагедия, которая навсегда изменила характер Савинкова. Его брат, оказавшись в сибирской ссылке, покончил жизнь самоубийством. А отец, не перенеся такого позора, сошел с ума и вскоре умер.
Эти события не образумили Савинкова. В 1901 году он снова оказался в тюрьме, на этот раз по делу социал-демократической группы «Рабочее знамя». Что интересно, это были сторонники Плеханова и Ленина. Спустя годы большевики предпочтут об этом не вспоминать. А ведь в то время Савинков был весьма авторитетным марксистом. Шутка ли – ведущий сотрудник газеты «Рабочее дело», один из основателей группы «Социалист», талантливый пропагандист в рабочей среде. В числе же его основных лозунгов был следующий: «Насилие недопустимо ни в коем случае и ни для каких целей».
И как знать, может, со временем стал бы Борис Викторович одним из лидеров большевиков, если бы не случайная встреча. В вологодской ссылке, куда его сослали за революционную деятельность, он познакомился с «бабушкой русской революции» Екатериной Брешко-Брешковской. Известный в русской эмиграции писатель Роман Гуль, знавший Савинкова лично, рассказывал спустя годы подробности:
«О России ни весточки, так, слухи одни, да все тревожные. Все старое, мол, забыто, огульно отрицается, марксисты доморощенные появились, все блага родине завоевать хотят, так сказать, механически, ни воля, мол, ни героизм не нужны, бабьи бредни да дворянские фантазии. Да, да, батюшка, тяжело это было среди бурят-то узнавать, в степи-то, да не верилось, неужто ж, думаю, наше все пропало, для чего же столько воли, да крови, да жизней отдано? Не верилось, нет. Теперь-то уж иное дело пошло. У нас теперь сил-то во сто крат больше, наша-то закваска сильней оказалась, так-то! Смешно мне теперь, когда везде так говорят – социалисты-революционеры. Ведь это же я назвала их так. Думали о названии. А чего тут думать? Говорю, постойте, вы считаете себя социалистами? Да. А считаете себя революционерами? Да. Ну так и примите, говорю, название – социалистов-революционеров. На этом и согласились. Так-то, сударь, все великое вмиг рождается».
В одной из своих многочисленных книг Борис Викторович так описал суть произошедшей с ним метаморфозы:
«Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода… И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя террора, для революции? Во имя крови, для крови? Но я не могу не убить, ибо люблю. Если крест тяжел – возьми его. Если грех велик – прими его».
И морально Савинков уже был готов к греху. И без колебаний принял решение: бежать с каторги вместе с другом Иваном Каляевым. Добравшись до Архангельска, они сели на пароход. Заграничных паспортов, разумеется, у них не было. Но тогда про это никто не спрашивал. Через Норвегию беглецы добрались в Швейцарию, где их уже ждал один из лидеров социалистов-революционеров Михаил Гоц. Савинков буквально с порога заявил ему, что хочет работать в терроре. Но так просто в боевую организацию не попадали. Гоц тактично намекнул, что нужно подождать и осмотреться. Однако молодой боевик сразу понравился ему, и через несколько дней он познакомил Савинкова с Евно Азефом. Руководитель боевой организации производил на людей отталкивающее впечатление. Он был непомерно толст, с одутловатым желтым лицом и темными маслинами выпуклых глаз. Череп кверху был сужен, лоб низкий. Глаза смотрели исподлобья. Над вывороченными жирными губами расплющивался нос. Его уродство не могла сгладить даже модная одежда. Но при этом от него веяло таким спокойствием и хладнокровием, что собеседники сразу понимали: перед ними фигура.
Он и был такой. Евно Фишелевич Азеф. Он же Валентин Кузьмич, он же Виноградов, он же Иван Николаевич. Свою нелегкую карьеру он начал простым осведомителем охранки со скромным окладом 50 рублей в месяц. Через десять лет службы Азеф уже зарабатывал в десять раз больше, но жалованье получал крайне нерегулярно. Сохранились его многочисленные слезливые письма, в которых он просит поскорее перечислить ему зарплату. Сам о себе он говорил: «Я местечковый еврей, который и должен был пойти в революцию. Ничего хорошего от царского режима мы не видели. Но мы сделаем так, что у всей России затрещат кости». Они и затрещали. При самом активном участии Бориса Савинкова.
* * *
Дальнейшую жизнь Савинкова газеты со временем назовут кинематографической лентой. Она, собственно, таковой и была. Молодой социалист-революционер играл главную роль в боевике, в котором он же был автором сценария и режиссером.
Знаменитый эсеровский боевик Б. В. Савинков[1]
Савинков сразу же предложил Азефу громкий террористический акт – убийство министра внутренних дел Плеве. Был даже готовый пойти на это Иван Каляев. Но его кандидатура чем-то не устроила Азефа. Рассерженный Каляев тогда в сердцах бросил: «В жизни не видел отвратительней этого толстопузого купца. Я служу партии и делу освобождения России. И буду работать там, где найду более нужным и целесообразным».
Но Азефу не было никакого дела до детских обид Каляева. В его голове уже созрел хитроумный план – взорвать бомбу под каретой Плеве. Была сформирована группа боевиков, которая должна была тщательно изучить маршруты министра в столице, время поездок, численность охраны. Предполагалось, что действовать группа будет под видом извозчиков, газетчиков, разносчиков. Руководителем группы был назначен Борис Савинков. Сам же Азеф направил в Петербург донесение:
«Боевая организация существует, и в ее составе насчитывается 6 человек исполнителей, выразивших готовность пожертвовать собой. Для покушения на министра предполагается применить динамит, коего в распоряжении организации имеется до двух с половиной пудов. Никого из исполнителей пока еще в Петербурге нет. Руководителя обещали прислать из-за границы и, кажется, что он уже приехал в Россию, но в Петербурге его еще нет. Министра предполагают подкараулить при выходе от одной дамы, проживающей на Сергиевской».
18 марта 1904 года все должно было пойти по плану. И действительно, гуляя по Летнему саду, Савинков услышал взрыв. Но он рано торжествовал. Это был выстрел полуденной пушки в Петропавловской крепости. Покушение сорвалось из-за трусости одного из боевиков – Абрама Боришанского. А ведь у него была идеальная позиция, чтобы бросить бомбу в карету. Более того, эта самая карета едва не сбила его с ног.
Рассудив, что первый блин всегда выходит комом, Савинков взялся довести дело до конца. Для этого он превратился в представителя английской фирмы. Снял роскошную квартиру на улице Жуковского. Гувернанткой у него была Дора Бриллиант, революционерка из зажиточной еврейской семьи. Лакеем служил Егор Сазонов, который и должен был осуществить убийство Плеве. Азеф даже советовал Савинкову купить автомобиль, но тот отказался тратить попусту деньги. В разговоре с Каляевым он сказал тогда:
«Жертвую собой – для себя. Потому что я этого хочу, тут моя воля решающая. Я, может быть, буду бороться одиночкой, не знаю. Но иду только до тех пор, пока сам хочу идти, пока мне радостно идти и бить тех, кого я бью!»
Утром 15 июля Савинков в задумчивости смотрел вслед уходящему Сазонову. Одетый в форму железнодорожника, он нес в руках большой пятикилограммовый цилиндр, завернутый в газету и перевязанный шнурком. Через несколько часов бомба взорвется под каретой министра иностранных дел. В своей книге «Азеф» Роман Гуль так описал убийство Плеве:
«Не рассуждая, кинулся к карете Сазонов. В секунду увидал в стекле старика. Старик рванулся, заслоняясь руками. И во взгляде отчаянных глаз Плеве и Сазонов в ту же секунду поняли, что оба умирают. Цилиндрическая бомба ударилась, разбив стекло. Рысаков сшибло страшным ударом, словно они были игрушечными. На всем ходу упали лошади. Серо-желтым вихрем в улице взметнулся столб дыма и пыли. Заволоклось все. Лежа на мостовой, Сазонов удивился, что жив, хотел приподняться, но почувствовал, что тела нет. С локтя, сквозь туман, увидал валяющиеся красные куски подкладки шинели и человечьего мяса. Сазонов удивился, что нет ни коней, ни кареты. Хотелось закричать “Да здравствует свобода! Да здра…” Но все потемнело перед глазами…» Савинков лично пришел на место убийства. Оттолкнул ногой окровавленный кусок мяса, с досадой подумав, что это, должно быть, останки Егора. Но он ошибался. Вдоволь попарившись в бане, Савинков купил на улице вечернюю газету и с огромным удивлением увидел в ней портрет Плеве в траурной рамке. Ликуя в душе от удачно проведенной операции, он отправился на вокзал. В Москве его уже ждал Азеф, которому необходимо было сообщить все подробности террористического акта.
* * *
Савинков вошел во вкус. Он все реже вспоминал о своем «толстовстве». Теперь это был совершенно другой человек – расчетливый убийца. Сам о себе он говорил в бунтарских стихах так:
Гильотина – жизнь моя! Не боюсь я гильотины! Я смеюсь над палачом, Над его большим ножом!В деле, заведенном полицией на него, значилось: «Представляет собой наиболее опасный тип противника монаршей власти, ибо он открыто и с полным оправданием в арсенал своей борьбы включает убийство. Слежка за ним и тем более предотвращение возможных с его стороны эксцессов крайне затруднительны».
Савинков взялся за организацию убийства генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Исполнять этот теракт вызвался Иван Каляев. «Поэт», как называли его в партии, был крайне огорчен, что не стал «карающим мечом судьбы» в деле Плеве, и жаждал проявить себя. Савинков не возражал. Он знал, что его близкий друг блестяще справится с делом. Так и произошло. 6 февраля 1905 года московские газеты писали:
«На месте взрыва лежала бесформенная куча, состоявшая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела. Публика, человек 30, осматривала следы разрушений; некоторые пробовали высвободить из-под обломков труп. Зрелище было подавляющее. Головы не оказалось; из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги».
Сам Савинков через несколько лет в своих мемуарах остановится на этом деле подробно:
«Я прошел мимо дворца и кареты и через Никольские ворота вышел на Тверскую. У меня было назначено свидание с Дорой Бриллиант на Кузнецком мосту, в кондитерской Сиу. Я торопился на это свидание, чтобы успеть вернуться в Кремль к моменту взрыва. Когда я вышел на Кузнецкий мост, я услышал отдаленный глухой звук, как будто кто-то в переулке выстрелил из револьвера. Я не обратил на него внимания – до такой степени этот звук был непохож на гул взрыва. В кондитерской я застал Дору. Мы вышли с ней на Тверскую и пошли вниз к Кремлю. Внизу у Иверской нам навстречу попался мальчишка, который бежал без шапки и кричал: “Великого князя убило, голову оторвало”».
Лидеры партии торжествовали. Чернов с гордостью говорил тогда: «За нами пойдут крестьяне, за нами рабочие! Горой пойдут! И власть над революцией будет наша, эсеровская власть!» Лишь одному Савинкову до этого, казалось, не было никакого дела. Личное участие в терроре для него было важнее всех остальных партийных мероприятий. Он неустанно говорил, что политическое убийство – внепартийное дело. Ведь оно служит всей революции в целом. Поэтому и принимать участие в деятельности боевой организации может хоть анархист-максималист, если он идейный сторонник индивидуального террора. Он даже не задумывался тогда, на чьи деньги совершал убийство. Узнав, что средства выделяли японцы, Савинков был смущен. Азефу пришлось объяснять своему романтичному другу:
«Нужны деньги, мы их возьмем. Если сделаем дело, общество и прочая сволочь само побежит за нами. А если ничего не сделаем, нас же затопчут. Без денег что ты сделаешь? Эх, ваше сиятельство, людей убиваете, а все в белых перчатках ходить хотите, верно Гоц тебя скрипкой Страдивариуса зовет. Все рефлексии, вопросики, декаденщина всякая, как это – “о, закрой свои бледные ноги!”…»
* * *
В мае 1906 года Савинков отправился в Севастополь для организации покушения на адмирала Чухнина. Интересно, что он не знал о принятом центральным комитетом эсеров решении прекратить террор и распустить боевую организацию. Через два дня Савинков был арестован по подозрению в покушении на коменданта Севастопольской крепости генерал-лейтенанта Неплюева. Никакого отношения к этому делу знаменитый боевик не имел. Однако по поводу своей судьбы он иллюзий не строил – ему грозила смертная казнь. Более нелепую ситуацию представить было сложно: Савинков должен был отправиться на виселицу за то, в чем не участвовал и к чему относился с презрением. Ведь покушение на Неплюева готовил 16-летний гимназист. Но чтобы не нарушать неписаных правил истинного революционера, Савинков должен был молчать на суде. В своих воспоминаниях он напишет потом:
«Я сидел в тюрьме и ждал казни. Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. Даже радости не было, гордости, что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось… Помню: меня занимало, режет ли веревка шею, больно ли задыхаться?»
Но получить давно заслуженную веревку Савинкову не довелось. Все закончилось удачно организованным побегом. Вернувшись в Европу, из которой расшатывать устои русской государственности было значительно удобнее, Савинков принял решение на время отойти от активной деятельности. Однако долго оставаться в стороне не пришлось. Азеф, зная самую вожделенную мечту Савинкова, предложил ему участвовать в убийстве Николая Второго. План был дерзкий: планировалось построить в Германии специальный летательный аппарат для бомбометания. Но из-за отсутствия должного финансирования блестящая затея провалилась. Такая же судьба ждала еще один план Азефа – строительство подводной лодки для покушения на царскую яхту. Удивительно, но трезвый прагматик Савинков сначала предпочел не обращать внимания на откровенную глупость подобных фантазий. А потом уже стало и вовсе не до этого. Выяснилось, что Азеф – провокатор.
Известный журналист Бурцев встретился за границей с бывшим директором департамента полиции Лопухиным, который получал от Азефа секретную информацию. Отставной чиновник рассказал все, что знал о работе руководителя боевой организации на полицию. В воспоминаниях Савинков с горечью писал:
«Разоблачение Азефа нанесло тяжелый моральный удар партии и в частности террору: оно показало, что во главе боевой организации много лет стоял провокатор. Но разоблачение это освободило вместе с тем партию от тяготевшей над ней провокации. Оно помогло пересмотреть многое в прошлом. Я решил взять на себя ответственность за попытку восстановления боевой организации. Я сделал это по двум причинам.
Во-первых, я считал, что честь террора требует возобновления его после дела Азефа: необходимо было доказать, что не Азеф создал центральный террор и что не попустительство полиции было причиной удачных террористических актов. Возобновленный террор смывал пятно с боевой организации, с живых и умерших ее членов.
Во-вторых, я считал, что правильно поставленная, расширенная боевая организация, при отсутствии провокаторов, может, пользуясь старыми методами, явиться паллиативом в деле террора: при благоприятных условиях ее деятельность могла увенчаться успехом».
Однако возобновить террор уже не удалось. И дело было не только в боязни лидеров эсеров «тени Азефа». Число желающих принять непосредственное участие в убийствах резко убавилось. Те, кто раньше рукоплескал Сазонову и Каляеву, ныне занимали совершенно другую позицию. С огромным трудом удалось собрать 13 человек. Это включая самого Савинкова и его жену. Они подготовили бомбы на английском острове Джерси и в конце 1909 года отправились в Россию. Савинков поставил цель: ликвидировать министра юстиции Щегловитова, министра внутренних дел Столыпина и великого князя Николая Николаевича. Хотя мог бы и прислушаться к одному из самых блистательных русских мыслителей начала XX века В. В. Розанову:
«Из революционеров только немногие начинают соображать, в каком положении они находятся. И при этом об этом не соображают даже такие люди, как Плеханов, Кропоткин, Лопатин. Что не “Азеф ужасен”, а что самая революция уселась в кресло азефовщины. Масса грянулась в азефовщину. Как? Почему? Что случилось? Да очень просто. Азефовщиной можно назвать всякое приглашение воевать в битве, о проигрыше которой никто не сомневается…»
Все так и получилось. Счастье изменило эсерам. Один из боевиков был сразу арестован, несколько человек, почувствовав, что за ними следят, предпочли уехать из России. Савинкову стало ясно: нужно придумать что-то новое, его методы уже известны полиции. Поэтому он распустил своих боевиков и решил создать новую террористическую организацию. Но едва они почувствовали себя готовыми к свершениям, как разразился громкий скандал: эсер Кирюхин был разоблачен как провокатор. В довершение всех бед застрелился боевик Бердо, доведенный до отчаяния подозрениями, что он работает на полицию. Одним из тех, кто его подозревал, был сам Савинков. И делал он это в свойственной ему манере. То есть не зная границ дозволенного.
В результате ЦК эсеров принял решение окончательно закрыть боевую организацию. Чернову и Гоцу стало жалко впустую потраченных 70 000 золотых рублей. Тем более что боевики особо и не стремились в Россию, предпочитая спокойную и размеренную жизнь во Франции и Англии. Огорченный таким поворотом Савинков полностью порывает с социалистами-революционерами. В своих воспоминаниях он патетически напишет:
«Было желание, я был в терроре. Я не хочу террора теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток? Я вспоминаю: “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь”. Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он? И еще: “Блаженны невидевшие и уверовавшие”. Во что верить? Кому молиться? Я не хочу молитвы рабов. Пусть Христос зажег Словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И – отверзнется на небе храм, – я скажу и тогда: все суета и ложь».
Глава 2 «То, чего не было…»
Еще будучи студентом, Борис Савинков начал писать и публиковать декадентские стихи и поэмы под псевдонимом Виктор Ропшин. Псевдоним придумала известная русская поэтесса Зинаида Гиппиус, имея в виду местность Ропшу рядом с царским дворцом. Ту самую, где задушили Петра Третьего. Более символичного псевдонима представить было сложно. Стихи были весьма средние, хотя критики отмечали, что автор явно не рядовая посредственность. Особенно им импонировали эти строки:
Я шел, шатался, Огненный шар раскалялся… Мостовая Пылала, Белая пыль Ослепляла, Черная тень Колебалась. В этот июльский день Моя сила Сломалась. Я шел, шатался, Огненный шар раскалялся… И уже тяжкая подымалась Радость. Радость от века, Радость, что я убил человека.Расставшись с эсерами, Савинков взялся за перо всерьез. Одна за другой выходят его книги «Воспоминания террориста» и «Конь бледный». Библейское название последней абсолютно точно передает суть: Савинков открыто пишет о греховности террора, хотя еще несколько лет назад был горячим сторонником необходимости «пускания крови за народ». Теперь же совсем другие мысли властвуют над несостоявшимся цареубийцей:
«До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя террора, для революции. Те, что топили японцев, знали, как я: смерть нужна для России. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: убить нельзя, не убий. Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для террора убить – хорошо, для отечества – нужно, а для себя – невозможно? Кто мне ответит? Я спрашиваю себя: зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил: можно убить. А теперь мне грустно: я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень: осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней…»
Уже тогда Савинков ощущал себя исторической личностью. Сам о себе любил говорить, что такие, как он, пишут историю. И вдруг неожиданно для всех он перестал кичиться атеизмом и стал адептом мистического народничества. Духовный кризис был усилен разводом с женой, которая так и не смогла сжиться с его характером. Сам Савинков, казалось, не обращал на это никакого внимания. По меткому выражению его друга Прокофьева, он дошел умом до необходимости религии, но пока не дошел к вере. Хотя предпосылки были.
«Нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь. И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест…»
Третий его роман «То, чего не было», в сущности, стал попыткой разобраться в себе, в своей жизни. Именно поэтому книга вызвала столь бурную критику эсеров. Понять их можно. Ведь автором был тот самый человек, который когда-то с негодованием отверг предложение французской газеты написать воспоминания. «Мы творим историю!» – так надрывно, с пафосом бросил в лицо журналистке Савинков свой вердикт. Бросил, словно по щекам ее отхлестал. И вот теперь взялся за мемуары. Лидеры социалистов-революционеров даже цитировали Льва Толстого, пытаясь хоть таким образом образумить Савинкова: «Когда венценосцев убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование».
Но Савинкову было необходимо найти ответы на мучавшие его вопросы. Даже не так: его влекло искусство, через любовь к которому он и пытался навести порядок в собственных мыслях и убеждениях. Отчасти ему это удалось:
«Он увидел Русь необозримых, распаханных, орошенных потом полей, заводов, фабрик и мастерских, Русь не студентов, не офицеров, не программ, не собраний, не комитетов и не праздную, легкоязычную и празднословную Русь, а Русь пахарей и жнецов, трудовую, непобедимую, великую Русь… И сразу стало легко. Он понял, что ни министры, ни комитеты не властны изменить ход событий, как не властны матросы успокоить бушующий океан. И он почувствовал, как на дне утомленной души чистым пламенем снова вспыхнула вера, вера в народ, в дело освобождения, в обновленный, на любви построенный мир. Вера в вечную правду».
Но еще больше его влекла собственная значимость, если не сказать гордыня. Он скрупулезно хранил тысячи писем, сотни статей о себе, записные книжки… И все это несмотря на в общем-то подвижный образ жизни. Пока никто так и не взялся за то, чтобы изучить весь архив, собранный Савинковым. А ведь там бесценный клад для любого исследователя: переписка с Гиппиус, Мережковским, Арцыбашевым, Волошиным, Эренбургом, Ремизовым, Философовым… А ведь есть и своеобразный бриллиант у этой короны: исповеди соратников по боевой организации, письма от Азефа и других лидеров эсеров. О них он тогда же скажет: «Да я ненавижу их, как мелкую человеческую сволочь. Я играл с петлей. Пусть играют другие».
* * *
Разрыв с эсерами стал окончательным по мере сближения с известным марксистом Плехановым. Вместе они стали издавать газету «Юг». Определить политическую ориентацию Савинкова в те годы сложно, если вообще возможно. Он, словно Фигаро, появлялся на любом поле, которое еще не было занято более удачливыми конкурентами по политическому олимпу. Он был подобен ртути, стремящейся заполнить любую пустоту. И все ради того, чтобы наконец-то войти в историю. Наконец-то почувствовать себя значимым и нужным. Он ведь об этом и сам писал:
«Но та же непонятная сила, которой он радовался вчера, удерживала его. И сознание, что он не принадлежит себе, что он бессловесный и послушный солдат, теперь не только не было приятно ему, но вызвало смущение и страх».
Начавшуюся Первую мировую войну Савинков встретил на юге Франции. В стране тогда возникла паника. Казалось, только легендарный террорист сохранял спокойствие. В этом он видел особый дар судьбы – наконец-то он будет по-настоящему востребован обществом. Ему не составило особого труда получить удостоверение военного корреспондента. И вот Савинков уже шлет на Родину свои впечатления с фронта. Он, возможно, впервые в жизни не лукавил, когда говорил, что нет для него дороже городов, чем Париж и Москва. Он даже написал целую книгу «Во Франции во время войны». Но особого успеха она не снискала. В России тогда царили совсем другие настроения.
Савинков, кстати, вообще имел весьма смутное представление о том, чем живет эта самая Россия. Давно прошли те времена, когда он по одному вечеру мог уловить пульс Петербурга или Москвы. На Родину ему путь был заказан, поэтому приходилось довольствоваться теоретическими изысканиями. А они у Савинкова от практики всегда были далеки, пусть он и называл себя всегда самым реальным человеком дела. Фигурально выражаясь, события 1916 года он попросту проспал. Не имея ни малейшего представления о дворцовом заговоре Гучкова[2] и Милюкова[3] и большевистской пропаганде против войны, он почему-то считал, что нынче только эсеры с их требованием «земли и воли» способны влиять на политическую ситуацию в стране. Но даже тут он ошибался. Его вчерашние соратники по партии подготовили к революции те самые миллионы мужиков в солдатских шинелях. То есть, апеллируя к простым и понятным всем чувствам, они добились большего, чем Савинков с его убийствами Плеве и великого князя. Более того, избавившись от террора, эсеры привлекли на свою сторону средний класс, который жаждал реформ. В результате уже к началу 1917 года число членов партии превышало 800 000 человек. Чернов со товарищи получил поддержку не только крестьян, на которых всегда опирались, но и рабочих и интеллигенции. Стоит ли удивляться после этого большинству голосов на выборах в Учредительное собрание? Казалось бы, сама жизнь толкала эсеров во власть. Однако они к этому не стремились, словно боялись ответственности, о которой столь часто говорили и писали в эмиграции. Хотя во Временное правительство вошли.
Савинков ответственности не боялся. И во власть стремился. Но вот беда: его туда не приглашали. Поэтому, умерив на время свою безграничную гордыню, он сам собрался в Россию. В апреле 1917 года Савинков приехал в Петроград. Торжественной встречи не было. Приехал и приехал. Еще один революционер, кои тогда десятками возвращались на Родину. А вот Максимилиан Волошин сразу понял, что все только начинается. В письме Савинкову он отмечал:
«Не прошло еще двадцати месяцев, как Вы, собираясь идти волонтером во Франции, говорили мне, что к концу войны будете квартирмейстером от кавалерии и не помиритесь на меньшем. Человеку даны две творческих силы: по отношению к будущему – Вера (обличение вещей невидимых), по отношению к настоящему – Разум (критицизм, скептицизм). Их субъективная окраска – энтузиазм и презрение. Силы эти противоположны и полярны, и соединение их в одном лице рождает взрыв, молнию – действие. Но обычно их стараются обезопасить, соединить в устойчивой химической комбинации в виде политической теории или партийной программы: целлулоид, приготовляемый из нитроглицерина! Отсюда ненависть к “идеологиям”, отличающая носителей молний, создававших великие государственные сплавы – Цезарей и Наполеонов. Из всех людей, выдвинутых революцией и являющихся, в большинстве случаев, микробами разложения, я только в Вас вижу настоящего “литейщика”, действенное и молниеносное сочетание религиозной веры с безнадежным знанием людей».
Уже через месяц после возвращения в Россию Савинков вместе с Керенским прибывает в ставку Юго-Западного фронта. Его кипучая энергия наконец-то находит выход. Он становится комиссаром 7-й армии и с упоением выступает на бесконечных митингах. Основной посыл его выступлений прост: во всех бедах армии в частности и страны в целом виноват Петроград, это источник угарного яда антигосударственной политики. Ему аплодируют. Его мысли понятны и приятны аудитории. Но ровно до того момента, когда Савинков переходит ко второй части – воевать нужно до победного конца. А воевать им очень не хочется. Все устали. Тем более что большевики кричат: хорош, товарищи, айда землю делить. Пора уже экспроприировать у экспроприаторов…
* * *
Савинков уговаривает Керенского ввести в Петрограде военное положение, провести реформы в армии, восстановить смертную казнь на фронте и в тылу и арестовать лидеров большевиков. Еще совсем недавно он был ярым противником диктатуры. Теперь же начал призывать к ней. Пытаясь убедить Керенского, Савинков совершает и театральный жест – подает в отставку. Его начинают упрашивать забрать заявление. Через неделю он так и сделает. Зинаида Гиппиус записала тогда в своем дневнике:
«Идея Савинкова такова: настоятельно нужно, чтобы явилась, наконец, действительная власть, вполне осуществимая в обстановке сегодняшнего дня при такой комбинации: Керенский остается во главе (это непременно), его ближайшие помощники-сотрудники – Корнилов и Борис. Корнилов – это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии. Керенский и Савинков – защита свободы.
Савинков понимает и положение дел, и вообще все самым блистательным образом. Я не вижу, чтобы Савинковым двигало сейчас его громадное честолюбие. Напротив, я утверждаю, что главный двигатель его во всем этом деле – подлинная, умная любовь к России и ее свободе…»
Именно Савинков был отправлен Керенским в ставку Корнилова для переговоров о введении в столице военного положения. Но легенда армии уже не шел на компромиссы, требовал отставки правительства и передачи себе всей полноты власти. Керенский понимал: промедление в этой связи для него смерти подобно. И не только в политическом плане. Он прекрасно знал, что никаким авторитетом в армии не пользуется и что многие фронтовики мечтают его повесить. Ведь именно на Керенского проецировалась вся ненависть русского офицерства к политиканству, столь отчетливо обозначенная в очень популярном тогда стихотворении «Молитва»:
Товарищи наши, в боях погибая, Молили нас лишь об одном: Боритесь и верьте, что правда святая В победе над подлым врагом. А нынче на стогнах кричат Петрограда: «Не надо побед нам. Все бредни долой, Лишь корму, да пойла, да зрелищ нам надо, Лишь в праздных восторгах сокрыта отрада, И мы их добудем любою ценой…» Постичь не желают народа витии, Что лозунг их – рабства печать, Что им же придется покорные выи Пред наглым тевтоном склонять, Что граждане ныне свободной России Сапог победителя станут лобзать…Стремясь сохранить власть любой ценой, Керенский пошел на временный союз с большевиками, которые были не на шутку испуганы возможными последствиями для них самих корниловского мятежа. Не прогадал и Савинков: выступив «спасителем революции», он стал петроградским военным губернатором и командующим обороной столицы от войск мятежников. Английский посол Бьюкенен записал тогда в своем дневнике:
«Мы пришли в этой стране к любопытному положению, когда мы приветствуем назначение террориста, бывшего одним из главных организаторов убийства великого князя Сергея Александровича и Плеве, в надежде, что его энергия и сила воли могут еще спасти армию…»
Спустя годы, уже в эмиграции, многие спорили: если бы Савинков поддержал тогда Корнилова, от большевиков бы и след простыл. Однако это было невозможно по определению. Савинков прекрасно понимал: если он поддержит Корнилова, то очень скоро сам окажется на виселице. Русский офицерский корпус, насквозь монархический, не забыл убийства великого князя. Не случайно Антон Иванович Деникин в своих «Очерках русской смуты» напишет потом:
«Взгляды Савинкова не во всем совпадали со взглядами Корнилова. Он отстаивал широкие права военно-революционных учреждений – комиссариатов и комитетов. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но, по-видимому, надеялся, что после прихода к власти – комиссарами можно было бы назначать людей “верных”, а комитеты – взять в руки. Он называл эту цель спасением родины; другие считали ее личным стремлением к власти».
Корнилов, Деникин и другие мятежные генералы были арестованы. Савинков же вышел из этой сложной игры победителем, но это была пиррова победа. Не зря Бисмарк когда-то заметил: «Революцию замышляют романтики, устраивают циники, а плодами пользуются сволочи». Так и вышло. Единственным победителем стала ленинская партия, которая на волне корниловщины провела перевыборы в Советы и фактически узаконила свои вооруженные формирования Красной гвардии. Дальнейшее предсказать было несложно.
25 октября большевики совершили государственный переворот. Вместе с генералом Алексеевым Савинков безуспешно стремился разблокировать осажденный Зимний дворец. Керенский бежал в Гатчину, где пытался уговорить казачьего генерала Краснова навести в Петрограде порядок. Но было уже поздно…
Глава 3 Главный враг рабоче-крестьянской власти
После большевистского переворота Савинков отправился на Дон, в русскую Вандею. Он рассчитывал убедить собиравшихся со всей страны офицеров создать добровольческую армию, готовую дойти до Москвы и способную навести в стране порядок. Ему даже удалось войти в образованный генералом Алексеевым Донской гражданский совет – некую альтернативу коммунистической власти. Но извлечь политических дивидендов из этого не получилось. Антон Иванович Деникин писал в «Очерках русской смуты»:
«За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально он стремился во что бы то ни стало связать свое имя с именем Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать имени Савинкова. Савинков доказывал, что “отмежевание от демократии составляет политическую ошибку”, что в состав Совета необходимо включить представителей демократии в лице его – Савинкова и группы его политических друзей, что такой состав Совета снимет с него обвинение в скрытой реакционности и привлечет на его сторону солдат и казачество; он утверждал, кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды Добровольческой армии. Все три генерала относились отрицательно к Савинкову. Но Каледин считал, что “без этой уступки демократии ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой армии”, Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека в том, что он препятствует участию Савинкова в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августовского выступления».
В феврале 1918 года вечный боец решает покинуть столь негостеприимный для него Дон и тайно пробирается в Москву. Он прекрасно понимал, что его известность может сыграть с ним злую шутку. Но, как шутил он сам, у ЧК еще руки были коротки добраться до таких боевиков. В полувоенном френче он спокойно прогуливался по Москве, не отказывая себе в удовольствии пройти и мимо ставшей вскоре легендарной Лубянки. На него никто не обращал особого внимания. Со стороны Савинкова можно было бы принять за одного из первых советских бюрократов. Встречи со своими агентами он всегда назначал в одном и том же месте – в сквере у Большого театра.
За несколько месяцев путем титанических усилий ему удалось сколотить крупную антибольшевистскую организацию – Союз защиты Родины и свободы. Входили в нее разочаровавшиеся эсеры, озлобленные на большевиков кадеты, народные социалисты, офицеры и вчерашние юнкера. Всего удалось рекрутировать почти 5000 человек, создав отделения в Казани, Калуге, Костроме, Ярославле, Рыбинске, Челябинске, Рязани, Муроме. Во всех этих городах тайно формировались склады оружия на случай вооруженного выступления против коммунистов. Возглавляли организацию помимо Савинкова генерал-лейтенант Рычков, полковник Перхуров и командир охранявших Кремль латышских стрелков Ян Бреде.
Именно те легендарные латышские стрелки стали основой организации. С их помощью Савинков надеялся захватить всех лидеров большевиков. Казалось бы, что общего у преторианской гвардии Ленина и знаменитого боевика? Объединяло их одно: неприятие только что подписанного Брестского мира, по которому Латвия переходила под контроль Германии. А план Савинкова им очень импонировал. Предусматривалось установление диктатуры, которая должна была бы защитить завоевания Февральской революции, передел земли в пользу крестьян и создание армии. Основной задачей своей организации Савинков видел вооруженную борьбу с большевиками. После переворота он планировал немедленно объявить войну Германии, аннулировать Брестский мир и помочь союзникам довести Первую мировую до победы. Под эти цели выделялись значительные средства. От французского посла Нуланса Савинков получил более двух миллионов рублей. Еще 200 000 рублей выделил Масарик,[4] мечтавший продолжить борьбу против немцев за государственность Чехословакии. О роли «спонсоров» в Союзе защиты Родины и свободы сам Савинков через несколько лет начнет давать показания в суде:
«Судья: Какой тактики придерживалась ваша организация и какие ближайшие цели вы преследовали весной 1918 года?
Савинков: Наша организация была боевой организацией. Она ставила себе задачей те восстания, которые потом произошли в Ярославле, Рыбинске и Муроме. Я всегда стоял на той точке зрения, что если я веду войну, то я веду ее всеми средствами и всеми способами. Наша организация имела в виду все возможные способы борьбы, вплоть до террора. Мы имели в виду прежде всего вооруженные восстания, но не отказывались и от террористических актов. В 1918 году предполагалось покушение на Ленина и Троцкого, но делалось очень мало. Пытались организовать наблюдение по старому способу, но из этого толку вышло мало не потому, что мы не хотели, а потому, что мы не смогли. Я следил за Лениным через третьи лица. Эти лица мне рассказывали о том, как живет Ленин, где живет Ленин, но дальше этого дело не пошло. К делу Каплан наш союз не имел никакого отношения. Я знал, что эсеры что-то делают, но что именно делают – этого я не знал.
Судья: В вашей брошюре “Борьба с большевиками” написано: “План этот удался, но только отчасти. Покушение на Ленина удалось только наполовину. Каплан только ранила его, но не убила”. Как понять эту фразу?
Савинков: Это неудачная фраза. В этой брошюре, которая была предназначена для широкого распространения, я описал правду, но не с такой точностью, с какой говорю вам.
Судья: Знали ли французы, что вы не исключаете индивидуального террора?
Савинков: Конечно, знали.
Судья: Знали ли они, что предполагалось совершить покушение на Ленина?
Савинков: Не могу сказать с полной уверенностью, но думаю, что они должны были знать. Сейчас не вспоминаю разговоров, но думаю, что такой разговор должен был иметь место. Французы не только могли, но и должны были предполагать по всему ходу наших сношений, они должны были знать…»
* * *
6 марта 1918 года в газете «Русские ведомости» появилась статья Савинкова, в самом начале которой он расставил точки над «i»: большевики служили и служат немцам. Соратники Ленина обиделись. Газету немедленно закрыли. Редактора и его заместителя пригласили «погостить» на Лубянку, где долго и с особым пристрастием узнавали, кто автор навета на революцию. Журналисты сопротивлялись недолго и предпочли рассказать все, что знали. Во многом благодаря их показаниям через два месяца удалось арестовать более 100 членов савинковской организации в Москве. В том числе почти всех подпольщиков из числа латышских стрелков. Еще больше заговорщиков было арестовано в Казани. Все они были расстреляны в самые короткие сроки. Но многократно воспетые самим Савинковым методы конспирации в этот раз принесли желаемые плоды. Почти все лидеры союза ареста избежали. Все же у него была удивительная интуиция. Он покидал конспиративные квартиры за полчаса до того, как туда врывались чекисты. Одно время Савинков прятался даже в английском консульстве, потом решил убраться подальше от неспокойной Москвы. В Казань. Потом он отозвался о тех днях такими строками:
Когда безгрешный Серафим Взмахнет орлиными крылами, Нетленный град Иерусалим Предстанет в славе перед нами. Смарагд, и яспись, и берилл… Богатствам Господа нет счета, И сам архангел Гавриил Хранит жемчужные ворота. Ни звезд, ни солнца, ни луны… Нетленный град – светильник Божий: У городской его стены Двенадцать огненных подножий… Но знаю: жжет святой огонь, Убийца в храм Христов не внидет: Его истопчет бледный конь И царь царей возненавидит.Но даже не вынужденный отъезд из Златоглавой расстраивал Савинкова. Гораздо более огорчительно было то, что французы отказались финансировать его до тех пор, пока не увидят реальных результатов работы. Их можно было понять. Летом 1918 года началось масштабное наступление немецких войск на Париж. Положение города было критическим. В этой ситуации помочь могла Россия, если бы она снова вступила в войну. Однако сделать это было реально только после свержения большевиков. Савинков немедленно взялся разрабатывать план вооруженного восстания. Члены Союза защиты Родины и свободы должны были выступить в Москве в первых числах июня. И хотя затея могла иметь неплохие шансы на успех, Савинков вскоре передумал. Он посчитал, что даже при победе в столице город оказался бы во вражеском кольце и население Москвы было бы обречено на голод. А это привело бы мало того что к стратегическому поражению, так еще и к укреплению власти большевиков.
Савинков немедленно разработал новый план. Согласно ему, восстания должны были пройти в городах вокруг Москвы: в Ярославле, Казани, Рыбинске, Костроме, Муроме. Как предполагалось, десант союзников, высадившись в Архангельске, нанесет главный удар через Вологду на Москву. В дальнейшем, взаимодействуя с войсками самарского комитета Учредительного собрания, восставшие планировали с севера и востока штурмовать Москву. Последним этапом в случае успеха всей операции должно было стать объявление войны Германии.
В ночь на 6 июля 1918 года 120 членов Союза защиты Родины и свободы и сагитированный ими броневой дивизион подняли восстание в Ярославле. В городе находились крупные военные склады, и восставшим удалось быстро вооружить большинство антикоммунистически настроенных людей. Тут же было опубликовано обращение, написанное заранее:
«Объявляю гражданам Ярославской губернии, что со дня опубликования настоящего постановления в целях воссоздания в губернии законности, порядка и общественного спокойствия:
1. Восстанавливаются повсеместно в губернии органы власти и должностные лица, существовавшие по действовавшим законам до октябрьского переворота 1917 года, то есть до захвата центральной власти Советом Народных Комиссаров, кроме особо установленных ниже изъятий.
2. Признаются отныне уничтоженными все законы, декреты, постановления и распоряжения так называемой “Советской власти”, как центральной в лице Совета Народных Комиссаров, так и местных в лице рабочих, крестьянских и красногвардейских депутатов, Исполнительных Комитетов, их отделов, комиссий, когда бы и за чьей бы то ни было подписью означенные акты не были изданы.
3. Упраздняются все органы означенной “Советской власти”, где бы в пределах Ярославской губернии они ни находились и как бы ни именовались, как коллегиальные, так и единоличные…»
Правая рука Савинкова полковник Перхуров объявил себя главнокомандующим Северной Добровольческой армией и губернатором Ярославской губернии. Было арестовано около 200 самых видных большевиков, некоторых из них расстреляли. И хотя восставшим удалось создать из крестьян несколько полков, через 15 дней превосходящие силы Красной армии подавили мятеж. В своих воспоминаниях генерал-майор Гоппер с горечью писал:
«Меня иногда мучают угрызения совести за эти страшные и ненужные жертвы, принесенные на алтарь Ярославля, и я нахожу некоторое утешение только в том, что я не был инициатором этого дела, а лишь исполнителем, не бывшим в состоянии изменить хода событий. Но нельзя отрицать и того, что Ярославль почти в течение месяца сковывал у большевиков руки в важном стратегическом узле, притягивая их слабые в то время силы. Нас, уцелевших участников ярославских событий, это заставило изменить свои взгляды на многие факты и явления, которые мы раньше неверно оценивали. О том, как кончилась ярославская трагедия, я слышал уже впоследствии в Уфе и в Сибири от товарищей, которым удалось уйти из Ярославля уже после его сдачи и которые отчасти были свидетелями ужасов, творившихся там красными, вопреки данным обещаниям и гарантиям при условиях о сдаче».
7 июня началось восстание в Рыбинске. Отряд из 400 человек вел в бой сам Савинков. Но местная ЧК заранее знала о мятеже, и все попытки захватить артиллерийские склады в городе были отбиты. После двухдневных боев восстание захлебнулось. Итогом авантюры Савинкова стали массовые казни эсеров, нейтральных обывателей, арестованных ранее членов Союза защиты Родины и свободы. Большевики не собирались церемониться с врагами революции. Вот лишь один из приказов чрезвычайного штаба Ярославского фронта:
«Всем, кому дорога жизнь, предлагается в течение двадцати четырех часов со дня объявления сего оставить город и выйти к Американскому мосту. Оставшиеся после указанного срока в городе будут считаться участниками мятежа. По истечении двадцати четырех часов пощады никому не будет, по городу будет открыт самый беспощадный, ураганный артиллерийский огонь из тяжелых орудий, а также химическими снарядами. Все оставшиеся погибнут под развалинами города вместе с мятежниками, предателями и врагами революции рабочих и беднейших крестьян».
Об этом Савинков старался не думать. Все его мысли занимало очередное предательство союзников. Войска Антанты мятеж не поддержали. У них не хватило сил, поэтому он решил на время приостановить мятежи с целью срыва Брестского мира. В отчаянии от провала восстания, которое готовилось полгода, Савинков бежал в Сибирь, где совершил полный театрального фарса жест – записался рядовым в каппелевские части. О том, насколько это был серьезное приобретение для Белого движения, вспоминал уже в эмиграции полковник Вырыпаев:
«Когда Савинков и я сидели около лавки, ко мне привели грязного 16-летнего красноармейца мои смеющиеся над ним добровольцы. Он от страха заливался горькими слезами. Среди приведших его был мой большой приятель и друг по коммерческому училищу Л. Ш., который сказал: “Господин командир (чинов у нас тогда не было, обращались по должности), разрешите этого парнишку отшлепать. Он убежал от матери и поступил в красные добровольцы”. Я ему разрешил, так как хорошо знал, что доброволец Л. Ш. ничего страшного парнишке не сделает. Он скомандовал красному вояке снять штаны и лечь на бревно и дал ему несколько шлепков, приговаривая: “Не бегай от матери, не ходи в красные добровольцы!” И добавил: “Вставай и иди к своим и скажи, что мы никого не расстреливаем”. Красный вояка, застегивая на ходу пуговицы штанов, быстро побежал к бронепоезду, крича: “Никому ничего не скажу!” – и скрылся за плетнями огородов.
Наблюдавший эту картину Савинков, обращаясь ко мне, сказал: “Эх, Василий Осипович, добрый вы человек – что вы с ними цацкаетесь? Расстрелять эту сволочь, да и дело с концом. Ведь попадись мы с вами к этим молодчикам, они ремнями содрали бы с нас кожу. Я только что бежал от них и видел, что они делали с пленными”».
* * *
Душа поэта суровой воинской дисциплины долго выдержать не смогла. При первом же удобном случае Савинков перебрался в Омск, где вошел в состав Сибирского правительства. Многие склонны считать, что именно он был истинным вдохновителем переворота, благодаря которому адмирал Колчак пришел к власти. В самом деле, почерк узнаваем, жаль лишь, что документально это не подтверждено. Но даже если это действительно было так, то Савинков жестоко просчитался. Александр Васильевич Колчак не очень-то жаловал несостоявшегося цареубийцу и предпочел при первом же удобном случае избавиться от него. Савинков потом всем рассказывал, что Верховный правитель России не захотел быть в тени популярного лидера. Это чепуха. Никаким большим авторитетом бывший террорист в войсках Восточного фронта не пользовался. Более того, многие офицеры армии Колчака не скрывали своего желания повесить Савинкова, как только представится хороший повод. Не знать этого он не мог. Поэтому и воспринял свое назначение зарубежным представителем Колчака с удовольствием и явным облегчением. За короткий срок он успел перезнакомиться со всеми европейскими лидерами, агитируя их помогать добровольцам, иначе красная вакханалия доберется и до Старого Света. Особо дружеские отношения у него сложились с военным министром Великобритании сэром Уинстоном Черчиллем, который и спустя годы будет с теплотой вспоминать о мистере Савинкове:
«Манеры его были одновременно непринужденными и исполненными достоинства; за свободной и учтивой речью чувствовалось холодное, но не мертвящее внутреннее спокойствие; все это говорило о том, что я нахожусь в присутствии человека незаурядного, в тайниках личности которого волевой импульс соседствовал с сильным чувством самообладания. Я ощущал силу и обаяние его личности».
Не забывал Савинков и о литературной деятельности, которая все больше трансформировалась в журналистику. Надо сказать, весьма талантливую. В Варшаве он редактировал газету «Слово», в Париже руководил бюро печати армии Колчака. В своих статьях он настоятельно советовал действовать только под демократическим флагом, забыв навсегда про возрожденную монархию. Главная его идея заключалась в следующем: отказаться раз и навсегда от бессмысленного лозунга «Единая, Великая и Неделимая Россия», заключить стратегический союз с Петлюрой и польскими войсками. Но Антон Иванович Деникин в достаточно вежливой форме объяснил легендарному террористу, что в его советах не нуждается.
Савинкову многие прочили должность представителя Белого движения в Праге. Это и неудивительно, ведь он очень хорошо знал президента страны Масарика и даже получал от него деньги на убийство Ленина. Однако Савинков решил возобновить знакомство со своим другом по гимназии Пилсудским, ставшим к тому времени лидером Польши. В Варшаве Савинков создает Русский политический комитет, который, по его расчетам, должен был стать объединяющим стержнем всего антибольшевистского сопротивления. Казалось, так и должно было произойти. В апреле 1920 года польские и петлюровские части начали наступление против Красной армии. Уже через десять дней были захвачены Киев и большая часть правобережной Украины. Сам Савинков в тот момент организовал в Польше Русскую народную армию под командованием генерала Булак-Балаховича, о котором ходила дурная слава. Сейчас ненадолго отвлечемся от Савинкова и посмотрим, кому же он доверил командовать армией.
* * *
Современники так описывали Станислава Никодимовича Булак-Балаховича:
«Среднего роста, сухая военная выправка, стройный, лицо незначительное, широкие скулы. Говорит с польским акцентом, житейски умен, крайне осторожен. Характеру вполне соответствовала и первая часть его фамилии: “Булак” – человек, которого ветер носит».
Прославился он еще в годы Первой мировой. Немцы называли его «рыцарем смерти», отдавая должное его стойкости – в боях он был ранен пять раз, но никогда не покидал свой эскадрон. Георгиевский кавалер остался в строю и после большевистского переворота. Мало того, он единственный из белых вождей, кто служил в армии Троцкого. Однако при первом же удобном случае вместе со своим отрядом перешел на сторону добровольцев Северо-Запада.
После перехода атамана на сторону белых генерал Родзянко подписал приказ об амнистии отряду Булак-Балаховича, офицерам были сохранены их прежние чины. Службу в Добровольческой армии в октябре 1918 года он начал с того, что поспособствовал уходу в отставку командира Северо-Западного корпуса генерала Вандама, которого критиковали за нерешительность. Многие тогда считали, что руководить добровольцами должен пользовавшийся огромной популярностью Булак-Балахович. Офицерам импонировали слова георгиевского кавалера: «Я воюю с большевиками не за царскую власть, не за помещичью Россию, а за новое учредительное собрание». Однако сам он, судя по воспоминаниям князя Бермонт-Авалова, был против назначения командующим корпусом, о чем совершенно открыто и заявил. Булак-Балахович принял самое активное участие в наступлении северо-западников на Петроград. 29 мая 1919 года его партизанский отряд занял Псков, где был торжественно встречен населением, которое устало от красного революционного террора и массовых казней. Но виселицы, построенные большевиками в центре города для буржуазных элементов, недолго простояли без дела. 31 мая в газете «Новая Россия» Булак-Балахович изложил свой метод восстановления порядка и законности в городе: «Я предоставляю обществу свободно решить, кого из арестованных или подозреваемых освободить, а кого покарать. Смутьянов, изменников и убийц повешу до единого человека». Публичные казни в первый месяц освобождения Пскова от большевиков проходили днем в самом центре города. Но очень скоро союзники потребовали от Булак-Балаховича немедленно прекратить это «варварское средневековье». А между тем атаман отправил рапорт в штаб Северо-Западного корпуса, где отмечал: «Я не хочу, чтобы белых и меня обвиняли в том, что я казню в застенках. Пусть все видят, кого я вешаю. Я приглашаю вступиться, если кто-то видит, что страдает невиновный. На тех, за кого вступятся свободные граждане, моя рука не поднимется».
Член Северо-Западного правительства Иванов, который возглавлял гражданское управление Пскова и хорошо знал атамана, утверждал в своих воспоминаниях, что на Булак-Балаховича поступало не так много жалоб. Однако все они касались непосредственно публичной формы казни, а также принудительного сбора средств на содержание белых частей. Устав слушать доклады своих офицеров о том, что в армии не хватает оружия и продовольствия, атаман взялся лично решить эту проблему раз и навсегда. Вызвав к себе состоятельных жителей Пскова, он дал им три дня для сбора пожертвований на нужды Северо-Западного корпуса. Чтобы все поняли, что это не шутка, Булак-Балахович открыл окно в своем кабинете и стал демонстративно рассматривать пустующую виселицу, вокруг которой беззаботно прогуливались гимназистки. И что же?
В установленный срок ему на стол положили 200 000 рублей. Интересно, что добровольные финансовые пожертвования совпали по времени с присвоением Булак-Балаховичу звания генерал-майора. Основанием для этого послужили удачные действия его отряда в боях с большевиками, где особо отличился младший брат атамана – Юзеф, который захватил батарею противника, пулеметы и взял в плен почти 2000 человек. Однако многие офицеры считали, что он не достоин чести именоваться «ваше превосходительство». Командующий Северо-Западным корпусом Родзянко в своих воспоминаниях объяснял:
«С одной стороны, я ничего не имел против этого производства, так как надеялся, что генеральские погоны сломят его честолюбие и наконец-то прекратится стремление к партизанщине. Вместе с тем, однако, я решил, что это будет последняя моя поблажка, после которой буду по отношению к нему действовать строго».
Интересно, что буквально через несколько дней после присвоения Булак-Балаховичу звания генерала разразился страшный скандал. Офицеры его штаба были уличены в печатании фальшивых 40-рублевых керенок. При этом подпольный монетный двор располагался в доме Коммерческого банка, прямо под помещением районной комендатуры. Взбешенный Родзянко потребовал немедленно отдать атамана под суд. В ночь на 23 августа 1919 года Булак-Балахович был арестован и заключен под домашний арест. Охранял его прапорщик Шувалов. Закончилось все очень прозаично. Генерал сказал конвоиру, что ему разрешено попрощаться со своими полками. Когда же атаман оказался в окружении солдат, он заявил, что сдает командование и просит всех сохранять спокойствие. Сам же Станислав Никодимович отправился в штаб эстонской дивизии, почему-то решив, что там ему будет легче бороться с большевиками.
Один из современников так отзывался о генерале Булак-Балаховиче:
«Кем же он был в действительности: искателем приключений и авантюристом, как пишут о нем недоброжелатели? Или лихим воином, патриотом Родины? Сейчас весы Фемиды наполнены ошибками “батьки”, его преступлениями, действительными и вымышленными. Но не следует ли сперва положить на другую чашу подвиги и заботу о товарищах, а уже только после этого делать выводы».
Один из его офицеров однажды назвал Булак-Балаховича последним романтиком империи. Он действительно пытался окружить свою борьбу с Третьим интернационалом неким ореолом, свойственным скорее эпохе романтизма. Оттуда и помпезность формы его частей, и адамова голова на ордене, и тяга к сравнению себя с воинством Христовым. Может быть, страстью к рыцарскому авантюризму и объясняется тесное сотрудничество генерала с Борисом Савинковым, легендарным охотником за царскими сановниками и большевистскими функционерами.
27 августа 1920 года Савинков и Булак-Балахович заключили взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. Атаману была обещана должность главнокомандующего русскими вооруженными силами на территории Польши. Взамен требовалось признать руководство политического центра, сформированного бывшим эсеровским боевиком. Генерал с легкостью согласился. Офицеры Булак-Балаховича были отправлены в лагеря военнопленных, где проводили вербовку добровольцев. Белые воины шли к нему на службу неохотно, предпочитая войска других генералов. Зато крестьяне считали атамана подлинным народным вождем и заступником. Действительно, он буквально ежедневно говорил, что он будет защищать трудовой народ до последней капли крови и, не задумываясь, отдаст свою жизнь за процветание Родины. Не случайно Савинков писал в своих воспоминаниях:
«– Знаете вы о Врангеле?
– Знаем.
– Ну, что же, верите вы ему?
– Не верим.
– Почему?
– Рангель – пан.
Так говорили крестьяне самых глухих, медвежьих углов. Так говорили они в Вухче, Тонеже, Млынке, Буйновичах, Злодине, Щекотове, Романовке и других неведомых деревнях.
И еще говорили они:
– Керенского помните?
– Помним.
– Керенскому верите?
– Нет.
– Почему? Ведь Керенский не помещик.
– Не помещик, да пустозвон.
В России за три года многое изменилось. Крестьянин желает знать, за что люди борются, за что проливают кровь – за народ или за помещиков, за слова или за крестьянскую землю. И не только крестьянин желает знать, он требует гарантий, что с ним говорят “без обмана”. Каких гарантий? Бесспорных. Одно дело, когда о земле говорит “Рангель” – помещик, другое дело, когда о земле говорит Керенский – “пустозвон”, и, наконец, третье, совсем иное, близкое ему дело, когда о земле говорит свой брат, доброволец и так же чуждый ненавистным панам и так же пренебрегающий пустыми словами. Сперва скажите, а потом докажите, что:
1. Долой коммуну.
2. Долой помещиков.
3. Мир.
4. Учредительное собрание.
А доказав своим крестьянским происхождением и своей винтовкой, обращенной против большевиков, своим отношением к мобилизации, к реквизиции, к сходу, к старосте, к “трепьякам”, – покажите “бумагу с пецаткой”, где все написано, как “и в приказе”, и бумагу эту вывесите у церкви или у волостного правления. А потом спросите, если угодно:
– Про генерала Балаховича слышали?
– Про Батьку?
– Про Батьку.
– Как не слыхать? Слыхали.
– Ну что же, верите хоть ему, Балаховичу?
– Верим. Он – за народ.
– Ну и мы, балаховцы, – за народ.
– Правильно.
Вот от этого “правильно” все и зависит. Если “правильно”, то есть если крестьянин поверил, он даст вам сена, хлеба, овса, подводу, барана – и денег не спросит. Если “правильно”, он укажет вам тропинку в болоте, предупредит против красных, проведет ночью через леса, поможет словом и делом. Если “правильно”, он попросит винтовку и с этой винтовкой пойдет с вами рядом – новый боец, новый завербованный балаховец. Если “правильно”, он соберется в отряды, в “зеленодубское” войско и этим “зеленодубским” войском покроет всю волость, воюя с красными “за народ”. Был ли бы возможен поход генерала Балаховича на Гомель без флангов, без тыла, с горстью людей, если бы повсеместно его не поддерживали “зеленодубцы”? Сколько писем от белорусских “зеленодубцев” лежит у меня на столе, когда я пишу эти строки…»
Атаман лично разработал несколько вариантов плана боевых действий против большевиков. Согласно одному из них, предполагалось идти прямо на Москву, не оглядываясь на тылы. Такое дерзкое, молниеносное движение должно было, по замыслу генерала, вызвать панику и дезертирство в рядах красных и восстания крестьян. Безусловно, Булак-Балахович учитывал, что под его командованием находится слишком мало войск, и надеялся прежде всего на политический эффект. В первых числах ноября 1920 года, едва начался поход на Кремль, газета «Новое варшавское слово» опубликовала телеграмму лидеров белорусского политического комитета Адамовича и Алексюка с призывом освободить Родину от гнета большевиков. Надо сказать, что Булак-Балахович с презрением относился к «бумажным политикам», учитывая их тягу к сепаратизму. Сам он без устали повторял, что борется за единую и неделимую Россию. Впрочем, это не помешало ему 12 ноября 1920 года в Мозыре провозгласить о создании Белорусской народной республики. Правительство, сформированное в Каунасе и Варшаве, приступить к своим обязанностям не успело. Все силы Западного фронта красных обрушились на Булак-Балаховича. Атаман предпочел закончить поход. Он всегда старался не превращать отступление в паническое бегство со страшными потерями. Армия вернулась в Польшу, где была встречена без особого восторга.
* * *
Казалось бы, все, полный крах. Любой бы опустил руки. Но только не Савинков. Он все еще жаждал активных действий. В письме президенту Чехословакии Бенешу он, в частности, отмечал:
«Вы соблаговолили подать мне надежду на то, что не откажетесь от своей выдающейся поддержки дела “зеленых”, интересы которых я защищаю. Мы всегда страдали из-за огромных финансовых затруднений. Однако сейчас нам грозит полная ликвидация, потому что мы совершенно лишены каких-либо средств. Я прибегаю к последней возможности и от имени всех “зеленых” крестьян, солдат и ремесленников апеллирую к Вам, господин президент, к великому демократу и другу России, каковым Вы являетесь».
После недолгих раздумий он предложил новый план борьбы с ненавистными ему советами – «внутренний взрыв». Он исходил из того, что диктатура пролетариата противоречит интересам широких народных масс в целом и крестьянства в частности, а значит – неизбежны восстания, руководить которыми должны профессионалы. Савинков тут же приступил к созданию мобильных ударных отрядов, которые должны были при первых сигналах о бунтах поддерживать крестьян удачными рейдами из-за границы.
В январе 1921 года он формирует новую военно-подпольную организацию – Народный союз защиты Родины и свободы. Кроме него в лидерах числились генерал Эльвенгрен, полковник Гнилорыбов, профессор Философов, журналист Дикгоф-Деренталь. В одной из программных статей нового детища Савинкова указывалось:
«В то время как монархические витии русской эмиграции, проев на банкетах полученные из Америки доллары, ждут новых безответственных благотворителей, мы начинаем новый этап борьбы с большевизмом – этим главным несчастьем человечества. И мы заявляем, что однажды избранный нами путь мы пройдем до конца. Мы не позволим себе обманывать надежды тех, кто надеется на нас. Мы держим в руках оружие, а не банкетные бокалы с вином. И как никогда мы уверены в победе!
Мы торжественно заявляем – реставрации монархии в России не произойдет! На это пусть никто и не надеется. Мы заявляем это в столь категорической форме, зная, что и в наших рядах есть явные и тайные сторонники монархического строя. Одни являются ими по убеждению, и им мы говорим: или решительная смена убеждений, или уходите от нас под посрамленные знамена монархистов. Другие являются ими по ошибке, по примитивному неразумению законов прогресса истории, и им мы говорим: не превращайтесь в политических обывателей, задумайтесь еще раз над нашей программой и, если она вас не устраивает, прямо об этом скажите – двери перед вами открыты, идите под те же посрамленные знамена. Третьи являются ими просто по темноте разума своего, и для них мы не пожалеем сил, чтобы разъяснить им их роковое заблуждение и наши великие цели в России.
Мы видим впереди только парламентскую Россию, и это не зыбкий мираж, а твердая наша цель, к которой мы приближаемся тысячами путей и сейчас, как никогда, ощущаем ее близость и ее реальность. Вперед, с открытыми глазами и преданной борьбе чистой душой и с верой в нашу грядущую победу!»
В тот момент он вновь верил, что недалек тот день, когда он станет диктатором новой, свободной, республиканской России. Все же эсеровская закваска давала о себе знать. Даже такой искушенный политик, как Савинков, не смог сразу отказаться от основных доктрин идеологии. Он всерьез рассуждал, что после свержения большевиков Россия будет управляться тремя партиями. И даже называл их: крестьянско-казачья, социалистическо-рабочая и буржуазная. Основную роль он отводил первой, которая должна была защищать интересы мелких хозяев.
Внимательно следя за развитием ситуации в России, он с гордостью говорил: смотрите, мой прогноз сбывается! В самом деле, восстания в Тамбовской губернии, на Средней Волге и в Западной Сибири делали весьма близкой перспективой то, что Савинков называл «взрывом изнутри». Дело было за малым – начать отправлять на помощь крестьянам ударные отряды. А вот с этим-то ничего и не вышло. Добиваясь финансовой помощи от бывших союзников по Антанте, Савинков сильно преувеличивал возможности своего союза и подпольных групп по всей России, которые ему якобы подчиняются. На деле же большинство лидеров восстаний и не подозревали, что, оказывается, получают указания к действию непосредственно от бывшего эсеровского террориста. Савинкову удалось-таки отправить в Россию 192 бывших офицера, но судьба их была незавидна: все они были арестованы и расстреляны.
Казалось бы, восстание в Кронштадте – «гордости революции» – должно было доказать всему миру гениальную политическую прозорливость Савинкова. Впрочем, он и сам сделал все возможное, чтобы о нем вновь заговорили: отправил письмо военному министру Франции, в котором сообщал, что его отряды двигаются к границе Белоруссии, чтобы помочь успеху всеобщего восстания в России. Вот только все гладко было опять лишь на бумаге. Большевики быстро подавили мятеж, и Савинкову пришлось перенести восстание на неопределенный срок. Но это вовсе не означает, что он перестал о нем мечтать. Более того, все его мысли только и были заняты грядущим мятежом, в котором он рассчитывал взять убедительный реванш за крах выступлений в Ярославле и Рыбинске.
В июне 1921 года на съезде Народного союза защиты Родины и свободы он представил детально разработанный план совместных действий подпольных групп и восставшего народа. Французы и англичане даже взялись оказать финансовую поддержку, прочитав очередную декларацию Савинкова:
«Если бы русские люди не сражались против большевиков, если бы не было Степного и Ледяного походов, если бы не было похода на Петроград, если бы не защищалась Сибирь, если бы не восстали Дон, Терек, Кубань, если бы в Крыму, после Новороссийска, не было снова поднято русское знамя, – мы, русские, были бы вынуждены признать, что у нас, русских, нет чести и что Родина действительно не более как предрассудок. И если честь спасена, и если идея Родины – идея России – не умерла до сих пор, то этим мы обязаны безвестным героям, положившим жизнь свою у Пскова, у Омска, у Новочеркасска, под Орлом, под Казанью, на Перекопе – во всей земле русской. Этим мы обязаны Корнилову, Алексееву, Колчаку, Деникину, Врангелю. Вечная слава им. Идею Родины они сберегли, святого духа не угасили. Но ни один из них не смог восстановить поверженной в прах России, ни даже Врангель, ни даже Корнилов. Чем объяснить их тяжкие неудачи?
У Колчака – воровство, интриганство, непонимание души народной. У Деникина – воровство, интриганство, непонимание души народной. У Врангеля – воровство, интриганство, непонимание души народной. Некий отяготевший над ними закон.
Честнейшие люди окружены ворами. Бескорыстнейшие вожди – честолюбцами. Демократы – держимордами николаевского режима.
Что оставалось делать нам, видевшим эти язвы, предчувствовавшим неизбежное поражение? Умыть руки, как это сделали многие “патриоты”? Или признать русский, пусть колеблемый ветром, пусть изорванный, пусть даже испачканный, и все-таки наш, родной, когда-то гордый и славный флаг? Признать – помочь. Признать – предостеречь. Признать – служить ему безответно. Что касается меня, я признавал и горжусь этим.
Потеряв армию, можно бороться – можно создать новую армию. Потеряв территорию, можно бороться – можно завоевать утраченное пространство. Но потеряв и территорию, и армию, надо признать свое поражение, и если бороться, то иными путями, вдумавшись в смысл поражения и устранив причину его.
Недостаточно написать демократическую программу, необходимо уметь воплотить ее в жизнь. Деникин – за Учредительное собрание, но штабы, тылы, “Осваги” Деникина – за “Его Императорское Величество”. То же Колчак. То же Врангель. Скажите крестьянину, что от коммуны его освободят кадетствующие помещики, – и он не поверит вам. Скажите красноармейцу, что от коммуны его освободят старорежимные генералы, – и он не поверит вам. Представьте себе, что вы русский крестьянин. Красные мобилизуют вас, реквизируют хлеб и скот, расстреливают за дезертирство. Белые тоже мобилизуют вас, реквизируют хлеб и скот, расстреливают за дезертирство. Фамилии красных ненавистные и чужие: Ленин, Троцкий, Подвойский. Фамилии белых ненавистные и чужие: Кривошеий, Глинка, Климович. Красные говорят: мы за народ, за крестьян. Белые говорят: мы за народ, за крестьян. За красными недоговоренно скрывается «Ве-че-ка», за белыми недоговоренно скрывается царь. Что бы вы делали в этом, поистине безвыходном, положении?
Крестьяне ненавидели и тех и других и, ненавидя, кланялись и тем и другим. Приветствовали красных, приветствовали и белых. Чтобы крестьянин дрался за совесть, не щадя живота своего, надо, чтобы белое дело стало делом не помещиков, не министров, не самозарождающихся и дорого стоящих “Всероссийских” правительств, а его крестьянским, хозяйским делом. Но тогда долой не только воров, интриганов и держиморд, но и “Осваги”, и тылы, и “Как стоишь, сукин сын?!”, и епископа Вениамина и прочее, и прочее, и прочее – все наследство старозаветного строя. Ни Колчак, ни Деникин, ни Врангель не смогли или не захотели сделать эту необходимую хирургическую операцию. Кто сумеет сделать ее, кто сумеет борьбу против большевиков из борьбы за старозаветные пережитки сделать борьбой за новую, свободную, крестьянскую Россию, тот победит большевиков. И для победы этой не нужно иностранных солдат и миллиардов франков. Нужна только пламенная любовь к родному народу и вера в русского мужика».
Однако Савинков в очередной раз просчитался. Создавая свой план, он предпочел вовсе не учитывать политических реалий советской России, о которых, положа руку на сердце, знал крайне поверхностно. Его методология была хороша и актуальна для 1919 года. А вот в 1921 году настали уже совсем другие времена. Окончательно убедившись в невозможности скинуть большевиков, крестьянство резко качнулось в сторону их признания. Виной тому была новая экономическая политика, которая прежде всего поначалу ликвидировала столь ненавистную многим продразверстку и колхозы.
Восстание запланировали на середину августа 1921 года. Подпольные представительства савинковского союза должны были к этому времени подготовить повстанческие отряды по всей территории советской России. Ударные группы было решено бросить маршами на Москву, Петроград и Орел. Предполагалось, что началом восстания послужат террористические акты против лидеров большевиков, взрывы военных объектов, уничтожение железнодорожных путей. Двадцать пять диверсионных отрядов были готовы по первому сигналу перейти границу и начать победоносное свержение советской власти в западных губерниях России, Белоруссии и Украины.
Однако узкоспециализированные (исключительно на убийства коммунистов) боевики так и не смогли поднять восстания. В городе Холмы чины отряда правой руки Савинкова полковника Павловского ликвидировали несколько сотен человек. У Полоцка пустили под откос поезд, ограбили подчистую всех пассажиров, расстреляли 15 членов партии. Но ведь явно не на это делал ставку Савинков. То крестьянство, на которое он так надеялся, уже перестало существовать. Уставшие от бесконечной войны люди, запуганные красным террором, хотели одного – спокойной жизни. Не случайно ведь к тому моменту полностью сошли на нет многочисленные повстанческие армии Антонова и Сапожкова.
Да и ЧК не дремала. В кратчайшие сроки «карающему мечу партии большевиков» удалось ликвидировать западный и черноморский отделы Народного союза защиты Родины и свободы. План поднять всенародное восстание рухнул. Даже ярому ненавистнику коммунизма сэру Уинстону Черчиллю стало совершенно ясно, что нужна новая методика. Однако радоваться чекистам было рано, о чем на совещании на Лубянке им открыто заявил нарком просвещения Луначарский, находившийся в свое время с Савинковым в ссылке:
«И вот никто ему не верит, и все рады повернуться к нему спиной. Но в этих случаях Савинков придумывает новый трюк. Он с костяным стуком выбрасывает на зеленое поле свои карты, и вся эта банда, не верующая в себя, близкая к отчаянию, хватается за него, как за спасительную соломинку, как за возможного вождя. И вновь его принимают министры, едут к нему на поклон генералы, и вновь в карман суют ему миллионы, он вновь на хребте новой мутной волны. Савинков наиболее яркий тип в самой своей мутности…»
Тот год был вообще фатальным для Савинкова. Один за другим рушились его блестящие планы. Отряды, готовые к борьбе с большевиками, были интернированы в Польше. Черчилль ушел в отставку, и, как следствие этого, прекратилось финансирование из Англии. Новый друг Муссолини не проявлял больше интереса к русским антикоммунистам. Даже на литературном фронте, где Савинков почти всегда умел брать реванши у судьбы, его ждало горькое разочарование. Новая книга «Конь вороной», в которой он рассказывал о своей борьбе с большевизмом, не пользовалась успехом. Во истину пророческими были слова, сказанные Савинковым в самом конце:
«Сроков знать не дано. Но встанет Родина – встанет нашей кровью, встанет из народных глубин. Пусть мы “пух”. Пусть нас “возносит” ненастье. Мы слепые и ненавидящие друг друга, покорные одному несказанному закону. Да, не мы измерим наш грех. Но и не мы измерим нашу малую жертву…»
Но и это все не остановило самого Савинкова. Вечный певец «активизма» остался верен себе. Он лично взялся разрабатывать серию террористических актов против лидеров государства рабочих и крестьян. В апреле 1922 года совместно с английским разведчиком Сиднеем Рейли планировалось осуществить покушение на советского дипломата Григория Чичерина на Генуэзской конференции. Однако итальянская полиция задержала бывшего охотника за царскими сановниками, и убийство не состоялось. Равно как и ничего не получилось в Берлине, куда прибыли три боевика во главе все с теми же Савинковым и Рейли.
Еще одна блестящая идея – захватить Петроград во главе с 20-тысячным десантом из опытных офицеров – не увлекла никого, кроме Муссолини. Напрасно Савинков внушал всей Европе: «Под нашим флагом – и с Богом! Никто и ничто не устоит!» Охотников до его откровений уже не находилось. Да и сам лидер итальянских фашистов в тот момент как раз заключал договор с СССР, поэтому совершенно справедливо решил больше не связываться с Савинковым.
Впрочем, я не прав. Охотники до откровений Савинкова нашлись. Но вовсе не там, где ему хотелось бы. Борисом Викторовичем всерьез заинтересовались в Москве. На Лубянке. Там совершенно справедливо рассудили, что он относится к категории самых опасных врагов советской власти. Тех, кого только смерть заставляет отказаться от борьбы…
Глава 4 Приступить к ликвидации
«Борьбу посредством агитации не признает. Смерть и страх перед нею считает движущей силой. Прославился заявлением вслух о своей готовности со счастьем по приказу партии убить самого себя. Для его характера это не фраза. Физически вынослив, с гипнотическим взглядом. Настойчивый. С волей, быстро подавляющей окружающих…»
Феликс Дзержинский с шумом закрыл дело Бориса Савинкова из архива царской полиции. Пора было начинать первую смелую операцию молодой советской разведки – попытаться заманить на территорию большевистской России одного из самых ее лютых врагов. Тем паче сам Савинков напрашивался. При переходе границы был задержан его адъютант Леонид Шешеня. Чекисты долго сомневались: пришел ли он один или «хозяин» благополучно проскочил пограничников. Однако Шешеня пожаловал один. Его задание было простейшим: посмотреть, чем, фигурально выражаясь, дышит советская власть, и растормошить резидентов Союза защиты Родины и свободы, которые очень некстати впали в летаргический сон.
Шешеня был свято убежден: на Лубянке сидят дилетанты, которых боевой штабс-капитан обведет вокруг пальца. Однако долго «крутить кино» ему не удалось. Припертый к стене списком своих преступлений против советской власти, совершенных в отряде Булак-Балаховича, он быстро сдался на суд победителей. Заодно провалил и двух агентов: Зекунова в Москве и Герасимова в Смоленске. Первый как раз и был ярчайшим представителем не вовремя уснувших боевиков, зато второй оказался лидером мощнейшей подпольной организации, о существовании которой чекисты даже не подозревали. Неожиданная удача лишний раз убедила Дзержинского: пора сыграть с Савинковым по-крупному. Тем более результаты очной ставки Зекунова и Шешени убедительно свидетельствовали, что клиент созрел:
«Федоров: Вы подтверждаете, что по заданию руководящего центра СЗРиС лично от Савинкова шли на связь к этому человеку?
Шешеня: Если напротив меня сидит Михаил Дмитриевич Зекунов, я шел к нему.
Федоров: Уточним этот факт с другой стороны. Вопрос к Зекунову: какой пароль должен был сказать вам Шешеня?
Зекунов: “Вы не знаете, где здесь живет гражданин Рубинчик?”
Федоров: Вы подтверждаете эту фразу-пароль?
Шешеня: Да.
Федоров: Что вы должны были услышать в ответ?
Шешеня:. “Гражданин Рубинчик давно уехал в Житомир”.
Федоров: Верно?
Зекунов: Верно.
Федоров: Кто вам дал пароль?
Зекунов: В Варшаве, в савинковском центре, именуемом областным комитетом союза. Этот пароль мне дал начальник разведки Мациевский.
Федоров: А вам кто дал?
Шешеня: Тот же Мациевский.
Федоров: Значит, мы установили, что вы оба именно те лица, которым принадлежат фамилии Зекунов и Шешеня и которые являются сообщниками по савинковской контрреволюционной организации СЗРиС. С какой целью вы шли к Зекунову?
Шешеня: Выяснить, почему от него нет никаких сведений. Потом…
Федоров: Минуточку, если бы вы обнаружили, что Зекунов умышленно не работает, иначе говоря, дезертировал, что вы должны были сделать? Ну, ну, Шешеня, мы же договорились, встреча у нас откровенная.
Шешеня: Я должен был принять меры по обстановке, так сказать.
Федоров: Меры всякие, вплоть до…
Шешеня: Вплоть до убийства.
Федоров: Вот, Зекунов, значит, вам жизнь спасли наши пограничники, которые не дали Шешене перейти границу. Еще какие цели были у вас?
Шешеня: Если бы я обнаружил, что Зекунов не умеет работать как резидент, я должен был с его помощью осесть и устроиться в Москве и помочь ему наладить дело, а затем вернуться в Польшу.
Федоров: И на какой срок вы собирались тогда остаться в Москве?
Шешеня: Условливались – на год.
Федоров: И что было бы главным в вашей работе вместе с Зекуновым?
Шешеня: Установить связь со всеми находящимися в Москве савинковцами. Добыча и переправка разведывательных материалов, касавшихся Красной армии и внутреннего положения в стране, связь с другими антисоветскими элементами.
Федоров: Так. Значит, вам наши пограничники помешали выполнить шпионское задание?
Шешеня: Так точно.
Федоров: И, таким образом, вы ни в чем не виноваты и мы вас зря держим за решеткой?
Шешеня: Нет, не зря.
Федоров: А за что же? Ну, ну, Шешеня, все – откровенно.
Шешеня: Я участвовал в рейдах против Советской республики.
Федоров: И, таким образом, на ваших руках есть кровь наших советских людей?
Шешеня: Да, есть.
Федоров: А ваши руки чисты?
Зекунов: Чисты.
Шешеня: Не повезло мне на границе.
Зекунов: А мне с курьером, трус оказался. Выболтал все на свете.
Зекунов: Кабы торопили, давно б кончили. Вы уже сколько здесь?
Шешеня: Месяц.
Зекунов: Давно б кончили. Зачем-то вы им еще нужны.
Шешеня: Да ну?..
Зекунов: Это уж так и есть».
Главное действующее лицо операции «Синдикат-2» А. П. Федоров
План был прост, как все великое: Савинкову необходимо было внушить, что на Родине действует подпольная организация «Либеральные демократы», которая готовит свержение коммунистического строя. Но поскольку все видные политики, которые могли бы возглавить вновь сформированное национальное правительство, находились в эмиграции, требовалась консолидация сил. Для этой цели за границу отправился член Центрального комитета партии Мухин. Его роль было поручено исполнять Андрею Павловичу Федорову. На подготовку легенды он попросил у Дзержинского пять дней. В установленный срок на стол основателю «карающего меча большевистской партии» лег документ, с которого, собственно, и началась фаза «Синдикат» операции «Трест»:
«Фамилия, имя, отчество – Мухин Андрей Павлович. Родился в 1888 году в семье богатого крестьянина Мариупольского уезда. Мать умерла, когда ему было 5 лет.
До 1904 года учился в гимназии в городе Мариуполе, но не окончил ее – исключен за связь с местной анархистской организацией. Отец увозит его в Харьков, где репетиторы подготовляют его к поступлению в местный университет, в котором он и учится до 1909 года. Будучи студентом, попадает под влияние известного харьковского эсера Мирошниченко. Дело грозит обернуться исключением из университета, но отец своевременно устраивает его перевод в Новороссийский университет. Там в первые же месяцы учебы он участвует в студенческой забастовке протеста против казни социалиста Ферара. За это его исключают из университета, и он возвращается домой к отцу. Спустя год он в Харьковском университете на правах вольного слушателя, а в 1914 году экстерном сдает выпускные экзамены.
Сразу по окончании университета он заболевает – нервное истощение. В результате в армию его взяли только в августе 1915 года. Как имеющий высшее образование, он был направлен в Александровское военное училище, которое окончил с отличием. Выпуск был ускоренным, и в 1916 году он уже на фронте в качестве офицера для поручений при штабе полка. Ранение в первый же месяц фронтовой службы. Из госпиталя в Воронеже выписан в январе 1917 года и получает двухмесячный отпуск…
Ехал домой через Москву, где постоянно жил брат отца – путейский инженер. Здесь застал отца, и они вместе пережили Февральскую революцию. Отец спешно увез его домой, в Мариупольский уезд.
После большевистской революции отец не стал ждать, пока голытьба растащит его большое хозяйство, и выгодно продал его мариупольскому купцу. А сами они выехали в Москву, к брату отца. По дороге отец заболел тифом и умер. С огромным трудом Андрей все же пробился в Москву и поселился у дяди. Нигде не работал и не знал, что делать. Весной 1918 года случайно встретил в Москве начальника Александровского военного училища полковника Каменщикова, который ввел его в круг военной интеллигенции. Здесь он познакомился с Новицким, который помог ему получить хорошую работу в тресте, занимающемся внешнеторговыми делами, а позже ввел в созданную им подпольную контрреволюционную организацию интеллигенции “Либеральные демократы”, а еще позже рекомендовал его в состав ЦК.
Женат. Ждет первого ребенка».
На Лубянке прекрасно сознавали: обмануть опытнейшего подпольщика Савинкова будет нереально сложно. Поэтому, чтобы не создавать себе дополнительные и вовсе ненужные в таком деле хлопоты, Федоров перемешал выдуманные факты своей «легенды» с реальными деталями собственной биографии. Имя и отчество он взял настоящие. Но его родители были бедняками, и из гимназии его не исключали, хотя анархистские настроения были тогда в моде. Он действительно учился в Харькове и был исключен из университета, но вовсе не из-за связи с эсерами. Федоров был активным участником революционных беспорядков, устроенных большевиками, и подбивал к тому же рабочих порта.
Во время Гражданской войны являлся разведчиком красных. Был даже пойман деникинской контрразведкой и чудом избежал расстрела. С 1919 года служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии, где занимался борьбой с контрреволюционерами, работавшими на иностранные разведки.
Все это было хорошо и правильно. Дело оставалось за малым: сообщить Савинкову, что в России действует мощнейшая контрреволюционная организация. Но как это сделать? Выход был найден. Удалось перевербовать Зекунова, который резонно заметил: встать к стенке никогда не поздно. После месяца тщательного инструктажа его отправили в Варшаву. Там он и сообщил нужным людям, что Шешеня благодаря возобновлению еще дореволюционных знакомств вошел в контакт с представителями «Либеральных демократов». Поведать дальнейшие подробности гость из Москвы не мог, потому как был человеком маленьким, которому сам Шешеня не очень-то доверял в таком важном деле.
Резидент Савинкова в Варшаве Философов, вовремя оповещенный о посланце из самого сердца большевистской России, проклинал на чем свет стоит и его, и Шешеню. Ведь нужно было доложить такую важнейшую новость в Париж, «отец» постоянно справлялся, что слышно с Родины, а как сообщать, если толком ничего не известно? Только название – «Либеральные демократы». Но Философов прекрасно знал отличительную черту русской интеллигенции: умение потопить суть вопроса в пустой болтовне и взять название, которое совершенно не отражает чаяния организации. Решено было для начала отправить Савинкову письмо, написанное Шешеней, а там уж вождь пусть сам решает, что к чему:
«Дорогой мой отец! В самом начале, в Смоленске, я попал в беду, вышел из которой хоть и с шумом, но благополучно. А в Москве меня ожидала новая беда – Зекунов сидел в тюрьме. Он служил в военизированной железнодорожной охране, в его дежурство произошло ограбление склада, и его посадили за халатность. К счастью, все обошлось недорого. Через месяц его выпустили и в наказание перевели на другую работу, а он на эту новую работу не согласился и ушел из охраны совсем. Теперь у него работа очень удобная для нашего дела.
Я устроился в Москве неплохо, имею комнату почти что в центре. Работаю пока в полувоенной организации по закупке лошадиного фуража, но работа не постоянная, а, как здесь говорят, по договору. Пока что потерпим, а там посмотрим. Возможности есть, и хорошие.
Теперь о самом главном. Все получилось неожиданно и даже, прямо скажу, случайно. Я встретил в Москве на улице человека, которого хорошо знал по первым годам войны, он был в штабе нашего полка. Мы с ним немного дружили. Теперь решили дружбу восстановить. Он военнослужащий, работает в военной академии профессором. Как он из штабиста стал профессором – не знаю, а спрашивать пока неловко. Я к нему присматривался, а он – ко мне. И первый открылся он и как обухом по голове ударил. Оказывается, он нам прямой и близкий родственник и имеет к тому же очень большую семью, настолько большую, что мы с вами и подумать не могли бы. Родня раскидана по всей стране, и среди нее немало больших людей, в том числе и военных. В семье очень строгие порядки, и живут весьма скромно. Мой знакомый говорит, что жить широко еще не настало время.
Чтобы проверить и лично убедиться в правдивости рассказа об “ЛД” моего знакомого Новицкого, я по его предложению вступил в их организацию и стал посещать сходки “пятерки”, в которую меня включили вместо умершего директора школы. Сообщаю состав моей пятерки: 1 – адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов; 2 – ответственный работник Наркомата путей сообщения; 3 – директор большого магазина; 4 – преподаватель английского языка в школе; 5 – я. Собираемся два раза в месяц, вырабатываем обвинительное заключение большевикам. Эта работа проводится теперь по всей организации. Каждый член организации вносит в обвинение что-то свое. Получается очень сильно: не общие слова или брехня про все на свете, а точно: там-то, тогда-то, то-то, извольте, господа большевики, за это отвечать. В общем “ЛД” – дело серьезное, но малоактивное и для большевиков пока малочувствительное. Новицкий говорит, что сейчас у них продолжается накопление сил, а действия они начнут позже.
Не имея с вами связи, я сам решил: а что, если эту организацию включить в наш союз? Ведь с самого начала Новицкий ухватился за меня, стоило мне намекнуть, что я – человек Савинкова. Я соврал еще, будто я здесь, в Москве, возглавляю одну из самых больших организаций нашего союза. Он не поверил. Стал проверять, но он же о нашем движении знает меньше меня, а я предъявил ему Зекунова и еще двух членов моей группы. Тогда я сказал ему, что я ваш личный адъютант, Новицкий этому заметно обрадовался.
Когда зашла речь о вас, я быстро загнал его в угол. А некоторое время спустя Новицкий говорит мне: “Помогите нам установить связь с вашим главным руководителем”. Я ему в ответ, чтобы поддразнить его, говорю, что нам с ними будет неинтересно, мы – люди решительного действия, мы ходим не с кукишем в кармане, а с маузером. И сразу я понял, что сказал не так, особенно про маузер. Но было поздно, и Новицкий в тот раз вопрос о связи с вами больше не поднимал. Однако спустя две недели он опять поставил вопрос о связи с вами, и я окончательно понял, что плохо веду игру, в чем честно и признаюсь, – не оказался на уровне в вопросе тактики. Но главное все же в том, что я нашел эту организацию “ЛД” и установил связь с Новицким, который является одним из ее руководителей. Но теперь какой-то ход нужно сделать с вашей стороны, чтобы Новицкий видел наш интерес. С его стороны интерес есть».
Савинков трижды перечитал письмо. Он даже вспомнил этого самого Новицкого, не подозревая, что чекисты пустили таким образом пробный шар. Никакого решения он не принял, но приказал Варшаве все внимание уделить этому делу. И прежде всего узнать политическую программу «Либеральных демократов».
* * *
Зекунов вернулся в Москву и тщательно доложил о результатах своей поездки. Чекистов интересовало буквально все, ведь мелочей в таком деле просто не бывает. Тем более что в Варшаву теперь уже предстояло отправляться Федорову. Согласно плану, он должен был потребовать встречи с самим Савинковым и, когда ему в этом откажут, разыграть жгучую обиду, но и не отказаться познакомить членов Союза защиты Родины и свободы с идеологией «Либеральных демократов». Свою «тронную речь» Федоров выучил буквально наизусть, тщательно шлифуя детали в разговоре с начальником контрразведки Артузовым, который на этом своеобразном экзамене играл роль помощника Савинкова.
В действительности все случилось, как и предполагали на Лубянке. Разумеется, ни к какому Савинкову Федорова никто просто так допускать не собирался. На этот случай есть помощники, которые и ограждают бесценное время вождя от траты на пустые разговоры. Поэтому именно Философову было суждено первому узнать, что же это такое – «Либеральные демократы». Слушал он очень внимательно, ведь основные тезисы Федорова ему было необходимо потом рассказать лидеру организации:
«Почему мы выбрали именно господина Савинкова, а не другого? Этот вопрос обсуждали всего-навсего два доверяющих друг другу человека из руководства “ЛД”: я и профессор военной академии Новицкий, заместитель лидера организации и мой давний друг. Он еще не поддерживает меня в ЦК открыто, но уже оказывает мне всяческое негласное содействие. Он дал мне на свой риск и доверенность на эти переговоры. Деятели из эмиграции монархического толка исключаются категорически. Монархия – трагедия России. Эсеры старого покроя, от которых ушел ваш Савинков, – эти вообще неизвестно что и для чего существуют. Военные – те мечтают об интервенции, а мы считаем, что крови Россия пролила достаточно. Но вот Новицкий с помощью Шешени получает программу вашего союза. Не все в ней мы можем принять, но основная идея нам понятна и привлекательна – мы тоже за демократическую, парламентарную Россию. Но при таком положении на переговоры мы должны идти только с самим Савинковым. Ибо только он, как нам кажется, может полновластно и окончательно определить отношение вашего союза к тому, что в его программе мы не принимаем. И решить главный вопрос – о политической консультации нашего руководства…»
Все вроде бы правильно, но червь недоверия к любому гостю из «большевизии» гложет Философова. Он напишет Савинкову подробный отчет о ходе переговоров, укажет отдельно на сомнения и о принятом решении: отправить в Россию одного из членов Союза защиты Родины и свободы. Пусть посмотрит на месте, что к чему с этой загадочной пока организацией. Через несколько дней из Парижа придет ответ:
«Ваше решение послать туда Фомичева считаю совершенно правильным со всех точек зрения. В случае неудачи наша потеря легко восполнима. Всякая проверка там нашими глазами стала более чем необходимой.
Будем теперь терпеливо ждать. Не стоит ли напечатать в нашей газете статью без подписи – этакое туманное предчувствие чего-то под знаком “плюс” и парочку намеков, но более чем осторожных. Понимаете? Только предварительно пришлите мне – подумаем, так сказать, вместе. Это очень, очень важно!
Терпение, мой друг!»
* * *
Для встречи «ревизора», чье явление было как раз приятнейшим для чекистов, все было готово. Конспиративная дача как нельзя лучше соответствовала статусу таинственной и могущественной организации. Шешеня, осознав, что вымолить прощение можно только исключительно чистосердечной службой, рьяно взялся исполнять свою роль. Фомичеву было решено приготовить и сюрприз: встречу с самым настоящим контрреволюционером. Профессор Исаченко возглавлял одну из тайных монархических организаций и уже давно должен был быть арестован. Но Артузов, подобно Плюшкину, берег в своем хозяйстве даже ржавый гвоздь. Его план был чрезвычайно прост и эффективен: во время встречи демократ Фомичев и монархист Исаченко неизбежно переругаются на почве реализации планов по спасению Родины. Таким образом будет укреплена вера посланца из Варшавы, что «Либеральные демократы» – единственные возможные союзники Савинкова в красной России.
Все так и вышло. Уже через 15 минут переговоры перешли на повышенные тона, а участники стали обмениваться взаимными оскорблениями. В результате Фомичев с высоко поднятой головой покинул «зал заседаний», обвинив Исаченко в полном непонимании исторических и политических процессов, произошедших в России в последние годы. После чего спокойно отправился на заседание объединенного центра «Либеральных демократов» и савинковцев, а профессор – во внутреннюю тюрьму на Лубянку, где, по всей видимости, был вскоре расстрелян.
Фомичев к восторгу чекистов сам завел разговор о том, что нужно объединять усилия в борьбе с ненавистными Советами. Представители «Либеральных демократов» для вида изобразили мучительные сомнения, но вскоре согласились. Поставив, правда, одно немаловажное условие: это должен быть только первый шаг. Им необходимы политические консультации с Савинковым – и желательно личные, а не путем переписки и с использованием многочисленных посредников. Довольный удачно завершенными переговорами Фомичев отбыл в Варшаву.
Философов, получив отчет «ревизора», остался настолько доволен ходом дела, что забыл проинформировать Савинкова. Лидер Союза защиты Родины и свободы узнал о московских договоренностях совершенно случайно и, понятное дело, был взбешен. В гневной отповеди «варшавским сепаратистам» он указывал, что сам будет решать, что важно, а что нет. И если подобное повторится впредь – заменит всех местных руководителей союза. Наконец получив содержательный отчет о встречах Фомичева с руководителями «Либеральных демократов», бывший террорист взял время на раздумье. Он понимал, что эта организация действительно существует и с этим надо считаться. Но еще лучше он осознавал, что проводить политические консультации на расстоянии – верх авантюризма, который он себе позволить не может. В этой ситуации, поскольку сам он в Россию пока не собирался, выход был только один: принять представителя организации в Париже. Если «Либеральные демократы» – все же провокация чекистов, то он как опытный подпольщик ее раскроет. А если все чисто, то можно будет начать объединительный процесс уже на серьезном уровне и готовить собственный переезд в Россию. И пока в Москву шло письмо о готовности Савинкова к переговорам во Франции, сам бывший эсеровский террорист внимательно перечитывал программные документы «Либеральных демократов». В архиве ФСБ России хранится первый вариант, написанный Федоровым. На нем есть пометки Артузова, Пузицкого и Менжинского, свидетельствующие о том, с какой тщательностью чекисты готовили эту операцию:
«Общие обстоятельства, объясняющие появление в России новой контрреволюционной организации “Либеральные демократы” (“ЛД”)
Признание, что Советская власть укрепляет свои позиции в России.
(Пометка на полях Артузова: Не только в России, но и в международном мире. Необходимо привести подтверждающие это факты.)
Основные классы населения – пролетариат и крестьянство – получили от Советской власти немалые выгоды, льготы и гарантии. Так, например, почти полностью ликвидирована безработица в промышленности. На глазах у рабочих происходит заметное расширение производства. На свое жалованье рабочий может вполне прилично жить. Нэп насытил внутренний рынок всем необходимым. Крестьяне получили землю и безраздельно ею владеют. Кроме того, русские крестьяне впервые видят уважительное к себе отношение.
Можно сколько угодно говорить и писать о грабительском смысле продналога, но факт состоит в том, что этот налог тяжел только для богатых крестьян.
Вот почему, когда большевики говорят, что в стране ликвидируется социальная база для контрреволюции, – это и правда, и неправда. Для нас важно выяснить, в чем неправда.
Возникновение организации “ЛД”
Тайная организация “Либеральных демократов” (“ЛД”) возникла в среде старой интеллигенции как одно из конкретных выражений ее антисоветской позиции. В ней Савинков увидит и достоверные приметы известных ему антисоветских настроений интеллигенции и нечто новое – то, что эта организация очень серьезно задумана, хотя руководство ее и не лишено некоторой наивности, так свойственной русской интеллигенции. Он увидит, что организация родилась в муках, но естественно и живет в среде, ее породившей.
(Пометка Артузова на полях: Вместо “живущая” надо написать “действующая” – пусть думают, что “ЛД” уже что-то делает, а не только наполняет силы.
Ввиду того что в данных “ЛД” использован опыт подлинных контрреволюционных групп интеллигенции в самых разных местах России, у Савинкова должно сложиться впечатление, что “ЛД” массовая и глубоко разветвленная контрреволюционная организация.)
Руководство “ЛД” продолжает считать главной своей задачей дальнейшее накопление сил и в этом смысле располагает неограниченными резервами. И если руководство “ЛД” решает обратиться к помощи извне, то только по причинам, которые изложены ниже.
(Пометка Пузицкого: Следует сказать, откуда у организации средства. Я думаю, можно назвать такие источники: добровольные взносы членов организации, персональные пожертвования, сдача личных ценностей и другие способы сколачивания средств, известные нам по подлинным организациям.)
Перед лицом исторических событий
Проста и каждому ясна программа “ЛД”: интеллигенция – это известно всем – соль и ум своего народа. Коммунисты этого не признают. В ответ интеллигенты не признают коммунистов и объявляют им непримиримую борьбу.
Пока мы только накапливали силы и это считалось главным делом, члены “ЛД” говорили о себе: мы “накописты”. В накапливании сил достигнуто немало. Наконец, “ЛД” может гордиться и всей массой организации, между тем в организации весьма пестрый состав. Но пестрота состава нисколько не мешала единству организации вокруг главной политической программы.
(Замечание Менжинского на полях: Здесь нужно показать, что сделала “ЛД” в осуществлении своей программы, кроме того, что она накапливала силы. Надо дать какие-то чисто интеллигентские примеры, вроде помощи в устройстве на приличную работу членов “ЛД” или материальной поддержки особо бедствующих членов “ЛД”. И еще парочку таких же деляческих занятий, говорящих, однако, Савинкову о том, что у организации есть и деньги, и всякие другие возможности.)
Но, видимо, неизбежным было возникновение в свое время у наиболее нетерпеливых членов “ЛД” мысли, что-де пора от накопления сил перейти к действию. Это еще не был политический раскол организации, ибо мысль эта о действии не имела необходимой поддержки в самой организации. А в центральном комитете эту мысль поддержал только один человек (Мухин А. П.). Однако позже выяснилось, что мысль о переходе от накопления сил к действию заразительна, или, точнее сказать, соблазнительна, особенно для людей, столь много переживших, претерпевших и еще продолжающих страдать от большевиков. Так наряду с “накопистами” в “ЛД” появились “активисты”.
И к настоящему моменту вопрос о действии приобрел настолько широкую популярность в организации, что мы вынуждены были приступить к его обсуждению.
(Пометка Пузицкого: Нужно уточнить для Савинкова, что обсуждение велось только на уровне высшего руководства и организация о нем не извещена.)
В возникших спорах истина не родилась. В них возникли и остались нерешенными такие, например, вопросы:
а. Какую обстановку внутри России и в международном масштабе руководство “ЛД” считает объективно идеальной для своего решающего выступления против большевиков?
б. Что подразумевается под понятием “решающее выступление”? Восстание? Дворцовый переворот? Террористические акты? Диверсии? Саботаж?
в. “ЛД” и зарубежные контрреволюционные силы. “ЛД” и европейские страны. А Америка?
(Замечание Артузова: Пункт “в” лучше сформулировать так: “Как “ЛД” реагирует, если в момент решающего выступления, и в частности в момент напряженного положения, Запад предлагает “ЛД” свою помощь?”)
Из этих проблем некоторая ясность есть только по последним двум: учитывая печальный и кровавый опыт прошлого, “ЛД” категорически отказывается от помощи иностранных государств, от иностранной интервенции в особенности; “ЛД” отказывается и от помощи зарубежной русской контрреволюции, ибо считает монархию еще большим злом для России, чем большевизм. В этом отношении вопрос стоит так: или “ЛД” действительно та реальная сила, которая может однажды взять власть в свои руки и построить демократическое государство XX века, или “ЛД” жалкая марионетка в руках иноземных генералов, без которых она оказывается бессильна. Это руководству “ЛД” ясно. И все же, как уже сказано выше, споры вокруг программы действия ни к чему не привели.
Если не считать, что теперь за переход к действию голосуют два члена ЦК. Кроме того, споры не содействовали единству организации, ибо, как конспиративно все это ни обсуждалось, сведения о разногласиях среди руководителей просочились в организацию.
Отсутствие ясности в вопросах действия следует объяснить еще и тем обстоятельством, что в руководстве “ЛД” нет ни одного человека с опытом политического деятеля. “ЛД” даже систему конспирации организовала сама, и, кстати, заметить, сделала это неплохо – в “ЛД” не было до сих пор ни одного провала. Но “активисты” правы в том отношении, что как бы “ЛД” хорошо ни законспирировалась, а надо готовиться к открытому сражению за власть, за изменение государственного строя в России. Действительно, как ни отодвигай это, однажды это надвинется неотвратимо, и, если к этому не готовиться, можно в решающий момент оказаться бессильными даже совладать с имеющимися у организации силами. Это не парадокс, а реальная ситуация, сознаваемая уже всеми членами ЦК “ЛД” как серьезная и насущная проблема, однако для большинства членов ЦК эта проблема чисто теоретическая.
Так или иначе, именно в этой ситуации родилась идея получить политическую консультацию у известных находящихся за границей русских политических деятелей. Речь шла о таких деятелях, как Чернов, Савинков и Керенский. В результате обсуждения признана наиболее желательной фигура Савинкова. Но руководители “ЛД”, если решат вступить с ним в консультативные переговоры, считают своим долгом откровенно сказать, в чем были сомнения и в отношении фигуры Б. В. Савинкова. Вся его прежняя деятельность – имеется в виду его борьба против царизма как террориста и как участника боевой организации эсеров – вызывает у руководства “ЛД” уважение, но оно же считает необходимым прямо сказать, что у него никогда не будет пользоваться одобрением то, что делал Б. В. Савинков с момента падения русской революции в октябре 1917 года, имея в виду и его попытки организовать военное подавление революции, и вызванное им бессмысленное кровопролитие в Ярославле, Муроме и других местах России, и, конечно, организацию им поддержки из-за границы монархической белой армии, и вообще его ставку на иностранную интервенцию.
Создатель советской контрразведки А. Х. Артузов
И все же руководство “ЛД” считает Б. В. Савинкова сейчас единственным политическим деятелем, к которому оно может обратиться за советом, честно предупредив его о плюсовом и минусовом отношении членов ЦК “ЛД” к его деятельности, начиная с того, что руководство “ЛД” решение об этом обращении за советом к Б. В. Савинкову принимает пятью голосами против трех».
Глава 5 В незримой паутине
Теперь, согласно плану чекистов, в Париж на встречу с Савинковым должен был ехать лично Федоров (Мухин). Безусловно, он волновался, понимая, какой опытный и опасный соперник ему противостоит. Но он не знал тогда самого главного: Савинков все еще не очень-то верил в существование «Либеральных демократов», подозревая провокацию Лубянки. И он решил устроить Федорову настоящую проверку. К нему в гостиницу пришел сам полковник Сергей Павловский, один из ближайших помощников Савинкова. Человек отчаянной храбрости, лихой кавалерист, способный с одного удара шашкой разрубить человека пополам, он любил повторять, что нет такой тюрьмы, из которой нельзя было бы убежать. И это не было пустой бравадой. В его жизни были и тюрьмы, и побеги. Сам он на одном из допросов на Лубянке впоследствии расскажет о себе:
«Примерно в августе-сентябре 1917 года я служил во втором Павлоградском полку на должности старшего офицера эскадрона. В это время началось разложение царской армии и появилось выборное начало в армии. Так как я был противником выборного начала, я решил уйти из армии и приехал в Новгород, где жили мои родные.
С началом белого движения я, как сторонник такового, решил переехать во вновь формировавшуюся Северо-Западную армию и прибыл в Псков в октябре 1918 года. Явившись в штаб, я записался в армию и был назначен военным приставом Пскова, где, пробыв несколько дней и будучи в принципе несогласным с этой должностью, я попросил своего перевода в строевую часть и был назначен рядовым в одну из рот. Когда армия стала отступать от Пскова, я вышел из армии и находился в Риге. Из Риги я бежал к эстонцам, где просидел в тюрьме три с половиной месяца, будучи обвиненным в коммунизме. Мотивировали они это обвинение в силу того обстоятельства, что я находился в Риге в период пребывания там советской власти. По освобождении из тюрьмы я прибыл в штаб генерала Родзянко, откуда был назначен в отряд подполковника Балаховича. С этим отрядом я находился вплоть до занятия им Пскова, сперва в качестве рядового, а затем я был назначен начальником сводного отряда, состоявшего из кавалерии и пехоты. Пробыв в Пскове примерно около четырех дней, я был назначен представителем Северо-Западной армии в Ковно, где я пробыл около двух месяцев. Когда я вернулся в Псков по вызову генерала Юденича,[5] в это время начались трения между генералами Юденичем и Балаховичем на почве желания каждого из них взять верховную власть в свои руки. Во время этих трений я снова попал в тюрьму по распоряжению генерала Юденича как сторонник Балаховича. В тюрьме я пробыл около трех месяцев и затем бежал из тюрьмы в Эстонию.
Прибыв в Юрьев зимой 1919 года, я попал в отряд Балаховича и с этим отрядом в должности командира батальона пробыл вплоть до ликвидации этой армии. Как раз в это время по распоряжению Балаховича должен был быть арестован Юденич. Арестовывать его поехали генерал Балахович, ротмистр Галкин, капитан Смирнов, я и еще несколько человек. Прибыли мы в Ревель. Через день по прибытии нашем в Ревель я и поручик Савельев были арестованы эстонцами, узнавшими цель нашего приезда, а генерал Юденич был арестован Балаховичем и довезен до местечка Тайс, куда прибыла английская военная миссия, освободившая Юденича, а Балахович вместе с остальными офицерами бежал в свой отряд в Мариенбург, откуда он эвакуировался в Польшу; я же вместе с поручиком Савельевым был заключен в лагерь Алек. Пробыв в лагере семь с половиной месяцев, я бежал вместе с капитаном Савельевым и восемью коммунистами, сидевшими в лагере; я – в сторону Ревеля, а они – в советскую миссию.
Придя в Юрьев, где я пробыл один день, я перебрался в Ригу летом 1920 года. В Риге я встретился с полковником, бывшим в то время представителем от русской армии в Польше. По его распоряжению я был эвакуирован в Варшаву в распоряжение штаба армии. По прибытии в Варшаву я был назначен в Народно-добровольческую армию генералом Балаховичем на должность начальника группы и через три дня отбыл на фронт в местечко Владав. Пробыв во Владаве одну ночь, я пошел вместе с наступающей армией. После взятия мною деревни (названия не помню) я был отозван из группы и получил назначение командира полка. Вскоре после этого началось наступление на Пинск, где был расположен штаб Красной армии, вернее говоря, имущество и все учреждения штаба. Из Пинска армия пошла в наступление в район Давид-Городок – Туров, и я был назначен начальником авангарда.
Красная армия отступила, и мы продвинулись до местечка Турова. Сзади нас шла польская армия, которая, дойдя до линии Турова, остановилась. В Турове мы тоже остановились, и началось переформирование армии. Из Турова я уехал в Пинск и хотел ехать в Варшаву и отпуск. В вагоне познакомился с Борисом Викторовичем Савинковым, ехавшим на фронт. Савинков вернул меня обратно в Пинск, говоря, что теперь не время ехать в отпуск, что армия в скором времени перейдет в наступление. Им же было приказано через генерала Балаховича отбыть в Туров, где ждать дальнейших приказаний штаба армии.
Через два дня по моем прибытии в Туров прибыли Балахович и Савинков. Армия к тому времени закончила свое переформирование и в скором времени перешла в наступление по направлению Мозырь – Речица. Я был назначен начальником правой группы осенью 1920 года, в ноябре месяце. С одним боем мы продвинулись до Мозыря. Савинков тоже находился с моей группой, вплоть до Мозыря. Не доходя до Мозыря, нами было взято до пятисот пленных, из которых тут же, на месте, был сформирован Мозырский полк с прежним комсоставом. Пробыв в должности начальника группы до занятия Речицы, мы были окружены четвертой и шестнадцатой Красными армиями и, потеряв одну пушку и до восьмисот человек из двух с половиной тысяч, мы пробились к польской границе, где и были интернированы. Вместе со всей группой я был помещен в лагерь Радом, где я заболел тифом, а по выздоровлении поехал в Варшаву, удрав из лагеря…»
Именно Павловский был первым человеком в окружении Савинкова, кто заподозрил в «Либеральных демократах» провокацию ОГПУ. Присутствуя на встрече Савинкова и Федорова, он потом сказал своему вождю: «Борис Викторович, ему нравятся успехи большевиков». Савинков тогда только отмахнулся. Ему очень хотелось верить, что в России действительно существует тайная антикоммунистическая организация, которая видит своим вождем его и только его. Но доверяя – проверяй.
После предательства Азефа эти слова стали одним из жизненных принципов Савинкова. Именно поэтому он и поручил Павловскому проверить гостя из Москвы. Полковник выполнил приказ в свойственной ему манере. Явившись среди ночи в гостиницу, он, угрожая пистолетом, стал требовать от Федорова признания, что тот является чекистом.
Однако один из лидеров «Либеральных демократов» на провокацию не поддался. Готовясь к этой поездке, он изучал биографии и привычки всех ближайших помощников Савинкова. А потому знал: Павловского всегда выдавал его бешеный взгляд. Когда его зрачки сужались – ничего хорошего ждать не следовало. А в ту ночь полковник был на удивление спокоен. Поняв, что это провокация, Федоров схватил листок бумаги и написал письмо Савинкову:
«Господин Савинков! Я совершил самую страшную в своей жизни ошибку, оказавшись инициатором связи с Вами. По-видимому, большинство моих коллег, говоривших о деградации Вашего движения, знали Вас и Ваших соратников лучше, чем я. Глубоко сожалею об этом. Да здравствует свободная Россия и да получит она достойного ее вождя!»
Павловский, не читая, взял письмо, положил его в карман плаща и вышел из номера. А на следующий день Савинкову пришлось извиняться за поведение своего друга. Тогда Федоров и спровоцировал ссору. Напомнив Савинкову о деле Азефа, он еще раз показал, что в руководстве «Либеральных демократов» находятся трезвые политики. Бывший эсеровский террорист был вынужден молча проглотить такой болезненный для него упрек. В тот момент он, видимо, окончательно убедился, что антибольшевистская организация в России существует. И терять связь с ней он не хотел. Ради этого пришлось поступиться даже болезненным самолюбием.
* * *
Стремясь загладить свою вину за ночной инцидент в гостинице, Савинков пообещал Федорову уже в ближайшие дни отправить в Москву одного из своих самых близких помощников. Сам он пока ехать не мог, накопилось много дел, поэтому его отлучка из Парижа исключена, а его соратник в России сможет решить все вопросы.
Он заранее знал, кого отправит в Москву. Кроме Павловского, в таком сложном деле довериться он никому не мог. Полковник должен был нелегально перейти границу (незачем «Либеральным демократам» знать, кто именно и когда приедет на переговоры), проверить работу Шешени и Зекунова и, если все будет нормально, провести переговоры с Федоровым и его коллегами.
Однако план не сработал. Нет, Павловский благополучно (если не считать убийства красноармейца) перешел границу. Но в Москву не торопился. Вместо этого из старых соратников сколотил банду и занялся экспроприацией. То есть грабежами банков. Попутно убивая коммунистов. Лишь через неделю, почувствовав, что на него начинается охота, он отправился в столицу.
Там он недолго гулял на свободе. Уже через два дня Павловского арестовали во время встречи с Шешеней и лидерами «Либеральных демократов». Его доставили во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке. Только там полковник вышел из ступора, вызванного внезапными роковыми переменами в его жизни, и обрел столь характерную для него ярость. Но ни шашки, ни нагана у него под рукой не было. А кидаться на стены вскоре наскучило. Он решил дождаться первого допроса, чтобы понять, что нужно чекистам. Ему необходимо было тянуть время, обдумывая план побега. Однако реальность оказалась для Павловского хуже кошмара.
Допрос начался с того, что ему дали ознакомиться с одним документом. Бегло взглянув на заголовок, он понял: спасти его от расстрела теперь может только чудо:
«Перечень преступлений Павловского С. Э., предъявленный ему в порядке подготовки к допросу:
Примечание. Преступления перечисляются не по степени их важности, а по времени их совершения. В перечне приводятся только те преступления, в которых установлено личное участие Павловского С. Э.
1918 год. 1. Участие в казнях группы большевиков (одиннадцать человек), повешение их на фонарных столбах в городе Пскове, в бытность там военным комендантом (приставом). У одного из казнимых оборвалась веревка. Павловский приказал ему самому связать веревку и повеситься, и, когда тот приказа не выполнил, Павловский, умышленно не нанося сразу смертельной раны, произвел в обреченного несколько выстрелов.
2. Там же и в то же время. Расстрел пятерых милиционеров. Обреченных по одному подводили к Павловскому, который производил выстрел в живот, после чего сообщники Павловского добивали жертвы.
3. Там же, в то же время. Убийство путем выстрела в лицо доктора по детским болезням Дорохова, только за то, что последний назвал разбоем выбрасывание детей из больницы.
4. Там же, в то же время. Изнасилование, а затем зверское убийство 17-летней дочери заведующего школой Смирнитского.
1919 год. При бегстве из РСФСР в Польшу – убийство милиционера Руднянского уезда Смоленской губернии Скабко, по чьим документам и в чьей казенной форме в дальнейшем Павловский проследовал до границы.
1920–1922 годы. Участие в бандитском походе из Польши в Западный край с армией Булак-Балаховича. (Детализация будет произведена в ходе следствия.)
Создание С. Э. Павловским собственной банды из савинковцев, руководство ею во время рейда по Белоруссии и Западному краю, соответственно – полная ответственность за все тягчайшие преступления названной банды. (Полная детализация будет произведена в ходе следствия.) Ниже приводятся наиболее значительные, среди тягчайших, преступления:
а. Банда С. Э. Павловского, ворвавшись в город Холм, пыталась его захватить, но встретила стойкое сопротивление местного гарнизона, на что ответила чудовищными зверствами над населением захваченных бандитами кварталов. Общее число убитых примерно 250, раненых – 310.
Отступая от города Холма в направлении Старой Руссы, банда Павловского захватила город Демьянск, где учинила изуверскую расправу над коммунистами, активистами советской власти и комсомола, а также беспартийным населением. Общее число убитых – 192.
Отступая к польской границе, банда С. Э. Павловского остановилась в районе корчмы, принадлежащей гражданину Натансону. Здесь Павловским была изнасилована его пятнадцатилетняя дочь Сима.
б. Второй рейд банды Павловского. Захват и зверское убийство молодежного отряда ЧОН в районе города Пинска. Четырнадцать чоновцев сами рыли себе могилы под собственное исполнение пролетарского гимна, после чего сам Павловский разрядил в чоновцев пять обойм маузера.
Между Велижем и Поречьем, в селе Карякино, по приказу Павловского был изувечен и повешен продработник, член РКП Силин. На груди у него была вырезана звезда.
Ограбление банков в уездных центрах Духовщина, Белый, Поречье и Рудня.
в. Третий рейд банды Павловского. Налет на пограничный пост у знака 114/7, зверское убийство на заставе спавших после дежурства красноармейцев в числе 9 человек, повешение жены коменданта заставы, находившейся в состоянии беременности на восьмом месяце. При отходе за границу угон скота, принадлежавшего местному населению.
Ограбление банка в Велиже. Попытка ограбления банка в Опочке, сожжение живьем директора банка Хаймовича.
г. Во время нахождения на территории Польши – подготовка отдельных диверсантов и террористов, а также банд и засылка таковых через границу на советскую территорию.
д. Разделение ответственности за все тяжкие преступления, совершенные против советской власти и советского народа антисоветским СЗРиС, возглавляемым Б. Савинковым…»
Павловского мучил только один вопрос: кто мог собрать все эти данные для чекистов? Он судорожно пытался найти в списке хоть одну неточность, которая позволила бы ему выиграть время. И он ее нашел: спящих пограничников убивал поручик Иванов. Но не потому, что Павловский тогда проявил гуманность к пленным. В этот момент он насиловал женщину…
Однако Артузов быстро разгадал нехитрую игру полковника. И сразу объяснил ему диспозицию: или он добровольно помогает следствию, а суд это учтет, или без долгих разговоров становится к стенке, которую он трижды заслужил. После недолгих раздумий Павловский согласился работать с чекистами. Благо и требовалось от него немного. Для начала написать письмо Философову. Что полковник и сделал под диктовку чекистов:
«Дорогой дедушка! Вместе со всеми и Вы, должно быть, дивитесь, что от меня столько времени нет никаких писем, но Вы должны понимать, что приходится ждать оказии, так как обычная почта существует не про нас.
Пока я все время нахожусь в Москве и считаю это полезным для нашего дела. Не считая себя, как Вы знаете, склонным ко всяческой политике, я все же вижу, что мы здесь выглядим хуже, чем могли бы выглядеть. Но нельзя требовать от гуся, чтобы он исполнял обязанности лебедя.
А дело перед нами лебединое. Конечно, слава Леониду, что он открыл этот великий источник, но все же истина в том, что не мы шли к нему, а он пробивался к нам, испытывая в нас острую надобность. И только этим следует объяснить, что уже столько времени источник покорно идет по руслу, которое мы ему предоставили, хотя имеет он право на русло куда более широкое и глубокое.
Я делаю что могу для углубления русла, встречаюсь с людьми, которые руководят “ЛД”, пытаюсь дать им понять, что у нас есть уровень куда повыше того, который они видят в Леониде. Но я трезво сам знаю, что и я никогда не славился способным вести политику. Тем не менее я вижу, как они льнут ко мне, стараются видеться именно со мной и говорят мне гораздо больше и более доверительно, чем Леониду. Объективно замечу, что Леонид сам не задается и довольно трезво оценивает свои возможности и сейчас, когда я сел писать это письмо, просит меня передать вам и его просьбу – чтобы сюда приехал человек достаточно авторитетный для здешней ситуации. А меня он пока что просто умоляет быть возле него и продолжать работать на дело нашего контакта с “ЛД”. Однако я поступлю иначе. Я отыскал своих близких родственников на юге России, Аркадий Иванов уже там, и все они зовут меня приехать, чтобы сделать великолепный экс[6] для нашего общего дела. Так что в самое ближайшее время я выеду туда. Хотя мне очень хотелось бы ехать совсем в другую сторону и повидать всех вас. Но если бы я это сделал, то только для того, чтобы взять кого-нибудь из вас за шкирку и притащить сюда, где совершаются конкретные и большие дела или, во всяком случае, назревают. Честное слово, у вас там уже пропала вера во все светлое – по себе это знаю, когда существовал в ваших непролазных болотах. А здесь ведь находится тот самый народ, которому мы без устали клянемся в верности, и именно поэтому здесь атмосфера действия и свежего воздуха. Одновременно я пишу письмо отцу, и пишу о том же.
Работы здесь непочатый край. И собаки на деревне совсем не такие злые и хорошо дрессированные, как мы это себе представляли на расстоянии и веря некоторым нашим информаторам. Давно не писал таких длинных писем, но когда есть о чем писать, пишется незаметно.
Примите, дедушка, мой сердечный привет, Серж».
* * *
Еще в Париже Савинков обговаривал с Павловским возможность его ареста. Ас подпольной работы прекрасно понимал, что если его верный Серж попадет в руки чекистов, сообщить об этом будет крайне сложно, если вообще возможно. Поэтому был придуман простейший способ дать сигнал о работе под контролем: в любом предложении не поставить точку. Однако Павловский все испортил сам: слишком уж настойчиво он начал интересоваться у чекистов, не боятся ли они, что Савинков каким-нибудь образом узнает о том, что полковник арестован Лубянкой. Поэтому когда ему поручили составить письмо в Париж, написанный текст внимательно изучили опытные графологи и шифровальщики, которые без труда обнаружили условный сигнал. Павловскому рекомендовали писать внимательно, ставя все знаки препинания. В тот момент он понял: шансов сообщить Савинкову, что он арестован, а значит, и надежды на спасение почти нет. Придется выполнять требования чекистов. И Павловский, скрипя зубами от бешенства, снова сел писать письмо в Париж:
«Дорогой отец, здравствуйте. Трудно выразить, как я благодарен Вам за доверие, выразившееся в этой моей поездке, куда Вы лично меня снарядили. Благодарен я, кроме всего, еще и за то, что этой поездкой вы вернули мне веру. Последнее время я был близок к запою от сознания своей бесполезности. Да и только ли своей, извините меня, отец! Но я солдат, и Вы знаете, как я верен знамени. Так вот – посылка меня сюда спасла меня от глупостей. Мои дряблые мышцы снова наполнены кровью и силой. Моя энергия бурлит во мне все требовательней и сильней. О, если бы мне Вашу голову и Ваше умение вести политическое дело и политическую борьбу!
Я не имею возможности изложить здесь доклад о том, что увидел и узнал. Я, между прочим, приказал Леониду подготовить такой доклад и отправить Вам со следующей оказией. Оказии не так часты, и он успеет достаточно полно все описать.
Вкратце дело обстоит так: открытие, сделанное Леонидом, сулит грандиозные перспективы. Но открытие сделано не потому, что Леонид вдруг стал гениальным провидцем (вы же это знаете лучше, чем я), а потому, что, попав сюда и начав действовать в пределах своих возможностей, он уже не мог не натолкнуться однажды на это, потому что это распространено широко, можно сказать – по всем этажам здешнего общества. Так что не столкнуться с ним где-то Леонид просто не мог. Но беда в том, что, столкнувшись и выяснив, кто и что, обе стороны объективно поняли, что они созданы друг для друга, а субъективно они почувствовали друг к другу чувства сложные и неодинаковые. Те, на кого наткнулся Леонид, увидели в нем то, что в нем есть, и не больше, – они ведь люди достаточно умные, во всяком случае образованные, интеллигентные и т. д. У них возникло естественное сомнение и даже тревога – можно ли серьезно доверяться на таком уровне? Понимаете? Леонид – надо отдать ему должное – весьма критически оценивает свои возможности в этой ситуации, не корчит из себя лишнее и доверие к себе завоевывает только одним – действием. Созданная им небольшая организация, которую он для них именует московской (на самом деле это просто ячейка, находящаяся в Москве), почти каждую неделю совершает дела, о которых город узнает, и иногда даже из большевистских газет. Это новым знакомым Леонида импонирует, так как у них как раз с действием дело обстоит из рук вон плохо. Я встречался с двумя лидерами: с тем, которого Вы знаете, и с другим, рангом повыше, по фамилии Новицкий. Между прочим, он сказал, что сталкивался с вами в семнадцатом, во времена Саши с бобриком (Керенского. – А. Г.).
Заодно хочу окончательно отвести наши сомнения в отношении приезжавшего в Париж представителя. И еще раз извиняюсь перед Вами за ту ночную проверку. Перед ним я извинился здесь. Да, он точно то, что Вы о нем знаете. И он находится в острейшем конфликте внутри своего ЦК с большинством, которое после его поездки к Вам, кстати, сильно уменьшилось. Они накопили колоссальные силы и теперь оказались перед дилеммой: или продолжать дальнейшее накопление сил, или прислушаться к ропоту масс, который слышен все яснее и сильнее, и начать действовать. (Мухин в своем ЦК выражает то, что есть в массах, и в этом его сила.) Но тут перед ними сразу встает вопрос: как действовать, что делать, за что объявлять борьбу? Новицкий у них авторитетнейшая фигура, профессор военной академии, крупный военспец (большевики недавно дали ему легковой автомобиль для личного пользования), но политик он никакой – это понял даже я. Да и Мухин, хотя он и ведет борьбу с инертностью и занимает, так сказать, активную позицию, как политический вожак он беспомощен. Так, например, он спрашивал у меня: как поставить народ в известность о том, чего мы добиваемся и какой хотим видеть Россию? А Новицкий сказал мне: мы способны перекрыть жизненные и военные артерии большевистской России, но что предпринимать дальше? Что настанет после этого? Так и сказал – настанет. Ей-ей, какие-то взрослые дети. От такого возраста и все их споры в отношении связи с нашим делом, о заграничной помощи и прочее. Но в этом вопросе, должен заметить, жать напролом нельзя, а поворачивать их обходным маневром некому. Я лично – пас. Скажу так: сплю и вижу Вас здесь. Тогда все их оговорки обсыплются, как шелуха, – настолько у них глубоко уважение к Вам и вашему политическому авторитету, а после приезда сюда Вани – и к вашей политической программе. К слову замечу – не преувеличивайте значения созданного здесь Ваней объединенного комитета действия. Авторитет этого органа для них находится в прямой зависимости от авторитета наших людей. Понимаете? Я сейчас вошел в комитет и делаю все, что в моих силах. Но и сил моих в этой области немного, и хочу я рвануть на юг, где объявились мои очень близкие родственники, вместе с которыми мы проведем несколько красивых и богато поставленных спектаклей, – здесь-то вот мои таланты и пригодятся.
Тоскую о Вас сильно и каждодневно. Но осмелюсь сказать Вам – главный плацдарм жизни и борьбы здесь. Крепко жму руку и до встречи.
Серж».
Это письмо было выстрелом в десятку. На Лубянке знали: Савинков никогда в жизни не поверит, что Павловский сможет предать. Или, работая под диктовку, не сообщить об этом. Так и случилось. Савинков лишний раз убедился: в Москве творятся серьезные дела, а он остался в стороне. Хотя именно ему сам Бог велел возглавить восстание против большевиков. Он понимал: больше тянуть нельзя. И если пока поездка в Россию – далекая перспектива, то начинать переговоры с «Либеральными демократами» необходимо уже сейчас. Как опытному политику Савинкову было ясно: еще немного – и антибольшевистская организация в Москве сочтет его дешевым популистом, неспособным на серьезные дела. Нужно было не допустить этого. Собственно, все благополучие Савинкова находилось в прямой зависимости от успеха взаимодействия с «Либеральными демократами». Он это прекрасно сознавал. Тем более что на этом настаивал еще один его соратник в Москве – Шешеня. Его письмо Савинков читал особенно внимательно, все же тот находился в России дольше всех. И именно ему вождь был обязан контактом с «Либеральными демократами»:
«Глубокоуважаемый Борис Викторович! Как Вам уже известно из моих прежних докладов, в Москве образовался так называемый московский комитет нашего союза, который ведет маленькую работу, будучи в то же время на поприще этой работы связан на обоюдных условиях с организацией “ЛД”, куда более крупной, чем наша. Об “ЛД” я Вам ранее писал. В отношении “ЛД” мы ставим себе задачей приобрести “ЛД” или завязать с ней самый тесный контакт. Если эти два положения не будут решены, то мы считаем возможным даже влиться в “ЛД”, где поставить себя как некоторую фракционную группку, дабы использовать возможности и средства “ЛД” для проведения в жизнь целей и идей нашего союза.
Должен указать, пока в “ЛД” было единогласие по тактике, то позиция ЛД-вцев была сильной. Обстановка, сложившиеся обстоятельства, характер сферы работы и т. п. – все это есть те, естественно, компромиссы, которые позволяют иногда выполнять на деле принципиальные решения, хотя они и бывают большинством изменены.
Теперь о некоторых вопросах стратегии и тактики. Смерть Ленина, дискуссия в РКП, признание большевиков иностранцами, внутренние и внешние политическое и экономическое положения большевиков создали у нас такую атмосферу, среди которой царят такие мнения (почти убеждения), что образовались две прямо противоположные одна другой группы, то есть правая и левая, накописты и активисты, и все это в вопросе дальнейшей тактики и действий.
Я – среди левых. Мы, левые, мотивируем свою активную тактику тем, что внутренний раскол в РКП внес резкую разногласицу в верхи РКП, в ряды Красной армии, вызвал большое возбуждение и раскол на разные лагеря среди партсостава и комсостава.
Признание Советской России иностранцами – показатель того, что у большевиков внутри России нет антибольшевистских политорганизаций, нет политических врагов, которые бы вели борьбу и смогли бы доказать иностранцам, что не вся Россия есть большевики, а есть и другая Россия, которая может столкнуть большевиков и прийти им на смену. Все это мы, активисты, ставили в основу своей тактики, как обстоятельства, которые нам диктуют выступления в ближайшее время. Активное выступление может нанести большевикам такой удар, от которого они или свалятся со своего Олимпа (Кремль), или будут медленно издыхать, а тут, конечно, надо только суметь их добить. Не так ли это, Б. В.? Результат зависит от Вашего мнения. Мое лично таково, как и остальных активистов: создавшееся положение действительно есть редкий и удобный случай для активного выступления, конечно руководимого борцами за идеалы революции, популярными и известными среди масс народа, в то же время опытными и сумевшими бы справиться с поднятым русским народом, направив его в известный момент, который учесть может только опытный в руководстве революционер, в определенное русло политической жизни страны. Принимая это все как основу своего мнения, я считаю тактику левых своевременной и прошу Вас, Б. В., разрешить это положение, дав свое резюме.
А правые, накописты, полагают так: все те политические и экономические положения, внутренние и внешние, Советской России, которые я указал выше, для левых это возможность к активному выступлению, для правых это только возможность для подпольной революционной работы, усилить организацию, укрепить ее и сделать еще более мощной.
Очень жалею, что не могу с Вами повидаться, так безумно хочется, но, к сожалению, не имею ни одного лишнего дня.
Шлю всем привет и желаю успеха в делах. Жду ответа. Ваш Леонид».
* * *
Савинков относился к той нередкой категории политиков, которым легче умереть, чем уйти в небытие. Он был насмерть отравлен собственной значимостью и своим участием в исторических процессах. Он не мог не продолжать активную деятельность, ведь только она сохраняла его на поверхности мутного потока бесчисленных спасителей Родины от большевиков. Тем паче эта деятельность находила горячий отклик в среде многих европейских лидеров. Да и не только. К примеру, деньги Савинков получал и от фонда, организованного Генри Фордом. Поэтому он прекрасно понимал: чтобы и дальше поступали средства, нужно демонстрировать на этой ярмарке тщеславия не вчерашние заслуги, а дела сегодняшние. Это вызывало необходимость сменить тактику борьбы с большевиками. Ведь человек, прижатый к стене, опасен вдвойне.
На Лубянке все это, безусловно, учитывали. Но, получив письмо Савинкова для лидеров «Либеральных демократов», не могли скрыть удивления. Бывший охотник за царскими сановниками, бывший министр Временного правительства, бывший доброволец армии Колчака советовал всем сделать ставку на итальянский фашизм. Конечно, в то время многие русские эмигранты видели в Муссолини ту единственную силу, которая способна не допустить проникновения большевизма в Европу.
Все это так. Но случай Савинкова – особый. Дело в том, что он задолго до написания этого письма общался с Муссолини, если это можно было назвать таким громким словом. Тот смотрел на Савинкова с исключительным презрением, никаких денег на борьбу с Советами не дал, а ограничился только тем, что подписал собственную книгу. Это было очень серьезным ударом по самолюбию.
В письме сестре он обозвал дуче фигляром от политики, забыв, что еще несколько недель назад восхищался им. И вот теперь в письме руководству «Либеральных демократов» он вновь воскресил свои симпатии к Муссолини:
«В моих глазах признание независимости окраинных народов является только первой ступенью. Последующим шагом должно явиться свободное соглашение всех государств Восточной Европы (в том числе даже Польши) – и образование Всероссийских Соединенных Штатов по образу и подобию Соединенных Штатов Северной Америки. К сожалению, такое единственно жизненное понимание будущего строительства России встречает сильную оппозицию со стороны других наших эмигрантских кругов. В частности, эсеры старой формации все еще думают, что учредительное собрание может продиктовать свою волю окраинным государствам и навязать им федерацию с Россией. Именно потому, что идея независимости Украины, Грузии, Белоруссии многим кажется покушением на “расчленение” России, необходимо наше решение национального вопроса подробно обосновать. Но это дело, разумеется, будущего. Если я сейчас останавливаюсь на этом вопросе, то только для того, чтобы потом не было недоговоренности между нами.
Теперь – о фашизме. Эсеровская пресса дурно понимает его. В нем нет элементов реакции, если не понимать под реакцией борьбу с коммунизмом и утверждение порядка. Фашизм спас Италию от коммуны. Фашизм стремится смягчить борьбу классов. Он опирается на крестьянство, он признает и защищает свободу и достояние каждого гражданина.
Не знаю как вам, но мне фашизм близок и психологически, и идейно.
Психологически – ибо он за действие и волевое напряжение в противоположность безволию и прекраснодушию парламентской демократии; идейно – ибо стоит он на национальной платформе и в то же время глубоко демократичен, ибо опирается на крестьянство. Во всяком случае, Муссолини для меня гораздо ближе Керенского или Авксентьева.[7] Так называемый империализм итальянских фашистов явление случайное, объяснимое избытком населения в стране и отсутствием хороших колоний, такое же случайное явление и сохранение монархии. Фашистское движение растет повсеместно в Европе, в особенности в Англии, и я думаю, что будущее принадлежит ему. Это не удивительно. Европа переживает кризис парламентских учреждений. Люди разочаровались в болтунах, не сумевших предотвратить войну и не умеющих организовать послевоенную жизнь. Фашизм не отрицает народного представительства, но требует от народных избранников не прекраснодушных речей, а действий и волевого напряжения. Парламент (у нас Советы) не должен мешать правительству в его созидательной работе бесконечными прениями и присущей всякому многолюдному собранию нерешительностью. Если за парламентом остается право контроля, то на него возлагаются и обязанности, он не должен быть безответственным и бездейственным учреждением. Керенским и Милюковым в фашизме нет места. Отсюда их ненависть к нему.
Но чтобы решить вопрос, по которому у вас возникли столь серьезные разногласия, надо быть на месте, а не здесь. Достаточно ли уже накоплено сил? Каково их количество? Какова степень их организованности и дисциплины? Какова окружающая среда? Каково общее положение? Я не могу ответить на эти вопросы. Добросовестность позволяет только поставить их. А ведь в ответах все дело. К сожалению, почта от вас ответов этих не содержит. “Эволюция” тут ни при чем, короткие удары тоже. И боже сохрани контактироваться с монархистами: уже не говоря о том, что гусь свинье не товарищ, они непременно и нарочно вас провалят. Я знаю это по опыту.
Очень хорошо, что возникают смелые планы. Это свидетельствует о росте и организации и настроений. Но лучше – “осторожнее на поворотах”. Лучше семь раз примерить и один раз отрезать. Говорю еще раз: для решения конкретного, чисто практического у меня нет достаточных данных, и я прошу подождать, если вы хотите считаться с моим мнением. Сейчас могу сказать только одно и как результат всей моей предшествующей работы: если организация выросла настолько, что в ее среде наблюдается непреодолимое активное настроение, надо, как я уже советовал, выделять людей с таким настроением в отдельные группы с точным посильным заданием и поставить их в такие условия работы, чтобы их провал не повлек за собой провала общего, всей организации в целом. Еще могу сказать: лучше даже и это сделать возможно позднее…»
Получив это письмо, чекисты убедились: Савинков крепко заглотил наживку. Теперь только роковая случайность могла сорвать операцию. Но она в планы Лубянки не входила…
Глава 6 Начало конца
Савинков был уже морально готов все бросить и отправиться в Россию – помогать «либеральным демократам» свергать большевиков. Однако он поставил условие: приехать за ним должен был лично Павловский. Подобный поворот дела категорически не устраивал чекистов. Они прекрасно понимали, что полковник спит и видит, как бы сбежать с ненавистной ему Лубянки и спасти своего вождя. Поэтому был придуман хитроумный план. Якобы Павловский, которого начало тяготить безделье в Москве, оставил все дела и уехал на юг России, чтобы устроить очередное ограбление банка. Во время экспроприации ценностей он был тяжело ранен в грудь и в пах. Врачи чудом спасли его жизнь, и, разумеется, в таком состоянии полковник не может приехать за Савинковым. Он и ходить-то не может. Говорит с трудом. Но короткое письмо написать сподобился, чтобы вождь не сомневался: все в порядке, произошла досадная оплошность:
«Наконец и я дождался того, что всегда случается после слишком большого везения.
Я всегда удивлялся – как это меня еще земля держит? Последняя торговая операция не удалась; мы понесли небольшие убытки. К счастью, особо тяжелых по качеству потерь мы не понесли, и ярмарка, я уверен в этом, пополнит наши временные убытки с лихвой. Одно мне неприятно – поездка на эту последнюю неудачную экспроприацию приковала меня к постели. Я заболел, начал было поправляться, но тут какое-то осложнение с сухожилием, и врач говорит, что придется проваляться долго. Такая бездеятельность еще хуже, чем соответствующая для меня смерть.
Все это очень печально, так как это не только нарушает мою работу здесь, но и не дает возможности ехать к вам лично…
Самое главное – страшно досадно, что я временно выбыл из строя и прикован к кровати в самое нужное время…
Все уж из состава главной конторы привыкли к этой мысли, и для дела Ваш приезд необходим. Я, конечно, не говорил бы этого, не отдавая себе полного отчета в своих словах.
И за Ваше здоровье и за успех торговли во главе с Вами я спокоен, а потому буду тихо лежать в постели, ощущая Вас здесь».
Савинков был шокирован. Казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Мысль о том, что с Павловским может что-то случиться, никогда не приходила ему в голову. Недаром же он с пафосом любил говорить: «У большевиков руки коротки дотянуться до таких боевиков, как мы с Сержем». Теперь вот выяснилось, что слова пророчеством не стали.
Он долго колебался, сначала решив, что «Либеральные демократы» – провокация Лубянки. Но быстро отогнал эту мысль. Взял себя в руки. И еще раз все тщательно обдумал.
Все письма членов Союза защиты Родины и свободы рисовали радужную картину. И он об этом не забывает. Каждый день, проведенный Савинковым не в России, усиливает сомнение в его полезности для антибольшевистского подполья в Москве. Он прекрасно понимает, что ни Павловский, ни тем более Шешеня ничего полезного для будущей победы над Советами не сделают. Рядовые исполнители, только и всего. А между тем вопрос свержения коммунистов – первоочередной для Савинкова. Ему известно, что его основные организации в России разгромлены. Хорошо хоть этого не знают те, кто дают ему деньги. Но могут ведь и узнать! Поэтому «Либеральные демократы» – панацея от всех возможных бед! Не говоря уже о том, что это прямая дорога на политический олимп…
Савинков не мог не принять столь нужное для Москвы решение: ехать в Россию. Больше терять время было нельзя. Напоследок он зашел поговорить с Владимиром Бурцевым, написал прощальные письма всем близким знакомым. В них не было предчувствия фатальной ошибки. Скорее наоборот – они были полны счастья от осознания того, что он едет бороться. Сопровождать его в этой поездке вызвался Александр Деренталь[8] вместе с женой Любовью. Она вела дневник, который и позволяет с удивительной точностью восстановить последние минуты жизни Бориса Савинкова на свободе:
«15 августа.
На крестьянской телеге сложены чемоданы. Мы идем за ней следом. Ноги наши вымочены росой. Сияет луна. Она сияет так ярко, что можно подумать, что это день, а не ночь, если бы не полная тишина. Только скрипят колеса. Больше ни звука, хотя деревня недалеко. Холодно. Мы жадно пьем свежий воздух – воздух России. Россия в нескольких шагах от нас, впереди…
Мы выехали в Россию по настоянию Сергея Павловского. Он должен был приехать за нами в Париж. Но он был ранен при нападении на большевистский поезд и вместо себя прислал Андрея Павловича и Фомичева.
Мы идем быстро, в полном молчании. За каждым кустом, может быть, прячется пограничник, из-за каждого дерева может щелкнуть винтовка. Вот налево зашевелилось что-то. Потом направо. И вдруг всюду – спереди, сзади и наверху – шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Звери и птицы…
Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак: утром разбилось зеркало и сегодня пятница – дурной день.
Мы идем уже больше часа, но усталости нет. Мы идем то полями, то лесом. Граница вьется, и мы мало удаляемся от нее. Но вот в перелеске тарантас и подвода. Лошади крупные…
До Минска нам предстоит сделать 35 верст.
Деревня. Лают собаки. Потом поля, перелески, опять поля, снова деревня. И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля – Россия, леса – Россия, деревни – тоже Россия. Мы счастливы – мы у себя.
Высоко над соснами вспыхнул красноватый огонь. Что это? Сигнал? Нет, это Марс. Но он сверкает как никогда.
Дорога скверная, в ямах. На одном из поворотов тарантас опрокидывается. Мы падаем…
16 августа.
На заре мы сделали привал в поле. В небе гаснут последние звезды. Фомичев объявляет со смехом:
– Буфет открыт, господа!
Он предлагает водки и колбасы. Мы бранили его за то, что он забыл купить хлеба.
Лошади трогаются. Вот, наконец, и дома. Приехали. Минск. Пригородные улицы пусты. Редкие прохожие оборачиваются на нас, хотя в Вильно мы оделись по-русски: мужчины в нашлепках, а я в шерстяных чулках и т. д. Мы идем, и кажется, что пригороду не будет конца: бессонная ночь внезапно дает себя знать…
Мы останавливаемся у одного из домов на Советской. Здесь мы отдохнем и вечером уедем в Москву. Поднимаясь по лестнице, я говорю:
– В этой квартире живет кто-нибудь из членов нашей организации?
– Да, конечно, – отвечает кто-то…
Я чувствую смутное беспокойство. Я присаживаюсь к столу. Приносят завтрак…
Вдруг с силой распахивается двойная дверь из передней:
– Ни с места! Вы арестованы!
Входят несколько человек. Они направляют револьверы и карабины на нас. Впереди военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках. Со стороны кухни тоже появляются люди. Обе группы так неподвижны, что кажется, что они восковые. Первые слова произносит Борис Викторович:
– Чисто сделано. Разрешите продолжать завтрак.
Красноармейцы с красными звездами на рукавах выстраиваются вдоль стены. Несколько человек садятся за стол. Один небольшого роста, с русою бородой, в шлеме располагается на диване рядом с Александром Аркадьевичем.
– Да, чисто сделано, чисто сделано, – повторяет он. – Не удивительно: работали над этим полтора года…
– Как жалко, что я не успел побриться, – говорит Борис Викторович.
– Ничего. Вы побреетесь в Москве, Борис Викторович… – замечает человек в черной рубашке с бритым и круглым спокойным лицом. У него уверенный голос и мягкие жесты.
– Вы знаете мое имя и отчество? – удивляется Борис Викторович.
– Помилуйте, кто же не знает их! – любезно отвечает он и предлагает нам пива…
Я говорю:
– Нас было пятеро. Теперь нас трое. Нет Андрея Павловича и Фомичева.
– Понятно, – говорит Борис Викторович.
– Значит… все предали нас?
– Конечно.
– Не может этого быть…
Но я должна верить Пиляру.[9] Он один из начальников ГПУ.
Все… Андрей Павлович… Фомичев… Шешеня… А Сергей? Сергей, наверное, уже расстрелян…
Я прошу разрешения взять из сумочки носовой платок. Мне отказывают. Но молодой военный приносит мне один платок.
Констатирую, что его только что надушили…
– Почему вы тотчас же арестовали нас, не дав нам возможности предварительно увидеть Москву? Мы были в ваших руках.
– Вы слишком опасные люди.
Нас обыскивают. В отношении меня эту операцию проделывает совсем молодая женщина. Она очень смущена. Чтобы рассеять ее смущение, я рассказываю ей о том, что делается в Париже.
Она вскоре возвратилась с моими вещами и даже двенадцатью долларами, которые нашли у меня зашитыми в складке моего платья.
Возвращаюсь в столовую.
Отъезд в Москву…»
На следующий день в газетах появилось правительственное сообщение:
«В двадцатых числах августа сего года на территории Советской России ОГПУ был задержан гражданин Савинков Борис Викторович, один из самых непримиримых и активных врагов рабоче-крестьянской России. (Савинков задержан с фальшивым паспортом на имя В. И. Степанова.)»
Из этого можно было сделать вывод, что легендарный террорист сам явился в СССР, где и был благополучно арестован контрразведчиками. Действительно, ошибки в этом никакой нет. Савинков перешел границу добровольно, но только спустя несколько лет станут известны причины, побудившие его на такой поступок. Тогда, в августе 1924 года, нельзя было раскрывать всех подробностей существования организации «Либеральных демократов», не говоря уже о деталях операции «Синдикат-2». Ведь в этот самый момент активно проводилась работа в рамках операции «Трест» и точные сведения о задержании Савинкова могли вызвать вполне резонные подозрения.
Заместитель начальника Контрразведывательного отдела ОГПУ Р. А. Пилляр
В Москве Савинкова прямо с Белорусского вокзала отправили в камеру-одиночку внутренней тюрьмы на Лубянке. С первым допросом не спешили. Чекистов прежде всего интересовало поведение Савинкова. Не впадет ли он в прострацию по примеру многих своих соратников? Признает ли свою вину перед партией большевиков? Пока же в газетах появилась короткая заметка:
«Арестованному в двадцатых числах августа Борису Викторовичу Савинкову в 23 часа 23 августа было вручено обвинительное заключение, и по истечении 11 часов, согласно требований Уголовно-процессуального Кодекса, в военной коллегии Верховного Суда СССР началось слушание дела о нем. Состав суда: председатель товарищ Ульрих, члены суда товарищи Камерон и Кушнирюк».
Савинков полностью оправдал самые смелые ожидания чекистов. На следствии он во всем сознавался, признавал свою вину, каялся, постоянно заявляя о своей любви к трудовому народу. К примеру, 21 августа 1924 года в собственноручно написанных показаниях он отмечал:
«Раньше чем отвечать на предложенные мне вопросы, я должен сказать следующее: я – Борис Савинков, бывший член боевой организации ПСР, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа и во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках. Как могло это случиться? Я уже сказал, что всю жизнь работал только для народа и во имя его. Я имею право прибавить, что никогда и ни при каких обстоятельствах не защищал интересов буржуазии и не преследовал личных целей. Будущее показало, что я был не прав во всем».
Глава 7 Встать, суд идет!
Схема избранного Савинковым способа защиты строилась на его блестящем умении вести полемику. Мол, да, всю свою жизнь я был за народ, а боролся только против большевиков. Но я всегда руководствовался убеждениями, которые мне диктовала совесть, а значит, как и все люди, мог заблуждаться. Чего было в этой позиции больше – хитрости и надежды на то, что он сможет обмануть чекистов, или той самой исключительной политической наивности, о которой столько рассуждал сам Савинков на примерах Керенского, Деникина и Врангеля? Склонен думать, что все же Савинков полагался на объективность суда. Почему-то ему вдруг поверилось, что красный террор остался далеко в прошлом, а ныне советский суд – вполне цивилизованный орган, который действует исключительно в рамках закона. Но уже после первых заседаний суда он понял, что обречен. Поэтому в своем последнем слове изменил тональность:
«Граждане судьи! Я знаю ваш приговор заранее. Я жизнью не дорожу и смерти не боюсь. Вы видели, что на следствии я не старался ни в какой степени уменьшить свою ответственность или возложить ее на кого бы то ни было другого. Нет! Я глубоко сознавал и глубоко сознаю огромную меру моей невольной вины перед русским народом, перед крестьянами и рабочими. Я сказал “невольной вины“, потому что вольной вины за мной нет.
Когда случился ваш переворот, я пошел против вас. Вот роковая ошибка, вот роковое заблуждение! Один ли я был в этом положении? И почему случилась эта ошибка? Скажу вам, был случай, может быть, заурядный случай, но этот случай сразу оттолкнул меня от вас. Да, я поборол потом в себе его, и я никогда не мстил за него, никогда в моей борьбе с вами он не играл роли, но вы поймете меня, когда я скажу, что он оттолкнул меня от вас, что он сразу вырыл пропасть. Случай этот был такой. У меня была сестра, старшая сестра; она замужем была за офицером. Это был тот единственный офицер петроградского гарнизона, который 9 января 1905 года отказался стрелять в рабочих. Помните, когда рабочие шли к Зимнему дворцу? Так вот это был единственный офицер, который отказался исполнить приказ. Это был муж моей сестры. Вы его расстреляли в первый же день, потом вы расстреляли и ее. Я говорю: никогда во время борьбы моей с вами я не помнил об этом и никогда не руководился местью за то личное и тяжкое, что пережил я тогда, но в первые дни это вырыло пропасть. Психологически было трудно подойти, переступить через эти трупы. И я пошел против вас…»
Спустя два месяца в савинковской газете «За Россию!», издававшейся в Варшаве, появилась крайне любопытная статья. Ее автором был один из видных членов Союза защиты Родины и свободы Пасманик. Как говорили в то время в Советском Союзе – злейший враг трудового народа, руки которого по локоть в крови рабочих и крестьян. И вот что он писал:
«Если он кого-нибудь обманывал, то лишь самого себя. Это мое глубокое убеждение, в этом разгадка савинковской трагедии, ибо, что ни говорили бы нынешние противники, мы присутствуем не при пошлом фарсе, а при тяжкой трагедии, прежде всего трагедии лжи. Теперь Савинков лжет, когда пишет в интимном письме из московской тюрьмы: “Весной 1923 года для меня стало ясно, что с красными бороться нельзя, да и не нужно”. Лжет, когда он в том же письме пишет: “Готового заранее решения я не имел”. Когда он решил ехать в Россию, его решение было определенное: ехать и бороться с большевиками до последней капли крови, до последнего издыхания.
Его последнее свидание – с В. Л. Бурцевым накануне его отъезда. И тогда шла речь о борьбе, а в случае неудачи – о смерти как о символе борьбы с большевиками.
Врал ли Савинков на суде? Фактически – да. Ну, хотя бы об истории расстрела его шурина. Да, фактически Савинков врал, но психологически он говорил под внушением элементарной идеи: “Я спасу свою жизнь для будущих дел”».
Перед судом, чтобы сохранить в секрете основные этапы операции «Синдикат-2», Савинкову настоятельно рекомендовали придерживаться в своих показаниях той версии, которая была изложена в правительственном сообщении об его аресте. Он с радостью согласился, считая, что помощь следствию послужит лучшим доказательством чистосердечности его раскаяния. При этом Савинков даже не задумывался о том, что таким поведением он плюнул на могилы всех своих соратников. Ведь никто из них никогда бы не поверил, что он будет говорить на суде: да, я по собственному желанию перешел границу СССР. Я разуверился в борьбе и решил капитулировать перед рабоче-крестьянской властью большевиков… Но даже это не помогло Савинкову. Когда судьи стали зачитывать обвинительный приговор, он пытался сохранять спокойствие. Но было видно, как тяжело ему это дается.
«Именем Союза Советских Социалистических Республик Верховный Суд СССР по Военной Коллегии в составе председательствующего Ульриха В. В., членов Камерона П. А. и Кушнирюка Г. Г., при секретаре Маршаке, в открытом судебном заседании 27, 28 и 29 августа 1924 года, в г. Москве, заслушав и рассмотрев дело по обвинению Савинкова Бориса Викторовича, 45 лет, сына чиновника, с незаконченным высшим образованием, при Советской власти не судившегося, бывшего члена боевой организации партии эсеров, а впоследствии руководителя и организатора контрреволюционных, шпионских и бандитских организаций, – в преступлениях, предусмотренных ст. 58 ч. I, 59, 64, 66 ч. I, 70 и 76 ч. 1 Уголовного кодекса РСФСР, – нашел судебным следствием установленным, что Борис Савинков:
1. С момента Февральского переворота до Октябрьской революции принадлежал к партии с.-р. и, разделяя программу монархиста генерала Корнилова, будучи комиссаром при командующем Юго-Западным фронтом, военным министром в кабинете Керенского, членом совета союза казачьих войск, активно и упорно противодействовал переходу земли, фабрик и всей полноты власти в руки рабочих и крестьян, призывая подавлять их борьбу самыми жестокими мерами и приказывая расстреливать солдат, не желавших вести войну за интересы империалистической буржуазии.
2. После перехода власти в руки трудящихся пытался в Петрограде поднять казачьи полки для свержения рабоче-крестьянской власти и после неудач бежал в ставку Керенского, где совместно с генералом Красновым активно боролся против восставших рабочих и революционных матросов, тем самым защищая интересы помещичье-капиталистической контрреволюции.
3. В конце 1917 и в начале 1918 г. принял активное участие в донской контрреволюции, став членом Донского гражданского совета, совместно с генералами-монархистами Алексеевым, Калединым и Корниловым, которых убеждал в необходимости вести вооруженную борьбу против власти Советов, помогал формированию так называемой добровольческой армии, которая до конца 1920 года, при поддержке англо-французских капиталистов, разоряла Украину, Донскую область, Северный и Южный Кавказ, помогая правительствам Антанты увозить хлеб, нефть и прочее сырье.
4. В начале 1918 года, явившись в Москву, создал контрреволюционную организацию “Союз Защиты Родины и Свободы”, куда привлек главным образом участников тайной монархической организации, гвардейских и гренадерских офицеров и своими главными помощниками сделал монархистов генерала Рычкова и полковника Перхурова, после чего обратился к генералу Алексееву – главе южной монархической контрреволюции – с донесением об образовании “СЗРиС” и просьбой дать руководящие указания. Организация, созданная Савинковым, имела своей целью свержение советской власти путем вооруженных восстаний, террористических актов против членов рабоче-крестьянского правительства, пользуясь материальной поддержкой и получая руководящие указания от французского посла Нуланса и чехословацкого политического деятеля Масарика.
5. Весной 1918 года, получив от Масарика при посредничестве некоего Клецанда 200 000 рублей на ведение террористической работы, организовал слежку за Лениным и другими членами Советского правительства в целях совершения террористических актов, каковые, однако, совершить ему, Савинкову, не удалось по причинам, от него не зависящим.
6. Получив разновременно весною 1918 года от французского посла Нуланса около двух с половиной миллионов рублей, в том числе одновременно два миллиона специально для организации ряда вооруженных выступлений на Верхней Волге, по категорическому предложению того же Нуланса, в целях поддержки готовящегося, по словам последнего, англо-французского десанта в Белом море, после неоднократных переговоров с французским атташе генералом Лаверном и французским консулом Гренаром, организовал, опираясь на офицерские отряды “СЗРиС”, при поддержке меньшевиков и местного купечества, в начале июля 1918 года вооруженные выступления в Ярославле, Муроме, Рыбинске и пытался поднять восстание в Костроме, оттянув тем самым значительные части Красной Армии, оборонявшей Казань и Самару от чехословаков и эсеров.
7. После ликвидации мятежей на Верхней Волге он, Савинков, бежал в Казань, в то время занятую чехословаками, и принял участие в отряде Каппеля, оперировавшем в тылу Красных войск.
8. В конце 1918 года Савинков принял предложение Колчака быть его представителем в Париже и в течение 1919 года, посещая неоднократно Ллойд-Джорджа, Черчилля и других министров Англии, получал для армий Колчака и Деникина большие партии обмундирования и снаряжения, а также, по поручению Колчака, для поддержки к.-р. движения,[10] находясь во главе бюро печати “Унион”, распространял заведомо ложную информацию о Советской России и вел печатную агитацию о продолжении дальнейшей вооруженной борьбы капиталистических государств с рабоче-крестьянским государством.
9. Во время русско-польской войны 1920 года Савинков, состоя председателем белогвардейского русского политического комитета в Варшаве, по предложению Пилсудского, за счет Польши и при полном содействии французской военной миссии в Варшаве, организовал так называемую “Русскую народную армию” под командой генералов Перемыкина и братьев Булак-Балаховичей, а осенью того же года, после заключения русско-польского перемирия, с ведома Пилсудского, лично принял участие в походе Булак-Балаховича на Мозырь.
10. В начале 1921 года, через так называемое Информационное Бюро Русского Политического Комитета, во главе которого стоял его брат Виктор Савинков, Борис Савинков организовал военно-разведывательную работу на территории Советской России, передавая часть получаемых сведений второму разведывательному отделу польского Генерального Штаба и французской военной миссии в Варшаве, получая за это денежные вознаграждения.
11. С июня 1921 года по начало 1923 года Савинков, став во главе восстановленного им “Народного Союза Защиты Родины и Свободы”, в целях поднятия вооруженных восстаний на территории Советской России, неоднократно посылал в западные пограничные губернии вооруженные отряды под командой офицеров Павловского, Васильева, Павлова и других, которые производили налеты на исполкомы, кооперативы, склады, пускали под откос поезда, убивали советских работников, а также собирали сведения военного характера для передачи польской и французской разведкам в Варшаве. Кроме того, отдельным лицам, как, например, полковнику Свежевскому, давались задания террористического характера, каковые, однако, выполнены не были.
12. В 1923 году, когда, после разгрома большинства организаций “Народного Союза Защиты Родины и Свободы”, денежная поддержка, получаемая Савинковым от Польши и Франции, сильно сократилась, он пытался получить средства от Муссолини.
13. В августе 1924 года, желая лично проверить состояние антисоветских и контрреволюционных организаций на территории Союза ССР, перешел по фальшивому документу на имя Степанова В. И. русско-польскую границу, но вскоре был арестован.
Таким образом, устанавливается виновность Савинкова:
1. В организации в контрреволюционных целях вооруженных восстаний на Советской территории в период 1918–1922 гг., т.-е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 ч. I Уголовного кодекса РСФСР.
2. В сношении с представителями Польши, Франции и Англии с целью организации согласованных вооруженных выступлений на территории Советской Федерации в 1918–1920 гг., т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. 59 Уголовного кодекса.
3. В организации в контрреволюционных целях в 1918 и 1921 гг. террористических актов против членов рабоче-крестьянского правительства, каковые акты, однако, совершены не были, т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 14 и 64 Уголовного кодекса.
4. В руководстве военным шпионажем в пользу Польши и Франции в течение с 1921 по 1923 год, т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. 66 ч. I Уголовного кодекса.
5. В ведении пропаганды в письменной и устной форме, направленной к поддержке выступлений иностранных капиталистических государств, в целях свержения рабоче-крестьянского правительства в 1919 году, т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. 70 Уголовного кодекса.
6. В организации банд для нападений на советские учреждения, кооперативы, поезда и т. д. в 1921 и 1922 гг., т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. 76 ч. I Уголовного Кодекса.
На основании изложенного Верховный Суд приговорил: Савинкова Бориса Викторовича, 45 лет, по ст. 58 ч. I Уголовного кодекса, к высшей мере наказания, по ст. 59 и рук. ст. 58 ч. I – к тому же наказанию, по ст. 64 и рук. 58 ст. ч. I – к тому же наказанию, по ст. 68 ч. I – к тому же наказанию, по ст. 76 ч. I – к тому же наказанию и по ст. 70 – к лишению свободы на 5 лет, а по совокупности – расстрелять с конфискацией всего имущества.
Принимая, однако, во внимание, что Савинков признал на суде всю свою политическую деятельность с момента Октябрьского переворота ошибкой и заблуждением, приведшим его к ряду преступных и изменнических действий против трудовых масс СССР, принимая далее во внимание проявленное Савинковым полное отречение и от целей и от методов контрреволюционного и антисоветского движения, его разоблачения интервенционистов и вдохновителей террористических актов против деятелей советской власти и признание им полного краха всех попыток свержения советской власти, принимая далее во внимание заявление Савинкова о его готовности загладить свои преступления перед трудящимися массами искренней и честной работой на службе трудовым массам СССР, Верховный Суд постановил ходатайствовать перед Президиумом Центрального Исполнительного Комитета СССР о смягчении настоящего приговора.
Председатель В. Ульрих. Члены Камерон, Кушнирюк. Москва, 1924 года, 29 августа, 1 час 14 мин.».
Сдается мне, во всей многовековой истории юриспруденции подобного приговора найти невозможно. Суд признает, что обвиняемый за все свои многочисленные дела за последние семь лет заслужил пять (!) смертных казней и еще пять (!) лет тюремного заключения. Про конфискацию имущества даже и вспоминать уже как-то неловко. И при всем при этом суд (!) просит верховную инстанцию даровать осужденному жизнь (!).
Но и это еще не самое удивительное. Просьба удовлетворяется!
«Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, рассмотрев ходатайство Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 29 августа, утром, о смягчении меры наказания в отношении к осужденному к высшей мере наказания гражданину Б. В. Савинкову и признавая, что после полного отказа Савинкова, констатированного судом, от какой бы то ни было борьбы с советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной Октябрьской революцией власти – применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка, и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, – постановляет:
Удовлетворить ходатайство Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР и заменить осужденному Б. В. Савинкову высшую меру наказания лишением свободы сроком на десять лет.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин.Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 29 августа 1924 г.»С тех самых пор не стихает спор: что это было? Недоразумение, «вредительство троцкиста» Енукидзе или тонкий политический расчет? Склонен думать, что логичным завершением операции «Синдикат-2» была именно демонстрация всей русской эмиграции гуманизма советской власти. Не стоит забывать, что бо́льшая часть членов Союза защиты Родины и свободы оставалась в безопасности за рубежом. Им-то и давался этот сигнал: штыки в землю, господа. Даже таких лютых ненавистников советской власти, как Савинков, рабоче-крестьянское правительство милует. Что уж о вас-то говорить? И надо сказать, что соратники все поняли правильно. Больше боевики главного террориста начала XX века акций на территории СССР не проводили.
Глава 8 Элитный узник Лубянки
После оглашения приговора Савинков продолжал находиться во внутренней тюрьме ГПУ. Ему были созданы невиданные для этой организации условия. В камере постелили ковер. Поставили мебель. Разрешили писать воспоминания и вести дневник. Кое-что даже напечатали, заплатив автору гонорар и разрешив ему свободно распоряжаться этими средствами.
Крайне интересен его дневник. О чем же думал бывший эсеровский террорист? Переосмысливал ли он свою жизнь? Можно сказать и так. Но в целом его раздумья как-то не очень походят на размышления опытного политика. Вот, положим, 9 апреля 1925 года он больше напоминает, как сказали бы тогда, «студентика»:
«Я привык ко всему. Кроме того, мне кажется, что люди устроены так: когда им выгодно, они бывают честными, когда им невыгодно, они лгут, воруют, клевещут. Может быть, бескорыстен Дзержинский и еще некоторые большевики. Под бескорыстием я не понимаю только простейшее – бессребреность, но очень трудное – отказ от самого себя, то есть от всех своих всяческих выгод. Этот отказ возможен лишь при условии веры, то есть глубочайшего убеждения, если говорить современным языком, хотя это не одно и то же. Из своего опыта я знаю также и то, что цена клеветы, как и похвал, маленькая. Молва быстротечна. Когда я был молод, я тоже искал похвалы и возмущался клеветой…»
Разумеется, чекисты знали, что Савинков ведет дневник. И он делал все, чтобы своими записями доставить им удовольствие:
«Я не мог дольше жить за границей, не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в правоте борьбы. Не мог, потому что не было покоя. Не мог, потому что хотелось писать, а за границей что же напишешь? Словом, надо было ехать в Россию. Если бы наверное знал, что меня ждет, я бы все равно поехал…»
Удивительно, но он по-прежнему настаивал на версии, что пал не жертвой блестяще проведенной операции чекистов, а собственного литературного дара.
Он постоянно напоминал, что это не иностранный отдел ГПУ переиграл аса подпольной работы, а он сам добровольно приехал в Россию. Чтобы капитулировать перед большевиками. Я нахожу этому только одно объяснение: он продолжал начатую на суде игру, надеясь, что когда-нибудь его дневники будут опубликованы и благодарные потомки по достоинству оценят всю мощь его любви к Родине. Хотя вполне допускаю и то, что Савинков, жертва собственного мистического мессианства, свято уверовал, что он действительно по собственному желанию нелегально перешел границу СССР.
Он не только вел дневник. Еще писал и рассказы. Читал их вслух сотрудникам иностранного отдела ГПУ. Но то ли он плохо это делал, то ли рассказы были никчемными. Чекисты скучали. И под любым благовидным предлогом старались избежать вечеров художественного чтения. Савинков негодовал. Вот что он записал в своем дневнике:
«Я работаю, потому что меня грызет, именно грызет желание сделать лучше, а я не могу. Когда я читал свой рассказ – один ушел, другой заснул, третий громко разговаривал. Какой бы ни был мой рассказ – это настоящая дикость, полное неуважение к труду. А надзиратели, видя, как я пишу по восемь часов в сутки, ценят мой труд. Так называемые простые люди тоньше, добрее и честнее, чем мы, интеллигенты. Сколько раз я замечал это в жизни! От Милюкова и Мережковского у меня остался скверный осадок не только в политическом отношении. В политике – просто дураки, но в житейском – чванство, бессердечие, трусость. Я даже в балаховцах, рядовых конечно, рядом с буйством, грабительством видел скромность, сердечность, смекалку…»
Иной раз Савинков все-таки вспоминал, что он политик. И брался осмысливать опыт последних лет. Но делал это в свойственной ему манере: не признавая своих ошибок и, более того, оставаясь в плену мира собственных самодельных иллюзий. Когда-то в самом начале операции «Синдикат-2» Савинков написал статью с этим прекрасным названием. Но ему и в голову не пришло, что его восприятие гораздо страшнее того, что он находил в умах русской эмиграции:
«Я не то чтобы поверил Павловскому, я не верил, что его смогут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. А в том, что его не расстреляли, – гениальность ГПУ. В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 23-го года с глазу на глаз в маленьком кабаке на рю де Мартин. У меня было как бы предчувствие будущего, я спросил его: “А могут быть такие обстоятельства, при которых вы предадите лично меня?” Он опустил глаза и ответил: “Поживем – увидим”. Я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать. Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский! Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете. Вероятно, страх смерти? Очень жестокие лица иногда бывают трусливы, но ведь не трусил же он сотни раз. Но если не страх смерти, то что? Он говорил чекистам, что я не поеду, что я такой же эмигрантский генерал, как другие. Но ведь он же знал, что это неправда, он-то знал, что я не генерал и поеду. Зачем же он еще лгал? Чтобы, предав, утешить себя? Это еще большее малодушие. Я не имею на него злобы. Так вышло; лучше, честнее сидеть здесь в тюрьме, чем околачиваться за границей, и коммунисты лучше, чем все остальные. Но как напишешь его, где ключ к нему? Ключ к Андрею Павловичу (Федорову. – А. Г.) – вера, преданность своей идее, солдатская честность. Ключ к Фомичеву – подлость. А к нему? А если бы меня расстреляли? В свое скорое освобождение я не верю. Если не освободили в октябре-ноябре, то долго будут держать в тюрьме. Это ошибка. Во-первых, я бы служил Советам верой и правдой, и это ясно; во-вторых, мое освобождение примирило бы с Советами многих, так – ни то ни се. Нельзя даже понять, почему же не расстреляли, зачем гноить в тюрьме? Ни я этого не хотел, ни они этого не хотели. Думаю, что дело здесь не в больших, а в малых винтиках. Жалует царь, да не жалует писарь…»
Это была одна из последних записей в дневнике. И она представляет особый интерес. Обратите внимание: Савинков верит, что, выпустив его из тюрьмы, большевики с восторгом будут наблюдать, как к ним в объятия бросятся сотни его сторонников. Как говорил герой Булгакова, «обнял и прослезился». Бывший эсеровский террорист настолько надоел чекистам, что те посоветовали ему написать письмо Дзержинскому. Мол, мы – люди маленькие. Как начальство решит – так и будет. И Савинков пишет. 7 мая 1925 года на стол председателю ГПУ ложится письмо:
«…Я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все-таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.
Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, – меня поставят к стенке; второй – мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, то есть тюремное заключение, казался мне исключенным: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, “исправлять” же меня не нужно – меня исправила жизнь.
Так и был поставлен вопрос в беседах с гр. Менжинским, Артузовым и Пиляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать; я был против вас, теперь я с вами; быть серединка на половинку, ни “за”, ни “против”, то есть сидеть в тюрьме или сделаться обывателем не могу.
Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован и что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле.
Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятию третий исход оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме – сидеть, когда в искренности моей едва ли остается сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.
Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза. Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и, мне не стыдно сказать, многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь. Ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию. Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, прямо и ясно, чтобы я в точности знал свое положение».
Председатель ГПУ не счел нужным отвечать на это письмо. Он лишь попросил чекистов доходчивее объяснить гражданину Савинкову, что не только у большевиков существует непреложность наказания за преступление, так что о свободе он заговорил явно рано.
Надо заметить, что в тот день у Савинкова было прекрасное настроение. Даже отказ Дзержинского выпустить его на свободу не омрачил бывшего лидера Союза защиты Родины и свободы. Он попросил чекистов отвезти его на прогулку в Царицынский парк. Подышал свежим весенним воздухом, развлекая охранников рассказами о своей героической борьбе с царским режимом. Даже выпил немного коньяку.
Поздним вечером его привели в кабинет Пилляра. Тут он должен был дождаться конвоя, который отвел бы его в тюремную камеру. Было душно, поэтому открыли окно. Подоконник был низким – всего 30 сантиметров от пола. Савинков расхаживал по кабинету, поворачивая всегда у этого окна. Согласно официальной версии, он даже посмотрел вниз один раз. Еще раз приблизился к окну. И вдруг резко прыгнул. Никто из чекистов даже не успел подбежать…
Медицинская экспертиза установила, что он умер мгновенно. На следующий день в советских газетах появилось официальное сообщение о смерти бывшего эсеровского боевика:
«Седьмого мая Борис Савинков покончил с собой самоубийством. В этот же день утром Савинков обратился к товарищу Дзержинскому с письмом относительно своего освобождения.
Получив от администрации тюрьмы предварительный ответ о малой вероятности пересмотра приговора Верховного Суда, Б. Савинков, воспользовавшись отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, выбросился из окна пятого этажа во двор и разбился насмерть.
Вызванные врачи в присутствии помощника прокурора республики констатировали моментальную смерть».
Не остались в стороне и эмигрантские газеты. Фельетонист Яблоновский, известный всем своим острым языком, писал: «Драма Савинкова рисуется мне в самом простом, даже простеньком виде: обещали свободу. Несомненно обещали. Надули. Нагло, жульнически надули. Человек не стерпел и выбросился в окно. Туда ему и дорога».
Глава 9 Самоубийство или убийство?
В Советском Союзе никогда не подвергалось сомнению: Савинков покончил с собой. Всем желающим были доступны слова Дзержинского: «Он остался верен себе. Мутно жил и так же мутно умер». Эмиграция сильно сомневалась, что легендарный боевик сам добровольно распрощался с жизнью. Дескать, времена Каляева и Сазонова канули в Лету. Хотя в дальнейшем все согласились, что самоубийство – логичный итог деятельности Савинкова, в которой театральности всегда хватало с избытком.
Шли годы. Александр Исаевич Солженицын выпустил свой легендарный «Архипелаг ГУЛАГ», в котором появились новые подтверждения версии убийства Савинкова:
«Ульрих в “Правде” даже объяснялся и извинялся, почему Савинкова помиловали. Ну, да ведь за семь лет какая ж и крепкая стала Советская власть! – неужели она боится какого-то Савинкова! (Вот на двадцатом году послабеет, уж там не взыщите, будем сотнями тысяч стрелять.)
Так после первой загадки возвращения был бы второю загадкою несмертный этот приговор, если бы в мае 1925 года не покрыт был третьею загадкой: Савинков в мрачном настроении выбросился из неогражденного окна во внутренний двор Лубянки, и гепеушники, ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его крупное тяжелое тело. Однако оправдательный документ на всякий случай (чтобы не было неприятностей по службе) Савинков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой, – и так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что даже сын умершего Лев Борисович вполне верил и всем подтверждал в Париже, что никто не мог написать этого письма, кроме отца, что кончил с собою отец в сознании политического банкротства.
И мы-то, мы, дурачье, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролетами натянуты с тех пор, как бросился тут Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем; ведь опыт же тюремщиков международен! Ведь сетки также в американских тюрьмах были уже в начале века – а как же советской технике отставать?
В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Прюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор!»
Давайте еще раз вернемся в тот день.
Итак, утром 7 мая 1925 года Савинков пишет письмо Дзержинскому с требованием: или расстреляйте, или дайте работать. Примерно в 20:00 три не последних сотрудника ОГПУ, Сперанский, Пузицкий и Сыроежкин, поехали с Савинковым в Царицынский парк. На прогулку. Вернулись на Лубянку спустя три часа. Зашли в кабинет № 192, который находился на пятом этаже. Занимал его заместитель руководителя контрразведки Пилляр. Стали ждать конвойных, которые должны были доставить Савинкова в камеру. Бывший террорист расхаживал по кабинету, рассказывал о вологодской ссылке. Чекисты сидели: Сперанский – на диванчике, Сыроежкин – за столом. Пузицкий в тот момент вышел из комнаты. Окно было распахнуто. Душно было в тот вечер, в воздухе пахло грозой. И тут Савинков ни с того ни с сего одним прыжком достиг окна и прыгнул головой вниз…
В конце 1990-х годов внезапно нашелся еще один очевидец. Борис Гудзь,[11] близкий друг Григория Сыроежкина, был в тот вечер в соседней комнате. Он достаточно подробно описал все внеслужебные разговоры на Лубянке по поводу поступка Савинкова. И убежден: это было роковое стечение обстоятельств:
«Савинкова как раз привезли из ресторана. Конечно, был он выпивши. Черт его знает, почему вдруг взыграли алкогольные градусы? Думаю, именно они обострили давнюю обиду. После того как ему заменили расстрел на десять лет тюрьмы, Борис Савинков затосковал. Он-то надеялся на полную реабилитацию. Более того, в письме Дзержинскому добивался, чтобы его выпустили и дали особо важную работу.
Не сочтите за анекдот, но однажды на допросе у Артузова (было это уже после приговора суда) Борис Викторович сказал: “Если предложите мне выполнять какую-то работу, я готов. Однако поймите меня правильно, Артур Христианович, пойти на вашу должность начальника контрразведки будет для меня маловато, нужно что-то другое”.
Помощник начальника Контрразведывательного отдела ОГПУ С. В. Пузицкий
Савинков был незаурядным человеком и очень высоко ценил себя. А тут неволя. Конечно, тяжело. И это несмотря на комфортные условия содержания. А жил Савинков во внутренней тюрьме Лубянки, в камере, больше похожей на гостиничный номер. Там были ковры, мягкая мебель. К нему некоторое время даже допускали жену на ночь. Зачастую обедать и ужинать возили в лучшие московские рестораны, а порой и за город, подышать свежим воздухом. ЧК он был нужен.
Савинков возбужден: “Когда же в конце концов решат со мной? Либо пускай расстреляют, либо дадут мне работу”. Черт его знает, может, действительно взыграли какие-то алкогольные градусы? Ходит, ходит – и вдруг раз – резко из окна вниз головой. Недаром же был террористом. Навыки-то еще те. Григорий, хоть и произошло все внезапно, успел схватить его за ноги. Сильный был человек. Но у Сыроежкина одна рука чуть слабее: в молодости был неплохим борцом и в схватке на ковре сломал руку. Удерживал, и тут его потянуло вниз, вместе с Савинковым. Тот килограммов 80 весил. Как можно удержать человека, который уже наклонился туда?
Сыроежкину кричат: отпускай, полетишь за ним. Не удержал. И Савенков полетел с пятого этажа… Разбился сразу и насмерть. Остальные рассказы, будто чекисты его сбросили сами – или сначала убили, а потом выбросили из окна, – ложны.
Гриша сделал все, что только мог. Очень все получилось неожиданно. Он, Савинков, был все-таки личностью. Но на следующий день вся эта оперативная группа шестого отделения – в шоковом состоянии. Упустили Савинкова! Мы же понимали, какой это удар. Заподозрят, будто его сбросили. Ну зачем было его сбрасывать, когда могли приговорить к расстрелу? Не расстреляли, дали десять лет, так зачем его уничтожать таким путем? И мы, конечно, получили нагоняй от начальства».
Действительно, роковая череда случайных ошибок, от которых никто не застрахован. Дело в том, что через пятый этаж было гораздо удобнее увести именитого пленника во внутреннюю тюрьму. Именно поэтому Савинкова и доставили туда. Интересна история с кабинетом № 192. В нем был очень низкий подоконник. До вселения в этот дом ВЧК его вообще не имелось. Был балкончик, который кому-то потребовалось снять.
Однако верится во все это с трудом. Савинков был, если можно так сказать, верным паладином культа смерти. Но собственный конец никогда не торопил и жизнь свою берег. Дьявол всегда кроется в деталях. А именно их почему-то упорно не хотят принимать во внимание. Начать хотя бы с сущего пустяка: проверить метеосводки. Действительно ли в тот день в Москве была такая страшная духота, что была необходимость держать окно распахнутым? Напомню, что была уже почти полночь, а в мае в столице, как правило, не так уж и жарко.
Было бы неплохо узнать и высоту подоконника в том самом кабинете. Савинков никогда физкультурой не занимался, в последние годы и вовсе вел «диванный» образ жизни. Вот и остается вопрос: как мог уже немолодой и невысокий Савинков без разбега и подготовки перепрыгнуть подоконник одним прыжком. Более того, каким это образом Сыроежкину, который сидел за столом, удалось в доли секунды выскочить из-за него и успеть схватить Савинкова за ноги?
И потом, с каких это пор Царицынский парк стал рестораном?
После гибели Савинкова было немедленно проведено служебное расследование. Оно еще больше запутало дело. Показания свидетелей разнятся по принципиальным вопросам. К примеру: кто и где сидел? Где находился Савинков? В документах ОГПУ написано: ходил по комнате, подходил к окну. А вот у следователя почему-то отмечено: сидел за круглым столом напротив одного из чекистов. Сыроежкин якобы успел схватить его за ноги. Замечательно. Остается только один вопрос: а почему он сам не упоминает о таком немаловажном факте в своих показаниях? Да и вообще вся палитра красок в этом деле страдает исключительной несовместимостью. Человек предается сладостным воспоминаниям о юности, а потом, словно заправский олимпиец, «берет высоту» и падает с пятого этажа…
Многие сегодня склоняются к мысли, что Савинкова все-таки убили. Элемент здравого смысла в этих рассуждениях есть. Он был враг. Его раскаяние на суде никого и ни в чем не убеждало по определению. Предназначалось оно только русской эмиграции. Ей требовалось внушить, что даже такие лютые ненавистники большевизма могут осознать свои ошибки. Савинкова пора выводить из игры. Можно было бы поступить по сценарию с Рейли, но повторяться профессионалы считают ниже своего достоинства. Выход из создавшегося положения искали долго и все-таки нашли…
Сотрудник отдела контрразведки ОГПУ Г. С. Сыроежкин
Савинкова нельзя было взять и расстрелять как рядового боевика. Ведь суд помиловал его в обмен на признание советской власти. Это очевидный момент. Даже продолжение следствия по «вновь открывшимся обстоятельствам» подрывало бы репутацию суда, и без того тогда крайне низкую, в глазах мирового сообщества. Не говоря уже о попытке поставить Савинкова к стенке. Еще более очевидный момент: Савинкова нельзя было пристрелить, как Сиднея Рейли (о нем я подробно расскажу во второй части этой книги). Он был нужен, чтобы демонстрировать все тому же мировому сообществу, что вакханалия красного террора сменилась цивилизованным судопроизводством. Его не случайно водили по ресторанам и театрам. Все должны были видеть: советская власть умеет не только безжалостно карать, но и великодушно миловать. Ему ведь разрешали даже писать письма за границу:
«5 мая 1925 года. Внутренняя тюрьма. Москва.
Милая моя Танечка и милый мой Алешенька, вы меня очень порадовали своими карточками. Я так и знал, что у меня очень красивая дочка и очень умный внук. Последнее я заключаю по “как искры” глазенкам и по серьезному и достойному выражению лица… Через три месяца Алешенька будет ходить, а через шесть – говорить. Тогда, Танечка, и настанет самое очаровательное время. Когда ты была такая, как Алешенька, я сидел в тюрьме. И теперь то же самое. Кому что. Но Алешеньке про тюрьму ничего не говори, а поцелуй его в глазки и скажи на ушко, что старый хрен дедушка его очень любит и хочет, чтобы он вырос большой-пребольшой, умный-преумный и сильный-пресильный… Ваш отец и дед Б. Савинков».
Но это не отменяло необходимости ликвидировать Савинкова. Выход мог быть только один: самоубийство. Эмиграция, равно как и мировое сообщество, зная импульсивность бывшего террориста, охотно в это поверила бы. Что, собственно, и произошло.
Да и Григорий Сыроежкин, собственноручно добивший Сиднея Рейли, как-то не очень смахивает на человека, готового спасти лютого врага большевизма. Вот убить его – другой разговор. Поэтому многие считают, что он не вытаскивал Савинкова за ноги из окна, а наоборот – выталкивал его…
Когда принесут мой гроб, Пес домашний залает, Жена поцелует в лоб, А потом меня закопают. Глухо стукнет земля, Сомкнется желтая глина, И не станет того господина, Который называл себя Я…Так еще в начале века виделась Савинкову собственная смерть. Эти стихи очень понравились его соратникам по боевой организации. Вот только жизнь внесла свои коррективы…
Часть II Операция «Трест»
Лишь дотла наш корень истребя, Грозные отцы твои и деды Сами отказались от себя, И тогда поднялся ты, последыш! Вырос ты без тюрем и без стен, Чей кирпич свинцом исковыряли, В наше ж время не сдавались в плен, Потому что в плен тогда не брали! А. НесмеловГлава 1 Монархисты в эмиграции
В начале 20-х годов прошлого века Берлин по праву оспаривал с Парижем неофициальный титул столицы русского зарубежья. Именно здесь обосновался центр Высшего монархического совета, который возглавлял бывший депутат Государственной думы, один из лидеров Союза русского народа Николай Евгеньевич Марков. Убежденный сторонник монархии, идейный националист, люто ненавидевший кадетов, он был одним из тех, кто лично предал Николая Второго. Да-да, никакой ошибки в этом утверждении нет.
Дело в том, что все черносотенцы присягнули на верность лично государю императору еще в 1907 году. По самым скромным подсчетам, членами черносотенных союзов было около 500 000 человек. Это больше, чем во всех остальных политических партиях России, вместе взятых. При этом верные защитники монархии палец о палец не ударили, чтобы спасти империю в дни Февральской революции. Марков-второй, к примеру, вовсе сбежал из Петербурга в Москву в одном пальто. Да, потом он развил бурную деятельность. Собирал деньги на спасение царской семьи. Не собрал и возложил вину за все на отравленную ядом мирового еврейства русскую буржуазию. Был участником белой борьбы на северо-западе России, сформировал там «Союз верных». Ничего путного из этого не вышло, и Марков-второй обвинил во всех бедах предателей-февралистов, которые полностью продались мировой закулисе. Требовал отдать под суд Петра Николаевича Врангеля за его девиз «Левая политика правыми руками» и назначить на его место себя. Не удалось, после чего выяснилось, что Врангель – такой же «наймит темных сил», как и генерал Корнилов.
Вот образец риторики Николая Евгеньевича, опубликованный в третьем номере вестника Высшего монархического совета «Двуглавый орел» от 1 марта 1921 года:
«Вместе со всеми русскими людьми мы горячо сочувствовали и посильно помогали генералу Врангелю, вместе со всеми глубоко скорбели мы о постигшем его поражении. Мы признаем, что выдающаяся энергия, самообладание и незаурядная распорядительность военных властей совершили все возможное для уменьшения размеров бедствия внезапной эвакуации Крыма. Не для того, чтобы обвинять сраженного военачальника, а исключительно для указания истинных причин печального исхода белого дела – печатаются эти строки.
При всей разности характеров и политической обстановки все выступавшие против большевиков белые генералы пали в силу одних и тех же роковых причин. Всею душою революционер, генерал Корнилов пытался восстановить старую воинскую дисциплину и, воссоздав армию, укрепить ту революцию, которая именно развал воинской и гражданской дисциплины положила в свое основание. Сам первый нарушитель воинской дисциплины, клятвопреступник и мятежник, генерал Корнилов искренно воображал, что он в праве и в силе требовать от солдат исполнения долга присяги и повиновения. И Корнилов, и Алексеев, и Каледин, и вся эта плеяда революционных генералов неуклонно терпели поражение в своих попытках восстановить царское войско, не восстановляя самого Царя. Эти несчастные военные интеллигенты так и сгибли, не уразумев, что в России не только войско, но и все государство, весь уклад общественной и социальной жизни держался непререкаемым авторитетом Царской власти. Колчак и Деникин не были столь безнадежно привержены революции и, по-видимому, понимали необходимость для России монархии. Но если и понимали, то свое понимание в жизнь не претворяли, фактически шли все теми же корниловскими путями, объявляли себя сторонниками Учредительного Собрания и демократами и самую власть свою обосновывали на санкции “законного” революционного правительства. Хотя в глазах Русского народа санкция правительства товарищей из бывших каторжников не имела решительно никакого значения, однако даже такой незаурядный человек, как адмирал Колчак, до последних дней своей жизни изо всех сил тянулся, чтобы угодить праздноболтающей кучке государственных неучей и доказать никчемной сибирской “общественности”, что он совсем не монархист, а, наоборот, добрый народоволец и демократ.
Сменивший Деникина генерал Врангель стал вначале на почти верный путь, сурово и правдиво обличил он всю ложь и пагубу политики своего предшественника, открыто и смело провозгласил он первый и третий члены символа спасения России: Вера и Народ. Но на втором члене триединого символа генерал Врангель споткнулся, он не решился исполнить прямой долг свой, он не объявил себя верным слугой монархии, он скрыл монархическое начало в двусмысленном заявлении о Хозяине, которого народ сам себе выберет. Одним в Хозяине грезился Царь, другим – президент, третьим – диктатор на белом коне. Не найдя в себе мужества, чтобы сказать народу всю правду и во всеуслышание объявить, что без Царя России нет спасения, генерал Врангель стал на скользкий путь посулов, уступок завоеваниям революции и заискивания у виновников российского развала. Неустранимое противоречие внутреннего монархического стремления и доказательства показного “демократизма” лишило Врангеля той силы народного доверия, без которого невозможно было победить большевиков.
Ни гуманный демократизм, ни рукоплескание революционной общественности, ни восторги Бурцева, ни, полная обещаний, словесность благородной Франции, ничто не помогло – генерал Врангель не мог устоять перед напором большевиков, ибо не был поддержан Русским народом. Конечно, народ глубоко ненавидел большевиков и, конечно, всеми силами пошел бы за Врангелем, если бы только мог поверить в прочность его дела. Но народ не мог поверить в прочность белого дела Врангеля, ибо не было главного условия для успеха: за генералом Врангелем не было Русского Царя…»
Вообще, 1920-е годы в русском зарубежье прошли под знаком ренессанса монархической идеи, которая заметно поблекла за годы Гражданской войны. Легитимисты, свято соблюдавшие установленный Павлом Первым закон о престолонаследии, сделали ставку на великого князя Кирилла Владимировича, который объявил себя местоблюстителем царского престола за рубежом и вскоре был провозглашен Императором Всероссийским. Однако большинство монархистов не простили контрадмиралу Кириллу Владимировичу измену. Многим была памятна история, когда он 1 марта 1917 года пришел к зданию Государственной думы с красным бантом и предоставил офицеров и матросов своего гвардейского экипажа в распоряжение революционной власти, вынудившей императора Николая Второго отречься от престола. Да и с тем самым законом о престолонаследии все выходило не совсем гладко. Достаточно сказать, что сам великий князь нарушил статьи № 183 и № 185, так же как и его отец нарушил статью № 185 этого закона. В довершение всего были нарушены и церковные законы, в частности статья № 64.
Поэтому взоры большинства монархистов были обращены к великому князю Николаю Николаевичу, бывшему Верховному главнокомандующему русскими армиями. Экс-политики рухнувшей империи много раз обращались к нему с просьбами возглавить национальное антибольшевистское движение. Но Николай Николаевич решительно и бесповоротно отказывался. Он был убежден, что после всех потрясений революционных лет члены императорской семьи должны быть в стороне от политической деятельности. Но его продолжали уговаривать. Из России постоянно доходили слухи о подпольном монархическом движении, которое крепнет с каждым днем и готовит свержение правительства Ленина. Но необходим был авторитетный и популярный лидер. И им мог быть только великий князь Николай Николаевич.
Русский общевоинский союз, созданный генералом Врангелем из остатков белых армий, также надеялся, что именно Николай Николаевич будет вождем всей антибольшевистской эмиграции. Уговаривать его было поручено генералу от инфантерии Александру Павловичу Кутепову.
* * *
За последние 15 лет едва ли кто-то больше меня рассказывал об этом знаменитом лидере Белого движения. Например, в книге «Убить Сталина» я приводил достаточно подробную биографию Александра Павловича. Поэтому предлагаю вашему вниманию выдержки из крат кой справки, напечатанной свыше 60 лет назад в одном из эмигрантских журналов:
«А. П. Кутепов родился 16 сентября 1882 года в г. Череповце Новгородской губернии. Его отец был лесничим в селе Холмогоры. С детства чувствовал призвание к военному делу. Из седьмого класса архангельской гимназии он поступает на военную службу вольноопределяющимся и командируется во Владимирское военное училище, которое оканчивает в звании фельдфебеля.
Принимает участие в Русско-японской войне в рядах 85-го Выборгского полка. За боевые отличия был переведен в 1907 году в лейб-гвардии Преображенский полк. Первую мировую войну Кутепов начал в чине капитана. В этом полку провел всю войну, последовательно командуя ротой, батальоном и полком. Был трижды ранен. За успешно проведенную по собственной инициативе контратаку в бою 27 июля 1915 года у деревни Петрилово был награжден орденом Святого Георгия IV степени. За взятие неприятельской позиции 7–8 сентября 1916 года и удержание ее в бою с превосходящими силами противника был награжден георгиевским оружием и, наконец, за участие в Тернопольском прорыве
7 июля 1917 года был представлен к ордену Святого Георгия III степени.
После Октябрьского переворота Кутепов вступил 24 декабря 1917 года в Добровольческую армию. Он являлся одним из немногих, кто участвовал в Белом движении с первого до последнего дня. По прибытии затем в Таганрог полковник Кутепов получил ответственное назначение, став военным губернатором города. Во время героического Ледяного похода Белой армии Кутепов был назначен командиром 3-й роты Офицерского полка, получившего название Марковского. 30 марта он принял командование Корниловским полком.
Во втором Кубанском походе Кутепов принял 1-ю дивизию после смерти генерала Маркова. С августа 1918 года по 1919 год он состоял черноморским военным губернатором. В частях, подчиненных Кутепову, всегда были образцовая дисциплина и порядок. В новой роли администратора он также проявил свой организаторский талант.
В конце января 1919 года Александр Павлович снова на фронте, командует 1-м армейским корпусом. Именно под его командованием Добровольческая армия, не обладая численным превосходством, взяла Харьков, Курск и Орел. Даже во время отступления никогда отход добровольцев не был беспорядочным. Это в значительной мере было результатом того неизменного спокойствия и выдержки, которые генерал Кутепов усвоил сам и внушил своим подчиненным.
В Крыму Кутепов командовал 1-й армией. После крымской эвакуации армия расположилась на пустынном полуострове Галлиполи. Это стало одним из самых тяжелых испытаний для Белой армии. Генерал Врангель был изолирован французами от русских частей. Поддержанием духа воинов занимались Кутепов и генерал Б. А. Штейфон. Было сделано главное: потерпевшая поражение армия продолжала верить в свою правду и правоту. Был сохранен дух и воля к дальнейшему сопротивлению».
Один из офицеров вспоминал:
«В один из самых страшных моментов нашей белой жизни, в момент, казалось бы, предельного провала, на пустынной и суровой земле, в далекой чужбине вновь завеяли наши старые военные знамена. В “Голом поле” день и ночь, беспрерывной сменой молчаливых русских часовых совершалась литургия Великой России!»
* * *
Кутепову удалось невозможное. Весной 1923 года он уговорил великого князя. Для этого потребовались две встречи. Первая беседа, состоявшаяся в марте, была лапидарной. Николай Николаевич даже не пожелал говорить о своем возможном участии в антибольшевистской борьбе. Но твердый и решительный генерал от инфантерии добился второй аудиенции. Почти два часа он доказывал, что Николай Николаевич не может, не имеет права уклониться от своего долга перед Россией. И великий князь согласился:
«В течение первых дней, последовавших за его торжеством, большевизм пользовался известной популярностью среди масс, население ему верило, но это время уже прошло. Главные русские вопросы, я вас прошу особенно обратить внимание на мои слова, могут обсуждаться и разрешаться только на русской земле и в соответствии с желаниями русского народа. Сам русский народ должен разрешить свою судьбу и выбрать режим. Будущая организация России должна быть основана на законности, порядке и личной свободе. Я не претендент и не эмигрант в том смысле, который придали этим словам во время революции. Я гражданин и солдат, желающий только вернуться домой, чтобы помочь Родине и согражданам. Когда по воле Божией восторжествует наше дело, сам русский народ решит, какая форма правления ему нужна…»
Генерал от инфантерии А. П. Кутепов
Шестнадцать крупнейших эмигрантских организаций с восторгом встретили это известие. Строились планы, намечались руководители. Но прежде всего нужен был тот, кто возглавит тайную борьбу с большевиками. Выбор Николая Николаевича пал на Кутепова. Он вызвал генерала в Париж и предложил ему возглавить боевую организацию. Александр Павлович был озадачен. Он прекрасно понимал, что к такой работе абсолютно не готов. Участник трех войн, он никогда не имел дела с контрразведкой. Кутепов долго колебался. И все же принял решение: он отдает себя в распоряжение великого князя. В тот же день Александр Павлович сообщил об этом генералу Врангелю.
Председатель Русского общевоинского союза себя иллюзиями не тешил. Он понимал, что, скорее всего, боевая организация никакого грандиозного успеха не добьется, а люди погибнут. В худшем случае никаких успехов не будет вообще, ведь ЧК не дремлет и наверняка уже прорабатывает возможность внедрения в ряды кутеповцев нового Азефа. Не скрывая огорчения от решения своего друга и ближайшего помощника, 21 марта 1924 года Петр Николаевич Врангель отдал приказ об освобождении Кутепова от всех его обязанностей. В письме Врангеля к Кутепову есть весьма интересный момент:
«Дорогой Александр Павлович! Ныне общее руководство национальным делом ведется уже не мною. Ты выходишь из моего непосредственного подчинения и не будешь руководить теми, кого неизменно водил в бой и закаливал их в Галлиполи».
Иначе говоря, председатель РОВС показывал: ничего общего с боевой организацией Кутепова его союз не имеет.
Врангель вообще всячески пытался оградить Русский общевоинский союз от политических интриг. Особенно от монархистов. Ведь распавшиеся на легитимистов и сторонников Николая Николаевича группы постоянно апеллировали к армии. В этой ситуации главнокомандующий издал знаменитый приказ, запрещавший чинам РОВС вступать в политические организации:
«При существующей политической борьбе против Армии, несомненно, некоторые политические группы сделают все возможное, чтобы извратить значение этого приказа и отыскать какой-то тайный смысл в нем, дабы бороться против его осуществления.
Ввиду этого считаю нужным указать следующее:
Образование “Русского общевоинского союза” венчает упорную четырехлетнюю работу по объединению русского зарубежного офицерства с Русской Армией… и подготавливает возможность на случай необходимости под давлением общей политической обстановки принять Русской Армии новую форму бытия в виде воинских союзов, подчиненных председателям отделов “Русского общевоинского союза”».
Это последнее соображение – дать возможность армии продолжить существование при всякой политической обстановке в виде воинского союза – не могло быть приведено в приказе ввиду его секретности.
«Никаких других целей образование “Русского общевоинского союза” не преследует, что и надлежит иметь в виду в случае борьбы за проведение его в жизнь».
Этот приказ вызвал бурное недовольство всех «истинных» монархистов. И прежде всего Маркова-второго. В письме к заместителю Врангеля генералу Миллеру он отмечал:
«Не подлежит сомнению, что выступление Великого Князя обусловливается его убеждением в том, что действительно народ как в России, так и за рубежом желает и просит Великого Князя спасти Россию. Отсюда логически вытекает, что без получения доказательств поддержки со стороны армии и общественности этих важнейших составных элементов народа, Великий Князь и не выступит. Значит, все благомыслящие люди должны влиять и на армию, и на общественность, вообще на всех, чтобы все другие поддерживали Великого Князя. Усматривать в сем недопустимую политику я никак не могу.
Сообщаемые Вами слова Великого Князя о том, что армия должна быть вне политики, я понимаю как выражение общего принципа, а не как запрещение военным людям выражать свою преданность и беззаветную готовность идти за своим природным вождем на спасение гибнущего отечества.
Я обращаюсь к Вам как к истинно русскому патриоту с горячей просьбой: употребить Ваше влияние на генерала Барона Врангеля и убедить его не становиться из-за весьма спорных формальных побуждений против стихийного устремления русских сердец. Военная дисциплина только выиграет, если командир армии не только не воспрепятствует, но сам разрешит и посоветует частям заявить им преданность Великому Князю».
Глава 2 Якушев
Сотрудник Народного комиссариата внешней торговли Александр Александрович Якушев в ноябре 1921 года был командирован в Швецию и Норвегию проездом через Ревель. Там он посетил своего бывшего ученика по императорскому Александровскому лицею Юрия Артамонова, которому привез письмо от тетки. Обрадованный присутствием на встрече представителя Врангеля в Эстонии Всеволода Щелгачева, Якушев сделал обстоятельный доклад о положении дел в России. В частности, о том, что в стране победившего пролетариата начала действовать тайная монархическая организация.
Артамонов, в недавнем прошлом вольноопределяющийся лейб-гвардии Конного полка и офицер Северо-Западной армии генерала Юденича, был ярым противником большевизма. Участник кутеповской организации Сергей Войцеховский запомнил его таким:
«Он был красив – той мягкой, женственной красотой, которой славились некоторые дворянские и купеческие семьи таких приволжских губерний, как Нижегородская и Ярославская, да он и был волжанином по матери, рожденной Пастуховой. Особенно хороши были глаза – синие, оттененные длинными ресницами. В обращении он был благовоспитанным петербуржцем. В Варшаве, где русскими эмигрантами были, большей частью, беженцы из южных и западных губерний, некоторые обороты его столичной речи привлекали внимание.
Артамонов был евразийцем. Восприятие России как особого мира, не европейского и не азиатского; признание идеи-правительницы необходимой основой успешной борьбы за освобождение от коммунизма и построение новой Империи; провозглашение идеократии наиболее прочным и разумным государственным строем; бытовое исповедничество как фундамент национальной жизни – все это казалось привлекательным и верным…»
Главное действующее лицо операции «Трест» А. А. Якушев
Вся жизнь Артамонова была посвящена одному – борьбе с Советами. Поэтому в тот же день он написал письмо в Берлин своему бывшему однополчанину, а ныне члену Высшего монархического совета князю Ширинскому-Шихматову:
«Якушев крупный специалист. Умен. Знает всех и вся. Наш единомышленник. Он то, что нам нужно. Он утверждает, что его мнение – мнение лучших людей России. Режим большевиков приведет к анархии, дальше без промежуточных инстанций к царю. Толчка можно ждать через три-четыре месяца. После падения большевиков специалисты станут у власти. Правительство будет создано не из эмигрантов, а из тех, кто в России. Якушев говорил, что лучшие люди России не только видятся между собой, в стране существует, действует контрреволюционная организация. В то же время впечатление об эмигрантах у него ужасное. “В будущем милости просим в Россию, но импортировать из-за границы правительство невозможно. Эмигранты не знают России. Им надо пожить, приспособиться к новым условиям. Монархическая организация из Москвы будет давать директивы организациям на Западе, а не наоборот”. Зашел разговор о террористических актах. Якушев сказал: “Они не нужны. Нужно легальное возвращение эмигрантов в Россию. Как можно больше. Офицерам и замешанным в политике обождать. Интервенция иностранная и добровольческая нежелательна. Интервенция не встретит сочувствия”. Якушев безусловно с нами. Умница. Человек с мировым кругозором. Мимоходом бросил мысль о “советской” монархии. По его мнению, большевизм выветривается. В Якушева можно лезть, как в словарь. На все дает точные ответы. Предлагает реальное установление связи между нами и москвичами. Имен не называл, но, видимо, это люди с авторитетом и там, и за границей…»
Ознакомившись с письмом, Ширинский-Шихматов немедленно отправился к председателю Высшего монархического совета Маркову-второму. Бывший депутат Государственной думы, «лик Петра первого», как называли его современники, крайне заинтересовался гостем из Страны Советов. Он сразу предложил наладить отношения с Монархической организацией Центральной России (МОЦР). Ведь она, по словам Якушева, полностью отрицала демократию и республику, считая, что после гибели большевизма только царь спасет Родину. Марков-второй считал так же, о чем неустанно писал. В частности, все в том же журнале «Двуглавый орел»:
«Можно быть республиканцем, но исторические факты обязательны и для республиканцев. История не знает республиканской России, а знает лишь Россию-монархию, и тем, кому Россия монархическая ненавистна, им ненавистна вообще Россия, ненавистна живая действительно бывшая Россия, им люба Россия будущего, Россия воображаемая, Россия мнимая. Какова будет эта воображаемая Россия и вообще будет ли она, – я не знаю, но я знаю, что тысячу лет жила, росла и благоденствовала живая великая Россия, Россия-монархия. И вот эту живую, единственно бывшую в реальности Россию мы, монархисты, любим, ей мы преданы, по ней тоскуем. Нам скажут, что мы все же ошибаемся, но ведь эту “ошибку” в течение целой тысячи лет совершал весь русский народ. Или, быть может, самое бытие России надо считать ошибкой?
Думаю, что русские монархисты поступили так, как повелевал им долг перед Отечеством: ни единым словом, ни единым действием не помешали они Временному Правительству вести войну до счастливого для России конца. И если война все же закончилась неслыханным позором и развалом, то это не была вина монархистов, это была вина тех, кто в разгаре мировой войны вовлек русский народ в преступную и безумную революцию.
Не только российский обыватель, но вся стихия русского народа с каждым днем все более и более склоняется к этому понятию – монархия. Мы, русские монархисты, твердо убеждены, что как только “черносотенная мысль” (выражаемся словами Мирского) “действительно смастерит идеологический букварь социальной крестьянской Монархии”, так сразу падут цепи большевизма, и на месте всероссийских развалин снова воздвигнется величайшее в мире государство русского народа с царем во главе.
Мы были и остаемся монархистами, ибо теперь, более чем когда-либо, убеждены, что если в России не будет монархии, то не будет и самой России».
Сразу после возвращения в Москву Якушев должен был ехать в командировку в Сибирь. Он сел на поезд, но вместо Иркутска оказался на Лубянке. К этому он не был готов. Еще меньше он был готов к тому, что чекистам известно о нем практически все. И когда ему предложили самому написать все, что он знает, Якушев с радостью и мгновенно согласился:
«Я, Александр Александрович Якушев, потомственный дворянин, сын преподавателя кадетского корпуса, родился 7 августа 1876 года в городе Твери, окончил Императорский Александровский лицей, последняя моя должность – управляющий эксплуатационным департаментом управления водных путей министерства путей сообщения в чине действительного статского советника.
После революции, с 1921 года, работал в качестве консультанта по водному хозяйству. В старой армии не служил, в белой тоже. Женат, имею троих детей.
Хотя я ни в какую партию не входил, но по убеждению – русский националист.
Я считаю монархию единственным строем, который может обеспечить могущество и величие России. Тем самым я являюсь противником советской власти, контрреволюционером. Однако я хотел бы знать, в чем меня теперь обвиняют? Все, что можно мне поставить в вину, относится к прошлому, и об этом прошлом я постараюсь рассказать подробно и вполне откровенно.
В 1919 году, когда северо-западная армия генерала Юденича наступала на Петроград, мы были уверены, что советская власть доживает последние дни. Юденич занял окрестности Петрограда, генерал Миллер[12] наступал на Вологду, поляки занимали Минск, корпус Кутепова занял Курск и Орел. Мы, я говорю о подпольных организациях в Петрограде, имели связь с Национальным центром в Москве и готовили мятеж в Петрограде, так же как наши единомышленники в Москве. Все это теперь имеет историческое значение, поскольку ВЧК удалось ликвидировать и нашу, и московскую организации. Мы были уверены в успехе, готовили вооруженное выступление и выработали строгие меры, чтобы обеспечить порядок в столице. Что это значит, надеюсь, понятно.
Мы надеялись справиться с рабочими, не дать им возможности лишить город воды и света, пытались связаться с теми офицерами, которые были мобилизованы в Красную Армию. Чем это кончилось – известно.
Некоторое время я оставался в Петрограде. Когда начались аресты, я переехал в Москву, где меня меньше знали.
На этом, собственно, и кончилась моя активная деятельность. Из Москвы я предполагал пробраться на юг. Это мне не удалось. Мятеж Кронштадтской вольницы меня обнадежил, но ненадолго. Наступило время нэпа, которое я воспринял как крушение принципов большевизма. Я жил, ничего не делая, продавая фарфор и столовое серебро, которое вывез из Петрограда. Именно в это время произошла встреча с одним знакомым генералом, которого я хорошо знал по Петрограду. Он поинтересовался, что я делаю и как существую. Я объяснил ему свое положение.
– А вы, ваше превосходительство?
Он с удивлением посмотрел на меня:
– Я с ноября семнадцатого года работаю. Теперь в штабе Красной армии. Я думал, вам это известно. Мне кажется странным, что вы, с вашими знаниями, сидите без дела. На что вы надеетесь?
Все устроилось неожиданно для меня. Рано утром ко мне явился некто в кожаной куртке и передал мне приглашение явиться к одному высокопоставленному лицу. Это приглашение имело характер приказа, и я уклонился от него. Тогда спустя неделю за мной пришли уже двое в кожаных куртках, посадили в автомобиль и доставили к этому лицу. Я был встречен милостиво, мне сказали, что известны мои заслуги, знания и организаторские способности, которые не могли получить должное развитие при царе.
Я сказал:
– Не знаю, откуда вам это известно.
– От многих видных специалистов, которые работают у нас.
Затем мне было сказано, что мои убеждения “русского националиста” тоже хорошо известны и потому для меня не должны быть безразличны судьбы русской промышленности и хозяйства. Кончился этот разговор тем, что я согласился работать с большевиками. Я занял хорошее положение, как известно, был вхож в кабинеты видных деятелей ВСНХ, меня знали и знают Красин, Керженцев. Внешне все обстояло у меня благополучно, я составлял докладные записки и планы по водному хозяйству, в осуществление которых не верил.
Я был командирован в Швецию в начале ноября, а 22 ноября по возвращении в Москву был арестован. Убеждений моих я не менял и являюсь по-прежнему русским националистом и монархистом. Был им и после Февральской революции, когда на предложение князя Львова занять пост товарища министра путей сообщения ответил, что, как верноподданный его величества, Временного правительства не признаю.
Вы спрашивали меня о моем отношении к советской власти сегодня. Я не закрываю глаза на усилия большевиков восстановить то, что разрушено, но настоящий порядок наведет державный хозяин земли русской. На этом я кончаю мои показания. Никаких имен я не называл и не назову, о своей контрреволюционной деятельности я рассказал все, ничего не утаив».
Весьма интересный момент: справочник «Весь Петроград» за 1916 год, изданный А. С. Сувориным, содержит список правительственных учреждений. В нем упомянуты управление водных путей и шоссейных дорог министерства путей сообщения и возглавляющий это управление коллежский советник Якушев. В той же книге указывается, что он был еще и членом совета Императорского общества судоходства, совета Российской экспортной палаты и комиссии о новых железных дорогах.
План чекистов был прост: перевербовать Якушева, чтобы через него влиять на умы и настроения русских эмигрантов. Было совершенно очевидно, что Монархическая организация Центральной России непременно заинтересует всех злостных врагов трудового народа. А значит, ее представитель сможет проникнуть в святая святых – планы по свержению большевиков. Ведь убежденному монархисту, которого многие знают еще по Петербургу, нельзя не поверить. Как нельзя поверить в то, что он добровольно пойдет в услужение чекистам. Дзержинский был абсолютно прав. Все так и получилось. Тем паче что на руках уже были козырные тузы. Сотрудники иностранного отдела ГПУ смогли перехватить в Эстонии письмо Артамонова Ширинскому-Шихматову (хотя участник кутеповской организации Сергей Войцеховский в своих мемуарах «Трест» выразил сомнение, что чекистам действительно удалось сделать фотокопию с того письма). А значит, Якушеву грозила высшая мера социальной защиты. Иначе говоря, расстрел. И выбирая между стенкой и сотрудничеством с Лубянкой, он предпочел жизнь. Справедливости ради нужно сказать, что так поступил не только он. Еще один видный участник Монархической организации Центральной России Эдуард Стауниц свой выбор сделал значительно раньше. Впрочем, его биография настолько запутанна, что не исключено, что он и вовсе никогда не был идейным врагом большевиков, а все время играл роль. Давайте попробуем в этом разобраться.
Глава 3 Опперпут-Стауниц
До революции его звали Александр-Эдуард Оттович Упелиньш. Или просто Эдуард Оттович. Иногда его фамилия звучала как Упелинц, Упельниш, Упенинц, Упелинец, Опперпут. Он откликался, если на улице кто-то звал его гражданин (господин) Селянинов, Спекторский, Стауниц, Касаткин. И даже Ринг. В общем, человек с тысячью имен. Он родился в 1895 году. Латыш. Происходил из крестьян-середняков. Хорошо владел русским, хотя акцент и выдавал в нем прибалта. В 1915 году учился в Рижском политехническом институте. По крайней мере в архиве этого учебного заведения есть сведения о том, что там постигал науку некто Фриц Упельниш. Здесь вполне могут быть два варианта. Первый: настоящее его имя все же Фриц, а не Александр-Эдуард. Второй: учился там его брат, а будущий герой «Треста» позаимствовал такой удобный факт биографии.
В 1915 году Упелиньш (он же Упелинц или Упенинц) учился в Алексеевском военном училище в Лефортове. Выпущен в звании подпоручика и отправлен на Кавказский фронт. Как он воевал – точно не известно. По некоторым данным, принял участие в заговоре офицеров против советской власти в 1917 году и был арестован. Но не расстрелян, хотя подобное тогда случалось сплошь и рядом. В 1918 году добровольно пошел в Красную армию. Однако попал не на фронт, а на усмирение крестьянских восстаний против рабоче-крестьянской власти. Впрочем, все эти факты пока документально не подтверждены. Но то, что жизнь Стауница (давайте так будем называть его в дальнейшем, чтобы окончательно не запутаться) была более чем насыщенной, совершенно точно. Он и сам писал об этом:
«Моя жизнь с 1915 по 1920 годы складывалась так, что я вынужден был вести образ жизни, полный самых отчаянных приключений и острых ощущений. Непрерывная цепь приключений и опасностей в конце концов так расшатала мои нервы, что вести спокойный образ жизни я уже не мог. Как закоренелый морфинист не может жить без приемов этого яда, так и я не мог жить без острых ощущений или работы, которая истощала бы меня до обессиливания. Моей энергии в этих случаях удивлялись все, кому пришлось со мной сталкиваться».
Участник «Треста» Э. О. Опперпут (Стауниц)
В октябре 1920 года он оказывается в Смоленске, где становится помощником начальника штаба командующего войсками внутренней службы Западного фронта.
Следуя официальной версии, именно в этот момент и происходит перерождение красного командира в лютого врага советской власти. Виноваты в этом эсеры, которые смогли найти и использовать слабости Стауница. У любого человека таковые есть, и наш герой не был исключением. Абсолютно во всех источниках его характеризуют как молодого, красивого, сильного, энергичного и храброго. В общем, классический герой. И как любой герой – не лишен тщеславия. Вопрос лишь в степени этого самого тщеславия. Судя по всему, у Стауница она была превосходная. Наслаивалась она еще на его непостоянство и моментальную смену настроений.
На этом, равно как и на старой как мир любви человека к деньгам, и сыграли коварные враги рабоче-крестьянской власти. А Стауница эта игра увлекла. Адреналина в Смоленске ему явно не хватало, а тут такой шанс поиграть у самого себя на нервах. За первые месяцы 1921 года он минимум три раза нелегально переходил советско-польскую границу, вел задушевные разговоры с польской разведкой, делился секретной информацией, а взамен получил выход на организацию Савинкова. Сам вождь Союза защиты Родины и свободы принимал его и полностью ему доверял. И было чему доверять. Ведь Стауниц не просто польстился на деньги. Он, так сказать, стал идейным бойцом с Советами. И не только приносил полякам ценные данные о мощи Красной армии, но и предлагал Савинкову весьма оригинальные идеи, как извести большевизм под корень. Одну из его смелых идей даже стали воплощать в жизнь. Она и сейчас поражает воображение, а уж по тем-то временам и подавно: отравить цианистым калием продовольственные склады Красной армии. В одной из варшавских аптек было куплено два килограмма этого препарата, но дальше дело не пошло. Почему? История умалчивает.
Но эта локальная неудача не остановила Стауница. Прошло немного времени – и вот он уже стал фактически лидером всех боевиков Союза защиты Родины и свободы на советской территории. Правда, террористической деятельностью он лично не занимался. Ограничивался исключительно распространением газет, листовок и программы савинковской организации, которые ему доставляли из Польши. Интересно, что в этот же момент он получил повышение по своей основной службе. Его сделали начальником укрепрайона Минска. И этот факт говорит прежде всего о том, что Стауниц уже тогда работал на ГПУ. Ну не могли на такую ответственную должность поставить непроверенного человека!
Стауница многие считали одним из самых видных савинковцев. Еще бы: вождь лично благоволил ему и даже позволил принять участие в разработке программы Союза защиты Родины и свободы. Скажем, Павловскому такой чести оказано не было, хотя Савинков постоянно говорил, что полковник – самый близкий и верный человек. А вот появившийся из ниоткуда Стауниц, не участвовавший в массовых убийствах коммунистов, а, напротив, служивший в Красной армии, некоторые свои соображения внес в основной документ организации. Более того, он даже был кооптирован под фамилией Селянинов для участия в учредительном съезде союза в Варшаве. Съезд состоялся и прошел с успехом. Речи Савинкова публиковали многие эмигрантские газеты. Вот только Селянинов не произносил громких речей. 26 мая 1921 года он был арестован в Минске Государственным политическим управлением.
Узнав об аресте верного соратника, Савинков впал в ярость. Он словно чувствовал, что это будет иметь фатальные последствия для его организации. Полковнику Павловскому было поручено подготовить группу боевиков, чтобы совершить налет на тюрьму и отбить Стауница. Но было уже поздно. В тот самый момент он уже активно давал показания, ничего не скрывая. Обличал руководителей и рядовых членов Союза защиты Родины и свободы, коварство польского правительства и подлые замыслы разведки. Данные Стауница были немедленно использованы ГПУ. Нарком иностранных дел Чичерин составил гневную ноту протеста польскому кабинету министров.
Тюремная баланда и постоянные допросы Стауницу категорически не нравились. Сравнивая их с нелегальными переходами границы, он находил свое нынешние бытие скучным, омерзительным и недостойным его. Он решил вырваться на свободу любой ценой. После одного из допросов, которые больше походили на светские беседы, Стауниц, переведенный к тому моменту на Лубянку, взялся за письмо товарищу Менжинскому:
«Сейчас у меня одно желание: самоотверженной работой на пользу советской власти загладить свой проступок. Это представилось бы мне возможным сделать, если я был бы отпущен в Варшаву. В месячный срок я сумел бы дать Вам возможность полностью ликвидировать все савинковские организации, польскую разведку, частично французскую разведку и представил бы ряд документов в подлинниках, обрисовывающих истинную политику Польши. Мои нервы требуют сильной реакции, я терплю невероятные муки и дохожу до отчаяния, когда я готов разбить голову об стену или перерезать горло стеклом. Я уже дошел до галлюцинаций. Каждый лишний день моего здесь пребывания равносилен самой невероятной пытке. Еще раз умоляю решить мою судьбу скорее…»
Слова у Стауница никогда не расходились с делами. Он тут же взялся за перо и вскоре стал автором нашумевшей книги «Народный союз защиты Родины и свободы. Воспоминания». Стараниями ГПУ она вышла в Берлине в 1923 году. Но, к огорчению автора, содержала несметное количество орфографических и стилистических ошибок. А ведь Стауниц весьма ответственно подошел к своей работе. Этот прокол позволил всей эмиграции несколько недель судачить, что в России вовсе не осталось грамотных людей. Вы можете оценить это сами:
«В саму основу новой организации была положена ими ложь, интрига и фальшь: они превратили ее в аппарат шпионажа против Советской России, для обслуживания разведывательных бюро иностранных держав. Они думали сделать ее устойчивость при помощи гнусного шантажа. Сейчас, когда Второй Народный Союз Защиты Родины и Свободы умер, и будем надеяться, что умер окончательно, я, как единственное постороннее лицо, присутствовавшее при воскрешении его, и как член Всероссийского Комитета Союза, считаю своим долгом сорвать маски с могильщиков, представить их в истинном свете и поставить перед общественным судом бывших членов Союза и вообще русских людей».
На первых же страницах автор делает весьма знаковое заявление:
«Мы выкинули знамя беспощадного террора против советской власти, расстреливали коммунистов, пускали под откос поезда с продовольствием, организовывали пожары. Если хозяйственный аппарат Советской России развалился, если плохо работает транспорт, в этом значительная доля нашей вины».
Конечно, боевики савинковской организации активно действовали на территории СССР. Да, убивали коммунистов и организовывали диверсии. Но Стауниц имел в виду совсем другое. По скромности душевной он не упомянул, что речь-то идет о совершенно секретных документах, которые видели всего три человека: сам автор, то есть Стауниц, Савинков и Павловский. В мае 1927 года председателю Русского общевоинского союза генералу Кутепову удалось с ними ознакомиться. С удивлением он вчитывался в детали грандиозного плана химической и бактериологической войны против СССР, включавшей отравление зерна, предназначенного на экспорт из СССР, доставку в дипломатическом багаже бактерий и вирусов холеры, оспы, тифа, чумы, сибирской язвы, а также боевых газов. Александр Павлович бережно сохранил этот уникальный документ.
В бытность видным участником Союза защиты Родины и свободы Стауниц четыре раза бывал в Польше. Представляет интерес, что он писал об этом:
«На участие в антисоветской борьбе меня толкал кроме общего оппозиционного настроения еще ряд мелких из моей личной жизни условий, которые для читателя большого интереса не представляют, почему я на них останавливаться не буду. Мне удалось попасть по делам службы в Гомель, где я служил подряд несколько лет и имел широкие знакомства среди бывшего офицерства и местной интеллигенции. Здесь удалось заложить прочную ячейку, которая потом, по воскрешении союза развернулась в Западную областную организацию последней».
Прекрасное признание. Я долго не мог вспомнить, что же мне это напоминает. Наконец, я понял, что так же писал и Адольф Гитлер. Посвятив свою книгу «Майн кампф» всем погибшим участникам пивного путча, он предпочел не рассказывать об этом, ограничившись общими фразами: «Не стану тут распространяться о деталях. Это не является задачей моей книги. Я остановлюсь подробно только на круге тех событий, которые общезначимы для всех народов и государств и которые имеют таким образом большое значение и для современности». А ведь ничего более существенного в истории нацистской партии на тот момент не было…
Стауниц, сам того, видимо, не желая, открыл всей эмиграции некоторые ключевые моменты работы «Треста». Дело в том, что, рассказывая о своей деятельности в рамках Союза защиты Родины и свободы, он отметил, что всегда для конспиративных поездок за границу пользовался поездами, ссылаясь на суставный ревматизм и расширение вен на ногах. Так же поступал и Якушев, который в разговоре с Артузовым указывал, что купе международного класса гораздо более удобное, чем нелегальный переход границы по болотам и лесам. Стауниц неизменно пользовался законным отпуском для поездок в Варшаву. Так же впоследствии сделает и генерал Потапов, когда поедет в Сремские Карловцы к Петру Николаевичу Врангелю.
Весьма характерна для всей истории ненависть к Савинкову, которая незримо присутствует в каждой строке книги нашего героя. Он договорился даже до того, что свой грандиозный план бактериологической войны против большевиков приписал лидеру Союза защиты Родины и свободы. И еще ехидно заметил при этом, что Савинков всегда был столь занят, что не мог уделять ему более 15 минут. Однако для 60 минут, которыми суммарно наградил вождь своего верного соратника из Советской России, Стауниц был весьма осведомлен о планах борьбы с Советами.
Интересный нюанс: книга вышла под фамилией Селянинов. (Имя и отчество были знаковыми для Савинкова – Павел Иванович. Так великий террорист величал себя сам во время подготовки убийств Плеве и великого князя.) Именно под ней лидеры Союза защиты Родины и свободы знали Стауница. Чтобы они вовсе не сомневались, что это именно он, автор взялся немного рассказать и о себе. И самое главное: он сообщает детали и дает сигнал членам союза: все кончено, вы обречены:
«Так как я вполне согласен, что каждый человек хуже всего знает самого себя, то на себе долго останавливаться не буду. Происхожу из крестьянской семьи. Детство и юность провел в суровых условиях. Офицер военного времени в чине поручика. В подпольных организациях до революции не работал. В антисоветских подпольных организациях принял участие в начале октября 1920 года. До начала 1921 года занимал ряд ответственных должностей в военных учреждениях и штабах Красной Армии. В легкой степени страдаю общим недостатком русского офицерства, истрепавшего свои нервы в течение шести лет в опасностях и лишениях, – наклонностью к авантюризму. По своим политическим убеждениям всегда примыкал к левому крылу эсеров. До 1921 года жил исключительно в России.
Все виденное и слышанное за мое последнее пребывание в Варшаве давило меня зловещим кошмаром. Провал в ближайшем будущем неизбежен. Мне он был настолько ясен, настолько очевиден, настолько я его считал неизбежным, что в день своего отъезда из Варшавы я написал своей семье, проживающей в Риге, что я возвращаюсь в Советскую Россию, откуда, по всей вероятности, уже не вернусь и где погибну, а поэтому оставляю для пересылки через одну из Прибалтийских миссий сувениры для брата и сестры, а также свои последние фотографические снимки.
Благоразумие подсказывало одно – бежать из грязи самому в Россию, уже не возвращаться и крикнуть Западной организации: “Спасайся, кто может”. Так и следовало сделать. Но я этого сделать не мог. Бросить на произвол судьбы организацию был не в силах. Я решил вернуться обратно в Россию, и возможно скорее, или ликвидировать организацию безболезненно, или хотя бы оторваться от этой грязи, шантажа и шпионажа, пока еще гром не грянул. Я возвращался, но уже как жертва. Удар уже был занесен.
Я чувствовал, что гроза вот-вот разразится. Моя уверенность в этом так далеко зашла, что я перед отъездом написал даже завещание. На следующий день в Минске при ликвидации Белорусской ЧК явочных квартир на одной из них я и был арестован. Западная организация провалилась одновременно повсеместно.
Я долго не мог объяснить, не мог открыть тех стимулов, которые побуждали бывшее офицерство действовать подобным образом, и возможно, что истинную причину этого открыл только потому, что я сам – бывший офицер, что я сам прошел тот тернистый путь, по которому пришлось идти бывшему офицерству начиная с 1914 года. Для этого требовалось невероятное напряжение нервов: их нервам так же нужна была опасность, как легким воздух. Нервы их требуют сейчас постоянной опасности, риска, напряжения, и многие офицеры только благодаря этой особой психологической болезни и попадают в подпольные организации.
К вам, бывшим офицерам, обращаюсь я, вышедший из вашей же среды, с призывом: будьте благоразумны, будьте осторожны, не доверяйте своей судьбы политическим проституткам – они передадут ее в руки настоящих проституток. Так было в союзе, так будет и с вами.
По не зависящим от меня причинам я не могу принять в разоблачении гг. Савинковых того участия, которое я хотел бы принять. С большими затруднениями, при содействии некоторых моих друзей, мне удается выпустить настоящую брошюрку. Со своей стороны, я и мои друзья всегда будем готовы дать необходимые дополнительные справки».
Однако за справками никто не обратился. Да и сделать это было бы тяжело. Автор мемуаров, где были красочно описаны пьяные дебоши членов савинковской организации в Варшаве, в этот момент сидел в тюрьме. Его использовали как «подсадную утку», чтобы разговорить известного питерского профессора Таганцева. В результате деятельности Стауница под расстрел попали 97 человек. В том числе поэт Николай Гумилев. По делу проходили также основоположник отечественной урологии Федоров, бывший министр юстиции Манухин, известный агроном Вырво, архитектор Леонтий Бенуа – брат Александра Бенуа, крупнейшего русского художника, сестра милосердия Голенищева-Кутузова и многие другие. Бывший участник кутеповской организации Сергей Войцеховский в своих воспоминаниях «Трест» приводит отрывок из статьи в парижской газете «Последние новости»:
«В провалившейся в 1921 году организации покойного Савинкова он значился под фамилией Опперпута и под этим именем выступал вместе с Гнилорыбовым, как главный свидетель, во время слушания дела Союза защиты родины и свободы.
Позже Стауниц-Касаткин-Опперпут, кажется, под фамилией Савельева состоял в организации Таганцева, которую также предал.
По некоторым данным, Касаткин-Штауниц-Опперпут-Савельев в действительности латыш Упелинц, чекист, занимавшийся в 1918 году расстрелами офицеров в Петрограде и Кронштадте».
Сам Стауниц позднее будет все это отрицать. А вот другой факт он опровергнуть бы не смог, если бы кто-нибудь у него об этом спросил. Все члены его подпольной организации, в том числе и его невеста, были расстреляны ГПУ.
По официальной версии событий, которой пользовались все немногочисленные исследователи операций советской разведки против русской эмиграции, Стауниц в ожидании заслуженного им расстрела познакомился с еще одним героем этой истории – Якушевым, который также ждал расстрела. Но стенка так и не дождалась тогда обоих деятелей контрреволюции. 28 февраля 1922 года идеолог бактериологической войны, один из лидеров савинковского подполья, тщеславный и стремящийся к риску, мечтавший отравить всю Красную армию цианистым калием Эдуард Оттович Опперпут был взят на работу в контрразведку. В знаменитое Главное политическое управление. Ему поверили. Помогли остепениться. Вскоре он даже женился. Родилась дочь. Чекисты поставили для начала одно условие: фамилию нужно сменить. Больно на слуху она. Так он стал Стауницем, человеком № 2 в операции «Трест»…
Глава 4 Рождение «Треста»
Началом самой известной и успешной операции ГПУ против русской эмиграции принято считать убийство видного большевика Вацлава Воровского в Лозанне 10 мая 1923 года. Он прибыл во главе советской делегации в Лозанну на международную конференцию по Ближнему Востоку, чтобы подписать и поныне действующую конвенцию о режиме судоходства в контролируемых Турцией черноморских проливах. Вечером Воровский ужинал в ресторане гостиницы «Сесиль» со своим помощником Максимом Дивильковским и Иваном Аренсом, берлинским собкором агентства новостей РОСТА (сегодня – ТАСС), освещавшим работу конференции в советской печати. Увлекшись разговором, они не обратили внимания на молодого человека, подошедшего к ним от соседнего стола.
Судя по всему, Воровский так и не успел понять, что произошло. Вытащив из кармана брюк браунинг, молодой человек сразил его наповал первым же выстрелом в затылок. Еще две пули достались Аренсу – раненный в плечо и бедро, он вместе со столом обрушился на пол. Дивильковский, не имевший при себе никакого оружия, бросился на террориста. Тот выстрелил в упор в последний раз, ранив юношу в бок, протянул оружие подбежавшему метрдотелю и, улыбнувшись, сказал: «А теперь зовите полицию!»
Кто же убийцы? Стрелявшим был Морис Конради. Он родился в 1896 году в семье владельцев шоколадной фабрики и, по собственному признанию, ощущал себя полностью русским, никогда не вспоминая о швейцарских корнях. В 1916 году, не доучившись на инженера в Петроградском технологическом институте, ушел добровольцем на фронт. За год дослужился до чина поручика. Командовал ротой.
После октября 1917 года шоколадная фабрика Конради была национализирована. Дядю, тетю и старшего брата Мориса расстреляли во время красного террора. В приговоре было отмечено: агенты мировой буржуазии. Отец, взятый большевиками в заложники, умер от голода в тюремной больнице. Сам Морис Конради служил в легендарной офицерской Дроздовской дивизии. Это о нем пелось в марше «малиновых»:
Вперед поскачет Туркул славный, За ним Конради и конвой. Услышим вновь мы клич наш бранный, Наш клич дроздовский боевой. Смелей, дроздовцы удалые! Вперед без страху! С нами Бог! С нами Бог! Поможет нам, как в дни былые Чудесной силою помог. Да, сам Бог!Штабс-капитан Морис Конради прошел всю Гражданскую войну. С армией эвакуировался из Крыма в Галлиполи. Вместе с женой переехал потом в Швейцарию, где с помощью дальней родни устроился скромным клерком в один из торговых домов Цюриха. Там же к нему присоединились мать и четверо младших братьев и сестер, чудом выбравшихся из России, доказав свое швейцарское гражданство.
В марте 1923 года он уволился и отправился в Женеву, где встретился со старым другом и однополчанином – 33-летним Аркадием Полуниным, работавшим в не признанной большевиками российской миссии при Международном Красном Кресте. Конради заявил о своем желании «убить кого-нибудь из советских вождей, чтобы отомстить за семью». Полунин немедленно предложил устроить покушение в Германии на наркома иностранных дел советской России Чичерина и посла в Англии Красина. Штабс-капитан, приехавший в Берлин 13 апреля 1923 года, не застал их в советском постпредстве и, огорченный неудачей, вернулся в Женеву. Там-то он и узнал из газет о прибытии большевистского наркома в Швейцарию. Его судьба была решена…
На следующий день после убийства Воровского арестовали Полунина. Он сразу признался, что был единственным сообщником Конради. Но советское руководство во всем обвинило швейцарские власти, заявив, что они потворствуют террористам и не могут обеспечить безопасность. В последовавшей долгой полемике «Кто виноват?» точку поставили послы европейских держав, которые собрались на конференцию: «Ответственность за политическое преступление должна нести страна, на территории которой оно произошло».
Процесс по делу об убийстве Воровского начался в Лозанне 5 ноября 1923 года. Уже во вступительном слове ничуть не раскаявшийся Морис Конради заявил: «Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идет вперед по пути прогресса. Надеюсь, что моему примеру последуют другие смельчаки, проявив тем самым величие своих чувств!» Защищавшие Конради и Полунина известные швейцарские адвокаты Сидней Шопфер и Теодор Обер сумели превратить процесс в суд над большевизмом. За десять дней слушаний перед присяжными выступило около 70 свидетелей, вынужденных покинуть Россию, спасаясь от красного террора. Исход суда стал ясен после пятичасового выступления Обера. В конце речи он сказал:
«Ваш вердикт может способствовать освобождению великого народа, стонущего под рабским игом большевизма. Однако для него этот вердикт должен явиться безоговорочным приговором коммунизму. Иначе ночь, царящая сейчас в России, станет еще беспросветнее, а рабство русского народа – еще более тяжким: он будет им еще более подавлен, и повсюду будут сомневаться в самой возможности правды и справедливости.
Кончая, я повторю еще раз: Конради и Полунин совершили не убийство, а акт правосудия. Они по мере своих сил и жертвуя собою, выполнили миссию, которую должна была выполнить Европа и которую она выполнить не посмела. Сэр Робертсон, моральный авторитет коего непререкаем, – живой свидетель большевизма – сказал: “Суд приближается, и если мы страдаем на Западе, оставаясь бездушными свидетелями большевистских преступлений, то наше страдание должно почитать весьма слабым наказанием за нашу недопустимую терпимость”.
В то время как вы, господа присяжные, будете совещаться в этом отныне историческом зале, вокруг вас будет тесниться огромная, невидимая и молчаливая толпа – миллионы русских смертников… умерших от голода, миллионы страдальцев, умерших под пыткой, – мужчин, женщин, старых и молодых, врачи, сестры милосердия, горожане, крестьяне, рабочие, священники – распятые на кресте… Вы ясно почувствуете, души всей этой массы русских страдальцев на вашей совести.
Все они взывали и взывают о справедливости, но тщетно до сих пор. Никто им не ответил. Никто им не сказал слова утешения и правды. Но вы, вы им ответите!»
14 ноября 1923 года присяжные большинством в девять против пяти голосов признали Мориса Конради действовавшим под давлением обстоятельств, вытекавших из его прошлого и, стало быть, не подлежавшим уголовному наказанию. Судья также обязал убийц возместить судебные издержки и ходатайствовал о высылке Полунина из страны за злоупотребление правом убежища и нарушение общественного порядка. Этот оправдательный приговор был с большим одобрением встречен русской эмигрантской прессой. Парижские «Последние новости» писали 18 ноября 1923 года:
«Преклонимся перед приговором присяжных. Самое распределение голосов показывает, что в совещательной комнате аргументы “за” и “против” боролись упорно, и если, в конце концов, победители первые, то тем большее значение для нас имеет решение совести. Чтобы вынести это решение, швейцарские судьи должны были перешагнуть через угрозу репрессий швейцарцам, оставшимся в России, через предубеждение обвинителя, что этим создается безнаказанность политических убийств на швейцарской территории, – наконец, – через бесспорный факт самого преступления, совершенного Конради и признанного присяжными единогласно.
Оправдание Конради и Полунина не есть, конечно, оправдание “белого движения”, как, быть может, постараются в противоположных целях представить дело обе стороны. Но это, несомненно, есть осуждение большевистского режима в том, что в нем является противоречием общечеловеческой этике и праву. Это есть осуждение системы насилия человека над человеком во имя классовой ненависти. Это есть признание, что к построенному на этом начале “государству общечеловеческие нормы закона и права неприменимы”».
Совсем по-другому встретили решение суда в советской России. По стране прокатились многотысячные митинги протеста. Трудящиеся требовали строго наказать убийц. В выражениях особо не стеснялись. Тут вам и «сучий куток эмиграции, возглавляемый монархической сволочью», и «отъявленные белогвардейско-эсеровские негодяи», и «мутная пена буржуазно-контрреволюционных кадетов». Точку поставила газета «Правда»:
«Путь обычный: святые всегда набирались из разбойников и убийц. Не удивительно, что когда русской белогвардейщине, то есть тем же разбойникам дворянам понадобился в ударном порядке святой, его, по старым традициям, выбрали из среды убийц и грабителей. Выбор оказался удачным и даже весьма удачным. Стаж у Конради оказался великолепный. Школу хамства, пьянства и разврата он прошел в царской армии. А там по этим предметам нужно было знать на пять с плюсом.
Школу грабежа и убийства Конради прошел у Колчака и Деникина. Убийство и грабеж в соединении с хамством, пьянством и развратом дали такой букет, что хоть сейчас без экзамена ступай в “равноапостольные”. Кто мог лучше, чем он, подойти на амплуа “героев” и “святых” у зарубежной белогвардейщины?
И выбор, натурально, пал на него. Фашисты дали револьвер. Счет за него будет предъявлен русским монархистам, когда они получат новую субсидию от Антанты.
История вынесет свой приговор не над Конради, а над его судьями, над страной, где происходит этот знаменитый суд над всеми странами, где правит буржуазия. Пролетариат глубоко врежет в памяти своей приговор лозанского суда, чтобы при случае не забыть, чтобы при случае его вспомнить.
Конечно, не столько те 9 присяжных, 9 подобранных судей буржуазной совести, которые так ловко “разбили” свои голоса, что убийцы тов. Воровского ушли обласканными и поощренными. И даже не председатель суда, который с первого дня дал понять наемным убийцам, что они могут держать себя на суде как дома и угрожать новыми убийствами. И даже не прокурор, который так составил обвинительный акт, чтобы оправдать уличенных и скрытых преступников. И даже не следователь, который замел следы, ведущие к главным вдохновителям преступления, и посадил на скамью подсудимых одних исполнителей. Оправдала убийц тов. Воровского та международная шайка, которая выбрала место, время и обстановку убийства, которая застигла тов. Воровского в Лозанне, когда он мог не подозревать о вероломстве швейцарских властей, и, застигнув, пустила в него рукой Конради несколько пуль.
Международные организаторы убийства тов. Воровского обеспечили оправдание физическим убийцам. Пусть трудящиеся всех стран запомнят этот главный урок лозанского суда».
Чтобы не возвращаться к этой теме, скажу несколько слов о судьбах Конради и Полунина после процесса. Дроздовский штабс-капитан надолго исчезнет из Европы, прослужит несколько лет во французском Иностранном легионе в Африке. Незадолго до присвоения офицерского звания сержант Конради ударил по лицу своего командира. Тот обозвал подчиненного «русской свиньей». И капитан гвардейской артиллерии, награжденный орденом Святого Георгия IV степени за подвиги на фронте Первой мировой войны, не сдержался. Конради изгнали из легиона. Сведения о его дальнейшей судьбе крайне противоречивы, даже дата и причины смерти разнятся. Но, судя по всему, он был участником французского Сопротивления в годы Второй мировой войны и умер в 1946 году. Единственное, что точно известно: Морис Конради жил затворником, опасаясь мести чекистов.
Место его захоронения неизвестно. А ведь о храбрости Мориса ходили легенды не только в Дроздовской дивизии. Однако до сих пор крайне редко встречаются фотографии штабс-капитана, сделанные на фронте или в эмиграции. Конради таким образом защищали от всесильной Лубянки. Ведь опасения его сослуживцев не были напрасными. Еще в 1923 году, выступая на митинге в Москве, председатель ГПУ Феликс Дзержинский заявил: «Мы доберемся до негодяев». Через десять лет при странных обстоятельствах умрет Аркадий Полунин. Умрет 23 февраля, в день Рабоче-крестьянской Красной армии…
* * *
В иностранном отделе ГПУ решили использовать удачную встречу Якушева с Артамоновым и, коли он выразил желание сотрудничать с органами, – приступить к серьезным действиям. На Лубянке хорошо понимали, что одного действительного статского советника явно недостаточно, чтобы эмиграция поверила в существование Монархической организации Центральной России. Было принято решение, выражаясь современным языком, привлечь в ряды контрреволюционной организации политических тяжеловесов, хорошо известных всему русскому военному зарубежью. Так, главой МОЦР стал генерал-лейтенант Русской императорской армии, профессор советской Военной академии, автор научных трудов о Первой мировой войне Андрей Медардович Зайончковский. Его заместителем – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов. Якушеву досталась должность главы политсовета и ответственного за переговоры с эмигрантскими организациями. А Стауниц ведал финансовой составляющей и исполнял роль секретаря: именно он шифровал все письма за границу. Для пущей достоверности в «Трест» ввели и самых настоящих врагов рабоче-крестьянского государства: камергера Ртищева, балтийского барона Остен-Сакена, нефтепромышленника Мирзоева, тайного советника Путилова. Но русской эмиграции довелось увидеть только двух заговорщиков: Якушева и Потапова. Стауница решили от греха подальше за границу не отправлять. Тогда же МОЦР стала именоваться «Трест», как сказал бы Остап Бендер: для конспирации, гофмаршал.
Вот теперь можно было начинать играть по-крупному. Якушев сообщил Артамонову, что на съезде Монархической организации Центральной России постановили признать великого князя Николая Николаевича главой монархического движения как местоблюстителя российского престола и верховного главнокомандующего белой рати:
«Из прилагаемого постановления вы убедитесь в том, что съезд состоялся, и велико было наше огорчение, когда мы так и не дождались вашего представителя. Что касается моего приезда, то я счастлив буду, если позволят обстоятельства, повидать вас всех, дорогие собратья.
Теперь текст постановления нашего съезда – приведу только начало, которое глубоко волнует: “Горестно было русскому сердцу пережить горькую весть о том, что великий князь Кирилл объявил о своих притязаниях на императорский Российский престол. Болит сердце за наше общее дело. Мы здесь, пребывая в смертельной опасности, каждодневно готовы отдать наши жизни, сознавая, что только его высочество великий князь Николай Николаевич, местоблюститель престола, может спасти страждущую отчизну, став во главе белой рати как ее верховный главнокомандующий…”»
Поздней осенью 1922 года Якушев поехал за границу в служебную командировку. Ему необходимо было встретиться с членами Высшего монархического совета и прежде всего с Марковым-вторым. Только заручившись его поддержкой, можно было внушить части эмиграции, что он – авторитетный представитель разветвленной подпольной организации, объединившей многих влиятельных заговорщиков в советской России.
По дороге в Берлин к нему присоединились старый знакомый Юрий Артамонов и племянник генерала Врангеля Петр Арапов, входивший в модную тогда Евразийскую организацию. В своем отчете Артузову Якушев достаточно подробно описал переговоры с Высшим монархическим советом:
«В Берлине состоялась первая встреча с заправилами Высшего монархического совета. Она происходила в магазине ковров, мебели, бронзы и фарфора в первом часу ночи. В этом магазине полковник фон Баумгартен служит ночным сторожем.
Почему избрано такое странное место, как магазин, для конфиденциального совещания? Оказалось – из предосторожности. Квартира, где помещается Высший монархический совет, принадлежит Е. Г. Воронцовой, там же обитает бывший обер-прокурор Синода – Рогович, болтун и рамолик, он стал бы подслушивать.
Я кое-что уже знал об этих господах, ночь до Берлина прошла в разговорах с Артамоновым и Араповым, которых по молодости лет не очень допускают в высшие сферы. Они недовольны и не без яду рассказывали мне, что делается в этих сферах, пополняя мою эрудицию.
Кирилловцы, сторонники Кирилла Владимировича, провалились окончательно. Высший монархический совет ставит на Николая Николаевича – “местоблюстителя престола”. Кирилловцы его отвергают как претендента на трон. Он не прямой наследник и бездетен. Окружают Николая Николаевича титулованные особы, впавшие в маразм, и болтуны. Сохранил солидные средства принц Ольденбургский, он почетный председатель совета.
Сидя в золоченом кресле в стиле Людовика XV, я произнес пламенную речь, выразил верноподданнические чувства “Треста” по отношению к “блюстителю” престола и добавил, что подробнее изложу все в докладе, который пишу. По лицам этих господ понял, что экзамен выдержан, но ожидается приезд из Парижа Н. Е. Маркова,[13] ближайшего советника Николая Николаевича. Он доверяет Маркову.
Марков прибыл в Берлин вместе со старым князем Ширинским-Шихматовым. Свидание состоялось на Лютцовштрассе, 63. Оба уставились на меня, когда я говорил о создании монархической партии внутри России, тесно связанной с Высшим монархическим советом за границей.
Однако Марков, желчный и глупый старик, прервал мою декларацию и спросил о настроениях Красной Армии и какие именно части армии я считаю наиболее подготовленными к участию в перевороте. Чувствую, что старцы не разбираются в военных вопросах. У Маркова в руках шпаргалка с вопросами.
– Когда можно рассчитывать на переворот?
– Придется подождать года два.
– Кто ваш верховный эмиссар?
Отвечаю, как условлено в Москве: “Генерал Зайончковский”.
– Православный? Хорошо.
Обрадовались, что не входит Джунковский: “Ненадежный человек”.
Марков торжественно сообщил, что был принят Николаем Николаевичем.
– Его высочество согласился возглавить монархическое движение, но ждет призыва из России, о существовании вашей организации знает.
Испускаю вздох облегчения. Почтительно высказываю желание увидеть кого-нибудь из императорской фамилии. Марков обещает свидание с великим князем Дмитрием Павловичем (Николай Николаевич никого не принимает). На этом кончается трехчасовая беседа.
Два дня мы обсуждали программу берлинского монархического съезда. Возник разговор о тактике “Треста”. Козырял старыми черносотенными лозунгами. Никаких партий, кроме монархической. Восстановление самодержавной монархии. Земельная политика? Тут вскочил Николай Дмитриевич Тальберг – маленький, щуплый крикун: “Предлагаю конфисковать имение Родзянки как виновника революции”. Его успокаивали: “Конфискуем”. Я вношу проект: “Образование государственного земельного фонда, вся земля принадлежит государю, он жалует землей дворянство, служилое сословие. Крестьянам – “синюю бумажку” – купчую на землю, но, разумеется, за выкуп, за деньги. Переходим к тактике. Вопрос об интервенции: называют 50–60 тысяч белых и 3–4 тысячи иностранцев. Откуда начинать поход – с севера или с юга?”
Гершельман предлагает с Петрограда. Подготовить торжественную встречу в Московском Кремле. Монарх непременно из рода Романовых. Основные законы пересоставить до коронации.
В Берлине у меня продолжались переговоры с молодыми – Араповым и Артамоновым. Их настроения таковы, что явилась мысль о создании внутри Монархического совета оппозиционной партии из молодых. Арапов, конечно, убежденный монархист, но особой формации, участник так называемых евразийских сборников “На путях” и “Поход к Востоку”. В лице его “Трест” приобрел сторонника и почитателя. Я убедил его, что мы готовим переворот не для того, чтобы отдать власть старцам, которые ничему не научились и ничего не забыли. Нам надо выработать программу и тактику на основе того, мол, чтобы Россия по своему географическому положению руководила Европой и Азией. И потому пути “Треста” совпадают с евразийским движением. Сказал и слегка испугался: неужели клюнут на такую чепуху? Представьте – клюнули.
Бросил мысль о вожде наподобие “дуче” Муссолини. Встретили с энтузиазмом. В общем, молодые – хороший материал для оппозиции старцам…»
Якушев превосходно справился с возложенной на него ролью лидера крупнейшей антибольшевистской организации, взгляды которой совершенно идентичны позиции Высшего монархического совета. Именно под влиянием его выступлений в журнале «Двуглавый орел» в № 78 от 25 февраля 1923 года появилась знаковая статья о пользе сохранения Советов после свержения правительства Ленина:
«Наша эмиграция должна теперь усвоить, что в местных советах, очищенных от коммунистической и противонародной накипи, находится истинная созидательная сила, способная воссоздать Россию. Эта вера в творчество истинно русских, народных, глубоко христианских советов должна сделаться достоянием эмиграции. Кто не уверует в это, оторвется от подлинной, живой России».
Самое интересное, что эта статья появилась через две недели после публикации статьи… самого Якушева, в которой он достаточно подробно описывает будущее устройство России: царь и Советы. (Когда сегодня начинают убеждать, что этот лозунг ввел в оборот А. Л. Казем-Бек в 1926 году, не могу сдержать ироничной улыбки. Все было значительно раньше. Лидер младороссов просто позаимствовал модную идею, придуманную либо Артузовым, либо Пилляром.)
Марков-второй сдержал свое обещание: Якушеву удалось встретиться с великим князем Дмитрием Павловичем. Очарованный выступлением председателя политсовета Монархической организации Центральной России, он вручил письмо лидерам «Треста», в котором одобрительно отзывался об их деятельности.
* * *
В августе 1923 года Якушев отправился в Берлин в очередную командировку. В этот раз он должен был встретиться с представителями русской армии генерала Врангеля. В частности, с генералами фон Лампе и Климовичем. Свидание с последним заставляло агента ГПУ изрядно нервничать. Ведь Евгений Константинович Климович, бывший начальник департамента полиции Российской империи, возглавлял контрразведку в штабе Врангеля. Якушев прекрасно понимал: одно неверное слово – и он будет раскрыт. Более того – убит. А страх перед смертью издавна считался лучшим стимулятором для человека в критической ситуации.
7 августа встреча состоялась. На ней кроме Якушева, фон Лампе и Климовича присутствовали известный политик Шульгин и консультант при военном представительстве Врангеля в Берлине Чебышев. Гость из Москвы с любопытством, скрываемым за полным благородного достоинства взглядом, рассматривал знаковые фигуры для русской эмиграции. Потом он сделал двухчасовой доклад. Якушев говорил осторожно. Начал с экономических вопросов, подчеркнув, что новая экономическая политика большевиков способствует грядущему монархическому перевороту. Народ ждет монарха. И это главное. Осветил земельный вопрос. А вот по военным делам говорить отказался. Дескать, трудно ему, человеку сугубо штатскому. Но скоро в Берлин приедет начальник штаба МОЦР, авторитетный военный, который сможет удовлетворить любопытство представителя Врангеля.
Едва Якушев закончил говорить, как встал Климович. Пристально глядя в глаза гостю, он попросил его ответить всего на один вопрос: каким образом столь многочисленной организации удается избежать арестов? Агент ГПУ внутренне похолодел. Позднее в своем отчете для Лубянки он напишет, каков примерно был его ответ:
«Господа, неужели вы думаете, что гражданская война, голод и возврат к нэпу не посеяли разочарование, неверие в революцию? Дальше, прошу не обижаться, но вы, господа, судите примерно как в басне Крылова: сильнее кошки зверя нет. А кошка нас кое-чему научила, хотя бы конспирации. Мы имеем своих людей во всех звеньях советских учреждений и имеем возможность отводить удары. Наконец, господа, сидя здесь, в Берлине, трудно иметь представление, что делается в Москве, в России…»
У других участников встречи вопросов не возникло. Фон Лампе поблагодарил Якушева за интересный доклад и проводил его. Едва за гостем закрылась дверь, как встал Климович. Оглядев своих соратников, он, чеканя слова, бросил: «Господа, это опасный человек. Он провокатор ГПУ». На него набросились с упреками, мол, как можно так говорить о соратнике из Москвы. Климович сделал вид, что согласился, и лишь его глаза выдавали сокровенные мысли: от своих слов он не отказывался.
Для Якушева испытания не закончились. Дело в том, что о его визите к представителям барона Врангеля немедленно узнали лидеры Высшего монархического совета. Для них чины русской армии были лютыми врагами. Прежде всего генерал Климович, открыто называвший Маркова-второго перечницей. Подробности нелицеприятного, но крайне необходимого ГПУ для укрепления позиций «Треста» разговора с Марковым Якушев описал в своем отчете для Артузова:
«– Готовы ли вы к перевороту?
– А вы готовы? Назовите имя будущего хозяина земли русской?
– Голубчик, Вы должны понять…
– А мы назвали это имя на съезде МОЦР: его императорское высочество Николай Николаевич! Другого люди не знают и знать не хотят!
– Но единственная преграда – великий князь стар и бездетен. Неприемлем как претендент на престол с легитимной стороны. Существует закон о престолонаследии. Мы понимаем ваши чувства, но вы поступили неразумно…
– Поступили, как велит совесть! Николай Евгеньевич! Не великие князья Кирилл и Дмитрий Павлович, а его императорское высочество Николай Николаевич! И вот вам наше последнее слово: если вы не поддержите нас – мы отойдем от вас, а на Европу нам…»
Внимательно изучив итоги встреч в Берлине, руководство иностранного отдела ГПУ приняло решение ввести в игру новое действующее лицо – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Михайловича Потапова. Старый знакомый Якушева по Петербургу, он был прекрасно известен и штабу генерала Врангеля.
* * *
Н. М. Потапов родился в 1871 году в Москве в семье чиновника. Окончил кадетский корпус, артиллерийское училище и Академию Генерального штаба. В годы Первой мировой войны служил в главном управлении Генерального штаба на должности генерал-квартирмейстера. Опытнейший разведчик царской армии, он пользовался в Генштабе заслуженным авторитетом, и поэтому его решение сотрудничать с советской властью повлияло и на выбор многих его младших коллег. Правда, имеются сведения, что Потапов уже с июля 1917 года сотрудничал с Военной организацией Петербургского комитета РСДРП(б), и если это действительно так, то его решение признать большевиков выглядит вполне естественным.
После Октябрьского переворота Потапов занимал должность начальника главного управления Генштаба, одновременно являясь помощником управляющего Военным министерством и управляющим делами Наркомвоена.
В июне 1918 года он стал членом Высшего военного совета, спустя год – председателем Военного законодательного совета при Революционном военном совете республики. Таким образом, он не участвовал в Гражданской войне и не вызывал аллергию у штаба Врангеля. Но прежде чем отправляться к барону, Потапову поручили познакомиться с лидерами Монархической организации Центральной России.
Он с интересом смотрел на заговорщиков. Особенно ему понравился доклад бывшего нефтепромышленника Мирзоева о финансах МОЦР:
«В конфиденциальном письме из Парижа мои родственники, Черноевы, пишут: “Вы, наверно, думаете, что мы располагаем прежними возможностями, и ошибаетесь. Подлец Гукасов продал свой нефтеналивной флот англичанам. На его счастье, флот находился в британских водах. Он как был, так и остался миллионер. Мы же не могли вывезти принадлежавшие нам нефтяные источники в Европу, как Вам известно. Откуда же нам взять средства, чтобы помочь нашим друзьям?” Я не буду читать полностью письма, но ознакомлю вас с таким предложением: “Если бы вам удалось устроить хотя бы небольшое восстание на северном Кавказе, то можно было бы здесь представить его как начало большого дела. И я уверен, что деньги бы тотчас нашлись. Мы знаем от генерала Улагая и его братьев, что на Кавказе найдутся люди, есть и хорошо спрятанное оружие, – следовательно, МОЦР остается взять дело в свои руки…»
Потапов довольно жестко объяснил заговорщикам, что небольшое восстание ничего не даст. У Красной армии достаточно сил, чтобы подавить его в кратчайшие сроки. Члены политсовета заметно погрустнели. Пришлось Якушеву их успокоить. Он сказал, что в ближайшее время вместе с Потаповым отправляется за границу, чтобы договориться о взаимодействии с Русским общевоинским союзом, в который была преобразована русская армия генерала Врангеля.
19 октября 1923 года Потапов и Якушев «нелегально» отправились в Польшу. После быстро достигнутых договоренностей в Варшаве (МОЦР признает независимость Польши, а польская разведка продолжает за это помогать боевым группам проникать на территорию СССР) бывший генерал-лейтенант Русской императорской армии отправился в Югославию. В Сремские Карловцы. В штаб к барону Врангелю.
Врангель принял Потапова и долго беседовал с ним. Выпускники Николаевской академии Генерального штаба вспоминали былые дни и говорили о нуждах Белого движения в новой обстановке. И все же червь сомнения точил Петра Николаевича. Уже в самом конце встречи он спросил гостя из советской России, как же ему удается покидать должность в Красной армии на столь длительный срок, чтобы путешествовать по Европе. Потапов тогда объяснил, что официально он сейчас в отпуске, на охоте в тайге. Барон поверил.
Уже потом, спустя годы, всех в эмиграции мучил вопрос: почему же словам Якушева и Потапова доверяли? Попытался найти ответ на него и бывший участник операции «Трест» Сергей Войцеховский:
«Мы были молоды и воспитаны в традициях той России, для которой военный мундир был порукой чести. Мы не могли представить себе генералов Зайончковского или Потапова презренным орудием чекистов. Мы были, до известной степени, одурманены открывшейся перед нами возможностью легкой связи с Россией и благополучного оттуда возвращения.
Мы сознавали себя не бедными, бесправными эмигрантами, а звеньями мощного подпольного центра на русской земле. Мы были готовы на любую жертву, но, по сравнению с чекистами, были наивными детьми.
Теперь я знаю, что бывший генерал-лейтенант Потапов, называвший себя в Тресте Медведевым, был офицером генерального штаба, прослужившим 12 лет в Черногории и вернувшимся в Россию за два с половиной года до февральской революции, к которой он незамедлительно примкнул.
Теперь мне известно, что большевики назначили его в ноябре 1917 года первым советским начальником генерального штаба, преемником отстраненного ими генерала Марушевского, и что позже он, по их назначению, был помощником управляющего военным министерством, большевика Подвойского.
Поэтому я теперь не понимаю, как могли его сверстники, бывшие начальники и сослуживцы, поверить в искренность его монархических взглядов. Но тогда Потапов был в моих глазах заслуженным офицером царской службы, поставившим на карту жизнь ради восстановления монархии».
«Трест» пользовался фантастическим успехом. Пожалуй, даже Артузов не ожидал, что все так легко получится. Генерал Кутепов решил больше не рисковать своими людьми напрасно и отправлять их в Россию по каналам Якушева. О лучшем на Лубянке и мечтать не могли.
Особенно когда узнали, кого именно посылает Александр Павлович в Москву. Фамилия Захарченко-Шульц не была пустым звуком для иностранного отдела ГПУ, и там сделали все возможное, чтобы подготовить ей достойную встречу.
Глава 5 Русская Жанна д’Арк
Мария Лысова (это ее девичья фамилия) родилась 9 декабря 1893 года в семье действительного статского советника Владислава Герасимовича Лысова. Она очень рано потеряла мать, которая умерла вскоре после рождения дочери. Первые годы прошли в Пензе в родительском имении. Образование сначала она получала дома, потом был Петербург. Знаменитый Смольный институт благородных девиц – лучшее в империи учебное заведение для девушек из дворянских семей. Воспитанницам давалось блестящее образование и прекрасное воспитание. Отлично проявившие себя выпускницы вполне могли быть определены на службу во дворце. Мария Владиславовна Лысова окончила Императорское воспитательное общество в 1911 году.
В 20 лет она вышла замуж за офицера лейб-гвардии Семена Сергеевича Михно. Молодые поселились в доме № 54 на Загородном проспекте, где на казенных квартирах проживало большинство офицеров. Но безмятежной жизнь полковой дамы одной из элитных частей Императорской армии была относительно недолго. Грянула Первая мировая война. В августе 1914 года начальник команды конных разведчиков штабс-капитан Михно отправился на фронт. Через несколько месяцев, тяжело раненный в бою, он умер на руках своей жены. Мария Владиславовна, у которой только что родился ребенок, стала вдовой.
Жизненная драма потрясла молодую женщину, но не сломила ее. Она приняла решение, которое многие назвали сумасбродством: добровольно пойти на фронт, чтобы заменить мужа в рядах родного полка. Надо сказать, что в Русской императорской армии женщина в строю была исключительной ситуацией, почти невозможной в жизни со времен знаменитой на всю страну кавалерист-девицы корнета Дуровой. Это уже потом в страшные дни краха России женщины станут формировать ударные батальоны, стараясь своим примером подбодрить мужчин. Но в 1914 году в лучшем для себя случае Мария Владиславовна могла рассчитывать на должность сестры милосердия. И вот тут-то она прибегает к помощи великой княжны Ольги Николаевны – старшей дочери Николая Второго. Еще в 1909 году государь назначил ее шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка. Это было большой честью для армейского полка, и елисаветградцы гордились таким шефством. В полковом марше даже были такие слова:
Мы гусары не из фольги, Всяк из нас литой булат, Бережем мы имя Ольги, Белый ментик и штандарт. В поле брани, в поле чести Имя Ольги нам закон…Во время войны Ольга Николаевна, как и другие августейшие дочери императора, находилась в Петрограде и самоотверженно ухаживала за ранеными, но связи со своим полком не теряла. К ней и обратилась молодая вдова с необычной просьбой. В результате Николай Второй приказал военному министру генерал-адъютанту, генералу от кавалерии Сухомлинову сделать соответствующее распоряжение. Преодолев все многочисленные препятствия и формальности, Мария Владиславовна, оставив ребенка на попечении родных, в 1915 году поступила вольноопределяющимся в 3-й гусарский Елисаветградский ее Императорского высочества Великой княжны Ольги Николаевны полк.
* * *
С самого начала Первой мировой войны елисаветградские гусары участвовали в боях в Восточной Пруссии. Там же застало их лето 1915 года. Мария Владиславовна была зачислена в пятый эскадрон ротмистра Обуха под именем вольноопределяющегося Андрея Михно. Уже в эмиграции ее однополчанин штаб-ротмистр Архипов вспоминал:
«Она недурно ездила верхом по-мужски, но, конечно, никогда не обучалась владению оружием и разведке: значит, с боевой точки зрения была бесполезна. Мало того, постоянное днем и ночью присутствие молодой женщины, переодетой гусаром, очень стесняло офицеров и солдат. Командир полка и не прочь был бы избавиться от такого добровольца, но ему подтвердили, что все сделано по личному желанию Государя Императора. Пришлось смириться со свершившимся фактом».
Но Мария Михно сумела в кратчайшие сроки доказать всем скептикам, что ее прибытие на фронт – не блажь воспитанницы Смольного, которая воспользовалась протекцией великой княжны и самого государя императора. Кроме театрального переодевания ничего предосудительного в ней не было. Скромная, тактичная, она смело шла навстречу любой опасности и этим увлекала других. Не только офицеры полка, но и солдаты, у которых женщины-добровольцы зачастую вызывали смех, уважали ее. Все тот же ротмистр Архипов вспоминал позднее:
«Следует упомянуть, что за период, проведенный в рядах полка, находясь постоянно в боевых делах, М. В. Михно обучилась всему, что требовалось от строевого гусара, и могла на равных соперничать с мужчинами, отличаясь бесстрашием, особенно в разведке».
В ноябре 1915 года, вызвавшись добровольно проводником к команде разведчиков ее дивизии, ночью она вывела свой отряд в тыл немецкой роты. Большинство солдат противника были уничтожены, оставшиеся в живых – взяты в плен. Во время другого рейда Мария Владиславовна в сопровождении двоих солдат наткнулась на немецкую заставу. Неприятель открыл огонь. Один солдат был убит, другой ранен. Но она, сама получив ранение, под страшным огнем сумела вынести на руках своего истекавшего кровью однополчанина.
В 1916 году в Добрудже пятый эскадрон елисаветградских гусаров под командой штабс-ротмистра фон Баумгартена занял одну болгарскую деревню. Въехав на коне в какой-то двор, уже произведенная в унтер-офицеры Мария Владиславовна неожиданно натолкнулась на болгарского пехотинца и стала на него столь неистово кричать, что солдат растерялся, бросил винтовку и поднял руки. Потом он был очень сконфужен, узнав, что его взяла в плен женщина. Пусть даже и награжденная двумя Георгиевскими крестами и медалями «За храбрость».
В конце 1916 года полк был отведен с фронта на отдых в Бессарабию. Здесь гусаров и застала Февральская революция, которая, однако, не оказала на чинов сколь-нибудь заметного влияния. Елисаветградцы были одной из очень немногих частей Русской императорской армии, которым удалось до конца сохранить воинскую дисциплину и не поддаться революционным настроениям, царившим в стране. Только на Рождество 1918 года, надев парадную форму, так и не признавшие новой власти Ленина и Троцкого гусары стали покидать полк. Командир полка полковник Такаев с несколькими штаб-офицерами пытался добраться до Добровольческой армии генерала Корнилова. Но по дороге «золотопогонники» были арестованы и расстреляны.
* * *
Большевистский переворот и полный развал фронта вынудили Марию Владиславовну вернуться в родительское имение в Пензенской губернии. В то время там пронесся ураган революционной вакханалии: обезумевшие от вседозволенности толпы «освобожденных трудящихся» грабили магазины, жгли усадьбы, бессмысленно и беспощадно убивали всех, кто им не нравится. На привокзальной площади убили проезжавшего через Пензу капитана за то, что он не снял погоны. Раздев фронтовика догола, «революционеры» с хохотом таскали его тело по снегу Московской улицы. Крестьяне на сельском сходе постановили убить старуху-помещицу Лукину вместе с дочерью и забили их кольями. Убили и помещика Скрипкина, после чего затолкали его останки в бочку с квашеной капустой. Бывший первопоходник Роман Гуль в своей хронике «Конь рыжий» писал о тех днях:
«С отрядом какой-то отчаянной молодежи по пензенскому уезду поскакала верхом вернувшаяся с фронта девица Мария Владиславовна Лысова, будущая известная белая террористка Захарченко-Шульц, поджогами сел мстя крестьянам за убийства помещиков и разгромы имений».
Однако он ошибался. Действительно, Мария Владиславовна, вернувшись с фронта, начала создание партизанского отряда. Но ни одного офицера в нем не было. Как не было и рейдов по деревням. Отряд так никогда и не был сформирован, поэтому никаких карательных операций против большевиков проводить не мог по определению. Отчаявшись, она покидает Пензу. Тогда же узнает, что где-то ведет борьбу с коммунистами Белая армия генерала Деникина. Совершенно случайно встретив своего бывшего друга, офицера 15-го уланского Татарского полка Захарченко и выйдя весной 1918 года за него замуж, она уговаривает его пробраться на Кубань. Но прежде чем присоединиться к добровольцам, молодоженам пришлось побывать даже в Персии. Трудности никогда не останавливали эту женщину, и вскоре она попала на фронт. Дальше были тяжелое ранение в грудь, тиф, обмороженные руки и ноги. И новая драма. Под Каховкой умер от заражения крови ее второй муж – командир 2-го кавалерийского полка полковник Захарченко.
После эвакуации Русской армии барона Врангеля из Крыма Мария Владиславовна оказалась в Галлиполи. Но и на чужбине она не пала духом и одной из первых вступила в боевую организацию генерала Кутепова. Тогда же вышла замуж в третий раз за друга детства штабс-капитана Георгия Радкевича,[14] которого друзья называли Гогой.
* * *
Поход Захарченко и Радкевича в Советскую Россию предварялся переходом границы полковником Жуковским. Добравшись до Петрограда, он писал генералу Кутепову 20 сентября 1923 года:
«Стараюсь проникнуть в красное командование, но это оказывается гораздо труднее, чем думал, ибо все запуганы и боятся взять на себя какую-нибудь роль. Предвижу много затруднений, но работать нужно и можно. Настроение почти сплошь против власти, но активным никто не решается быть. Имя Великого князя Николая Николаевича пользуется большой любовью и уважением. Я прошел много деревень. Особенно чтут его старые солдаты. Многие красные начальники считают советскую власть прочной и не хотят себе представить власть, которая могла бы ее заменить. Мне кажется, необходимым будет произвести сильный толчок и своевременно выдвинуть имя Великого князя – тогда успех будет. В общем жалкое впечатление производят здесь наши русские – в полном порабощении, а в то же время ничего не хотят делать. Мое положение тут очень тяжелое, ибо я беспомощен, что очень усложняет ведение дела и трудно наладить вопрос к отправлению. В Кронштадт въезд был воспрещен, там был взрыв».
Член «Союза национальных террористов» М. В. Захарченко
В конце сентября 1923 года с документами на имя супругов Шульц Мария Захарченко и Георгий Радкевич нелегально перешли советско-эстонскую границу. Третьим участником опасной экспедиции стал эмиссар генерала Врангеля гардемарин Бурхановский. В дороге он отстал от боевиков Кутепова и застрял в болоте. Едва выбравшись, он натолкнулся на пограничников и в завязавшейся перестрелке был убит.
Член «Союза национальных террористов» Г. Н. Радкевич
12 октября 1923 года Захарченко писала генералу Кутепову:
«Прибыли в Петроград 9-го утром. В настоящее время там идут облавы, многие пойманы, город терроризирован. Выехали в три часа дня в Москву. Попали в воинский вагон, занятый матросами, комсомольцами. Впечатление от разговоров самое отрицательное. Эта молодежь ими воспитана и настроена сейчас воинственно».
Добравшись до столицы, Захарченко рассчитывала сразу встретиться с Якушевым. Но он был в отъезде. Их принял Стауниц. С посланниками генерала Кутепова пришел познакомиться бывший камергер Ртищев, в тот момент являвшийся членом политсовета Монархической организации Центральной России.
Наконец, настал день знакомства с Якушевым. В тот вечер он был явно не в духе и потребовал от эмиссаров Кутепова письменных полномочий. Дальнейший диалог он красочно описал в кабинете Артузова на Лубянке:
«– Несколько слов на клочке полотна и подпись генерала нас бы вполне удовлетворили. Но на нет и суда нет.
– Разве пароля недостаточно? К чему эти предосторожности?
– То, что мы существуем, сударыня, объясняется именно такими, досаждающими вам предосторожностями. Мы отвечаем вдвойне – перед тем, кто вас послал, и перед нашей организацией. Начну с того, что вручу вам добротно сделанные документы: ваша фамилия теперь – Березовская, фамилия Георгия Николаевича – Карпов. Вам будет доставлена скромная, не бросающаяся в глаза одежда. Я еще не могу в точности сказать о той работе, очень важной, которую вам с мужем придется выполнять, – разумеется, она требует осторожности и сопряжена с опасностью. Дисциплина у нас железная. Отговорок и возражений не терпим. Мы работаем, действуем в очень опасной обстановке, все зависит от нашей организованности и умения конспирировать. Программа наша известна: царь всея Руси самодержец всероссийский; на престоле – Николай Николаевич. Никаких парламентов; земля государева. Тщательная подготовка смены власти; никаких скоропалительных решений; действовать только наверняка.
– А терроризм?
– Это не исключается, но так, чтобы не насторожить врага. Хотя терроризм сам по себе ничего не даст.
– Нет! Я не могу согласиться с вами!
– Пока мы решили не прибегать к террористическим актам.
– Запретить жертвенность, подвиг… Наши люди рвутся в Россию именно для этого!
– Чем это кончается, вам известно? Полковник Жуковский, гардемарин Бурхановский погибли. Не зная обстановки, местных условий, эти безумцы летят сюда и сгорают, как бабочки на огне, а мы ничего не можем сделать для них…»
Сотрудники иностранного отдела ГПУ понимали, что к ним пожаловали хоть и боевики, но отнюдь не рядовые. Значит, все должно быть на высшем уровне. Разведчику полагается иметь легенду. Лубянка снабдила такой и Захарченко с Радкевичем, чтобы они могли спокойно смотреть, как живет советская Россия, и передавать в Париж достоверную информацию. Им сняли ларек на Центральном рынке Москвы, превратив лучших людей Кутепова в мелких торговцев.
Первые переговоры с представителями Монархической организации Центральной России произвели на Захарченко неизгладимое впечатление. В письме от 12 октября она докладывала генералу Кутепову:
«В Москве были приняты с большой заботливостью, помещены временно на квартиру и обеспечены необходимыми документами. На этих днях нас отправляют на дачу, где пробудем недели две для ознакомления с местными условиями. После этого нас обещают устроить на службу вначале под Москвой с тем, чтобы по возможности перевести сюда. Впечатление от этой группы самое благоприятное: чувствуется большая спайка, сила и уверенность в себе. Несомненно, что у них имеются большие возможности, прочная связь с иностранцами, смелость в работе и умение держаться.
Мы склонны думать, что они получают крупные суммы от иностранных контрразведок, которые они обслуживают (Эстония, Польша, Финляндия, вероятно, также Франция). Тем объясняется их близость к этим миссиям, так я переписывала снимок письма Чичерина относительно Финляндии, которое предназначалось быть переданным финнам. Возможности получать сведения у них большие, и они сами говорят, что иностранные миссии перед ними заискивают: по-видимому, их люди имеются всюду, особенно в Красной армии.
В предыдущем письме послали Вам расположение броневых частей М. В. и П. В. О.[15] на западном фронте. Получили ли Вы и поняли ли то письмо? Еще о них: в разговорах проскальзывает идея сепаратизма и если не враждебности, то отчужденности от эмиграции. Они сами определяют, что допуск нас сюда есть первая уступка загранице. По-видимому, связь с командованием установлена не особенно давно и работают они самостоятельно, считая себя связанными постольку, поскольку они того хотят. ВМС иронизируют, но берут Маркова как яркую вывеску определенных идей. В то же время чувствуется у них желание иметь одно объединяющее лицо с известным именем, кажется, у них все молодо, и они сами это осознают. Как будто кого-то они ждут, иногда мне кажется, что это может быть и Климович.
Их организация называется М. О. Р., состоит в связи с ВМС и Командованием. Тесная связь установлена с Климовичем во время его последней поездки. Имеет в своих рядах видных чинов Красной армии и большие денежные средства. Сносятся с заграницей с помощью дипломатических курьеров Польского и Эстонского, а также поездками своих членов легальными и нелегальными. В настоящее время устанавливают собственную телефонную линию в Финляндию из Петрозаводска. Как показатель средств – ассигновано 60 тысяч золотом. Их лозунгом является Великий князь Николай Николаевич – законность, порядок. Они говорят, что имеют тесную связь с великим князем и полномочия от него дать от его имени манифест в момент, когда они найдут возможным. Сейчас они посылают двух членов за границу для переговоров, по-видимому, с французами и ВМС».
Захарченко и Радкевич сделали главное: подтвердили, что Монархическая организация Центральной России – это реальность. И с ней необходимо считаться. Десятки писем из Москвы доказали Кутепову, что с Якушевым можно и нужно иметь дело. Боевой генерал, по собственному признанию, мало что понимал в работе контрразведки. Поэтому неудивительно, что он принимал за чистую монету любую информацию из Москвы. К примеру, письмо Захарченко от 22 ноября 1923 года:
«Есть распоряжение устроить меня на службу через имеющуюся оказию таможенного отдела. Этот отдел ГПУ, ведущий наблюдение за приграничной полосой и поступающей контрабандой, предложил на этих днях Всероссийскому инвалидному комитету (Вико) взять на себя организацию подставных лавок в Москве для поимки контрабандных товаров. Согласно плана таможенного управления все заведывающие лавками будут считаться агентами отдела по борьбе с контрабандой и в своей работе будут инструктироваться сотрудниками последнего.
Отдел по борьбе с контрабандой работает в теснейшем контакте с контрразведывательным отделом ГПУ. Многие из сотрудников отдела по борьбе с контрабандой являются и секретными сотрудниками контрразведывательного отдела при ГПУ. Удачей является поставить себя в такое положение, чтобы, заручившись доверием и знакомствами среди членов ГПУ, получить предложение сделаться их сотрудником в отделе контрразведки сначала секретным, а потом и открытым, приняв которое использовать свое положение для целей МОЦР».
Глава 6 «Трест» набирает обороты
В 1920-х годах огромной популярностью, главным образом среди молодежи, в эмиграции пользовалось движение евразийцев. Вчерашние чины белых армий пытались найти объяснения и причины национальной катастрофы и, самое важное, ответить на извечный русский вопрос: что делать? Отличительная черта нашей интеллигенции – пытаться создать смесь несовместимых идей – сразу же сказалась на новом движении. Его программа представляла собой причудливый коктейль из преклонения перед Россией, гордости за принадлежность к Евразии как истоку самых разных культур и уважения к большевистской революции, которая должна была дать на выходе развитие самобытности страны.
Благоговея перед великим русским философом Бердяевым, евразийцы с готовностью принимали его точку зрения на то, как должно развиваться их движение:
«Они видят, в отличие от “правых”, что новый народный слой выдвинулся в первые ряды жизни и что его нельзя будет вытеснить. Евразийцы признают, что революция произошла и с ней нужно считаться. Пора перестать закрывать глаза на свершившееся. Ничто дореволюционное невозможно уже, возможно лишь пореволюционное. Евразийство по-своему пытается быть пореволюционным направлением, и в этом его несомненная заслуга и преимущество перед другими направлениями. Они реалистичнее других политических направлений и могут сыграть политическую роль. Да и нужно признать, что значение в политической жизни России будет иметь главным образом молодежь. Неуважение к человеческой мысли, к человеческому творчеству, неблагодарность к духовной работе предшествующих поколений, нежелание почитать даже великих своих людей есть русский грех, есть неблагородная черта в русском характере. Нигилизм остается в русской крови, он так же проявляется “справа”, как и “слева”, так же возможен на религиозной почве, как и на почве материалистической. Русские ультра-православные люди так же легко готовы низвергнуть Пушкина, как низвергали его русские нигилисты. Русские люди с легкостью откажутся от Достоевского и разгромят Соловьева, предав поруганию его память. Сейчас иные готовы отречься от всей русской религиозной мысли XIX века, от самой русской мессианской идеи во имя исступленного и нигилистического утверждения русского православия и русского национализма. Но быть может, всего нужнее для нас утверждать традицию и преемственность нашей духовной культуры, противодействуя нигилистическим и погромным инстинктам, преодолевая нашу татарщину, наш большевизм. Русским людям нужно прививать благородное почитание творческих усилий духа, уважение к мысли, любовь к человеческому качеству…»
Уже в свою первую поездку за границу в роли представителя мощной антисоветской организации Якушев обратил внимание на новое течение в эмиграции. Собственно, пройти мимо него он бы не смог. Артамонов и Арапов, которые сопровождали его в Берлине, были хотя и монархически настроены, но не скрывали симпатий к евразийцам. Вернувшись в Москву, Якушев сразу поделился собственными наблюдениями с начальником иностранного отдела ГПУ Артузовым.
Тот тут же решил, что Монархическая организация Центральной России просто не может существовать, не имея в своих рядах евразийцев. Начались поиски подходящего человека. Прежде всего, он должен был быть интеллигентом, который разбирался бы в большинстве философских течений. Он должен был обладать хорошей риторикой, чтобы уметь убеждать своих оппонентов. Он должен был быть достаточно убедителен в своих антибольшевистских настроениях. После долгих раздумий выбор пал на Александра Лангового, сына известного в Москве профессора медицины. Разумеется, в жизни он был идейным коммунистом. Одним из первых вступил в РККА, был награжден орденом Красного Знамени. Его сестра служила в ЧК, что, безусловно, было прекрасной рекомендацией для Артузова.
Весной 1924 года на переговоры с лидерами Монархической организации Центральной России прибыл, нелегально перейдя советско-эстонскую границу, евразиец Мукалов. Посетил Москву и Харьков. Все ему очень понравилось. Особенно встречи с командирами воинских частей, которые примут участие в грядущем перевороте. Уезжал он уже восторженным поклонником Якушева.
А тот не дремал. Во время своей следующей поездки в Берлин он предложил отправиться в Москву и Арапову, чтобы лично провести переговоры с лидером евразийской фракции «Треста» Ланговым. Разумеется, Арапов с восторгом согласился. Уже вернувшись в Берлин, он рассказывал знакомым о первых минутах на Родине:
«Границу перешли благополучно. Я отдохнул и на следующее утро сел в скорый поезд, идущий в Москву. Бумаги были в порядке. Бояться было нечего.
Пассажиров было немного. Я вышел в проход, остановился у окна и, глядя на бегущий мимо лес, закурил. С другого конца в вагон вошли два железнодорожных чекиста и кондуктор. Это меня не взволновало. Обычная – подумал я – проверка документов и билетов, но они не остановились у первого купе, а направились в мою сторону.
Опасность показалась очевидной. Нужно было мгновенно принять решение. Рука сжала лежавший в кармане револьвер. Я мог застрелить одного, но был бы убит выстрелом другого. Можно было выбежать на площадку, открыть дверь и выпрыгнуть на ходу, но и это было бы верной гибелью. Собрав силу воли, я не дрогнул. Они подошли, и один из них укоризненно сказал: “Вы что, гражданин, забыли, что в проходе курить воспрещается?.. Три рубля штрафа!”».
Переговоры прошли на ура. Да ведь иначе и быть не могло. Чекисты долго готовили этот вечер и предусмотрели все возможные неожиданности. Выступавшие дружно поддерживали идеи советской монархии и требовали воспитывать новые поколения в верности евразийскому учению. Арапов был восхищен. Огромное впечатление на него произвела и встреча с главой «Треста» генералом Зайончковским, который настоятельно советовал гостю уяснить главное: Монархическая организация Центральной России – серьезная сила, с которой эмиграции необходимо считаться.
19 января 1925 года в Берлине открылся первый евразийский съезд. «Трест» на нем представлял Ланговой. Он прочитал достаточно подробный доклад и был введен в состав совета евразийцев.
Но на Лубянке прекрасно понимали: нельзя класть все яйца в одну корзину. Иначе говоря, не стоит делать ставку на евразийцев, ведь в руководстве Русского общевоинского союза и Высшего монархического совета таковых не было. А именно против этих двух организаций и создавался «Трест». В этой связи Якушеву поручили подкорректировать тональность своих выступлений. Резидент кутеповской организации в Польше Сергей Войцеховский писал в воспоминаниях:
«Якушев говорил об евразийстве неохотно. Создавалось впечатление, что МОЦР терпит евразийское увлечение Лангового, но ему не сочувствует. Может быть, он понимал, насколько этот московский “евразиец” не похож на ревнителя “бытового исповедничества”, но мне кажется, что отношение Якушева к этому эмигрантскому движению объяснялось не только опасением, что неудачная игра его товарища по провокации возбудит в эмигрантах подозрение, а заигрывание с евразийцами отразится неблагоприятно на советских агентах МОЦР. Мне кажется, что идеализм первоначального евразийства и профессорская оторванность его создателей от повседневной жизни раздражали Якушева помимо его воли. Он считал их “болтунами”, чем-то вроде “вождей” февральской революции, которых ненавидел».
* * *
Осенью 1924 года резко активизировалась боевая организация Кутепова. Это вызывало тревогу в иностранном отделе ГПУ. Якушеву было поручено срочно выяснить, что следует ждать от военной эмиграции. Для этой цели он в компании генерала Потапова отправился в Париж на встречу с великим князем Николаем Николаевичем. На ней впервые «Трест» озвучил финансовую составляющую вооруженного восстания в советской России. Генерал Потапов заявил тогда: цена вопроса – 25 миллионов долларов. Дескать, дайте нам эти деньги – и через полгода большевиков не будет. Но у великого князя таких средств не было. Не было и четверти необходимой суммы. Николай Николаевич посоветовал Якушеву обратиться по этому вопросу в торгово-промышленный союз. Тот так и сделал.
Битых три часа он старательно убеждал его руководство в необходимости восстановления монархии и в том, что на это благое дело денег жалеть не следует. Безрезультатно. Якушева слушали, ему поддакивали, но денег не давали. Он даже предлагал взять займы у иностранных банков на выгодных для кредиторов условиях. Ну хотя бы 10 миллионов. А там процесс пойдет, и все поймут, как горько они ошибались, не веря в силы Монархической организации Центральной России. Но и это не помогло. Промышленники выслушали Якушева и уклонились от этого грандиозного плана.
Две неудачи подряд не остановили Якушева. Он обратил свой взор на бывшего премьер-министра Коковцева. Обедая с ним в ресторане, Якушев произносил зажигательные речи о восстановлении монархии, коронации великого князя Николая Николаевича, грядущем возмездии большевистским лидерам. И разумеется, о деньгах для нужд «Треста». Но и Коковцев ничем не помог. В довершение всего не состоялась встреча с генералом Кутеповым, ради которой, собственно, Якушев и отправлялся в Париж.
Тщательно проанализировав итоги поездки, Артузов нашел единственное возможное в данной ситуации решение всех проблем: начать влиять на Кутепова посредством Захарченко-Шульц. Прежде всего в финансовых вопросах. Для этого при каждом удобном случае ей напоминали, что деньги на восстановление монархии добываются трудом. Спасибо Стауницу, который завлекал в финансовые махинации нэпманов. А если бы его не было?
Однако Артузов просчитался. Мария Владиславовна, что бы о ней потом ни рассказывали в русском зарубежье, никогда политиком не являлась. И функционером тоже. Она, как и помощник Савинкова Павловский, была реальным человеком дела. То есть устроить террористический акт ей было легче, ближе и понятнее, нежели задумываться об источниках финансирования антибольшевистского движения или решениях стратегических вопросов. Она жаждала борьбы. А вместо этого была вынуждена докладывать Кутепову не о взорванных мостах или убитых комиссарах, а о взаимоотношениях Монархической организации Центральной России с эмиграцией:
«Сегодня шифровал им письмо на имя В. К. Н. Н. (великого князя Николая Николаевича. – А. Г.). Кроме фраз общего характера, ничего нет. По-видимому, нечто вроде выражения верноподданнических чувств, но форма слишком свободная и нам непривычная. Создается впечатление, что с В. К. связь есть. Содержание вкратце – выражение радости по поводу согласия В. К. возглавить освободительное движение; признание, что только его имя может объединить всех русских людей; предостережение от преждевременного выступления под давлением “легкомысленных, действующих из личной выгоды людей”. Они выражают надежду от себя и от десятков тысяч людей, вверивших им свою судьбу, что в нужный момент В. К. вынет свой меч и поведет их в последний и решительный бой».
В такой ситуации Артузов решил играть ва-банк: поручил Якушеву предложить Захарченко съездить с ним в Париж на переговоры с Кутеповым. Так генерал мог бы узнать всю информацию о «Тресте» от своего доверенного лица – и это помогло бы дальнейшему сотрудничеству.
Якушева долго готовили к встрече с легендарным генералом. Артузов лично подробно инструктировал секретного агента иностранного отдела ГПУ об обстановке в Русском общевоинском союзе и различных течениях в эмиграции. Более всего Лубянку беспокоила боевая организация Кутепова. Было крайне сложно бороться с группами из трех офицеров-террористов, которые шли в СССР с великолепно подделанными документами.
В начале июля 1925 года Якушев и Захарченко прибыли в Париж. После недолгих переговоров доверие Кутепова к Монархической организации Центральной России еще больше укрепилось. Он даже рассказал Якушеву о возможности получения крупного займа в США, поскольку надежды на торгово-промышленный союз были напрасными. Крупных средств у МОЦР не было. А без финансов никакая борьба невозможна. На тот момент Кутепов располагал лишь очень незначительными деньгами, большая часть из которых была пожертвованиями и без того нищих русских эмигрантов.
Главным же итогом встречи было согласие генерала стать представителем Монархической организации Центральной России в Париже. Должность эта скорее была номинальная, ведь Кутепов продолжал руководить своей боевой организацией. Для него террор был самым действенным способом борьбы с большевиками. Якушев сделал попытку отговорить генерала и преуспел. Тот отказался от запланированных убийств Дзержинского, Менжинского и Артузова.
Впоследствии в эмиграции много спорили: как мог убежденный монархист Кутепов не раскусить лжемонархиста Якушева. А почему, собственно, «лже»? Александр Александрович был самым что ни на есть идейным сторонником монархии. О его воззрениях прекрасно знали на Лубянке и именно поэтому сделали главным действующим лицом «Треста». Участник тех событий Сергей Войцеховский позднее напишет в воспоминаниях:
«Кутепов был человеком смелым и неосторожным. Но его доверие к Тресту не было безграничным. Он отклонил приглашение МОЦР съездить в Россию и “проверял” связанных с Трестом людей, но делал это – как мне пришлось убедиться – неумело и психологически неудачно».
Но это уже была хорошая мина при плохой игре…
После переговоров с Кутеповым должна была состояться встреча с великим князем. Она прошла, и ее результаты весьма порадовали Лубянку. Артузов несколько раз с удовольствием перечитывал отчет Якушева:
«В Сантен-Сервон прибыли с Кутеповым в десятом часу утра. Встретил нас барон Сталь фон Гольстейн и проводил прямо в гостиную. Николай Николаевич пополнел и опять смотрит бодрячком. Вспоминал наши прошлогодние беседы и тут же сообщил:
– Доверяю только Александру Павловичу. Он – и никто другой!
Я рассказал о Маркове, о его плане уступки Бессарабии румынам и заявил, что мы на это идти не можем. Встречено с полным одобрением.
Доложил, чего достиг “Трест”, о затруднениях, мол, в связи с увольнением из-за военной реформы некоторых бывших офицеров мы потеряли связь со многими воинскими частями. Заговорили о Туркестане, о басмачестве, – мол, “свет с Востока”. Ответил: “Боюсь сепаратизма”. Он убежден в своей популярности на Востоке: “Ну, магометане мне поверят”.
Рассказал о предстоящем приезде представителя американских деловых кругов и переговорах с ним о займе.
Показал ему новый червонец и предложил сыграть на понижение курса советских денег.
– А сколько надо для этого?
– Миллион золотом.
Промолчал. Разговор о положении в России. Говорю:
– Нарастает недовольство. Народ стосковался по самодержавной власти.
– Как мыслится переворот?
– Объявляется военная диктатура. Но не скоро. Позовем ваше высочество от нашего имени, от имени Монархической организации центральной России.
Он задыхается от волнения:
– А как же народ?
– А народ не спросим. Ни Земского собора, ни Учредительного собрания. Позовем мы. Мы и есть народ.
Радостный хохот. Заходит разговор о декларации, которую “Верховный” опубликовал в американской печати. Критикую: неосторожно обещана амнистия всем служившим у большевиков, необдуманное решение земельного вопроса. “Верховный” вертится, гримасничает, признает, что допустил неосторожность, не согласовав с “Трестом”: поступил так, чтобы парализовать выступление Кирилла Владимировича.
О поляках: он должен сделать вид, что не знает о нашем договоре с поляками.
О евреях: “народный гнев”, то есть погромы, организует Марков. Затем последует высочайшее повеление о прекращении насилий.
Беседа прервана для завтрака. Появилась супруга Николая Николаевича – Стана, Анастасия. Очень бодрая, южный тип лица, глаза – маслины, в волосах – седина. Чмокнула меня в лысину:
– Вы не знаете, как вы мне дороги. Я постоянно волнуюсь за вас.
После завтрака прощаемся. Отбываем с Кутеповым в Париж».
Глава 7 Гибель шпиона века
Возможно, он действительно был самым выдающимся агентом британской разведки. Прекрасно образованный, в совершенстве владевший семью языками. Любитель сколь ярких, столь и опасных операций. Непримиримый враг большевизма, участник многочисленных заговоров Сидней Джордж Рейли.
Зимой 1918 года, когда Добровольческая армия генерала Корнилова отправлялась в свой легендарный Ледяной поход, он прибыл в Мурманск. С паспортом на имя негоцианта восточных стран месье Массино пробрался в Москву. Получил советские документы. И тут же принял активное участие в восстании левых эсеров. Правда, к убийству Мирбаха[16] никакого отношения не имел. В тот момент он готовил убийство Ленина. Но заговор был раскрыт ЧК.
«Шпион века» С. Рейли
В конце ноября он проходил обвиняемым по знаменитому делу Локкарта, начальника британской миссии в Москве, который руководил заговором против большевиков. Самого Рейли в суде не было. До этого он сбежал в Англию. Интересно, что почти в один день с ним предпочел покинуть Москву и Савинков. Они, кстати, были уже знакомы. Но близкими друзьями станут позднее, в 1922 году. Тогда они будут готовить покушение на наркома иностранных дел Чичерина, которого спасла от смерти только задержка советской делегации на приеме в Берлине. Естественно, что Рейли крайне интересовал чекистов. Они прекрасно понимали: сам он от борьбы с Советами не отступится.
В январе 1925 года иностранный отдел ГПУ поставил перед Якушевым задачу: завлечь Рейли на территорию СССР. Было понятно, что откликнуться легендарный шпион сможет только на приглашение хорошо известных ему людей. Таковые в распоряжении Москвы были. Лучше Захарченко-Шульц с этой миссией никто бы не справился. Якушев ненавязчиво посоветовал ей попытаться привлечь к работе «Треста» Рейли, чей опыт мог быть очень полезен. Конечно, Захарченко с радостью согласилась.
Вскоре Рейли получил письмо от резидента британской разведки в прибалтийских странах Бойса, где ему сообщалось о деятельности в Москве тайной антибольшевистской организации, которая очень интересует Лондон и Париж. И было бы неплохо, если бы Рейли взялся за это дело. Он с готовностью согласился, ответив на письмо кратко: «За себя скажу следующее – это дело для меня есть самое важное дело в жизни – я готов служить ему всем, чем только могу».
Границу было решено переходить в Финляндии. Безопасность операции обеспечивали Захарченко и Якушев. Но поездку в красную Москву должна была предварять встреча с генералом Кутеповым. Он приехал в Финляндию заранее, чтобы сначала узнать все новости по «Тресту» от Захарченко и обговорить линию поведения с Рейли. Однако тот не приехал. Ограничился телеграммой:
«Сожалею о задержке. Задержан окончательным завершением моих дел. Уверенно считаю, что буду готов к отъезду 15 августа. Выехать ли мне в Париж или непосредственно в Гельсингфорс? Можете ли вы устроить собрание в конце месяца?»
Кутепов принял решение перенести встречу в Париж.
Переговоры с Рейли состоялись и не дали ощутимых результатов. Он не очень-то верил в возможности эмиграции, но решил сам встретиться с представителями «Треста» и определить, на что они способны.
24 сентября Якушев перешел советско-финскую границу. На следующий день он уже приглашал Рейли лично съездить в Москву и убедиться в могуществе Монархической организации Центральной России. Но тот, будучи опытным разведчиком, хорошо понимал: соглашаться сразу на все условия в игре, где ставка твоя собственная жизнь, недопустимо. Поэтому он сообщил Якушеву, что пока принять его любезное приглашение не может, но через два-три месяца будет готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Якушева такой вариант категорически не устраивал. На Лубянке ждали Рейли. И Якушев тут же предложил план, отвергнуть который разведчик не мог, иначе его обвинили бы в трусости: в субботу утром быть в Ленинграде, провести там день, вечером выехать в Москву, пробыть там весь день, вечером вернуться в Ленинград и уже в понедельник снова быть в Финляндии. За эти два дня пройдут многочисленные переговоры с лидерами заговорщиков, Рейли получит всю необходимую ему информацию. Гарантируется полная безопасность. В тот же вечер он написал письмо жене:
«Я уезжаю сегодня вечером и возвращусь во вторник. Никакого риска. Если случайно буду арестован в России, это будет не более как по незначительному обвинению. Мои новые друзья настолько могущественны, что добьются моего освобождения».
* * *
До границы Рейли провожал Радкевич, а помогал переходить ее сотрудник ИНО ГПУ Тойво Вяхя, больше известный как Иван Петров. С документами на имя Штейнберга английский разведчик отправился в Ленинград в компании Якушева. В дороге рассказывал о Савинкове, которого считал блестящим конспиратором. По мнению Рейли, сгубило его то, что он всегда плохо разбирался в людях и так и не нажил себе достойных помощников.
В колыбели революции все было готово к встрече дорогого гостя. Он провел переговоры с евразийцем Мукаловым и членом Монархической организации Центральной России Старовым, который на самом деле был сотрудником ГПУ. Обсуждали грядущий переворот. Остались очень довольны друг другом.
Вечером в международном вагоне Якушев и Рейли отправились в Москву на заседание политсовета «Треста», в котором принимал участие и генерал Потапов. Гость сразу приступил к делу: предложил заговорщикам проникнуть в Коминтерн и добыть сведения о его деятельности. За это западные разведки хорошо заплатят. Да «Трест» может и сам прилично заработать, если начнет экспроприировать не деньги в сберегательных банках, а музейные ценности. Он даже указал в отдельной записке, что именно нужно брать:
«1. Офорты знаменитых голландских и французских мастеров, прежде всего – Рембрандта.
2. Гравюры французских и английских мастеров XVIII века с необрезанными краями. Миниатюры XVIII и начала XIX века.
3. Монеты античные, золотые, четкой чеканки.
4. Итальянские и фламандские примитивы.
5. Шедевры великих мастеров голландской, испанской, итальянской школ».
Ближе к вечеру Рейли напомнил собравшимся, что ему пора возвращаться в Ленинград. Попрощавшись с Якушевым и Потаповым, он сел в машину, в которой уже находился следователь ИНО ГПУ Пузицкий. Все уже давно было готово к аресту. Собственно, Рейли хотели доставить на Лубянку еще утром. Но он сразу заявил, что вечером должен отправить друзьям открытку из Москвы. Пришлось пересматривать первоначальный план, ведь для алиби Якушева это был весьма значимый момент. Как только открытка опустилась в почтовый ящик, Сидней Рейли был арестован. После короткого допроса его посадили в одиночную камеру.
Дело оставалось за малым: обеспечить алиби лидерам Монархической организации Центральной России, чтобы даже тень подозрения в провале разведчика на них не пала. В ночь на 29 сентября на границе около деревни Ала-Кюль была инсценирована перестрелка между Рейли и пограничниками заставы, во время которой он и сопровождавшие его лица были якобы убиты. В тот же день Захарченко отправила в Москву телеграмму: «Посылка пропала. Ждем разъяснения». Мария Владиславовна этим не ограничилась, написав письмо и Якушеву: «У меня в сознании образовался какой-то провал. У меня неотступное чувство, что Рейли предала и убила лично я. Я была ответственна за “окно”».
Эмиграция поверила, что гибель Рейли – не более чем роковая случайность. В Париже вообще были счастливы, что никто из лидеров Монархической организации Центральной России не был арестован. Не случайно 8 октября Артамонов в письме отмечал: «Происшествие, по-видимому, случайность. “Тресту” в целом опасность не угрожает. А это уже счастье, так же как и то, что Якушев не поехал провожать Рейли».
* * *
7 октября 1925 года помощник начальника иностранного отдела ГПУ, один из лучших следователей Владимир Стырне провел первый допрос Сиднея Рейли. Знаменитый разведчик достаточно быстро понял, что надежды на спасение нет никакой. Сначала он предложил, чтобы его просто выслали из страны, как когда-то Локкарта. Дескать, его близкий друг Уинстон Черчилль не оставит его в беде и сделает все, чтобы вызволить Рейли с Лубянки. Стырне обворожительно улыбнулся и молча протянул ему газету «Известия», где сообщалось о гибели британского шпиона в перестрелке с советскими пограничниками. Рейли попросил закурить и начал подробно рассказывать о своей борьбе с большевиками:
«В армию поступил добровольцем в 1916 году, а до этого времени с начала 1915 года был в Нью-Йорке, где занимался военными поставками; между прочим, и для русского правительства. Поступив добровольцем в британскую армию, был назначен в авиационный корпус (с 1910 года занимался авиацией и могу считать себя одним из пионеров авиации в России; был одним из учредителей 1-го в России авиационного общества “Крылья”), где и прослужил до 1 января 1918 года, а с января перешел в секретную политическую службу, где и работал до 1921 года, после чего занялся своими частными делами финансового характера (займы, учреждения акционерных обществ). За время моей службы в авиационном корпусе я в России не был. В марте месяце 1918 года, служа на секретной службе, я был командирован в Россию как член Великобританской миссии в России для ознакомления в качестве эксперта с тогдашним положением (в то время я был в чине лейтенанта). Проехал я через Мурманск в Петроград, затем в Вологду, а впоследствии в Москву, где и пробыл до 11 сентября, большую часть времени находясь в разъездах между Москвой, Петроградом и Вологдой.
От пассивной разведывательной роли как я, так и остальная британская миссия, постепенно перешли к более или менее активной борьбе с советской властью по следующим причинам.
Заключение Брест-Литовского мира на весьма выгодных условиях для Германии, естественно, вызывало опасение общих действий советской власти и немцев против союзных держав, к этому нужно прибавить наличие многочисленных сведений (многие из которых впоследствии оказались вздорными) о продвижении немецких военнопленных из России в Германию и, наконец, раздражение, вызываемое разными притеснениями по отношению к союзным миссиям со стороны советской власти. Я считаю, что советское правительство в то время вело неправильную политику, по крайней мере, по отношению к английской миссии, так как Локкарт вплоть до конца июня в своих донесениях британскому правительству советовал политику соглашения с советской властью. В то время, насколько я помню, советское правительство было озабочено формированием регулярной армии, и Троцкий неоднократно по этому вопросу говорил с Локкартом и указывал ему на целесообразность сочувствия этому делу со стороны союзных правительств. Перелом начинается со времени приезда Мирбаха и его окончательного внедрения и постоянных уступок советской властью его требований (требований германскому правительству).
Смерть Мирбаха немедленно вызвала репрессии против нас. Мы предвидели, что за этим последует требование немцев, среди других их требований, высылки всех союзных миссий. Это и случилось. Сейчас же начались обыски в консульствах и аресты отдельных членов миссий, которые, впрочем, вскоре были освобождены. Также было издано распоряжение о запрещении союзным офицерам путешествовать. С этого момента и начинается моя активная борьба с советской властью, выразившаяся главным образом в военной и политической разведке, а также изыскании тех активных элементов, которые могли бы быть использованы в борьбе с советским правительством. Для этой цели я перешел на подпольное (нелегальное) положение, получив ряд документов разных лиц, например, одно время я был комиссаром по перевозке запасных автомобильных частей во время эвакуации Петрограда, что мне давало возможность свободно двигаться между Москвой и Петроградом, даже в комиссарском вагоне. В это время я проживал главным образом в Москве, чуть ли не изо дня в день меняя квартиры. Кульминационным пунктом моей работы я считаю мои переговоры с полковником Берзиным, с которым я познакомился у Локкарта. Суть дела должна быть известна по процессу. В это время я передал патриарху Тихону крупную сумму денег, предназначенную для нужд духовенства, в то время находящегося в чрезвычайно бедственном положении. Я особенно подчеркиваю, что между мною и патриархом или каким-нибудь из его приближенных никогда не было разговоров о контрреволюционных делах и что моя работа и мои намерения патриарху и его людям были особенно не известны. Деньги были ему переданы из предоставленных мне ассигнований; в моем распоряжении были весьма крупные суммы, которые ввиду моего особого положения (полная финансовая независимость и исключительное доверие благодаря связям с высокопоставленными лицами) представлялись безотчетно. Эти-то деньги я и употреблял на начатую мною работу по противодействию советской власти.
Я считаю, что к процессу Локкарта были привлечены лица, ко мне не имевшие никакого отношения или в некоторых случаях лишь самое отдаленное; лица же, близко ко мне стоящие, немедленно по раскрытию заговора уехали на Украину.
Я назначаюсь политическим офицером на юг России и выезжаю в ставку Деникина, был в Крыму, на Юго-Востоке и в Одессе. В Одессе оставался до конца марта 1919 года и приказанием Верховного комиссара Британии в Константинополе был командирован сделать доклад о положении деникинского фронта и политического положения на юге руководящим офицерам в Лондоне, а также представителям Англии на мирной конференции в Париже. В течение Мирной конференции я служил связью по русским делам между разными отделами в Лондоне и Париже; в этот период я, между прочим, и познакомился в Б. В. Савинковым. Весь 1919 и 1920 годы у меня были тесные сношения с разными представителями русской эмиграции разных партий (социалисты-революционеры в Праге, организация Савинкова, торгово-промышленные круги). В это время я проводил у английского правительства очень обширный финансовый план поддержки русских торгово-промышленных кругов во главе с Ярошинским и Барком. Все это время я состоял на секретной службе, и моя главная задача состояла в освещении русского вопроса руководящим сферам Англии.
В конце 1920 года я, сойдясь довольно близко с Савинковым, выехал в Варшаву, где он только организовал экспедицию в Белоруссию. Я участвовал в этой экспедиции. Я был и на территории Советской России. Получив приказание вернуться, я выехал в Лондон.
В 1921 году я продолжал деятельно поддерживать Савинкова, возил его несколько раз в Лондон, знакомил его с руководящими сферами и находил для него всякую возможную поддержку.
Кажется, в этом году я его возил в Прагу, где познакомил его с руководящими сферами. В этом же году я устроил Савинкову тайный полет в Варшаву.
В 1922 году у меня был известный перелом в направлении борьбы – я совершенно разубедился во всех способах интервенции и склонялся к тому мнению, что наиболее целесообразный способ борьбы состоит в таком соглашении с советской властью, которое широко откроет двери России английской коммерческой и торговой предприимчивости. К этому моменту относится составленный мною проект образования огромного международного консорциума для восстановления русской валюты и промышленности, проект этот был принят некоторыми руководящими сферами, и во главе его стала компания “Маркони”, точнее сказать, Годфри Айзакс, брат вице-короля Индии. Этот проект в течение долгого времени обсуждался с Красиным, но в конце концов был оставлен; тем не менее именно этот проект был взят почти целиком в основание предполагаемого международного консорциума во время Генуэзской конференции. Я хотел этим добиться мирной интервенции.
В 1923 и 1924 годах мне пришлось посвятить очень много времени моим личным делам, в борьбе с советской властью я был менее деятелен, хотя писал много в газетах (английских) и поддерживал Савинкова, продолжал по русскому вопросу консультировать во влиятельных сферах в Англии, так как в эти годы часто ездил в Америку.
В 1925 году я все время провел в Нью-Йорке.
В конце сентября я нелегально перешел финскую границу и прибыл в Ленинград, а затем в Москву, где и был арестован».
* * *
Но Рейли не был бы самим собой, если бы не попытался найти выход из создавшегося положения. Для начала он попытался тянуть время, отказываясь отвечать на вопросы чекистов или давая настолько уклончивые ответы, что их даже перестали вносить в протокол. Терпение чекистов лопнуло, и к разведчику применили методы психологического давления. Так сказано в деле. Не берусь судить, что под этим подразумевалось, но склонен думать, что явно не экскурсии в Оружейную палату. Наконец Рейли решился заговорить. Нет, он не сломался на допросах. Мотивы его поведения можно проследить в скупых строках дневника, который он тайно вел, сидя в камере. Небольшие клочки бумаги он прятал в одежде, постели, штукатурке. Позднее они будут обнаружены следователями ИНО ГПУ во время обыска в камере.
Авторство Рейли бесспорно. Стиль полностью соответствует его письмам и дневниковым записям, которые он делал раньше.
Гораздо интереснее другое: что заставило Рейли вести тюремный дневник? Полагаю, он до последнего дня был убежден: английское правительство не поверит в то, что он убит при переходе границы, и попытается вырвать его из рук большевиков. Дневник должен был продемонстрировать всем, что Сидней Рейли и на легендарной Лубянке остался самим собой:
«Пятница, 30 октября 1925 года. Еще один допрос поздно днем. Переоделся в рабочую одежду. Вся личная одежда унесена. Сумел сохранить второе одеяло. Разбудили, велели взять пальто и фуражку. Комната внизу, около ванной. Все время нехорошее предчувствие от этой железной двери. Присутствующие в комнате: Стырне, его товарищ, тюремщик, молодой парень из Владимирской губернии, палач, возможно, кто-то еще. Стырне сообщил мне, что Коллегия ГПУ пересмотрела приговор и что если я не соглашусь сотрудничать, приговор будет приведен в исполнение немедленно. Сказал, что это не удивляет меня, что мое решение остается то же самое и что я готов умереть. Стырне спросил, не хочу ли я иметь время на размышление. Ответил, что это их дело. Дали один час. Приведен обратно в камеру молодым человеком и помощником надзирателя. Молился про себя за Питу, сделал небольшой узелок из своих вещей, выкурил несколько сигарет и спустя 15–20 минут сообщил, что готов. Палач, который был снаружи камеры, был послан объявить о моем решении. Держали в камере целый час. Приведен обратно в ту же комнату. Стырне, его товарищ и молодой парень. В соседней комнате палач и другие, все до зубов вооружены. Объявил опять о моем решении и попросил сделать письменное заявление в том духе, что я счастлив показать им, как англичанин и христианин понимает свой долг. Отказ. Попросил отослать вещи Пите. Они сказали, что о моей смерти никто не узнает. Затем начался длинный разговор – убеждение, – как обыкновенно. После 3/4 часа препираний, разговор на повышенных тонах в течение 5 минут. Молчание, затем Стырне и его товарищ позвали палача и ушли. Держали в ожидании около 5 минут, в течение этого времени звуки заряжаемого оружия во внешней комнате и другие приготовления. Затем вывели к машине. Внутри палач, надзиратель, молодой парень, шофер и охранник. Короткая поездка до гаража. Во время поездки солдат схватил своей грязной рукой наручники и мое запястье. Дождь. Очень холодно. Бесконечное ожидание на гаражном дворе, в то время как палач вошел внутрь – охранники матерятся и рассказывают друг другу грязные анекдоты. Шофер что-то сказал о том, что сломался радиатор, бесцельно слоняется. Наконец завелся, короткий переезд и прибытие в ГПУ с севера. Стырне и его товарищ сообщили о том, что приговор отложен на 20 часов. Ужасная ночь. Кошмары.
Суббота, 31 октября 1925 года. В 8 часов поездка, я одет в форму ГПУ. Прогулка за город ночью. Прибытие в московское помещение. Отличные бутерброды. Чай. Ибрагим. Затем разговор наедине со Стырне – этот протокол, выражающий мое согласие. Ничего не знаю об агентах здесь – цель моей поездки. Оценка Уинстона Черчилля и Спирса. Мое неожиданное решение в Выборге. Стырне отправился с протоколом к Дзержинскому, возвратился спустя полчаса. Сообщил – приговор остановлен. Возвращение в камеру, спал крепко 4 часа после веронала. К сожалению, надо рано утром вставать. Вызвали в 11. Форма, предосторожности, чтоб не увидели. Опять камера. Веронал не подействовал.
Воскресенье, 1 ноября 1925 года. Во время допроса много спрашивают, есть ли агенты в Коминтерне. Спросили, есть ли еще агенты в Петрограде.
Сотрудник Контрразведывательного отдела ОГПУ В. А. Стырне
Понедельник, 2 ноября 1925 года. Вызвали в 10 утра. Объяснил, почему агенты здесь невозможны, – никого с времен Дюкса. Вернулись к моей миссии в 1918 году. Доктор обеспокоен моим состоянием. Стырне надеется закончить в среду – сомневаюсь. Спал очень плохо всю ночь. Читал до 3 ночи. Чувствую большую слабость.
Вторник, 3 ноября 1925 года. Голоден весь день. Похороны Фрунзе. Вызван в 9 вечера. Шесть вопросов: работа немцев, наше сотрудничество: какие материалы мы имеем относительно СССР и Коминтерна, Китай. Агенты Дюкса. Веронал. Спал хорошо.
Среда, 4 ноября 1925 года. Очень слаб. Вызвали в 11 утра. Извинения Стырне. Дружественность. Работа до 5 – затем обед. Затем поездки, прогулка. Работа до 2 часов утра. Спал без веронала. Стырне дал подписать предыдущий протокол. Начали со Скотленд-Ярда. Успокоился относительно своей смерти – вижу впереди большие развития».
Последняя фраза знаковая для всего этого дела. Очевидно, Сидней Рейли уже смирился со своей смертью и вопрос у него был только один: сколько ему еще суждено жить? Он прекрасно понимал, что, наверное, уже недолго. Тем больше восхищения вызывает его поведение. Держаться с таким мужеством способен далеко не каждый. И то, что его в результате вынудили давать показания, вовсе не умаляет этого факта.
4 ноября 1925 года руководство иностранного отдела ГПУ пришло к выводу, что Рейли сказал все, что знал. Значит, с ним пора было кончать. Дольше затягивать не имело смысла. У Артузова было опасение, что история с «гибелью» разведчика на советско-финской границе может раскрыться и тем самым навредить всему «Тресту». Этого допустить было нельзя. Григорий Федулеев, один из чекистов, казнивших Сиднея Рейли, в рапорте начальству подробно описал, как это происходило:
«Довожу до Вашего сведения, что согласно полученному от Вас распоряжению со двора ОГПУ выехали совместно с № 73 товарищи Дукис, Сыроежкин, Ибрагим и я ровно в 8 часов вечера 5 ноября 1925 года, направились в Богородск (что находится за Сокольниками). Дорогой с № 73 очень оживленно разговаривали. На место приехали в 8:30–8:45. Как было условлено, чтобы шофер, когда подъехали к месту, продемонстрировал поломку машины, что им и было сделано. Когда машина остановилась, я спросил шофера – что случилось. Он ответил, что-то засорилось и простоим минут 5–10. Тогда я № 73 предложил прогуляться. Вышедши из машины, я шел по правую, а Ибрагим по левую сторону № 73, а товарищ Сыроежкин шел с правой стороны, шагах в десяти от нас. Отойдя шагов 30–40 от машины, Ибрагим, отстав немного от нас, произвел выстрел в № 73, каковой, глубоко вздохнув, повалился, не издав крика; ввиду того, что пульс еще бился, товарищ Сыроежкин произвел еще выстрел в грудь. Подождав немного, минут 10–15, когда окончательно перестал биться пульс, внесли его в машину и поехали прямо в санчасть, где уже ждали товарищ Кушнер и фотограф. Подъехав к санчасти, мы вчетвером – я, Дукис, Ибрагим и санитар – внесли № 73 в указанное товарищем Кушнером помещение (санитару сказали, что этого человека задавило трамваем, да и лица не было видно, так как голова была в мешке) и положили на прозекторский стол, затем приступили к съемке. Сняли – в шинели по пояс, затем голого по пояс так, чтобы были видны раны, и голого во весь рост. После чего положили его в мешок и снесли в морг при санчасти, где положили в гроб и разошлись по домам. Всю операцию кончили в 11 часов вечера 5 ноября 1925 года. № 73 был взят из морга санчасти ОГПУ товарищем Дукисом и перевезен в приготовленную яму-могилу во дворе прогулок внутренней тюрьмы ОГПУ, положен был так, как он был, в мешке, так что закапывавшие его три красноармейца лица не видели».
Глава 8 Саморазоблачение «Треста»
В этот самый момент в «Тресте» появляется новое действующее лицо, которое станет одним из знаковых в данной истории, – бывший член 4-й Государственной думы Василий Витальевич Шульгин. Тот самый, который вместе с Гучковым принимал отречение Николая Второго. В годы Гражданской войны был на Юге России. Возглавлял подпольную организацию «Азбука», действовавшую против большевиков с ведома главнокомандующего Добровольческой армией генерала Деникина. Шульгин был свидетелем и блистательных побед, и сокрушительных поражений белых армий. А главное – краха идеи добровольчества. Позднее он напишет в своих воспоминаниях:
«Красные – грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны, они жестоки. Для них нет ничего священного. Они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни. Они презирают русский народ. Они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтобы деревня кормила их. Они, чтобы жить, должны пить кровь и ненавидеть. И они истребляют “буржуев” сотнями тысяч. Ведь разве это люди? Это звери…
Значит, белые, которые ведут войну с красными, именно за то, что они красные, – совсем иные, совсем “обратные”.
Белые имеют Бога в сердце. Они обнажают голову перед святыней. И не только в своих собственных златоглавых храмах. Нет, везде, где есть Бог, белый преклонит – душу, и, если в сердце врага увидит вдруг Бога, увидит святое, он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать: они носят Бога в сердце.
Белые не презирают русский народ. Ведь, если его не любить, за что же умирать и так горько страдать? Не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк. Но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию. Белые не интернационалисты, они – русские.
Разве это люди? Эго почти что святые.
“Почти что святые” и начали это белое дело… Но что из него вышло? Боже мой! “Белое дело” погибло. Начатое “почти святыми”, оно попало в руки “почти бандитов”».
В эмиграции Шульгин жил в Югославии, в Сремских Карловцах. Летом 1925 года стало известно, что он собирается ехать в Россию по приглашению «Треста». От этого его отговаривали Чебышев и сам Врангель. Но Шульгин был непреклонен. Он свято верил, что русский народ не может не противодействовать большевикам. А значит, Монархическая организация Центральной России действительно существует. Даже если все это провокация ГПУ, чекистам нет никакого резона арестовывать Шульгина. Не та он фигура.
Шульгина тянуло на Родину. И дело было не только в ностальгии, свойственной всей эмиграции. Он мечтал найти своего сына. В 1921 году он уже отправлялся в Крым. Тогда чудом не попал в руки ЧК. Узнав о «Тресте», понял: это подарок судьбы. После недолгих уговоров Якушев согласился на поездку Шульгина в Москву. Полную безопасность не гарантировали, но политику не было до этого ровным счетом никакого дела. Поездка Шульгина в советскую Россию была необходима и иностранному отделу ГПУ. После гибели Сиднея Рейли нужно было продемонстрировать всей эмиграции, что «Тресту» ничего не угрожает, а провал разведчика – роковая случайность.
В сентябре 1925 года Шульгин выехал из Югославии в Польшу. За несколько недель он отрастил бороду, обзавелся документами на имя Иосифа Карловича Шварца и в ночь на 23 декабря благополучно перешел границу.
По прибытии в Москву Шульгину были устроены встречи с лидерами Монархической организации Центральной России. В послесловии к своей книге «Три столицы» он писал:
«Сначала мы говорили с Федоровым вдвоем. Он получил письма из-за границы и возмущался эмигрантскими распрями. Затем разговор соскользнул на генерала Врангеля, к которому Федоров относился с большим уважением, но сокрушался, что барон Врангель под разными предлогами отказывается иметь с “Трестом” дело. И тут я принял деликатное поручение: если, даст Бог, я благополучно вернусь в эмиграцию, попытаюсь изменить точку зрения генерала Врангеля на “Трест” в благоприятную сторону. Должен сказать, что я с величайшим удовольствием и даже, можно сказать, с энтузиазмом принял его поручение».
Встретился Шульгин и с резидентами генерала Кутепова. Его свидетельство является одним из важнейших в этой истории во многом потому, что оно было написано не под диктовку сотрудников иностранного отдела ГПУ:
«Мне приходилось вести откровенные беседы с Марией Владиславовной. Однажды она мне сказала: “Я старею. Чувствую, что это мои последние силы. В “Трест” я вложила все свои силы, если это оборвется, я жить не буду”».
Чекистам удалось использовать приезд Шульгина в советскую Россию с максимальной пользой. Дзержинский посоветовал Якушеву намекнуть дорогому гостю, что было бы неплохо тому, вернувшись в Югославию, написать книгу о своей поездке. Разумеется, бывший депутат Государственной думы с восторгом согласился. Уже потом он будет пересылать в Москву написанные части, которые будут с особым вниманием читать на Лубянке. В некоторые фрагменты даже вносились поправки. В результате Шульгин создал гимн советской России, попутно доказав всем успешность «Треста». Ему охотно верили. Резидент боевой организации Кутепова в Варшаве Сергей Войцеховский писал позднее:
«Бывшего члена Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина я знал с весны 1918 года. Внешне он не изменился, но в повадке появилось новое – осторожная, мягкая поступь; взвешенная речь; быстрый взгляд исподлобья. Я приписал это тревожному напряжению, естественному в каждом, кто готовился к переходу советской границы. После возвращения из России он побывал у меня и показался мне возбужденным поездкой и ее благополучным исходом. Организованность МОЦР и налаженность ее действий произвели на него глубокое впечатление.
Никаких подозрений рассказ Шульгина об его впечатлениях и встречах в России во мне тогда не вызвал. Более того, меня взволновало прикосновение к Отечеству глазами человека, который тогда казался твердым и непримиримым противником большевиков».
А вот своего сына Шульгин так и не нашел. Были сведения, что тот находится в Виннице в больнице для душевнобольных. Шульгин рассчитывал выехать туда, но это не входило в планы чекистов. Максимум, что удалось сделать: отправить туда человека с запиской. На этом поиски и закончились.
* * *
20 июля 1926 года умер Феликс Дзержинский. На посту главы ОГПУ его сменил ближайший помощник Вячеслав Рудольфович Менжинский. Дворянин, сын учителя, выпускник юридического факультета Петроградского университета, полиглот, знающий 16 (!) языков. Последний – фарси – он выучил специально для того, чтобы в подлиннике читать Хайяма. И в то же время – профессиональный революционер. Член партии с 1902 года. В ленинском правительстве был народным комиссаром финансов. Потом – генеральным консулом в Берлине. А дальше была Лубянка. Он работал буквально на износ, по 20 часов в стуки. Впоследствии в медицинском заключении о его смерти напишут, что ежедневно он курил 60–75 папирос. Все это вкупе с бешеным темпом работы не могло не отразиться на здоровье. У него прогрессировала стенокардия. Периодически он даже не мог встать с дивана и принимал посетителей лежа. И при этом продолжал руководить сложнейшей операцией советской разведки – «Трестом».
А ведь к этому моменту «Трест» медленно, но верно выходил на финишную прямую. Все же прошло уже пять лет, как Якушев морочил голову всей эмиграции. В трясине ничегонеделания погрязла некогда боевая Захарченко-Шульц. Ее муж Радкевич, томимый ревностью жены к Стауницу, стал злоупотреблять спиртным. Все это наслаивалось на постоянные попытки генерала Кутепова реанимировать террор. Но на практике дальше разговоров дело не шло. А если и шло, то совсем не так, как хотелось бы Александру Павловичу.
Он сумел договориться с Якушевым, что отправит в Россию трех офицеров, которые проведут теракт. По прибытии один из них – полковник Сусалин – заподозрил, что «Трест» все же является провокацией ГПУ. Он высказал свои предположения чекисту Старову и бесследно исчез в тот же вечер. Захарченко потом сказали, что якобы его узнали на улице болгарские коммунисты. Ничего дурного она так и не предположила.
В декабре 1926 года Якушев в очередной раз прибыл в Париж на встречу с генералом Кутеповым. Согласно плану, разработанному Менжинским, нужно было завлечь легендарного белого вождя в советскую Россию. Повод был придуман хороший: заседание политсовета Монархической организации Центральной России. Но Кутепов отказался.
Дальше были встречи с галлиполийцами, финансистами и, наконец, с великим князем Николаем Николаевичем. Якушев старательно рассказывал всем, с какими трудностями сталкивается «Трест», как не хватает смелых и решительных людей и как необходимы средства на борьбу с большевиками. А у великого князя он помимо денег попросил еще и портрет с собственноручной надписью. Для политсовета МОЦР. А заодно и обращение к Красной армии. И то и другое он получил накануне отъезда в советскую Россию из рук генерала Кутепова.
Прощались ненадолго. На конец марта 1927 года было запланировано военное совещание с лидерами «Треста» в Финляндии. Но Якушев туда не поехал. Вместо него отправился генерал Потапов. Менжинский рассудил так: штатскому человеку там делать нечего. И тогда же на Лубянке впервые задумались о том, что «Трест» пора закрывать. Все труднее становилось сдерживать Кутепова, который все настойчивее требовал террористических актов. Разоблачить Монархическую организацию Центральной России было поручено Стауницу. И справился он с этим блестяще.
Он признался Захарченко-Шульц, что является тайным агентом иностранного отдела ГПУ. Сообщил, что Якушев, Потапов и все остальные водят эмиграцию за нос, и сказал, что нужно немедленно бежать из советской России, чтобы предупредить генерала Кутепова.
Они так и поступили. 13 апреля 1927 года Стауниц и Захарченко перешли советско-финскую границу. Чуть позже покинули Родину Радкевич, Каринский и Шорин.[17]
А спустя неделю в советских газетах появились сообщения о разгроме белогвардейского подполья, которым руководил великий князь Николай Николаевич. Но это было еще только начало…
* * *
9 мая 1927 года в рижской газете «Сегодня» на первой полосе была напечатана статья «Советский Азеф»:
«Опперпут – это в действительности Александр Оттович Уппелиньш, латыш из окрестностей Режицы, бывший агент Чека и ГПУ, работавший под различными кличками – Опперпут, Селянинов, Штауниц и др.
В 1921 году Опперпут появился в Варшаве и вошел в организацию Савинкова. По делам этой организации он несколько раз переходил в СССР, где, как выяснилось впоследствии, сообщил чекистам все данные о деятельности организации. По доносам Опперпута расстреляли очень много лиц, не только в Москве и Петербурге, но и во многих городах. В своей провокаторской работе Опперпут не остановился и перед тем, чтобы предать в руки красных палачей свою невесту и двух ее сестер. Все трое были расстреляны.
В 1922 году Опперпут выпустил брошюру, в которой с самой циничной откровенностью сам рассказывал о своей провокационной работе.
После этого в течение долгого времени работа Опперпута на Чека и ГПУ шла в полной тишине, а затем весной этого года он появился в Гельсингфорсе и оттуда стал забрасывать многие зарубежные крупные газеты своими предложениями дать разоблачительный материал о деятельности Чека.
В своих письмах в редакцию “Сегодня” Опперпут рассказывает, что ГПУ предлагало ему единовременно 125 000 рублей золотом и ежемесячную пенсию в 1000 рублей под условием, чтобы он не приступал к своим разоблачениям».
А уже 17 мая в этой же газете был опубликован и ответ самого Стауница:
«Ночью 13 апреля я, Эдуард Опперпут, проживавший в Москве с марта 1922 года под фамилией Стауниц и состоявший с того же времени секретным сотрудником контрразведывательного отдела ГПУ, бежал из России, чтобы своими разоблачениями раскрыть всю систему работы ГПУ и тем принести посильную пользу русскому делу.
Немедленно по прибытии на иностранную территорию я не только открыл свое прошлое, но в тот же день установил связь с соответствующими представителями ряда иностранных государств, чтобы открыть работу ГПУ и заручиться их поддержкой для разгрома его агентур. ГПУ тотчас изъявило согласие на уплату мне единовременно 125 000 рублей золотом и пенсии 1000 рублей в месяц при условии, что я к разоблачениям не приступлю. Я дал на это мнимое согласие, дав гарантию соответствующим лицам, что все переведенные суммы будут мною передаваться организациям, ведущим активную борьбу с советским правительством. Двумя телеграммами ГПУ подтвердило высылку денег нарочным, однако они доставлены не были, и полагаю, что причиной этого были поступившие в ГПУ сообщения, что главнейшие разоблачения мною уже сделаны.
Сообщение ГПУ о раскрытии в Москве крупной монархической организации – гнусная ложь, имеющая целью опорочить долженствующие появиться мои разоблачения. В данном сообщении я указывал, что “раскрытая” организация является характерной легендой (мнимой антисоветской организацией) КРО ОГПУ. Была создана она в январе 1922 года. Количество секретных сотрудников данной легенды превышает 50 человек. Основное назначение данной легенды было ввести в заблуждение иностранные штабы, вести борьбу с иностранным шпионажем и направлять деятельность антисоветских организаций в желательное для ГПУ русло.
В настоящее время свыше 40 линий КРО ОГПУ находятся под угрозой провала, и мною будет освещена вся система провокации ГПУ, коей опутаны все слои населения России и зарубежные антисоветские центры. Часть разоблачений уже мною передана в надежные руки, и лишь только позволит обстановка, они появятся в русской печати».
Бывший секретный агент действительно написал больше 30 статей о методах работы Государственного политического управления. Но в газетах были напечатаны не все. Основная же, можно сказать, программная статья о роли Якушева в «Тресте» вышла в эмигрантской печати:
«Обладая недурным пером, крупными познаниями в вопросах монархической идеологии и в вопросах династических, он (Якушев. – А. Г.) почти в один присест набросал основы программы и тактики данной легенды. Директива ГПУ была короткая: отрицать террор и ориентироваться на Великого князя Николая Николаевича и Высший Монархический Совет. Остальное в программе и тактике должно было соответствовать советской действительности. Программой и тактикой под “Монархическое Объединение Центральной России” был подведен прочный базис.
Поездкой Александра Александровича в Берлин и проведением через ВМС, тогдашний центр зарубежного национального движения, основных положений программы и тактики МОЦР последний приобрел для ГПУ настолько крупное значение, что по ГПУ стал именоваться “центральной разработкой ОГПУ”.
Трест свое назначение выполнил блестяще, и к настоящему моменту его реноме настолько высоко, что мои выступления с неопровержимыми данными в руках не в состоянии поколебать веру в него целого ряда иностранных штабов, и, выйди я в другую страну, я бы сейчас сидел в тюрьме, а процветание Треста продолжалось бы по-прежнему…»
Прав был Петр Николаевич Врангель, когда предупреждал Кутепова, что «Трест» – это провокация ГПУ. Но Александр Павлович в это не верил. Не хотел верить. И даже после разоблачений Стауница не стал извлекать уроков из поражений. Наоборот, он начал с утроенной энергией готовить террористические акты в советской России. На роль боевиков в первую очередь планировались Захарченко-Шульц и… Стауниц. Да-да, именно он каким-то образом сумел внушить доверие Кутепову и в одночасье стать одним из главных мстителей за «Трест». Будущий председатель РОВС фон Лампе записал в своем дневнике:
«Много подробностей говорил мне ПН (Врангель. – А. Г.) о провале всей “разведки” Кутепова в России.
Дело в том, что пресловутый Федоров-Якушев, который когда-то для свидания с Климовичем был у меня в Берлине в присутствии Шульгина и Чебышева, которых я пригласил к неудовольствию Климовича, который валял дурака и делал вид, что он случайно встречался с Федоровым, тогда как я знал, что последнего прислал из Ревеля Щелгачев специально для встречи с Климовичем, – оказался самым настоящим провокатором и агентом ГПУ. В него уперлась вся разведка Кутепова, который вел ее с Федоровым и “Волковым”, которые оба приезжали в Париж. Дело доходило до того, что Федоров был у ВКНН (великий князь Николай Николаевич. – А. Г.), но обоих “гостей” в Париж Кутепов открыто провожал на вокзал. “Волков” – это генерал Потапов, бывший военный агент в Черногории… тоже провокатор.
Вся обстановка вызвала протест Климовича и самого ПНВ (Врангеля. – А. Г.). Но все принималось на конкуренцию генералов, и Кутепов продолжал свою плодотворную работу, причем к Кутепову приезжала некая Зверева (Захарченко. – А. Г.), которая была любовницей его агента в России Касаткина-Стауница-Опперпута и т. п. Последний, стоявший в России во главе дела Кутепова, оказался тоже агентом ГПУ. Потом он рассорился со своими господами, бежал в Финляндию, там не получил условленных денег от большевиков и начал разоблачать все дело в рижской газете “Сегодня”. Перед отъездом он все же предупредил агентов Кутепова, и большинство из них бежало из России не через те пути, через которые пришли, и тем спаслись.
Поездка Шульгина, организованная тоже Федоровым, – сплошной фарс, поставленный самими агентами ГПУ, державшими его все время под угрозой и не пускавшими куда следовало. Словом, провал невероятно глубокий, и все дело Кутепова (Шульгин говорил о том, что у того еще остались связи в России, Гучков же подтверждает, что нет) рухнуло, как рухнули все деньги, которые на это были добыты! В том числе и очень крупная сумма, добытая П. Б. Струве…
Сам Кутепов делает вид, что ничего особенного не произошло и что это неизбежно связанное с его работой недоразумение.
ПН, видимо, стремится добиться, чтобы Кутепов свою “работу” прекратил!
По словам ННЧ (Чебышева. – А. Г.), АПК (Кутепов. – А. Г.) старается даже и убийство Воровского, которое совершилось тогда, когда он совсем был далек от дела разведки, приписать себе. Быть может, это потому, что Конради и Полунин офицеры его корпуса».
Глава 9 Союз национальных террористов
Кутепов хотел назначить Марию Захарченко главой только что созданного Союза национальных террористов.[18] Но она категорически отказалась: сначала надо увлечь неофитов своим примером непримиримой борьбы с Советами, а уже потом руководить. Она пойдет первой, даже если для этого ей придется нарушить все приказы Кутепова. Александр Павлович сдался.
Две недели Стауниц, Захарченко и Ларионов[19] обсуждали планы предстоящих диверсий в советской России. Наконец, на стол Кутепову легли их совместные предложения:
«После нашего отъезда необходимо направить две-три группы по 4 человека для взрыва мостов. Взорвать мост одновременно на Волхове и Луге, чтобы отрезать Петроград и создать панику. После этого можно перейти к поджогам и к взрывам в учреждениях посредством заложенных ранее снарядов. Достать технические средства возможно. Старайтесь теперь же наладить заготовку бомб большой силы, небольших сосудов с газами и главное культуры бацилл. Этим мы их, скорее всего, доконаем с наименьшими для нас потерями. А для народа появление в среде коммунистов чумы или холеры будет, конечно, истолковано как гнев Божий. О человечности говорить уже не приходится. Кроме того, надо организовать пиратство в море, отравление экспорта русских товаров.
Член «Союза национальных террористов» В. А. Ларионов
В первую очередь надо организовать: 1) Производство документов: а) заготовка бланков по данным нами образцам, б) печатей, штемпелей, в) книжек с водяными знаками. 2) Разработка каждого акта по карте России и планам городов. Задание дается только старшему в группе, который сообщает остальным лишь в день перехода границы. 3) Каждый снабжается, кроме оружия (револьвер и ручные гранаты), капсюлем с цианистым калием, чтобы ни один не смел попадаться в руки живым. 4) Подыскание инструктора пиротехники: а) занятие подрывным делом и обращением с динамитом и газами и выработкой их с намеченными для отправки людьми, б) составление краткого наставления кустарного производства взрывчатых веществ и газов, изложенное в форме прокламаций, которые необходимо дать едущим, а также распространять внутри России. 5) Привлечение абсолютно проверенного бактериолога: а) оборудование своей лаборатории для разведения культур инфекционных болезней (чума, холера, тиф, сибирская язва, сап), б) снабжение уходящих бактериями для заражения коммунистических домов, общежитий войск ГПУ.
После первых ударов по живым целям центр тяжести должен быть перенесен на промышленность, транспорт, склады, порты и элеваторы, чтобы сорвать экспорт хлеба и тем подорвать базу советской валюты. Для уничтожения южных портов на каждый из них нужно не более 5–10 человек, причем это необходимо сделать одновременно, ибо после первых же выступлений в этом направлении охрана их будет значительно усилена. Сейчас же вообще никакой вооруженной охраны их нет. После первых же выступлений необходимо широко опубликовать и разослать всем хлебным биржам и крупным хлебно-фуражным фирмам сообщение Союза Национальных Террористов, в котором они извещают, что все члены СНТ, находящиеся в России, не только будут сдавать советским ссыпным пунктам и элеваторам свой хлеб отравленным, но будут отравлять и хлеб, сдаваемый другими. Даже частичное отравление 3–4 пароходов, груженных советским хлебом, независимо от того, где это будет сделано, удержит все солидные фирмы от покупки советского хлеба. Конечно, о каждом случае отравления немедленно, весьма широко, должна быть извещена пресса, чтобы не имели случаи действительного отравления иностранцев. То же самое можно будет попытаться сделать с другими советскими экспортными съестными продуктами, например, с сибирским маслом. При введении своих людей в грузчики, портовые и таможенные служащие, это будет сделать не трудно. Этим был бы нанесен советам удар, почти равносильный блокаде. Помимо того, уничтожение элеваторов не только сильно удорожит хлеб, но и ухудшит его качество. На это не трудно будет получить в достаточном количестве технические средства, вплоть до хорошо вооруженных моторных лодок. Если бы таковые были получены, то можно было бы развить и некоторое пиратство для потопления советских пароходов. Ведь сейчас имеются моторные лодки, более быстроходные, чем миноносцы. При наличии моторного судна можно было бы устроить потопление долженствующего скоро возвращаться из Америки советского учебного парусника “Товарища”. При медленном его ходе настигнуть его в открытом океане и потопить так, чтобы и следов не осталось, не так уже было бы трудно. А на нем ведь исключительно комсомольцы и коммунисты. Эффект получился бы потрясающий. Потопление советских нефтеналивных судов могло бы повлечь к нарушению контрактов на поставку нефтепродуктов и колоссальные неустойки. Здесь мы найдем широкую поддержку от нефтяных компаний. Когда американские контрабандисты имеют свои подводные лодки и аэропланы, разве нам откажут в получении хороших моторных лодок, если мы докажем свое?
Надо немедленно начать отправку в Россию различными способами агитационной литературы с призывом к террору и к самоорганизации террористических ячеек, выступающих от имени СНТ. Применительно к советским сокращениям, организация могла бы сокращенно именоваться “Септ” или “Сенто”, а члены – “Сентоки” или “Сентисты”.
Необходимо, чтобы отправляемые террористы при выступлениях всегда бросали записки, что покушение или акт сделан такой-то группой СНТ, постоянно меняя нумерацию, чтобы создать иллюзию мощи СНТ и сбить с толку ГПУ.
При выборе целей для таких террористических актов надо иметь в виду только те учреждения, где все без исключения служащие, а также посетители, являются коммунистами. Таковы: Все областные комитеты ВКП(б), все губернские комитеты ВКП(б), все партийные школы, войска ГПУ и органы ГПУ.
Некоторые сведения, которые могут облегчить работу на контрразведке:
1) Если кто-либо говорит, что он является представителем организации, насчитывающей свыше 100 членов, то он или преувеличивает мощь организации, или является представителем легенды. Если же говорится о сотнях и тысячах членов, то безусловно это легенда.
2) От каждого прибывшего следует требовать список главных руководителей и вообще всех членов организации, которых он знает, с указаниями их настоящих фамилий, имен, отчеств и адресов. Эти данные можно проверять через адресные столы.
3) Желательно иметь связь не с одной легендой, которая составляла бы военные материалы, чтобы сопоставлять получаемое из других мест, проверять последние.
4) Дезинформационное бюро Разведупра всячески уклоняется от дачи дислокации технических войск. Сведения, какие дивизии являются обыкновенного состава, какие усиленного, какая разница между теми и другими. Все эти сведения военнослужащему получить очень легко, и если он отказывается от дачи их, значит он – сотрудник ГПУ…
5) Сведения ГПУ и Разведупра отличаются своей лаконичностью. Например, в случае переброски какой-либо дивизии обыкновенный информатор напишет об этом целые страницы… Дезинформационное же бюро ограничится только фиксированием самого факта переброски и изложит это в двух-трех фразах».
По плану Захарченко-Шульц были сформированы две боевые тройки. В первую кроме нее вошли Стауниц и Вознесенский.[20] Они должны были совершить террористический акт в Москве на Лубянке. Вторую, возглавляемую Ларионовым, дополнили Мономахов[21] и Соловьев.[22] Их целью стал Ленинград.
В ночь на 1 июня 1927 года обе группы благополучно перешли советско-финскую границу. Было условлено, что Ларионов начнет действовать после получения известий об удачном завершении акции в столице.
10 июня 1927 года советские газеты опубликовали правительственное сообщение о провале попытки белогвардейских террористов взорвать жилой дом № 3/6 по Малой Лубянке. А спустя почти месяц подробности неудачной диверсии раскрыл заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода в интервью газете «Правда»:
«Организаторы взрыва сделали все от них зависящее, чтобы придать взрыву максимальную разрушительную силу. Ими был установлен чрезвычайно мощный мелинитовый снаряд. На некотором расстоянии от него были расставлены в большом количестве зажигательные бомбы. Наконец, пол в доме по Малой Лубянке был обильно полит керосином. Если вся эта система пришла бы в действие, можно не сомневаться в том, что здание дома по М. Лубянке было бы разрушено. Взрыв был предотвращен в последний момент сотрудниками ОГПУ.
Опперпут, бежавший отдельно, едва не был задержан 18 июня на Яновском спирто-водочном заводе, где он показался подозрительным. При бегстве он отстреливался, ранил милиционера Лукина, рабочего Кравцова и крестьянина Якушенко. Опперпуту удалось бежать. Руководивший розыском в этом районе заместитель начальника особого отдела Белорусского округа товарищ Зирнис созвал к себе на помощь крестьян деревень Алтуховка, Черниково и Брюлевка Смоленской губернии. Тщательно и методически произведенное оцепление дало возможность обнаружить Опперпута, скрывавшегося в густом кустарнике. Он отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке.
Остальные террористы двинулись в направлении на Витебск. Пробираясь по направлению к границе, Захарченко-Шульц и Вознесенский встретили по пути автомобиль, направлявшийся из Витебска в Смоленск. Беглецы остановили машину и, угрожая револьверами, приказали шоферам ехать в указанном ими направлении. Шофер товарищ Гребенюк отказался вести машину и был сейчас же застрелен. Помощник шофера товарищ Голенков, раненный белогвардейцами, все же нашел в себе силы, чтобы испортить машину. Тогда Захарченко-Шульц и ее спутник бросили автомобиль и опять скрылись в лес. Снова удалось обнаружить следы беглецов в районе станции Дретунь. Опять-таки при активном содействии крестьян удалось организовать облаву. Пытаясь пробраться через оцепление, шпионы-террористы вышли лесом на хлебопекарню Н-ского полка. Здесь их увидела жена краскома того же полка товарища Ровнова. Опознав в них по приметам преследуемых шпионов, она стала призывать криком красноармейскую заставу. Захарченко-Шульц выстрелом ранила товарища Ровнову в ногу. В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца покончили счеты с жизнью. Вознесенский был убит на месте, Шульц умерла от ран через несколько часов.
Найденные при убитых террористах вещи подвели итог всему. При них, кроме оружия и запаса патронов, оказались гранаты системы “Леман” (на подводе, которую террористы бросили во время преследования за Дорогобужем, найдены тоже в большом количестве взрывчатые вещества, тождественные с обнаруженными на Малой Лубянке), подложные паспорта, в которых мы с первого же взгляда узнали продукцию финской разведки, финские деньги и, наконец, царские золотые монеты, на которые, видимо, весьма рассчитывали беглецы, но которые отказались принимать советские крестьяне.
У убитого Опперпута был обнаружен дневник с его собственноручным описанием подготовки покушения на М. Лубянке и ряд других записей, ценных для дальнейшего расследования ОГПУ».
В 1930 году появились новые подробности. Их сообщил отказавшийся возвращаться в Советский Союз резидент ИНО ОГПУ в Турции Агабеков:
«Приехали сюда из-за границы три человека для связи со здешними контрреволюционерами. Из них, конечно, один наш. Все было предусмотрено. Мы подготовили фиктивных руководителей организации, конспиративные квартиры, явки и прочее, и вдруг крах! Приехавшие заграничные делегаты скрылись, и вместе с ними пропал наш агент. Вот уже два дня ищем их по Москве. Как сквозь землю провалились. А вчера ночью случайно обнаружилось в общежитии сотрудников ГПУ, на Малой Лубянке, что весь пол у входа залит керосином, а в углу стоят дна бидона и ящик динамита. Там же нашли подожженный, но потухший шнур. Видимо, все было подготовлено для взрыва, но фитиль потух раньше времени.
На следующий день в ИНО ОГПУ поступил циркуляр, гласивший:
“Всем сотрудникам ОГПУ. Означенных на фотографии лиц предлагается при встрече арестовать и доставить в комендатуру ОГПУ. Указанные лица являются белогвардейцами, проникшими в СССР с целью совершения террористических актов. Приметы: первый – высокого роста, худощавый, ходит в кепке, на руке носит непромокаемый плащ. Второй – маленького роста, в кожаной тужурке, сапоги со шнурками. Приложение: две фотокарточки”».
* * *
Какую же роль все-таки во всей этой истории играл Стауниц? На мой взгляд, можно говорить о трех версиях.
1. С самого начала Гражданской войны он был сотрудником ЧК. Его разоблачения деятельности советской контрразведки – лишь продолжение выполнения задания. В этом случае он сделал все, чтобы террористический акт в Москве сорвался.
Все остальное в этой истории – еще более талантливая фальсификация ИНО ГПУ, чем в деле гибели Сиднея Рейли на границе. В эту версию вполне удачно вписывается и успех боевой группы Ларионова (о нем речь еще впереди). «Жертвуя единицами, мы спасаем тысячи». Во все времена это был негласный девиз разведок.
Остается вопрос: какова же дальнейшая судьба Стауница? Его вполне могли действительно убить в 1927 году. Скажем, Захарченко-Шульц. Или, якобы по ошибке, контрразведчики. Мавр сделал свое дело…
С другой стороны, Стауниц вполне мог остаться живым и попасть под нож сталинских чисток десять лет спустя, как все участники «Треста» с Лубянки. А мог и не попасть. И благополучно пережить и хрущевскую оттепель с брежневским застоем под чужой фамилией. Коих у него было немало.
2. Условно назову ее официальной. Стауниц – натура, склонная к измене. Сначала он офицер, за Веру, Царя и Отечество. Потом – он красный командир, за трудовой народ и мировую революцию. Затем – видный савинковец, за демократическую республику и крестьян. Далее – снова красный офицер. Более того – тайный сотрудник иностранного отдела ГПУ. Вслед за этим – белогвардеец, готовый отдать свою жизнь за свержение ненавистных Советов. Это был последний поворот в его извилистой жизни.
Поверить в это сложно. Вообще, вся биография Стауница больше напоминает хорошо написанный детектив, который держит читателя в неведении до последних страниц. Иной раз у меня складывается мнение, что кто-то специально вписал в жизнь живого человека все эти фантастические хитросплетения.
3. Когда чекисты приняли решение сворачивать «Трест», они вполне могли пойти и на нестандартный в данной ситуации ход – использовать Стауница втемную. То есть спровоцировать его на очередную измену своим идеалам, если, конечно, в отношении этого человека вообще уместно говорить про идеалы. Сделать это было очень просто. Стауниц был кассиром «Треста». Именно через его руки проходили суммы на самую успешную операцию советской разведки. И суммы были немаленькие. Вполне допускаю, что Эдуард Оттович не забывал и о собственном материальном благополучии.
Он мог, пользуясь доверием Захарченко, переправлять валюту за границу, где она благополучно оседала на его банковском счету. Очевидно, что во время проведения операции «Трест» лубянское начальство смотрело на такие шалости сквозь пальцы. Но когда настало время опускать занавес, оно, вероятно, намекнуло бы Стауницу, что пора держать ответ за разворовывание народных средств. Он не мог не испугаться. Он должен был спасать свою драгоценную жизнь, за которую столько раз шел на предательства под дулами пистолетов. Но Стауниц не мог не понимать, что эмиграция ему не поверит. Это в лучшем случае. В худшем – пристрелят как предателя. Но побег с Захарченко давал хоть мизерный, но шанс на продление жизни…
Ясно одно: человек по фамилии Стауниц бесследно исчез летом 1927 года. Он не мог не исчезнуть. Революция в первую очередь пожирает собственных создателей. А «Трест» был своего рода революцией, по крайней мере с точки зрения истории разведок. Поэтому и расстрелянные спустя десять лет Сыроежкин, Федоров, Артузов и все остальные участники этой операции не могли при всем желании убежать от судьбы…
* * *
Резидент боевой организации Кутепова в Варшаве Сергей Войцеховский в своих воспоминаниях «Трест» приводит весьма любопытную версию судьбы Стауница:
«Немцы в 1943 году раскрыли в Киеве советскую подпольную организацию. Ее начальником был не то капитан, не то майор государственной безопасности, нарочно оставленный в Киеве для этой работы. Его арестовали. Постепенно размотали клубок. Установили с несомненной точностью, что человек, называвший себя в Киеве Коваленкой, побывавший в Варшаве, как барон Мантейфель, и пользовавшийся, вероятно, и другими псевдонимами, был в действительности латышом, старым чекистом Александром Уппелиншем, которого все знают под фамилией Опперпута.
– Что же немцы с ним сделали?
Бискупский пожал плечами:
– Не знаю. Расстреляли, должно быть».
Версия интересная. Но не более того. Документально эти факты не подтверждены. Нет свидетельств в архивах ФСБ или гестапо. А значит, и принимать эту историю за правду пока не приходится.
Понятна позиция Войцеховского. Ему очень хотелось, чтобы Стауниц понес заслуженное наказание за свое предательство. И если отомстить ему не смогли кутеповские боевики (хотя и искали его достаточно долго), то пусть это будут хотя бы немцы…
* * *
Получив известие, что в Москве террористический акт сорвался, Ларионов принял решение начинать действовать. 2 июня из объявления в газете он узнал, что скоро состоится собрание в центральном партийном клубе. В списке возможных объектов для диверсии он значился под номером три. Предпочтительнее были только здания Северо-западного областного и Ленинградского городского комитетов ВКП(б). Но Ларионов, внимательно изучивший возможные пути отступления от Смольного, пришел к выводу, что провести там диверсию будет крайне сложно. Поэтому он остановил свой выбор на партийном клубе.
Они были прекрасно вооружены. Гранаты, маузеры, браунинги, баллончики с газом. На случай неудачи у каждого была ампула цианистого калия. 6 июня в 20 часов 50 минут Ларионов, Мономахов и Соловьев (он же Левашов) подошли к зданию партийного клуба. Все дальнейшее Ларионов достаточно подробно описал в своих мемуарах «Боевая вылазка в СССР»:
«“Ответный террор против коммунистической партии” – вот лозунг наиболее действительный в борьбе с палачами. В ночных кошмарах им, убийцам, ворам, садистам и растлителям духа народного, чудится грядущее возмездие. Хулители имени Бога на земле чуют, что час расплаты не может не прийти. Только действие – твердое, прямое, бьющее прямо в цель – способно положить конец бесчинственной власти маньяков. И только жертва чистая и святая восстановит честь опозоренной и безмерно поруганной Родины.
И нет иных путей для тех, кто признает наш общий страшный долг крови, залившей родную землю в бесчисленных подвалах. И нет иного действия, кроме боя, хотя бы для этого пришлось биться одному против всех.
Было восемь часов и три четверти. Белый вечер, сырой и теплый, висел над “Ленинградом”. Звонки трамваев, шаркание человеческих гусениц по панелям, стук собственного сердца – частый и тревожный – вот все, что воспринимало сознание. И еще одно воспринимало ясно и четко, что у подъезда Партклуба стоит милиционер, что ворота в проходной двор в соседнем доме заперты на солидный висячий замок, и остается единственный путь бегства – на Кирпичный переулок.
Прошли перед “мильтоном”. Он скосил на нас глаза и отвернулся. Выглянули на него из-за угла Кирпичного. О счастье! “Мильтон” неторопливым шагом побрел к Гороховой. Путь, значит – свободен!
– Смотрите, не отставать, – говорю я спутникам, чувствуя, как мой голос звучит отчаянием кавалерийской атаки.
Тяжелая дверь еле поддается. Я знаю наверное, что на этот раз – все будет…
В прихожей полумрак. Товарищ Брекс беседует о чем-то с маленьким черноватым евреем; они оба склонились над какими-то списками. Еврей в чем-то упрекает Брекс, и она, видимо, сильно смущена. Низкая лампа освещает их лица. Прямо перед нами лестница наверх, влево вешалка – мы здесь все знаем.
– Распишитесь, товарищи, и разденьтесь, – кидает торопливо Брекс, показывая на вешалку, и продолжает свое объяснение.
– Федоров, № партбилета 34, – вывожу я неровным почерком.
Дима лепит кляксу, Сергей на сей раз не вынимает уже “партийного” билета.
Поднимаемся наверх, идем по коридору, видим в конце коридора зал с буфетной стойкой и далее – вход в коммунистическое общежитие.
Из-за стойки выходит какая-то сухощавая молодая женщина и идет нам навстречу. Я с портфелем под мышкой вежливо расшаркиваюсь:
– Доклад товарища Ширвиндта?
– Дверь направо.
– Очень благодарен, товарищ.
Тяжелая почти до потолка дубовая дверь. Как сейчас помню медную граненую ручку. Кругом роскошь дворца.
Нет ни страха, ни отчаяния, ни замирания сердца. Впечатление такое, точно я на обыкновенной, спокойной, неторопливой работе.
Дверь распахнута. Я одну-две секунды стою на пороге и осматриваю зал. Десятка три голов на звук отворяемой двери повернулись в мою сторону. Бородка товарища Ширвиндта а-ля Троцкий склонилась над бумагами. Столик президиума посреди комнаты. Вдоль стен – ряды лиц, слившихся в одно чудовище со многими глазами. На стене “Ильич” и прочие “великие”, шкафы с книгами. Вот все, что я увидел за эти одну-две секунды.
Закрываю за нами дверь.
Я говорю моим друзьям одно слово: “можно” – и сжимаю тонкостенный баллон в руке.
Секунду Дмитрий и Сергей возятся на полу над портфелями, спокойно и деловито снимая последние предохранители с гранат.
Распахиваю двери для отступления. Сергей размахивается и отскакивает за угол. Я отскакиваю вслед за ним. Бомба пропищала… и замолчала.
Еще секунда тишины, и вдруг страшный нечеловеческий крик.
– А… а… а… а… Бомба!..
Я, как автомат, кинул баллон в сторону буфета и общежития и побежал вниз по лестнице. На площадке мне ударило по ушам, по спине, по затылку звоном тысячи разбитых одним ударом стекол: это Дима метнул свою гранату.
Сбегаю по лестнице.
По всему дому несутся дикие крики, шуршание бегущих ног и писк, такой писк – как если бы тысячи крыс и мышей попали под гигантский пресс.
В вестибюле с дико вытаращенными глазами подбегает ко мне товарищ Брекс:
– Товарищ, что случилось? Что случилось? – еле выдавливает она из себя.
– Взорвалась адская машина, бегите в милицию и в ГПУ – живо! – кричу на нее командным голосом.
Она выбегает за дверь и дико вопит на Мойку:
– Милиция!!! Милиция-а-а!
Сергея уже нет в вестибюле. Я ерошу волосы на голове – для выскакивания на улицу в качестве пострадавшего коммуниста, кепка смята и положена в карман, пальто, плащ бросаю в клубе. Жду Диму. Второй баллон в руке наготове.
Секунда… вторая… третья…
Медленно сходит Дима. Рука – у немного окровавленного лба; лицо, однако, непроницаемо-спокойно. Не торопясь, он подходит к вешалке, снимает свой плащ и одевает его в рукава…
– Ты с ума сошел… скорее… живо! – кричу ему и кидаю баллон через его голову на лестницу.
Звон разбитого стекла и струйки зеленого дымка поднимаются выше и выше – это смерть.
Наконец, мы на улице. Направо к Кирпичному – одинокие фигуры, налево от Невского бежит народ кучей, а впереди, в шагах 30–40 от нас милиционеры – два, три, четыре – сейчас уже не скажу.
В эту минуту все плавало в каком-то тумане. Уже не говорил, а кричал мой внутренний голос:
– Иди навстречу прямо к ним!
Я побежал навстречу милиции, размахивая руками. Дима побежал за мной. Какой-то человек выскочил за нами из двери клуба – весь осыпанный штукатуркой, как мукой, обогнал нас и кричал впереди:
– У… у… у… у!..
– Что вы здесь смотрите? – закричал я на советскую милицию, – там кидают бомбы, масса раненых… Бегите скорее… Кареты скорой помощи… Живо!!!
Лица милиционеров бледны и испуганы, они бегом устремились в Партклуб.
Мы с Димой смешиваемся с толпой, где быстрым шагом, где бегом устремляемся через Невский на Морскую к арке Главного Штаба… На Невском я замечаю рукоятку маузера, вылезшего у меня на животе из прорезов между пуговицами на френче. Запихивая маузер поглубже, достаю из кармана кепку и набавляю шаг.
Из-под арки Главного Штаба, как ангел-хранитель, выплывает извозчик. Хорошая, крепкая лошадка – редкое исключение. У Ваньки открытое, добродушное лицо.
– На Круговой вокзал!
– Два с полтиной положите?
– Бери три, только поезжай скорее…
Дима пьян от радости, возбуждения и удачи. Он заговаривает с извозчиком:
– Ты, братец, не коммунист?
– Нет, что вы, господин, из нашего брата таких мало, крест на шее носим…
– Молодец, ты, извозчик, хороший человек.
Потом Дима машет рукой проходящим по тротуару барышням и что-то кричит им… Довольно сбивчиво рассказывает он мне, что с ним случилось после взрыва бомбы:
– Понимаешь, когда я бросил бомбу, я смотрел в дверь – как она взорвется. Ну дверь сорвало и ударило мне по башке, вот и кровь на лбу. Когда я очухался и пошел к лестнице, там какой-то длинноволосый с портфелем под мышкой танцевал передо мной. Я ему крикнул: “Что ты, трам-тара-рам, болтаешься под ногами”, – потом выхватил парабеллум и выстрелил ему в пузо… Длинноволосый схватился обеими руками за зад и медленно сел на пол, а я пошел дальше и увидел тебя в вестибюле.
Дима помолчал немного и сказал:
– А Сережка-то, верно, влип. Он ведь не знает города и вряд ли доберется до вокзала. Вот бедняга.
Но вот и Левашов. Только вышли в дождливый теплый мрак, из-под которого тускло мелькали станционные фонари, слышим за своей спиной знакомый голос:
– Это вы, черти! Что же вы, трам-тара-рам, сговорились бежать на Кирпичный, а сами.
– Сережка! – радостно закричал Дима.
Оказывается, Сергей сел в поезд уже на ходу. Во время его бегства случилась целая эпопея: когда кинутая им бомба не разорвалась, он выскочил на улицу и уже там услыхал взрыв. Добежав до Кирпичного переулка, он свернул в него, шла суматоха, народ бежал на взрыв, какой-то дворник свистел и гнался одно время за Сергеем, но он успел замешаться в толпе на Невском и вскочил в трамвай. За 40 минут, оставшихся до поезда, он увидел, что ошибся трамваем, пересаживался на другие трамваи и, наконец, добрался до вокзала за полминуты до отхода поезда. Нечего было и думать брать билет. В поезде, во время контроля, с него потребовали штраф в размере двойной стоимости проезда. У бедного Сергея не хватило 50 копеек.
– Ну, что же, гражданин, на следующей станции вам придется пройти со мной в железнодорожное ГПУ.
– Товарищ, – взмолился Сергей, – мне очень спешно, я еду к больной матери.
Контролер был неумолим. Вдруг сидевшая напротив Сергея старая еврейка сжалилась и дала ему 50 копеек. Сергей, конечно, всеми святыми поклялся возвратить ей долг и взял ее адрес.
Какие-то силы решительно благоприятствовали нам. Ведь Сергей, не зная совсем города, спасся действительно чудом…»
* * *
Успех боевой тройки Ларионова был с восторгом встречен русской эмиграцией. Недостатка желающих мстить коммунистам в те дни не было. Новый глава Союза национальных террористов Георгий Радкевич немедленно взялся готовить следующих боевиков. В первую тройку вошли Александр Болмасов, ходивший к тому моменту в СССР уже восемь раз, и Александр Сольский. Вторую тройку возглавил лично Сергей Соловьев, который после взрыва ленинградского партклуба не желал почивать на лаврах.
В августе 1927 года обе группы перешли советско-финскую границу. И сразу же начались неприятности. Недалеко от села Шуя Шорин и Соловьев наткнулись на лесника, пытавшегося их задержать. Боевики пустили в ход оружие и убили его. Встревоженные власти приступили к поискам. И тут же Болмасов и Сольский, чья одежда очень походила под описание убийц лесника, попались. Они даже не успели оказать сопротивления. Группу Соловьева нашли через четыре дня. В завязавшейся перестрелке боевики были убиты. Трое красноармейцев получили ранения.
Приблизительно в те же дни еще одна тройка боевиков перешла советско-латвийскую границу. Возглавлял ее мичман Николай Строевой, который до этого ходил в СССР четыре раза. Его соратник – бывший фельдфебель армии Юденича Василий Самойлов – два раза нелегально был на Родине. Но накопленный опыт не помог. Буквально сразу же боевики были схвачены пограничниками.
В сентябре 1927 года в СССР был устроен показательный процесс над террористами. Боевики признавались в том, что они сторонники великого князя Николая Николаевича, убежденные враги большевиков и в борьбе с Советами опирались на помощь разведок Финляндии и Латвии. 24 сентября военная коллегия Верховного суда СССР, заседавшая в Ленинграде, вынесла приговор по делу пятерых:
«…Принимая во внимание, что за последнее время усилились попытки террористических актов и что необходимо решительными мерами пресечь террор и диверсионные акты и обеспечить от них трудящихся Союза, а также ввиду того, что обвиняемые Болмасов, Сольский, Строевой и Самойлов являются активными деятелями монархических организаций, приговорила: Болмасова, Сольского, Строевого и Самойлова расстрелять. Адеркаса лишить свободы на 10 лет, со строгой изоляцией, с поражением в правах на 5 лет. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Интересно, что во время процесса еще трое неизвестных пытались нелегально перейти советско-финскую границу. Двое были убиты в перестрелке, одному удалось бежать обратно в Финляндию. В одном из погибших Сольский опознал проводника, переводившего его и Болмасова через границу.
Для немногочисленной организации Кутепова эти неудачи были весьма чувствительными. Террор явно не удавался. Но извлекать уроки из поражений генерал не стал. В ночь на 4 июля 1928 года Радкевич и Мономахов перешли советско-финскую границу. Не найдя в столице чекистов, руководивших «Трестом», вечером 6 июля Радкевич бросил бомбу в бюро пропусков ОГПУ. После взрыва боевики бежали. Чекисты обнаружили их недалеко от Подольска. Радкевич застрелился. Он никогда не верил в гибель Марии Владиславовны и незадолго до похода в СССР написал ей письмо:
«Милая дорогая моя Косинька! Я не верю в твою смерть, как о том сообщали. У меня нет внутреннего чувства разлуки с тобою навсегда. Мне кажется, что мы сейчас очень близко друг от друга, хотя и не можем видеться. Делаю эту попытку снестись с Тобою. Ответь мне, когда и в каких городах мы с Тобою имели дело с эксрезешкой, которую помнишь я так называл, и подпишись одним из наших любимых имен, которое Ты так мило коверкала через о. Письмо отдай тому, кто принесет Тебе эту записку. Я ему заплатил за это всем, что у меня было. Думаю, что сделает. Не падай духом, голубка моя, может быть еще и придется встретиться. Целую Тебя крепко, крепко. Любящий Тебя Твой Гога-Косинька».
Глава 10 В мире самодельных иллюзий
Кутепов никак не хотел признавать, что его стратегия борьбы с большевиками не приносит победы. Один за другим гибнут люди. А Советы с каждым днем наращивают свою мощь. Попытка убийства одного из лидеров партии Николая Бухарина как нельзя более явно демонстрирует всю глубину непонимания генералом ситуации. Боевик Бубнов, который должен был ликвидировать любимца Ленина, по возращении в Финляндию в июле 1928 года составил подробный рапорт Кутепову. Это достаточно объемный документ, и я приведу лишь самые значимые отрывки. Данное свидетельство весьма точно показывает крах стратегии Союза национальных террористов:
«Я понял, что ни в одно из зданий, где происходят партийные собрания, даже нельзя думать попасть без партийного билета. Все это время я искал случая приобрести хоть какой-нибудь партбилет, но безрезультатно. Просто мне не повезло, потому что достать его все же можно, хотя и не легко. Способ, как это можно сделать, Вы, вероятно, угадываете. С собой обратно я привез восемь комплектов настоящих документов, добытых разными способами в разное время, партбилета все же не достал. День за днем проходили то в бесплодных скитаниях по улицам, то в попытках следить за отдельными зданиями и учреждениями, то в поисках комнаты для себя лично. Каждая ночь, проведенная в лесу под дождем, немедленно отзывалась на выносливости и здоровье.
Несколько раз охрана, видимо, обращала внимание на наши назойливые аллюры, и приходилось сейчас же переносить наблюдение на другое место, начиная с начала. Да и какое наружное наблюдение можно производить только двумя лицами. Надо было осмотреть все, что представлялось возможным и, найдя слабые пункты, бить туда. К тому же первые две недели я не хотел разменяться на какую-нибудь мелочь и изыскивал только способ, как бы встретить Бухарина или кого-либо из крупных. Здание Дома союзов на Большой Дмитровке охранялось чрезвычайными караулами от полка имени Дзержинского при ОГПУ. Торчать там поблизости, поджидая Крыленко (а он один только стоил, чтобы за ним поохотиться), было нельзя – сразу обращали внимание. Можно было наблюдать, замешавшись в толпу в Охотном ряду, но тогда не успел бы подойти ближе, чтобы бросить бомбу, так как на автомобиле они исчезали и приезжали моментально.
Одиннадцатого июня товарищ Луначарский читал лекцию в Экспериментальном театре “о новом человеке”. Билеты мы достали заранее и на лекции присутствовали. Сидели очень далеко, но можно было бы, подойдя ближе, бросить бомбу. Однако с первого же взгляда мне стало ясно, что при взрыве погибнет громадное количество людей, так как на лекции этого шута горохового ходит в большинстве интеллигенция и так называемая мелкобуржуазная среда, а каждая из моих бомб содержит около 270 мелких осколков. Не то чтобы мне стало жаль публики, мягкостью я особой не отличаюсь, но боялся, что впечатление от такого акта получится как раз обратное тому, на которое мы рассчитывали. К тому же Толя слишком ничтожная величина, хотя и подлая. Будь это Бухарин, Сталин или Менжинский – тогда другое дело. Стрелять из револьвера – было мало вероятности попасть издалека, да и помешали бы целиться, охрана торчала все же солидная.
На следующий день продолжали розыски Бухарина. В кое-какие учреждения (например, редакции газет) можно даже заходить, но попадаете как раз в те помещения, куда он, конечно, не появляется. Все время приходится работать вслепую, и до тех пор, пока у нас не будет там осведомителей-наводчиков, это так и будет. Дело оказалось не так легко выполнимым, как я предполагал, нужна долгая, упорная и тщательная подготовка и гораздо больше людей.
Видя безуспешность своих попыток в этом направлении, я решил предпринять что-либо другое. Оставалось действовать снаружи через окна. Три таких места были мною уже на всякий случай намечены. Пятнадцатого июня мы закончили все приготовления, произвели разведку. Объектом было здание МОПРа[23] на Воронцовом поле, где живут иностранные коммунисты, бежавшие в СССР. Предполагалось использовать автомобиль (я нашел способ добыть такой без шума в любое время), дабы сразу замести следы: я брал на себя заняться охраной, а Могилевич, вбежав во двор, должен был бросить все шесть бомб в разные окна одновременно, когда я начну стрелять сторожей. Но покушение не состоялось. Побывавшие под дождем в лесу капсюли, хотя и залитые парафином, не выдержали и отсырели.
Мы давно знали, что в ГПУ сидят не дураки, а энергичные и умные люди, пусть прохвосты, но тем не менее знающие свое дело, умеющие и нападать, и защищаться. Даже без поездки в Москву заранее можно было знать, что после прошлогоднего покушения меры охраны ими приняты.
Я далек от мысли признать невыполнимым провидение в жизнь белого террора, но, ознакомившись на месте с деталями и возможностями, я отдаю теперь себе ясный отчет, насколько трудно нам, при теперешнем положении вещей и при наших ограниченных возможностях, достигнуть положительных результатов, оправдывающих потери. Бросить бомбы в какое-либо собрание второсортных коммунистов, убить десяток-другой партийных марионеток, поджечь склад, взорвать мост – все это хотя и трудно, но выполнимо и при теперешних наших возможностях. Такого рода акты могут быть полезны лишь тогда, когда они будут следовать непрерывной цепью один за другим, появляться в разных частях СССР, пробудят активность самого населения, ни на минуту не давая противнику покоя.
На основании своего собственного опыта, а не из головы фантазии, я категорически утверждаю, что такого террора нам не провести – не по силам, – и вот почему. Прежде всего рассчитывать на массовое пробуждение активности в СССР нам не приходится. Хорошо мечтать о народном терроре, сидя за границей, а войдите в шкуру полуголодного, вечно борющегося за кусок хлеба забитого обывателя СССР, постоянно дрожащего перед гипнозом всемогущества ГПУ, с психологией, что сильнее кошки зверя нет. Общий вывод: помощи оттуда, пробуждения активности и самостоятельности самого населения нам ждать не приходится, надо рассчитывать на свои собственные средства. А это значит, что для каждого такого маленького акта, путем напряжения всех наших ресурсов, мы должны перевозить, перекидывать через границу, инструктировать, снабжать деньгами, оружием, техническими средствами, документами и т. д. минимум двух лиц, то есть при расчете на многочисленность актов (а иначе овчинка не стоит выделки) – десятки лиц. Вряд ли нам это будет под силу.
Даже если отбросить в сторону финансовую сторону дела, то останется еще более важное дело – вопрос кадров.
Желающих много, но подходят далеко не все. Людей, ни разу не бывавших там и незнакомых с условиями жизни, посылать прямо на террор – слишком рискованно, большинство погибнет, не дойдя до цели. Нельзя базироваться на петроградском взрыве – это был первый неожиданный для большевиков акт. Условия тогда были другие. Значит, надо всех этих лиц сначала подготовить.
Предположим, что и этот вопрос так или иначе разрешился. В первую минуту, при совершении мелкого акта, риск, конечно, будет значительно меньше, чем при покушении на какое-либо крупное лицо, где 100 процентов за гибель покушающегося. Но все же риск будет, ведь после акта людям, совершившим его, надлежит выбраться за границу из центра России. Они попадают в положение затравленного зверя. Против них будут все силы ГПУ, компартии, комсомола и Красной армии. На границах опять выложат цепи солдат и этим прервут возможность дальнейших посылок. При одиночном террористическом акте выскочить трудно, а при нескольких, разновременно произведенных, это станет и совсем невозможным, так как люди, спасающиеся в какой-либо район после взрыва, рискуют попасть как раз туда, где другая группа готовит свой взрыв. Итак, почти гарантировано, что при такой системе почти все люди, идущие туда, обратно не вернутся. Кадры надо все время пополнять и начинать всякий раз с азбуки. Опытных людей в запасе не будет. Каждый из выразивших желание идти на террор, сознает, на что идет, и к смерти готов, но весь вопрос в том, целесообразна ли будет их гибель, принесет ли она пользу делу освобождения Родины.
Раньше я верил в осуществление такого систематического террора, теперь ясно вижу, что это невыполнимо, и на вопрос отвечу – “нет, не целесообразно”. Разве стоит гибель нужных людей для дела, которое, как видно заранее, не даст желаемых результатов? Одиночными мелкими взрывами, поджогами и т. д. немногочисленными, и еще вопрос, всегда ли удачными, мы ГПУ не устрашим, общественное мнение изволнуем, но к активности вряд ли кого вызовем. Вернее, ответный террор ГПУ придавит всякое проявление этой активности. Если бы мелкий террор шел снизу, от всей массы населения, тогда он был бы грозным для коммунистов, но ведь трагедия в том, что на это даже рассчитывать сейчас нельзя. Мое мнение, что такая игра не стоит свеч. Мы эту игру не в силах провести в таком масштабе, когда она станет опасной для советской власти, и результаты не оправдают потерь».
Александр Павлович Кутепов тяжело переживал неудачи и гибель своих людей. После саморазоблачения «Треста» русская эмиграция стала терять веру в то, что с коммунизмом можно вообще бороться. Иссякали и без того небольшие средства, бывшие в распоряжении Кутепова. Но он не сдавался. Генерал не мог поверить, что на Родине все смирились с властью партии Ленина. И тогда он не знал еще самого главного: в тот момент на Лубянке было принято решение ликвидировать председателя Русского общевоинского союза. Резидент кутеповской организации в Польше Сергей Войцеховский писал спустя 40 лет:
«Кем был человек, ради которого чекисты пошли на риск этой операции в столице иностранного государства?
Он был прославленным белым военачальником, но Москва знала, что вооруженная борьба не возобновится на русской территории в существовавшей тогда внутренней и внешней обстановке.
Он был проницательным политиком и – как сказано в воспоминаниях князя С. Е. Трубецкого – “слишком трезвым практиком, чтобы придавать значение детально разработанным вне времени и пространства программам будущего государственного устройства России”.
“Возрожденную Россию – говорил он – нужно строить, отнюдь не копируя старую, но и не обрывая исторической преемственности с лучшими традициями прошлого… Неизмеримо глубоки пережитые потрясения и социальные сдвиги”.
Он был обаятельным и сильным. Это признавали даже люди, политически от него далекие. Так, например, еврейский общественный деятель Г. Б. Слиозберг написал в 1934 году: “Фигура Кутепова нам всем представлялась легендарной. Его огромный организаторский талант, его абсолютное умение влиять на массы армии, всеобщее к нему уважение офицерского состава – все это окружало имя Кутепова особым обаянием”.
Коммунисты это понимали. Знали они и то, что, говоря о потрясениях и сдвигах, Кутепов не хотел быть их пассивным наблюдателем.
“Не будем – сказал он в апреле 1929 года – предаваться оптимистическому фатализму и ждать, что все совершится как-то само собой. Лишь в борьбе обретем мы свое отечество”.
Чекисты не сомневались в том, что этот призыв к активности не был пустой фразой. Именно поэтому они решили Кутепова уничтожить…»
Часть III Похищение генерала Кутепова
26 января 1930 года, в воскресенье, Александр Павлович вышел из дома и направился пешком в русскую церковь. Потом он планировал зайти в Галлиполийское собрание. Семья Кутепова ждала его к завтраку, но генерал не пришел. Предположили, что он задержался. В три часа обеспокоенная жена послала денщика узнать о причине задержки генерала. Оказалось, что у галлиполийцев Кутепов в тот день не был. Полиция немедленно начала поиски генерала во всех больницах, моргах, полицейских участках.
Сразу нашлись и свидетели преступления. Один видел, как бешено сопротивлявшегося Кутепова заталкивали в машину. Другой – как Александр Павлович дрался с похитителями, пока ему на лицо не накинули платок с хлороформом. Судя по всему, это и стало причиной смерти председателя Русского общевоинского союза. У неоднократно раненного в боях генерала была отрицательная реакция на хлороформ, и даже его минимальная доза могла вызвать остановку сердца. Были и те, кто видел, как завернутое тело доставили на советский пароход «Спартак». Корабль немедленно взял курс в сторону Новороссийска.
Согласно данным, обнародованным ФСБ в середине 1990-х годов, Александр Павлович Кутепов умер от сердечного приступа вскоре после того, как теплоход прошел Черноморские проливы в 100 милях от Новороссийска. Однако существует и еще одна версия, озвученная незадолго до своей смерти одним из старейших французских коммунистов Онелем. Его родной брат принимал участие в этой операции советской разведки. И именно он убил председателя Русского общевоинского союза, когда тот попытался оказать сопротивление. Это противоречило замыслу Москвы. Пришлось везти тело генерала в парижский пригород Леваллуа-Перре, где жил Онель. В гараже его дома вырыли яму, которую потом залили раствором цемента. Проверить эту версию сегодня невозможно. Место, где находился гараж, застроено современными многоэтажными домами.
Французская полиция при всем желании не могла освободить Кутепова. По международным законам корабли являются частью государства, и вторжение на них может расцениваться как начало войны. А воевать с Советским Союзом, тем более из-за бывшего белогвардейского генерала, никто не хотел. Кроме того, первое в мире государство рабочих и крестьян достаточно четко выразило свое отношение к происходящему. 3 февраля 1930 года газета «Известия» посвятила половину первой полосы истории с похищением генерала Кутепова:
«Эта нелепая история в излюбленном, бульварном, детективном жанре специально инсценирована с провокационной целью. “Таинственное исчезновение” Кутепова послужило сигналом для неслыханной по разнузданности кампании, направленной против СССР и советского полпредства. “Исчезновение” Кутепова изображается как дело рук “Чека”, агенты которой якобы “похитили” Кутепова среди бела дня на улицах Парижа.
Есть достоверные сведения, исходящие из кругов, имеющих отношение к правым элементам, что виновниками исчезновения Кутепова являются сами белогвардейцы, а именно та часть русских белогвардейцев, которая добивалась отстранения Кутепова и замены его своим кандидатом.
Есть и прямые данные, указывающие на то, что Кутепов, отчаявшись в борьбе с этой частью белогвардейцев и не видя другого выхода, решил уйти с политической арены. Он 26 января выехал незаметно в одну из республик Южной Америки, взяв с собой солидную денежную сумму.
Продолжение французским правительством его тактики пассивности и потворства и косвенного поощрения хулиганской кампании науськивания на дипломатическое представительство Советского Союза невольно создает впечатление, что правительство поддается на провокацию русской белогвардейщины и следует ее указке.
Мы вынуждены были со всей серьезностью поставить перед правительством вопрос: предпочитает ли французское правительство сохранению дипломатических отношений с правительством Советского Союза сотрудничество с белогвардейской эмиграцией? Совершенно очевидно, что нормальные дипломатические отношения несовместимы с такими фактами».
В результате столь смелой операции иностранному отделу ОГПУ удалось не только на время нейтрализовать РОВС, но и сорвать заброску десанта на Кубань, который генерал намеревался возглавить лично. По некоторым данным, предполагалось участие до 4000 офицеров. После похищения Кутепова обсуждение планов нового похода прекратилось.
Передать чувства, охватившие тогда русскую эмиграцию, я не возьмусь. Лучше Евгения Карловича Миллера (которого самого похитят через семь лет) об этом все равно не скажешь:
«Русская эмиграция закипела негодованием, жаждою мести, желанием принести какие угодно жертвы, лишь бы вырвать генерала Кутепова из рук преступников. Частное расследование в течение многих месяцев работало с полным напряжением сил в помощь официальному французскому следствию, и за все это время широкой рекой текли в Комитет пожертвования со всех концов земли: и бедные, и богатые вносили свою лепту, ибо все поняли, кого они лишились; каждый лелеял надежду, что Кутепов жив, что его найдут, что он вернется к нам; не угасала и вера, что для французского правительства вопрос чести найти и покарать преступников, покусившихся на того, кому Франция оказала гостеприимство.
Увы, проходили дни, недели, месяцы… Наше расследование дало много ценных указаний французским властям, но… соображения “дипломатической неприкосновенности” ставили препятствия перед следствием.
Жестоко карает судьба русский народ, соблазненный большевиками. Велики его страдания и муки. Судьба безжалостно вырывает и из наших рядов всех тех, кому эмиграция верила и кому мог поверить русский народ. Не прошло и года со дня безвременной, в расцвете лет и сил кончины Врангеля, как скончался Великий князь Николай Николаевич, а через год большевики похитили Кутепова…»
Во всей этой истории осталось, пожалуй, только одно темное пятно. До сих пор непонятно, почему же русская военная эмиграция не отомстила за похищение Кутепова? Париж тогда по праву назывался одним из самых русских городов мира. Первый отдел Русского общевоинского союза считался самым крупным и включал в себя полковые объединения всех полков белых армий. То есть разгромить, к примеру, консульство СССР и торговые представительства было проще простого. Но этого не произошло. Согласитесь, не очень-то это корреспондируется с непримиримой историей русского зарубежья.
Могу лишь высказать свое предположение. Генералу Шатилову[24] было важно не допустить эксцессов, потому что в случае подобных акций всех участников немедленно бы выслали из Франции.
* * *
Французской полиции так и не удалось раскрыть это преступление. Только спустя много лет стали известны подробности. Операцию проводила специальная группа ОГПУ, которой руководил Яков Серебрянский. 1 января 1930 года он выехал в Париж вместе со своими подчиненными – Турыжниковым и Эсме-Рачковским. Помогали им французские коммунисты. Именно сотрудники ОГПУ и затолкнули генерала Кутепова в машину…
После завершения операции Серебрянский приступил к созданию разветвленной агентурной сети по всей Европе. 200 человек регулярно передавали в Москву важнейшую информацию. В годы гражданской войны в Испании старший майор госбезопасности (генерал-майор) Серебрянский организовывал нелегальную поставку оружия республиканской армии. В сентябре 1936 года у французской фирмы Dewoitine были куплены 12 новых военных самолетов якобы для нейтральной страны. Их немедленно перегнали в Барселону. За эту операцию 31 декабря 1936 года Яков Серебрянский был награжден орденом Ленина.
В его карьере был только один серьезный провал. Он не смог организовать похищение сына Троцкого Льва Седова. Но не потому, что вдруг стал толстовцем. В феврале 1938 года Седов внезапно умер от острого приступа аппендицита. За это Серебрянский заплатил сполна. Он был арестован по обвинению в шпионаже. Сидел в камере смертников. Но в августе 1941 года был освобожден.
Второй раз его арестовали по делу Берии 8 октября 1953 года. Снова последовали обвинения в шпионаже. Сердце Серебрянского не выдержало. 30 марта 1956 года он умер прямо во время допроса.
В мае 1971 года его реабилитировали. А спустя четверть века возвратили сыну его награды – два ордена Ленина, два ордена Красной Звезды, два знака «Почетный чекист»…
* * *
В 1978 году неожиданно для всех появилось новое свидетельство по делу о похищении генерала Кутепова. Выходивший в Нью-Йорке «Новый журнал» напечатал статью доктора Зернова, жившего в то время в Париже и знавшего лично многих лидеров Белого движения. Автор обвинил в работе на советскую разведку генерала Штейфона. Заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Борис Александрович Штейфон родился в 1881 году в Харькове в семье крещеного еврея. (Немного забегая вперед: в 1942 году вошедших в город нацистов интересовало, подпадает ли генерал вермахта под действие Нюрнбергских расовых законов. Исследованием метрических книг было установлено, что подпадает, поскольку отцом Бориса Александровича был еврейцеховой, а матерью – дочь православного диакона. Однако на карьере командира Русского корпуса этот факт не отразился.)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Награжден орденами Святой Анны III и IV степени, Святого Станислава II и III степени и Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба.
После большевистского переворота вернулся в родной Харьков. Обладая большим авторитетом среди военных, сумел собрать и объединить местных офицеров, организовать и возглавить первое белогвардейское подполье, названное впоследствии его именем, – «Центр полковника Штейфона». Накануне восстания Петлюры и занятия Харькова запорожцами Борис Александрович отправил на юг последнюю группу в 800 человек и с большим риском для жизни прибыл в штаб Добровольческой армии в Екатеринодаре…
В дальнейшем был командиром Белозерского пехотного полка, участвовал в Бредовском походе, являлся комендантом галлиполийского лагеря. В эмиграции жил в Сербии, занимался научной и преподавательской деятельностью, опубликовал ряд работ по истории военного искусства, получил звание профессора. Накануне Второй мировой войны он считался известнейшим в эмиграции публицистом, историком и военным теоретиком. В одной из своих книг пророчески писал:
«Россия уже пережила небывалые потрясения, а ко времени своего возрождения переживет их еще больше. И когда наша Родина приступит к своему устройству, она будет так бедна, что уже не сможет позволить себе роскоши ошибаться. Поэтому мы должны всегда помнить ошибки прошлого, дабы избежать их повторения в будущем».
В годы Второй мировой войны возглавил Русский корпус на Балканах. Скоропостижно скончался 30 апреля 1945 года.
И вот этого человека обвинили в предательстве. Какие же факты были на руках у Зернова?
Якобы в начале января 1930 года Штейфон тайно прибыл в Париж из России, чтобы найти деньги на функционирование мощной антибольшевистской организации, деятельность которой на Родине широко развивалась. Генерал просил сестру Зернова указать ему лиц, способных сделать крупные пожертвования, и помочь ему организовать с ними встречи. Желая поспособствовать Штейфону, она обратилась к хорошо знакомому ей С. В. Рахманинову, дававшему тогда концерты в Европе. Тот, желая содействовать борьбе с большевиками, обещал материальную помощь, и встреча была назначена на первую половину февраля.
26 января должен был состояться бал Московского землячества. Штейфон идти на него не собирался. Однако накануне решил все-таки проведать русских парижан. Ему зарезервировали столик, но на балу он так и не появился. А спустя несколько часов пришло шокирующее известие: пропал Александр Павлович Кутепов.
Вот и первая неточность Зернова. Со слов генерала Миллера известно, что по просьбе французских властей, в целях облегчения следствия, исчезновение главы РОВС хранилось в тайне. И только к вечеру второго дня, в понедельник, по Парижу поползли слухи, а уже во вторник ужасная весть облетела все русское зарубежье. И сдается мне, что автор разоблачений узнал о похищении Кутепова непосредственно от самого Штейфона. Но Зернов тут же делает поправку на то, что спустя столько лет ему, уже пожилому человеку, трудно вспомнить все детали. Но все самое интересное только начинается.
«На следующий день, в понедельник, Штейфон зашел к нам. Конечно, разговор сразу коснулся похищения Кутепова. Генерал рассказал, что он собирался быть на балу, но утром зашел к генеральше Кутеповой, заговорился с ней, а потом, когда она начала беспокоиться запозданием мужа, он стал ее успокаивать, уверенный, что генерал где-то задержался, и таким образом провел у нее большую часть дня. Вместо того, чтобы поднять тревогу и немедленно известить кого следует об отсутствии Александра Павловича, Штейфон успокаивал обеспокоенную и страшно взволнованную ужасным предчувствием жену генерала».
А вот этого произойти и вовсе не могло. И вот почему: если бы здесь шла речь о похищении генерала Миллера, то тогда действительно можно было бы с полным правом упрекнуть кого-нибудь в «медлительности», ибо до его исчезновения уже был трагический прецедент с похищением генерала Кутепова. В данном же случае хотя все и знали тогда о ненависти большевиков к руководителю Русского общевоинского союза, но именно такого рода преступление совершалось впервые. Это раз. То, что Штейфону удавалось успокаивать жену Кутепова, ни в коем случае не может быть поставлено ему в упрек. Наоборот. То же самое пытался бы делать любой порядочный и благовоспитанный человек, а тем более начальник штаба ее мужа и его близкий друг. Это, стало быть, два.
Но Зернову до этого дела не было. И он, словно заправский прокурор, вынес вердикт:
«Теперь, через 48 лет, можно ли ответить на вопрос: кто был предатель? Кого встретил Кутепов около 11 часов утра 26 января 1930 года на углу улицы Севр и бульвара Инвалидов? Мы знаем только одно, что Штейфон в это же время был там, совсем близко, в двух шагах; не он ли провел Кутепова по бульвару Инвалидов до улицы Удино?
Через несколько дней Штейфон позвонил моей сестре по телефону и сообщил, что возвращается в Югославию. Встреча с Рахманиновым отменена. Его отъезд показался нам странным. Мы обратились к генералу Шатилову, одному из главных деятелей Общевоинского Союза. Он заверил нас, что генерал Штейфон никогда в Россию не ездил. Мы обратились к Бурцеву, ведшему от себя расследование по делу Кутепова. Он заявил нам, что, по его данным, Штейфон является одним из участников похищения».
Давайте разбираться. Тут должно быть что-то одно: или генерал Штейфон провел большую часть этого рокового утра и дня у жены Александра Павловича, или же, встретив генерала Кутепова на углу улицы Севр, провел его по бульвару Инвалидов до улицы Удино, где его и похитили. Одновременно это сделать не под силу никому.
То, что Штейфон был в то утро в доме у Кутепова, подтверждал денщик генерала Федор. Соответственно, заталкивать Александра Павловича в машину Борис Александрович не мог.
Работая над этой книгой, я специально перечитал воспоминания свыше 100 человек, лично знавших Штейфона или служивших с ним. И ни у кого, повторяю, ни у кого не встретил даже косвенных подтверждений этой невероятной версии. А ведь у генерала были недоброжелатели, и немало! Да что там говорить, если и сам Зернов в конце своей разоблачительной статьи признался: «Во всех сообщениях о похищении Кутепова имя Штейфона не упоминается». На этом можно и поставить точку, если бы не одно но. Спустя три года в Париже вышла книга «Генерал умрет в полночь» о похищениях Кутепова и Миллера. Автор – дочь генерала Деникина Марина Антоновна. Ее исследование до сих пор пользуется огромной популярностью не только во Франции, но и в современной России. В свое время я позволил себе критиковать Деникину-Грей за многочисленные ошибки. За что и был отдельно обруган не читавшими ее произведений. Дескать, Деникина жила в то время, общалась с очевидцами событий и ее выводам вполне можно доверять. Но однажды получил письмо от председателя объединения лейб-гвардии Казачьего его величества полка Владимира Николаевича Грекова: «Неудачный труд Марины Грей-Деникиной очень сильно поддерживает обвинения против генерала Штейфона и страстно поносит генерала Шатилова». Но опять же без доказательств. Все на уровне «одна гражданка видела»…
Правоту моих доводов подтвердил и известный специалист по Белому движению, доктор исторических наук Василий Жанович Цветков. В письме он отмечал:
«Вероятность того, что генерал Штейфон был причастен к советской разведке, равна, по всем имеющимся о нем сведениям, 0,0 %. Почему же возникла “легенда”?
1. Пресловутые конспирологически-параноидальные теории, коих, увы, не чужда была часть эмиграции, особенно в 1940–1970-е гг. Плоды их наши искатели “жидо-масонского” следа обсуждают до сих пор. Раз Штейфон из семьи крещеных евреев – значит, как говорится, “все ясно”.
2. Нескрываемые монархические симпатии Штейфона, неоднократно высказываемые, очень тесное сотрудничество с графом Келлером (на период пребывания графа в Харькове), сведения о причастности к тайной (она действительно была, это вряд ли “догадка” покойного Бортневского) монархической группе в Добровольческой армии (в нее входили, помимо него, Кутепов и Витковский), имевшей выходы на Кисловодские центры правых (Союз РНО Безака, Нечволодова и Батюшина и др.). Деникин и Романовский знали о ней и особых симпатий не испытывали (к тому же контрразведка в своих донесениях не скупилась на преувеличения их влияния в армии). Для Штейфона Деникин – классический либерал, со всеми достоинствами, но и с не меньшими недостатками. Отсюда очевидно негативное отношение дочери Деникина к Штейфону. Плюс к тому – определенное германофильство, что в Добровольческой армии не “приветствовалось”.
3. Штейфон, насколько известно его поведение и оценки, всегда был “одиночкой”. Он никому не доверял на 100 %, всегда продумывал несколько вариантов того или иного своего решения. Поэтому со стороны мог казаться “недостаточно искренним”. “Водки не пил”, “матом не ругался”, поэтому и был “не свой”. Очень хорошая подготовка в Генштабе, опыт разведки и контрразведки (еще по Кавказскому фронту в штабе Юденича) – “слишком умный”. Прекрасное знакомство с организацией подполья (Харьковский центр под его руководством пережил и большевиков, и гетмана, и Петлюру). Но в “Ледяном походе” не участвовал – значит тоже вроде как не принадлежит к “элите”. Даже строевая должность – командира Белозерского полка – многими воспринималась как стремление к “самоутверждению”. Но, при всем при этом, в своих воспоминаниях предельно корректен и сдержан.
Никогда не выносит категорических вердиктов (даже в отношении, например, Май-Маевского, на котором только ленивый “не оттоптался” в качестве примера “почему Белые проиграли” (причем и левые, и правые)). Интригами не занимался, а предпочитал “держаться в стороне”.
Но, при всем при этом, категорическое неприятие большевизма, ни малейшего даже намека на “сменовеховство” и “ возвращенство”. Категорическая неприязнь, например, “успехов социализма в годы первых пятилеток”. А следуя классической теории “вербовки” (см., например, С. С. Турло, И. П. Залдат “Шпионаж”), агентов нужно искать среди сомневающихся и колеблющихся. После Болгарии от активной работы в РОВСе он отошел, жил в СХС (Сербо-Хорватское королевство. – А. Г.), в Париж приезжал крайне редко, кутеповские надежды на “сотрудничество с Тухачевским” откровенно не поддерживал и неоднократно указывал Кутепову на его элементарную безграмотность в разведке и конспирации. При всем при этом его отношение к Кутепову – очень почтительное…»
* * *
У Александра Павловича был единственный сын Павел. В архиве Московского патриархата Русской православной церкви хранится личное дело Павла Александровича, который долгое время работал в отделе внешних церковных сношений. Из него следует, что в 1943 году он был отчислен из учебного заведения за антифашистские настроения, вошел в связь с югославским партизанским движением. Это не совсем так. В то время Павел Кутепов уже не учился. Он был в рядах Русского корпуса на Балканах. Сохранилось безупречное свидетельство о поведении Кутепова-младшего, которое было опубликовано в журнале «Наши вести» в марте 1980 года:
«Командир Корпуса объяснил мне, что мне поручается доставить румынским властям в Бухаресте лицо, под ложной фамилией записавшееся в Русский Корпус и теперь, по политическим мотивам, затребованное через германских военных властей румынским правительством. Задача весьма ответственная, а в помощь мне, и в распоряжение вербовочного штаба в столице Румынии, командируется Павлик Кутепов.
Когда командиру Корпуса доложили, что машина подана, генерал Штейфон поднялся, подошел к Павлику, перекрестил и поцеловал его, а затем, попрощавшись со мной, просил меня беречь Павлика, на которого он перенес свою любовь к его отцу – своему начальнику и другу со времени еще Галлиполийского сидения.
Эту поездку я никогда не забуду! Были моменты, когда я просто не знал, кого мне охранять больше – нашего политического подопечного или же… Кутепова. Павел в течение всего этого пути нес такую политически опасную ахинею, что мне приходилось неоднократно его останавливать. Но ничего не помогало.
Чего только не наслышался я тогда от Кутепова: что, мол, отец его вовсе не похищен красными, “как это утверждают белые зубры”, а принял предложение советского правительства, самого Сталина, и отправился в СССР командовать армией, причем под личиной советского маршала.
Должен здесь сказать, что тогда я не знал о том, что, как об этом писал “Часовой”, в кадетском корпусе была “большевицкая ячейка”, членом которой был и Кутепов. Потому-то для меня и была такой жуткой неожиданностью вся та пробольшевистская, просоветская галиматья, какую всю дорогу нес этот, произведший на меня впечатление полуумного, мой однокашник-кадет…»
Бывший корпусник оказался почти прав. Павел Кутепов действительно добровольно перешел линию фронта и недолго служил переводчиком в Советской армии. С Московской патриархией начал сотрудничать с октября 1960 года. Спустя семь лет был назначен главным редактором Бюро переводов и информации. Награжден орденами Святого Равноапостольного князя Владимира II и III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.
Скончался он 27 декабря 1983 года. Похоронен на Бабушкинском кладбище Москвы. В эмигрантском журнале «Кадетская перекличка» потом появился некролог, в котором вице-фельдфебель 24-го выпуска Николаев, в частности, писал:
«С любовью вспоминаю довоенные годы, когда многие из его одноклассников приходили по воскресениям в милый дом Кутеповых, где Лидия Давыдовна угощала нас чаем с вкусным домашним печеньем.
Павлик всегда был хорошим другом, скромным человеком. Он никогда не пользовался именем отца для корыстных целей.
Спи спокойно на родной земле, которая не всегда была тебе ласковой матерью».
Часть IV Операции вне плана «Трест»
Эй, держись-ка покрепче с разбитой ногой. Был ты храбрый в Ростове, в Успенке! Красный час твой пробил под эмблемы дугой: – К стенке! Ну а ты, что корону хранил на плечах, И тебя мы по нашей расценке Пустим в полный расход, но без блеска в речах… – К стенке! И. СагацкийГлава 1 Убийство генерала Дутова
Александр Ильич Дутов таким запомнился современникам: «Это любопытная физиономия: средний рост, бритый, круглая фигура, волосы острижены под гребенку, хитрые живые глаза, умеет держать себя, прозорливый ум». Злые языки говорили, что казачий атаман не допускал употребления своей фамилии в родительном падеже. Дескать, ему слышалось, что говорят про «атамана дутого». Но это не более чем легенда. Он стал известен на всю Россию в августе 1917 года во время Корниловского мятежа. Керенский тогда требовал от Дутова подписать правительственный указ, в котором Лавр Георгиевич Корнилов обвинялся в измене Родине. Атаман Оренбургского казачьего войска вышел из кабинета, презрительно бросив: «Можете послать меня на виселицу, но такой бумаги не подпишу. Если нужно, я готов умереть за них». От слов Дутов немедленно перешел к делу. Именно его полк защищал ставку генерала Деникина, усмирял большевистских агитаторов в Смоленске и охранял последнего главнокомандующего Русской армией Духонина. Выпускник академии Генерального штаба, председатель Совета союза казачьих войск России Александр Ильич Дутов открыто называл большевиков немецкими шпионами и требовал судить их по законам военного времени.
27 октября 1917 года, через два дня после большевистского переворота, Дутов издал указ по Оренбургскому казачьему войску: «Впредь до восстановления полномочий Временного правительства и телеграфной связи принимаю на себя всю полноту исполнительной государственной власти». Город и губерния были объявлены на военном положении. Созданный Комитет спасения Родины, в который вошли представители всех партий, за исключением большевиков и кадетов, назначил Дутова начальником вооруженных сил края. Исполняя свои полномочия, он стал инициатором ареста некоторых членов Оренбургского совета рабочих депутатов, готовивших восстание. На обвинения в стремлении узурпировать власть Дутов с горестью отвечал: «Все время приходится быть под угрозой большевиков, получать от них смертельные приговоры, жить в штабе, не видя неделями семьи. Хороша власть!» Руководители большевиков быстро осознали, какую опасность для них представляло оренбургское казачество. 25 ноября появилось обращение Совнаркома к населению о борьбе с атаманом Дутовым. Южный Урал оказался на осадном положении. Александр Ильич был объявлен вне закона. Всем перешедшим на сторону советской власти гарантировалась амнистия. 18 января 1918 года под натиском 8-тысячной красногвардейской армии Дутов был вынужден оставить Оренбург. Он шел впереди своего немногочисленного отряда с образом святого Александра Невского, который был с атаманом во всех боях, с войсковыми знаменами и регалиями. В Верхнеуральске был созван чрезвычайный казачий круг. Выступая на нем, Александр Ильич трижды отказывался от своего поста, ссылаясь на то, что его переизбрание вызовет озлобление у большевиков. Давали о себе знать и прежние ранения. «У меня перебита шея, треснут череп, и никуда не годятся плечо и рука», – говорил Дутов. Но круг не принял отставку и поручил атаману формирование партизанских отрядов для продолжения вооруженной борьбы. В обращении к казакам Александр Ильич писал:
«Русь великая, слышишь ли ты набат? Очнись, родная, и ударь в своем старом Кремле-Москве во все колокола, и твой набат будет слышен повсюду. Сбрось великий народ ярмо чужеземное, немецкое. И сольются звуки вечевых казачьих колоколов с твоим Кремлевским перезвоном, и Русь православная будет целой и нераздельной».
Анализируя внутриполитическую обстановку, Дутов и позже не раз писал и говорил о необходимости твердой власти, которая выведет страну из кризиса. Он призывал сплотиться вокруг той партии, которая спасет Родину и за которой пойдут все остальные политические силы. Между тем положение большевиков в районе Оренбурга ухудшалось. 1 июля 1918 года они начали отступать – и спустя два дня Дутов занял город. После беспощадного террора, господствовавшего в крае за время советской власти, казачьи части были встречены городским населением почти с небывалым восторгом и воодушевлением. 12 июля специальной декларацией Дутов объявил территорию Оренбургского войска «Особой областью государства Российского», то есть казачьей автономией. Вскоре он направился в Самару – столицу Комитета членов Учредительного собрания, где вошел в его состав и был назначен главноуполномоченным на территории Оренбургской губернии и Тургайской области. Тем самым эсеровское правительство, выступавшее за федеративное устройство страны, признало легитимность казачьей автономии. Интересно, что по своим политическим взглядам Дутов принадлежал скорее к либеральному лагерю и самарский кабинет министров не сильно жаловал, даже несмотря на присвоенное ему звание генерал-майора. Но ради свержения большевиков он был готов к компромиссам:
«Я не знаю, кто мы: революционеры или контрреволюционеры, куда мы идем – влево или вправо. Одно знаю, что мы идем честным путем к спасению Родины. Мне жизнь не дорога, и ее не буду щадить, пока в России будут большевики. Все зло заключалось в том, что у нас не было общегосударственной твердой власти, это и привело нас к разрухе».
18 ноября 1918 года в результате переворота в Омске к власти пришел Колчак, ставший Верховным правителем и главнокомандующим всеми вооруженными силами России. Одним из первых в его подчинение вошел атаман Дутов. Он хотел своим примером показать, как должен поступить каждый честный офицер. Однако лидер антибольшевистского сопротивления в Забайкалье генерал Семенов сразу же заявил, что на посту Верховного правителя приемлет только Деникина или Дутова. Но Александр Ильич никогда всерьез не собирался заниматься политикой, считая себя недостаточно для этого способным.
Сохранилось расписание ежедневной работы Дутова. Рабочий день начинался в 8 утра и продолжался не менее 12 часов практически без перерыва. Атаман был доступен для простых людей – любой мог прийти к нему со своими вопросами или проблемами. Независимость, прямота, трезвый образ жизни, постоянная забота о рядовых, пресечение грубого обращения с нижними чинами – все это обеспечило Дутову прочный авторитет среди казаков.
Генерал Дутов не был идеальным человеком, не выделялся особыми способностями, но при этом проявил качества, позволившие ему создать практически из ничего собственную вполне боеспособную армию и вести беспощадную борьбу с большевиками. Современники так описывали Александра Ильича: «Усталость, утомление разлиты в его чертах. Морщины вокруг губ наметились глубже и резче. Только глаза – черные и блестящие – по-прежнему горят железной волей и удалью. Он – выразитель надежд сотен тысяч поверивших ему людей». Сохранилось и еще одно свидетельство о Дутове, правда, прямо противоположное. Барон Будберг однажды высказался о нем как о человеке, везде сующем свой нос. Ничего удивительного в подобной характеристике нет.
Во-первых, помощник Колчака так отзывался обо всех без исключения лидерах Белой борьбы в Сибири, а во-вторых, для многих именно генерал Дутов был символом всего антибольшевистского сопротивления. Не случайно казаки Оренбургского войска писали своему атаману: «Вы необходимы, Ваше имя на устах у всех, Вы своим присутствием еще более вдохновите нас на борьбу». Ведь те, кто должен был возглавлять борьбу с Третьим интернационалом, занимались «бумажной политикой», как называли это современники.
Осень 1919 года считается самым страшным периодом в истории Гражданской войны в России. Ожесточение охватило всю страну и не могло не отразиться на действиях атамана. По свидетельству современника, Дутов так объяснял собственную жестокость и террор: «Когда на карту ставится существование целого огромного государства, я не остановлюсь и перед расстрелами. Это не месть, а лишь крайнее средство воздействия, и тут для меня все равны». Интересно, что в то же самое время в правительстве Колчака царила твердая уверенность, что дни большевизма сочтены и Дутов совершенно напрасно отдает под трибунал провинившихся офицеров. Дескать, есть дела и поважнее, к примеру, организация системы управления в стране и подготовка Всероссийского представительного собрания. Нельзя не упомянуть и знаменитые переговоры о будущем территориальном устройстве государства с казахскими и башкирскими автономистами. Предполагалось разделить страну на округа. Атаману предстояло руководить Южно-Уральским краем, в который кроме Оренбуржья включались Башкирия, а также западная и северная части современного Казахстана. Дутов направил на имя адмирала Колчака записку со своими предложениями о порядке взаимоотношений с национальными окраинами. Этот документ свидетельствует о глубоком знании атаманом истории региона, особенностей национальной культуры и способов их использования в политике центральной власти. Сам же генерал по этому поводу лишь скромно заметил: «Я люблю Россию, в частности свой Оренбургский край, в этом вся моя платформа. Если бы большевики и анархисты нашли действительный путь спасения и возрождения страны, я был бы в их рядах; мне дорога Родина, и патриоты, какой бы партии они ни принадлежали, меня поймут, как и я их».
Однако руководить Южно-Уральским краем генералу не довелось. 12 сентября 1919 года Верховный правитель России адмирал Колчак назначил Дутова командующим разгромленной красными Оренбургской армией, которая безостановочно отступала по голой, безлюдной степи, испытывая недостаток продовольствия. Одному из своих офицеров атаман тогда сказал: «Россия умирает. Мы присутствуем при ее последнем вздохе». Уже в эмиграции уцелевшие достаточно точно назвали то время «голодным». Резали и ели лошадей. У местного населения покупали продукты, фураж, одежду, сани, но и этого не хватало для многотысячной людской массы. Тяжелобольных оставляли умирать в населенных пунктах, погибших не успевали хоронить и обременяли этим печальным обрядом местных жителей. В армии свирепствовал тиф, который к середине октября выкосил почти половину личного состава. По самым примерным подсчетам, во время «голодного похода» погибло свыше 10 000 человек. В своем последнем приказе по армии Дутов писал:
«Все те трудности, лишения и разные невзгоды, которые претерпели войска, не поддаются описаниям. Лишь беспристрастная история и благодарное потомство по достоинству оценят боевую службу, труд и лишения истинно русских людей, преданных сынов своей Родины, которые ради спасения своей Отчизны самоотверженно встречают всякие мучения и терзания».
В марте 1920 года частям Дутова пришлось покинуть родину и отступить в Китай через ледниковый перевал, расположенный на высоте 5800 метров. Обессилевшие люди и кони шли без запаса еды и фуража, следуя по горным карнизам, случалось, срывались в пропасть. Самого атамана перед границей спустили на канате с отвесной скалы почти без сознания. Отряд был интернирован в Суйдине и расположился в казармах русского консульства. Дутов не терял надежды возобновить борьбу с большевиками и пытался объединить под своим началом всех бывших белых воинов. За деятельностью генерала с тревогой следили в Москве. Лидеров Третьего интернационала пугало наличие значительных организованных и закаленных годами борьбы антибольшевистских сил вблизи границ советской России. Было принято решение ликвидировать Дутова. Выполнение этой щекотливой миссии возложили на Реввоенсовет Туркестанского фронта. Под видом единомышленника к атаману проник советский агент Махмут Хаджаиров. И 6 февраля 1921 года он застрелил Дутова в его квартире. Два казака из охраны генерала получили смертельные ранения. «Если суждено быть убитым, то никакие караулы не помогут», – любил повторять атаман. Так и вышло. Подпоручик Серафим Рождественский писал в своих воспоминаниях:
«Вечером шестого февраля группа Чанышева подошла к крепости.
– Пакет для его превосходительства, – сказал Махмут, показывая конверт с сургучными печатями.
– Жди здесь, позову дежурного, примет! – ответил часовой.
– Велено вручить лично в руки, видишь? – показал он дутовцу подчеркнутые двумя жирными чертами слова: “Совершенно секретно” и “Вручить лично”.
И не дожидаясь, пока казак будет раздумывать, отодвинул его плечом и спокойно, как будто каждый день ходил по этой дорожке, зашагал к дому, стоящему в глубине двора, почти у самой крепостной стены. Разговор с охранником у дома был примерно таким же. Только тот доверительно добавил: “Кажись, их превосходительство уже почивают…”
Атаман Дутов полулежал на тахте, о чем-то вполголоса говорил с адъютантом, который разбирал на столике бумаги. Кроме этого, Махмут успел заметить только поблескивающие в свете лампады иконы. Лихо козырнув, Махмут протянул пакет. Адъютант вскрыл его и подал атаману. Дутов стал читать вслух: “Господин атаман, хватит нам ждать. Пора начинать. Я все сделал. Ждем только первого выстрела”. И вдруг метнул исподлобья острый, изучающий взгляд на гонца. Тот стоял, как изваяние. Атаман стал читать дальше: “Сожалею, что не смог приехать лично…”
– А где Чанышев? – так же резко вскинув голову, спросил Дутов.
– Он ушиб ногу и сам приехать не может, – спокойно ответил Махмут. – Он ждет вашу милость у себя в доме!
– Это что еще за новости? – выкрикнул атаман.
Это были его последние слова. Махмут понял, что вариант похищения атамана Дутова отпадает. Выхватив наган, он выстрелил в упор. В то же мгновение на него бросился адъютант. Еще выстрел – и адъютант свалился к ногам Махмута. Махмут выстрелил еще раз в Дутова, свалившегося с тахты. И тут же бросился бежать.
В те дни советская граница в Семиречье была приведена в боевую готовность. В Джаркенте и в других пограничных городах был введен комендантский час и особое положение. Советские комиссары серьезно опасались нападения белых из-за границы. Боялись, что дутовцы и другие белые начнут мстить за убийство атамана Дутова. Но этого не случилось – некому было заменить атамана Дутова».
Атамана похоронили на небольшом кладбище. Но через несколько дней эмиграцию облетела шокирующая весть: ночью могила генерала была разрыта, а тело обезглавлено. Как писали газеты, убийцы должны были предоставить доказательства исполнения приказа. Только спустя 70 лет стали известны подробности смерти генерала. 8 февраля 1921 года Хаджаиров телеграфировал в Москву: «Руководивший операцией зашел в квартиру Дутова, подал ему письмо и, воспользовавшись моментом, двумя выстрелами убил. Наши сегодня благополучно вернулись в Джаркент». На бланке сохранилась и пометка, куда именно следует передать депешу: Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков.
Глава 2 Тайна генерала Монкевица
О нем до сих пор мало что известно. Лишь общие сведения, маленькая тележка достоверных фактов и целый вагон туманных слухов. А между тем именно он стал первой жертвой незримой войны в Париже между советской разведкой и русской эмиграцией.
Николай Августович Монкевиц родился 22 ноября 1869 года в небогатой дворянской семье в Польше. Окончил второй кадетский корпус, Павловское училище, Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. Военную службу начал проходить в должности помощника старшего адъютанта Варшавского военного округа.
31 октября 1910 года на него были возложены обязанности заведования военно-статистическим делопроизводством части первого обер-квартирмейстера, а с 1 июня 1914 года – особым делопроизводством главного управления Генерального штаба. С этого момента в его руках фактически сосредоточилась вся разведывательная и контрразведывательная работа в Русской императорской армии.
Во время Первой мировой войны был в действующей армии. Начальник штаба 30-го корпуса, командир 71-й пехотной дивизии. Стал Георгиевским кавалером. Казалось бы, в час суровых испытаний место профессионала такого уровня явно не в окопах. Но это только на первый взгляд. Ставка Верховного главнокомандующего предоставила возможность контрразведчикам работать по их собственному усмотрению, без общего руководства. А коли так, то и генералитет не обращал на них никакого внимания. В результате в штатах контрразведывательных отделений не предусматривалось должностей следователей, а гражданские и даже военные юристы не имели в большинстве своем опыта раскрытия шпионских дел, работы с агентурными материалами, сводками наружного наблюдения, перлюстрированной корреспонденцией и не обладали знаниями о деятельности иностранных разведок.
Да и к самому Монкевицу многие относились более чем прохладно. Граф Игнатьев писал в своих мемуарах:
«Тонкий был человек Николай Августович: он был со мной всегда очаровательно любезен, но прочитать его мысли было тем более трудно, что он мог их хорошо скрывать за своей невероятной косоглазостью. Невозможно было угадать, в какую точку он смотрел. Помощником себе он взял Оскара Карловича Энкеля, тоже умевшего скрывать свои мысли. Оба они держались обособленно от остальных коллег, совершенно не считались с их мнением и своим обращением со мной ясно давали понять, что они являются хотя и косвенными, но единственными непосредственными начальниками военных агентов.
Они держали себя европейцами, людьми, хорошо знакомыми с заграничными порядками, и вместо плохой штабной столовой всегда приглашали запросто позавтракать в “Отель де Франс” на Большой Морской – там по крайней мере ни вызовы начальства, ни вопросы посетителей не могли помешать интимной беседе.
Много таинственного и необъяснимого, в особенности в русских делах, оставила после себя мировая война, и первые загадочные совпадения обстоятельств начались для меня именно в это памятное утро 24 июля. Чем, например, можно объяснить, что во главе самого ответственного секретного дела – разведки – оказались офицеры с такими нерусскими именами, как Монкевиц, по отчеству Августович, и Энкель по имени Оскар?»
После большевистского переворота совет солдатских депутатов предложил Монкевицу возглавить 4-ю армию. Убежденный монархист, генерал-лейтенант отказался и был освобожден от занимаемой должности. До июня 1918 года он был в распоряжении бывшего командующего Румынским фронтом генерала Щербачева, где пытался не допустить разграбления имущества Русской императорской армии провозглашенным украинским правительством Центральной рады. В результате на него было совершено покушение, после неудачи которого самостийниками был отдан приказ об аресте Николая Августовича. Эти события вынудили его эмигрировать в Западную Европу.
Тогда же он вступил в монархическую тайную организацию «Союз верных», которую возглавлял бывший депутат Государственной думы Марков-второй. Кроме одного из бывших лидеров Союза русского народа в нее входили генерал-лейтенант Арсеньев, полковники Гершельман и Хомутов, князь Долгоруков, бывшие депутаты Государственной думы Дерюгин и Лавриновский. Интересный момент: структура союза очень напоминала масонскую. Руководящим органом был «Тайный верх», который кроме самого Маркова-второго составляли князь Ширинский-Шихматов, сенатор Римский-Корсаков, генералы Краснов и Гурко. Членство в Союзе имело две степени: «латники» и «воины». Полноту сходства с масонами дополняло еще и то, что «Союз верных» никогда не выступал открыто, предпочитая влиять на политику через своих членов. А что же предлагал «Союз верных»? Рецепт был прост: беспощадная борьба с мировым еврейством, которое спонсировало русских революционеров:
«С падением царского самодержавия пала монархия, а затем разрушилось и все российское Государство. Это великое падение произошло по той причине, что правящий слой русского народа, развращенный вредными лжеучениями либерализма и рационализма, постепенно утратил здоровое чутье государственного самосохранения, перестал понимать, что Россия неотделима от Православия и Самодержавия, и помог врагам России затемнить народный рассудок и обманом завлечь народ на гибельный путь разрушения основ своего государства и оплевания святынь своего духа.
Темная сила одолела великую православную Россию не в открытой борьбе, а воровским образом прокравшись к источникам русского просвещения и русской культуры.
Только отравив эти источники духом сатанинского отрицания и мятежного своеволия, только полонив печатное русское слово, а через то и русскую мысль, только став господином российского “общественного мнения” и властным распорядителем репутаций государственных и общественных деятелей России, – только тогда раскрыла свои адские карты эта чудовищная, человекоубийственная темная сила и вонзила нож в сердце своей связанной по рукам и ногам несчастной жертвы».
В этой организации Монкевиц пробыл недолго. В середине 1919 года он становится начальником миссии в Париже вооруженных сил Юга России. В сферу его деятельности, в частности, входили вопросы материальной помощи офицерам, эвакуированным из Латвии. Тогда же Монкевиц написал книгу «Крушение русской армии», в которой подробно изложил причины революции.
Поражение Белого движения в Гражданской войне отразилось на взглядах генерала. Он стал ярым противником интервенции, считая, что она будет направлена не на благо России, а для выгоды Антанты. Монкевиц убеждал всех, что основную ставку в борьбе с большевиками необходимо делать на агитацию в Красной армии, которая и должна будет совершить переворот в стране.
В эмиграции Монкевиц вместе с дочерью и сыном был во Франции. Жил по соседству с генералом Деникиным. По вечерам они часто встречались, пили чай, обсуждали Гражданскую войну и положение дел в советской России. Так было и в тот роковой ноябрьский день 1926 года. Монкевиц пришел в гости и, что называется, засиделся. Выглядел он озабоченным: был кое-как одет, рукава пиджака ему были явно коротковаты, и он старательно пытался придать им должный вид. Не получалось. От этого он нервничал еще больше. Часы давно пробили полночь, а генерал все не собирался уходить. Тактичные хозяева молчали. Наконец, во втором часу ночи он попрощался с Антоном Ивановичем. Вышел на улицу и исчез. Навсегда.
Утром к Деникиным прибежала встревоженная дочь Монкевица и спросила, где ее отец. Антон Иванович рассказал все подробности вечера. Но он не знал, куда ушел от них генерал. Дочь немедленно позвонила в полицию. Деникин знал, что дома у заместителя Кутепова по боевой организации наверняка хранились важные документы. Он попросил дочь Монкевица принести их к нему домой. Там они были бы в сохранности. Так и поступили. Деникин тщательно осмотрел документы. По ним нельзя было установить причину внезапного исчезновения генерала. Но они давали ответы на более важные вопросы. Сам Антон Иванович вспоминал спустя несколько лет:
«В несколько очередей принесли пять или шесть чемоданов и свалили в нашей столовой. Жена понесла на почту мою телеграмму Кутепову о происшествии и с просьбой немедленно приехать и “взять свои вещи”. Только через два дня приехал полковник Зайцев (ближайший помощник Кутепова по конспиративной работе) и в два или три приема увез бумаги. Я через него вторично пригласил Кутепова к себе для беседы.
Дело в том, что, желая припрятать от возможного обыска французской полиции хотя бы наиболее важное, мы с женой целые сутки перебирали бумаги. Кроме общей текущей и не очень интересной переписки в делах находилась и вся переписка с “Трестом” – тайным якобы сообществом в России, возглавляемым Якушевым (имел 3 псевдонима), работавшим с Кутеповым.
Просмотрев это, я пришел в полный ужас, до того ясна была, в глаза била большевистская провокация. Письма “оттуда” были полны несдержанной лести по отношению к Кутепову: “Вы, и только Вы спасете Россию, только Ваше имя пользуется у нас популярностью, которая растет и ширится” и т. д. Про великого князя Николая Николаевича “Трест” говорил сдержанно, даже свысока; про генерала Врангеля – иронически. Описывали, как росло неимоверно число их соучастников, ширилась деятельность “Треста”; в каком-то неназванном пункте состоялся будто тайный съезд членов в несколько сот человек, на котором Кутепов был единогласно избран не то почетным членом, не то почетным председателем… Повторно просили денег и, паче всего, осведомления.
К сожалению, веря в истинный антибольшевизм “Треста”, Кутепов посылал ему периодически осведомления об эмигрантских делах, организациях и их взаимоотношениях довольно подробно и откровенно. Между прочим, в переписке имелся срочный запрос “оттуда”: что означает приезд в Париж на марковский праздник генерала Деникина и связанные с этим чествования? И копия ответа Кутепова, что политического значения этот факт не имеет, что добровольцы приветствовали своего бывшего Главнокомандующего, и только. Вообще “Трест” проявлял большое любопытство, и, увы, оно очень неосторожно удовлетворялось… Я не могу и сейчас сказать всего, что прочел в этой жуткой переписке…»
Деникин вместе с Кутеповым пытались найти объяснение таинственному исчезновению генерала. Но этого им сделать не удалось. Записка, оставленная Монкевицем: «Во избежание лишних расходов на погребение, прошу моего тела не разыскивать», – еще больше запутала дело. В эмиграции долго ходили слухи, что генерал, крупный агент ОГПУ, инсценировал самоубийство, чтобы скрыть бегство в Советский Союз. Однако никаких документальных подтверждений этому до сих пор найти не удалось. Может быть, потому что особо и не искали. Никому не нужно было. Эмиграция доверяла мнению председателя Русского общевоинского союза генерала Врангеля. 15 ноября 1926 года он писал генералу Барбовичу:
«В области “работы” генерала Кутепова – крупный скандал. За последнее время целым рядом лиц получены сведения, весьма неблагоприятные для ближайшего помощника генерала Кутепова – генерала Монкевица. Недавно в управлении генерала Хольмсена были получены документы, подтверждающие преступную связь этого генерала с большевиками. Предупрежденный сам генерал Кутепов, однако, этому отказался верить. На днях Монкевиц исчез, оставив записку, что, запутавшись в деньгах, кончает жизнь самоубийством. Однако есть все основания думать, что это симуляция. Трупа нигде не найдено, а следы генерала Монкевица следует, видимо, искать в России…»
Глава 3 Выбор капитана Эфрона
Ранним утром 10 октября 1939 года на Лубянке начали допрашивать арестованного за несколько часов до этого тайного сотрудника НКВД Андреева. Лейтенант госбезопасности Кузнецов к тому моменту знал только, что человек, сидящий напротив, бежал из Франции два года назад. Его подозревали в причастности к убийству Игнатия Рейса, советского агента, посмевшего обвинить товарища Сталина в многочисленных преступлениях против революции. Внимательно изучив небольшое на тот момент дело подследственного, он узнал, что тот принимал участие в боях юнкеров в Москве в ноябре 1917 года. Потом уехал на юг, где вступил в Добровольческую армию. После краха Белого движения эмигрировал, активно участвовал в террористической деятельности против СССР.
В ночь ареста Андрееву выдали анкету. Он заполнил ее сам:
«Фамилия – Андреев-Эфрон, имя и отчество – Сергей Яковлевич, год и место рождения – 1893, 26 сентября, Москва, последнее место службы и должность или род занятий – был на учете в НКВД. В царской армии был прапорщиком. После того как большевики одержали победу в Москве, я поехал на Юг и вступил добровольно офицером в армию Деникина и был там до Врангеля включительно. Никаких штатных должностей я не занимал и в течение месяца болтался при штабе Алексеева. Точную дату вспомнить не могу, но помню, что это было во время первого Корниловского похода. С армией Врангеля бежал сначала в Галлиполи, а затем в Прагу. В Галлиполи голодал и жил месяцев пять в палатке. Единственно, чем я занимался, это вел группу по французскому языку из трех человек. В Константинополе я выдержал испытания, которые сдавал профессорской группе. Меня приняли на стипендию в Прагу. Я был организатором “Демократического союза студентов”, который вышел из белых организаций и занимал по отношению к белым военным кругам враждебную позицию. Редактировал издаваемый в Праге журнал под названием “Своими путями”…»
Капитан офицерского генерала Маркова полка С. Я. Эфрон
При чтении подобных ответов у следователя должно было сложиться впечатление о невзрачном белогвардейце, полном неудачнике, который так и не смог заслужить даже чина подпоручика, хотя некоторые его ровесники уже тогда минимум полковниками были. А могла и жалость проснуться к этому гнилому интеллигенту, который вместо того чтобы радоваться революционным преобразованиям, голодал на чужбине, уча французскому языку таких же заблудших овец. Однако жизнь Сергея Яковлевича вместила в себя много больше этих скупых и не совсем правдивых строк биографии.
Эфрон был в Белом движении с первого и до последнего дня. И оставался верен своим идеалам, о чем вспоминал позднее Роман Гуль:
«Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он – наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой идеи…»
Однако до сих пор о добровольчестве Эфрона если и вспоминают, то исключительно в связи с Мариной Цветаевой. Многим, наверное, знакомы ее легендарные строки, в основе которых как раз лежит жизнь ее мужа – прапорщика офицерского генерала Маркова полка:
Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину: – Где были вы? – Вопрос как громом грянет, Ответ как громом грянет: – На Дону! – Что делали? – Да принимали муки, Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки За словом: долг напишут слово: Дон.В эмиграции Сергей Эфрон, как и большинство участников Белого движения, начал писать мемуары о русской смуте. Но завершить книгу он так и не сумел. Даже судьба рукописи сегодня неизвестна. Сохранилось лишь две главы: «Октябрь» (о боях в Москве) и «Декабрь» (о Добровольческой армии). Но именно неопубликованные фрагменты его мемуаров о наступлении Русской армии генерала Врангеля в Северной Таврии в мае 1920 года легли в основу поэмы Цветаевой «Перекоп». Да, вы не ошиблись. Именно о наступлении, а не об обороне осенью того же года, как принято судить в современной России. Сама Цветаева называла Перекоп майским и горько сетовала, что не может ничего написать о последнем этапе белого сопротивления: «…Дневника, крохотной даже не тетради, а стопочки бумаги, уже не было».
О борьбе Сергея Эфрона с большевиками есть несколько безукоризненных свидетельств. Это и его письма, не так давно опубликованные, и фотография в форме офицера Марковского полка. Жаль, что не все обратили внимание на погоны. Черно-белые, с одним просветом, без звездочек. Это значит, что принадлежат они капитану. Но самое главное свидетельство оставил сам Эфрон, написавший в свое время статью «О добровольчестве»:
«Добровольчество. “Добрая воля к смерти” (слова поэта), тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и “белогвардейщина”, контрразведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин… Где же правда? Кто же они или, вернее, кем были – героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их “Георгиями”, другие – “Жоржиками”.
Я был добровольцем с первого дня, и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17-го года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне – добровольцу, на вопрос “Где правда?” дать попытку ответа.
Мой ответ: “Георгий” продвинул Добровольческую до Орла, “Жоржик” разбил, разложил и оттянул ее до Крыма и дальше, “Георгий” похоронен в русских степях и полях, “положив душу свою за други своя”, “Жоржик” жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщение, источает хулу, брань и бешеную слюну, стреляет в Милюкова, убивает Набокова, кричит на всех перекрестках о долге, любви к Родине, национализме. Первый – лик добровольчества, второй – образина его.
Но не все добровольцы “не-Жоржики” убиты. Тысячи и тысячи их рассеяны по рудникам Болгарии, по полям Сербии, по всем просторам земным не только Европы, но и Африки, Азии, Америки. Многие, может быть большинство из них, после гражданской войны научившись умирать, разучились жить, потеряли вкус к жизни. Святое дело, которому служил, провалилось; жизнь, которую отдавал, осталась; Родина, ради которой шел на подвиг, – отвернулась и отвергла. И вот вместо жизни – прозябание, вместо надежды и веры – равнодушие.
Что делать и в чем дело?
Должен оговориться: я делю добровольчество на “Георгия” и на “Жоржика”. Но отсюда не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались, переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой.
И первейший наш долг, долг и перед Родиной, и перед теми, кто похоронен тысячами в России, и перед самими нами, освободиться наконец, в себе и вовне, от этого тупого, злого, бездарного “Жоржика”…»
21 сентября 1918 года в Екатеринодаре Антон Иванович Деникин издал приказ, по которому устанавливался знак первого кубанского похода в воздаяние воинской доблести и отменного мужества, проявленных участниками, и понесенных ими беспримерных трудов и лишений. Среди награжденных был и Сергей Яковлевич Эфрон. Он получил знак I степени (им награждались участники боев) за номером 2693. Как и любой первопоходник, гордился им. Он писал в те дни Максимилиану Волошину:[25]
«Только что вернулся из армии, с которой совершил фантастический 1000-верстный поход. Я жив и даже не ранен – это невероятная удача, потому что от ядра корниловской армии почти ничего не осталось. Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова. Нам пришлось около 700 верст пройти пешком по такой грязи, о какой не имел до сего времени понятия. Переходы приходилось делать громадные – до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал!»
Но почему же он не носил заслуженный им орден? Ведь на фотографии его в форме Марковского полка никаких знаков отличия нет. Некоторые историки склонны думать, что Эфрон потерял свой знак первопоходника. Это не так. Существует фотография Марины Цветаевой с сыном, сделанная во Франции в 1935 году. На левой стороне безрукавки сына виден меч в терновом венце.
Я слышал еще одну версию: Эфрон не носил орден из скромности. Рассуждать об этом могут лишь те, кто никогда не удосуживался прочитать хотя бы одну статью Сергея Яковлевича:
«“За родину, против большевиков!” – было начертано на нашем знамени, и за это знамя тысячи и тысячи положили душу свою, и “имена их, Господи, ты един веси!”
О завтрашнем дне мы не думали. Всякое оформление, уточнение казались профанацией. И потом, можно ли было думать о будущем благоустройстве дома, когда все усилия были направлены на преодоление крышки гробовой. С этим знаменем было легко умирать, – и добровольцы это доказали, – но победить было трудно».
Здесь и скрывается разгадка тайны ордена за Кубанский поход. Капитан Марковского полка не был типажом Пастернака и дни поражений от побед научился отличать. Именно поэтому и не носил меч в терновом венце. Но это не мешало ему гордиться своим прошлым.
Возникает закономерный вопрос: каким же образом идейный доброволец Сергей Эфрон становится сотрудником иностранного отдела ОГПУ? Чем можно объяснить такой поступок? Бывший советский разведчик Кирилл Хенкин был убежден – чекисты сыграли на патриотизме марковского офицера:
«Сотрудники парижской резидентуры ОГПУ, а затем и НКВД уверяли вчерашних бойцов белогвардейских армий, иных противников большевиков, что, проиграв на полях сражений схватку с пролетариатом, они просто обязаны помочь покинутой ими Отчизне. На чем ловили агентуру для советской разведки? На чувстве вины дворян-интеллигентов перед многострадальным народом, которому они должны были помочь подняться еще в Октябре, вместо того чтобы бороться против него. Если бы они сразу пошли служить пролетарской России, а не сражаться против нее, все было бы совершенно иначе! Эфрон и Цветаева жили в страшной нищете. Понятно, что как поэтесса Марина Ивановна ни черта, простите, не зарабатывала. Она выступала на каких-то вечерах, где читала свои стихи, получала за это крохи. Но без меценатской помощи литератор-эмигрант в то время прожить не мог. И вдруг среди этой чудовищной нищеты у ее мужа, который формально трудится всего лишь корректором в типографии и прежде регулярно приносил в дом то, что на старорусском называется “получка”, причем – весьма скромная, с какого-то момента заводятся немалые деньги. Марина Ивановна наверняка понимала, что ее муж делает что-то не совсем то».
Эфрон спокойно агитировал бывших чинов белых армий вернуться на Родину. Выполнял и другие незначительные задания Лубянки. Вплоть до 1937 года. Резидент советской разведки во Франции Игнатий Рейс отказался возвращаться в СССР, хорошо понимая, что ему грозит расстрел. Он внимательно следил за началом великой чистки и не тешил себя иллюзиями: его близкое знакомство со многими видными троцкистами – гарантия смертного приговора. 17 июля 1937 года он передал в посольство письмо в ЦК ВКП(б):
«Я не поднимал голоса протеста против последовавших убийств и за это несу тяжелую ответственность. Велика вина моя, но я постараюсь ее исправить и облегчить свою совесть. До сих пор я шел с вами, отныне ни шага дальше.
Наши пути разошлись. Тот, кто молчит теперь, становится Участником Сталина и изменником рабочему классу и социализму. 20 лет я боролся за социализм. Я не хочу теперь накануне моего пятого десятка жить милостями Ежова. Позади 16 лет подпольной работы – не шутка, но я еще остаточно крепок начать снова, сначала. Реклама и шумиха, поднятая вокруг полярных летчиков, вами создана, чтобы заглушить крики жертв, которых мучили в подвалах Лубянки, в Минске, Киеве, Ленинграде и Тифлисе. Но этого мы не добились.
Слово правды более мощно и теперь, чем шум мотора, обладающего максимумом лошадиных сил. Правда что рекордистам летчикам легче завоевать симпатии американок и сходящей с ума от спорта молодежи обеих континентов, чем при обработке общественного мнения и призыва мира к совести.
Но не надо обманываться – день расплаты все ближе и ближе, чем это думают господа из Кремля. Нет, я не могу больше продолжать. Я возвращаюсь к свободе. Назад к Ленину, его учению, его делу.
P. S. В 1928 году я был награжден орденом Красного Знамени за мою службу пролетарской революции, при сем его возвращаю. Носить его вместе с палачами лучших представителей русских рабочих – ниже моего достоинства».
Одновременно Рейс сообщил через посольство в НКВД, что им помещены в безопасное место бумаги и документы, разоблачающие Сталина. И если с ним что-нибудь случится – все будет опубликовано. Москва отреагировала немедленно: было принято решение ликвидировать бывшего резидента во Франции. К тому, чтобы выследить и уничтожить предателя, были привлечены члены так называемого Союза возвращения на Родину, одним из руководителей которого был Сергей Эфрон. При его активном участии Рейс был обнаружен в Швейцарии. Его убили 4 сентября 1937 года около Лозанны. При вскрытии у него было обнаружено пять пуль в голове и семь в груди.
Следствию достаточно быстро удалось выяснить главное: убитый – бывший сотрудник НКВД. Комиссар полиции обратился к своим французским коллегам с просьбой помочь разыскать убийц и сообщить фамилии преступников. Эфрона тут же вызвали на допрос. Он все отрицал, хотя, как вспоминал потом следователь, бледнел при каждом вопросе. Едва покинув полицейский участок, Эфрон принял решение бежать. Он понимал, что в деле убийства Рейса он – главный обвиняемый и доказать свою непричастность будет невозможно. Капитан-первопоходник отправился в Гавр, сел на советский пароход и возвратился на Родину. Перечеркивая тем самым свое прошлое и все свои идеалы. Ведь еще незадолго до тех событий Эфрон писал:
«Как рядовому бойцу бывшей Добровольческой армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, может быть даже преступлений. И в тех и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой армии».
Эфрон приехал в Москву. Поселился на правительственной даче в Болшево, ранее принадлежавшей председателю советских профсоюзов Томскому. Носил форму НКВД, что само по себе говорит о многом. К нему приехала и жена с сыном. Но, как совершенно справедливо заметил Антон Иванович Деникин, проклятие предательства никогда не даст счастья. Так случилось и с Эфроном. 10 октября 1939 года его арестуют. В отчаянии Марина Цветаева напишет письмо всемогущему наркому внутренних дел Лаврентию Берии:
«Сергей Эфрон это (участие в Белом движении. – А. Г.) в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился, он из него ушел, весь целиком, и никогда уже не оглянулся в ту сторону.
После белой армии голод в Галлиполи и в Константинополе и, в 1922 году, переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет кончать историко-филологический факультет. В 1923 году затевает студенческий журнал “Своими путями” в отличие от других студентов, ходящих чужими, и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 год). С этого часа его “полевение” идет неуклонно. Переехав в 1925 году в Париж, присоединяется к группе евразийцев и является одним из редакторов журнала “Версты”, от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь, уже с 1927 года Сергея Эфрона зовут “большевиком”. Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой, не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю около 1930 года. Но что я достоверно знала и знаю, это о его страстной неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном достижении, от малейшего экономического успеха как сиял!»
Но судьба Эфрона была предрешена. Слишком серьезные обвинения были предъявлены ему. И что самое интересное – небеспочвенные. Уже спустя годы стало известно, что это именно Сергей Яковлевич предупредил генерала Деникина о том, что его собираются похитить агенты Лубянки. Бывший первопоходник, добровольно отказавшийся от всех своих убеждений, так и не смог пожертвовать главным – памятью о первых боях Добровольческой армии. Еще один участник первого кубанского похода Димитрий Лехович спустя годы напишет:
«Несмотря на все изгибы судьбы, имя генерала Деникина пользовалось большим уважением в широких кругах эмиграции, к его мнению прислушивались. А отношение его к коммунизму оставалось непримиримым. Захват такого противника в принципе соответствовал желанию советской власти, ведь похищение Деникина внесло бы невероятное смятение в ряды эмиграции. Неизбежно явилось бы ощущение, что Москва и за пределами СССР распоряжается судьбой своих политических противников, как у себя дома…»
6 августа 1941 года капитан Марковского полка, талантливый публицист Сергей Яковлевич Эфрон был расстрелян как враг трудового народа и французский шпион. Пророческими оказались его собственные слова: «Путь к России возможен лишь через самоопределение, через самоутверждение. Отказавшись от себя, от своего опыта революционного и дореволюционного, от своего прошлого, я обращусь в сухую ветвь, которая никогда не привьется к российскому стволу…»
Вместо послесловия
Не так давно, к 75-летию начала операции «Трест», в России были выпущены памятные почтовые марки с портретами видных контрразведчиков – Артузова, Стырне, Сыроежкина, Пузицкого, Ольского и Демиденко. Обществу возвращали память о тех легендарных событиях. Это правильно. Огорчает лишь то, что Александр Александрович Якушев остался в тени. А без него «Трест» был бы невозможен.
О нем сегодня почему-то не любят вспоминать. Большинство даже не знает, как сложилась его жизнь после окончания операции. 14 декабря 1929 года он был арестован за «преступную связь с видными деятелями белой эмиграции». Арестован без санкции прокурора и ордера на арест. Эту формальность исправили лишь 31 марта 1934 года. Никто за Якушева не заступился. Не объяснили руководители операции своим коллегам, что встречался Александр Александрович с Кутеповым, Марковым, Шульгиным, фон Лампе по заданию Москвы.
В результате 5 января 1934 года коллегия ОГПУ приговорила Якушева к 10 годам лишения свободы. Отбывал он свой срок на Соловках. Привыкший к роскошным ресторанам, быстро получил два инфаркта и 12 января 1937 года тихо скончался в тюремной больнице. Похоронен на Кремлевском кладбище. Только не в Москве, а на Соловках. Мы никогда не узнаем, о чем думал Якушев в последние мгновения своей жизни. Но это не означает, что о нем нужно забыть.
Приложение Краткие биографии
Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) (1869–1918). Один из лидеров партии эсеров и руководителей ее Боевой организации (БО), секретный сотрудник департамента полиции.
В 1899 году примкнул к Северному союзу социалистов-революционеров. С 1901 года один из организаторов партии эсеров. Спустя два года фактически возглавил боевую организацию партии; руководил подготовкой нескольких террористических актов (убийство В. К. Плеве в 1904 году, великого князя Сергея Александровича в 1905 году).
В 1905 году выдал полиции почти весь состав Боевой организации. В 1908 году разоблачен журналистом Бурцевым. Приговорен ЦК партии эсеров к смерти, но скрылся.
В 1915 году был арестован германской полицией как «террорист и русский шпион», заключен в Моабитскую тюрьму, где и пробыл до конца 1917 года, последние месяцы – в тюремной больнице. В марте 1918 года освобожден в связи с заключением Брест-Литовского мира. Подал заявление и поступил на службу в Министерство иностранных дел Германии, но скоропостижно скончался 24 апреля 1918 года от болезни почек. Похоронен в Берлине.
Артамонов Юрий Александрович (?–1971). Вольноопределяющийся лейб-гвардии Конного полка. Офицер Северо-западной армии генерала Юденича. Активный участник операции «Трест».
Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891–1937). Начальник контрразведывательного отдела ОГПУ. В органах ВЧК с 1919 года. Руководил и принимал активное участие в операции «Трест». Награжден орденом Красного Знамени и двумя знаками «Почетный чекист». В 1937 году арестован по делу Тухачевского. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Бреде (Бредис) Фридрих Андреевич (1888–1918). В чине поручика 99-го пехотного Ивангородского полка награжден орденом Святого Георгия IV степени (высочайший приказ от 11 ноября 1914 года) и Георгиевским оружием. «За то, что добровольно вызвался в охотники на опасную разведку, когда же дальнейшее движение со своей партией стало затруднительным, он, переодевшись в крестьянское платье, с явной опасностью для жизни проник в расположение неприятеля, откуда привез ценные данные, вполне оправдавшиеся при переходе нашем в наступление, чем значительно помог своей дивизии». В 1917 году – полковник, командир 1-го латышского стрелкового полка. Одним из первых вступил в Союз защиты Родины и свободы. Расстрелян ВЧК осенью 1918 года вместе со многими латышскими стрелками за участие в заговоре против большевиков и подготовку убийства Ленина.
Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940). Генерал-майор. В 1919 году служит в Северо-Западной армии Юденича. В 1920 году вторгся с отрядом в Белоруссию, разгромлен войсками Красной армии. Бежал в Польшу. Участник обороны Варшавы в 1939 году. Застрелен немецким патрулем.
Бурцев Владимир Львович (1862–1942). Журналист, редактор и издатель; общественный деятель. Член народовольческих кружков. В 1885 году арестован и сослан в Иркутскую губернию, бежал, выехал за границу. В 1889 году в Женеве начал издавать газету «Свободная Россия», выслан из Швейцарии, затем из Франции за связь с русскими эмигрантами. В 1897 году в Лондоне начал издавать журнал «Народоволец», в котором призывал к убийству царя. Английским судом приговорен к каторге. В 1905 году вернулся в Россию. В Петербурге был одним из редакторов журнала «Былое». С 1906 года занимался разоблачением провокаторов в русском революционном движении, в частности обосновал предательство Азефа. В 1907 году эмигрировал. В 1914 году вернулся в Россию, но на границе был арестован и сослан в Туруханский край. После Октябрьской революции эмигрировал.
Вел личное расследование похищений генералов Кутепова и Миллера, опубликовал книгу «Большевистские гангстеры в Париже». Писал и антифашистские статьи, за что подвергался преследованию гестапо. Жил в нищете и умер в лечебнице для бедных от заражения крови. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Великий князь Сергей Александрович Романов (1857–1905). 26 февраля 1891 года высочайшим приказом был назначен Московским генерал-губернатором. Был покровителем и почетным председателем многих научных обществ и учреждений: почетным членом Академии наук и Академии художеств. Был убит эсеровским террористом Иваном Каляевым. На панихиде протоиерей Иоанн Восторгов произнес: «Выстрел за выстрелом, взрыв за взрывом, кровь за кровью и убийство за убийством на Русской земле. И вот пролилась кровь, благородная кровь ближайшего Сродника Государева. Не в честном бою, не пред лицом открытого ополчившегося врага, а от злодея, из-за угла поджидавшего жертву, от фанатика, исповедующего убийство во имя жизни и насилие во имя свободы. Люди русские! Одумаемся!»
Войцеховский Сергей Львович (1900–1984). В 1918 году – в Добровольческой армии, чиновник особых поручений при управлении командующего войсками Киевской области. Находился в эмиграции в Польше. С 1923 года член боевой организации Кутепова. В 1928–1930 годах ее резидент в Варшаве.
Вырыпаев Василий Осипович (1891–1977). Полковник. Летом 1918 года участвовал в подпольной организации в Самаре, командир 1-й отдельной конной батареи Народной армии. Находился в эмиграции в Китае, Австралии, США. Сотрудник журнала «Военная быль». Автор воспоминаний «Каппелевцы».
Гоппер Карл Янович (1876–1941). Генерал-майор. Окончил Псковский кадетский корпус и Виленское военное училище. В 1917 году командир 1-й латвийской стрелковой бригады. Был дважды ранен, награжден орденами Святого Георгия III и IV степени и Георгиевским оружием. Совместно с полковником Бредисом в июле 1917 года выступил с инициативой создания латышской военной земляческой организации – Национального союза латышских воинов. Участвовал в походе генерала Корнилова на Петроград в августе 1917 года. В октябре выступил активным противником взятия власти большевиками в Петрограде. В ноябре установил контакт с Савинковым. Участник Ярославского восстания, после разгрома которого служил главным комендантом штаба войск директории в Уфе. С июня по октябрь 1919 года – начальник 21-й стрелковой дивизии 11-го Яицкого корпуса Южной армии генерала Белова. В 1920 году из Владивостока в составе латышского Имантского полка вернулся в Латвию, где служил начальником Видземской дивизии. В 1934 году вышел в отставку. 30 сентября 1940 года был арестован НКВД и расстрелян.
Деникин Антон Иванович (1872–1947). Генерал-лейтенант. Окончил Ловичское реальное училище, Киевское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской войны. Участник Первой мировой войны: генерал-квартирмейстер 8-й армии генерала Брусилова, командир 4-й стрелковой («Железной») бригады, развернутой позднее в дивизию. 9 сентября 1916 года назначен командиром 8-го армейского корпуса на Румынском фронте. Начальник штаба Верховного главнокомандующего, командующий Западным фронтом, командующий войсками Юго-Западного фронта. За поддержку мятежа Корнилова заключен в тюрьму города Быхова. Бежал на Дон, где стоял у истоков Добровольческой армии, которую и возглавил после гибели Корнилова.
С 26 декабря 1918 года Главнокомандующий вооруженными силами Юга России. С 1 июня 1919 года – заместитель Верховного правителя России, признав 30 мая над собой власть адмирала Колчака. 22 марта 1920 года передал командование ВСЮР Врангелю и убыл из Крыма в эмиграцию – на английском эсминце в Великобританию. С 1926 года жил во Франции. После Второй мировой войны переехал в США. Последним желанием Антона Ивановича было, чтобы гроб с его останками со временем, когда обстановка в России изменится, перевезли на родину. Перезахоронен в Москве в Донском монастыре осенью 2005 года.
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926). Основатель органов ВЧК. С февраля 1922 года – председатель ГПУ-ОГПУ. Награжден орденом Красного Знамени. 20 июля 1926 года после выступления на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) умер от сердечного приступа.
Дутов Александр Ильич (1879–1921). Генерал-лейтенант. С сентября 1917 года – атаман Оренбургского казачества, в ноябре возглавил вооруженное выступление против советской власти в Оренбурге. В 1918–1919 годах командовал Оренбургской армией. Эмигрировал в Китай. Убит агентами ОГПУ.
Дьяконов Павел Павлович (1878–1943). Генерал-майор. Участник Белого движения. Агент ИНО ГПУ с 1924 года. В 1940 году арестован гестапо. Был освобожден после предоставления ему и его дочери гражданства СССР. В 1941 году вернулся в СССР. Был арестован. После освобождения жил в Ташкенте. В ноябре 1942 года выехал с эшелоном в Москву сопровождать груз для Красной армии. Дорогой тяжело заболел, на станции Челкар (Казахстан) был помещен в больницу, где скончался 28 января 1943 года.
Захарченко Мария Владиславовна (Захарченко-Шульц, урожденная Лысова, по первому браку Михно) (1893–1927). Член боевой организации генерала Кутепова. Во время Первой мировой войны – доброволец, унтер-офицер 3-го гусарского полка. С конца 1917 года – организатор Союза самозащиты и руководитель партизанского отряда в Пензенской губернии. Потом действовала в подполье в Пензе и Москве. С июня 1919 года – в вооруженных силах Юга России в дивизионе 15-го уланского полка. Тяжело ранена под Каховкой. Галлиполиец. Погибла в июне 1927 года у станции Дретунь под Борисовом.
Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926). Генерал от инфантерии. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С мая 1917 года в отставке. В 1919 году вступил в Красную армию, состоял при начальнике полевого штаба РВС республики. В 1922–1926 годах – профессор Военной академии РККА. Автор фундаментальных трудов по истории Крымской (1853–1856) и Первой мировой войн. Участвовал в операции «Трест».
Каляев Иван Платонович (1877–1905). Революционер, эсер. В 1899 году вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса. За участие в студенческой забастовке выслан в Екатеринослав. В 1903 году выехал в Женеву, где вступил в боевую организацию эсеров. В 1904 году вернулся в Петербург и участвовал в убийстве Плеве. В 1904 году боевая организация вынесла смертный приговор дяде Николая Второго. 2 февраля 1905 года не бросил бомбу в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, увидев, что рядом сидят его жена и малолетние племянники. 4 февраля покушение удалось. На суде произнес яркую речь против самодержавия и был приговорен к смертной казни. Повешен в Шлиссельбургской крепости.
Керенский Александр Федорович (1881–1970). Глава Временного правительства России в 1917 году. Окончил юридический факультет Петербургского университета, был адвокатом. Депутат 4-й Государственной думы. За период правления Керенскому удалось провести ряд важных реформ. Были ликвидированы все религиозные, этнические и сословные привилегии и ограничения, установлена независимость судей, предоставлены политические и гражданские права женщинам, введен восьмичасовой рабочий день, созданы арбитражные суды для решения производственных споров. Главные проблемы, с которыми столкнулось правительство, – угроза вооруженного восстания большевиков в столице и давление генералитета (во главе с Корниловым), требовавшего укрепления тыла. Опасаясь конфликта с левыми партиями, не решался принять корниловские предложения. 26 августа прервал переговоры с Корниловым, объявил его изменником и получил от кабинета министров чрезвычайные полномочия. После подавления мятежа Ставки и ареста Корнилова назначен вместо него Верховным главнокомандующим.
Свергнут в результате Октябрьской революции. Вечером 25 октября выехал из Петрограда в расположение 3-го конного корпуса генерала Краснова, чтобы организовать поход на занятую большевиками столицу и восстановить власть Временного правительства. Однако спустя несколько дней немногочисленные казачьи отряды были остановлены. Керенский бежал на Дон, но атаман Каледин отказался от сотрудничества с ним. В начале 1918 года эмигрировал во Францию, с 1940 года проживал в США. Стал организатором Лиги борьбы за народную свободу.
Климович Евгений Константинович (1871–1930). Генерал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище. Служил в корпусе жандармов, был московским градоначальником, директором департамента полиции. Участник Белого движения. С мая 1920 года – начальник контрразведки ВСЮР, начальник госстражи в Крыму. Находился в эмиграции в Югославии, Германии.
Конради Морис (1896–1946). Штабс-капитан. В 1916 году со специального разрешения Николая Второго был принят, несмотря на то что оставался швейцарским подданным, в военном училище, откуда вышел прапорщиком. Участник Первой мировой войны. В Белом движении с 1918 года в рядах Дроздовской дивизии. Находился в эмиграции в Турции, Швейцарии. После убийства Воровского в 1923 году служил в Иностранном легионе.
Кутепов Александр Павлович (1882–1930). Генерал от инфантерии. Один из самых заслуженных генералов Белого движения. Окончил Архангельскую классическую гимназию и Петербургское пехотное юнкерское училище. Участник Русско-японской войны, офицер в рядах 85-го Выборгского пехотного полка. С 1907 года – офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Участник Первой мировой войны: капитан, командир роты и батальона, полка. Трижды ранен.
В Белом движении: командир роты, батальона, Корниловского полка. Командир 1-й бригады в 1-й пехотной дивизии. Черноморский генерал-губернатор. Командир 1-го армейского корпуса.
Находился в эмиграции в Турции, Болгарии, Сербии и Франции. После смерти генерала Врангеля возглавил Русский общевоинский союз. Похищен агентами советской разведки в Париже 26 января 1930 года.
Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934). Член РСДРП с 1907 года. В первом правительстве большевиков – нарком финансов. Вместе с Лениным жестко повел себя в отношении работников банков, бойкотировавших распоряжения советского правительства. В 1918–1919 годах в качестве генерального консула был направлен в Берлин. С 1919 года находился в аппарате ЧК. В 1923 году стал заместителем Дзержинского, а после его смерти в 1926 году возглавил организацию.
Монкевиц Николай Августович (1869–1926). Генерал-лейтенант. Руководитель русской разведки и контрразведки. Участник Первой мировой войны. В Белом движении с 1919 года. Руководитель миссии ВСЮР в Париже. В эмиграции с 1920 года. Помощник генерала Кутепова в боевой организации. Исчез при загадочных обстоятельствах.
Опперпут (Стауниц) Эдуард Оттович (1894–?). Подпоручик Русской императорской армии. В Красной армии с 1918 года. Член савинковской организации. Активный участник операции «Трест».
Павловский Сергей Эдуардович (1892–1924). Лидер боевиков савинковской организации. Окончил кадетский корпус в Москве и Елисаветградское кавалерийское училище. Участник Первой мировой войны. В 1917 году – поручик. В 1918 году был в армии генералов Юденича, затем Булак-Балаховича. В октябре-ноябре 1920 года участвовал в Мозырском походе Балаховича, во время которого познакомился с Савинковым. В 1921–1922 годах возглавлял военный штаб Народного союза защиты Родины и свободы в Варшаве и неоднократно участвовал в организации вылазок на территорию Белоруссии, сопровождавшихся убийствами коммунистов. В 1923 году нелегально прибыл в Москву по поручению Савинкова для установления реальности существования легендированной чекистами антисоветской организации «Либеральные демократы». 17 сентября 1923 года был арестован и вскоре согласился работать на чекистов. В 1924 году по решению коллегии ОГПУ расстрелян.
Перхуров Александр Петрович (1876–1922). Генерал-майор. Был одним из организаторов и военным руководителем восстания в Ярославле 6–22 июля 1918 года. Возглавил вооруженные силы восставших – Ярославский отряд Северной Добровольческой армии. В феврале-июле 1919 года командовал 13-й Казанской стрелковой дивизией. Был произведен адмиралом Колчаком в генерал-майоры за подготовку и руководство Ярославским восстанием, получил почетное именование Перхуров-Ярославский. С июля 1919 года командовал особыми летучими партизанскими отрядами 3-й армии. Участвовал в Великом сибирском Ледяном походе. Зимой 1920 года под Красноярском получил приказ пробиваться за Байкал. Потеряв ориентировку, 11 марта 1920 года был пленен красными партизанами у реки Лена. В июне 1922 года был осужден в Ярославле показательным судом и расстрелян во дворе Ярославской губернской ЧК по приговору выездной военной коллегии Верховного ревтрибунала.
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904). С 1902 года – министр внутренних дел. Проявил неутомимую энергию в преследовании либерального течения в земстве, печати и обществе. Свирепо расправлялся с революционерами. Был одним из тех, кто убеждал Николая Второго в необходимости Русско-японской войны.
Полунин Аркадий Павлович (1889–1933). Штабс-капитан. Окончил юридический факультет Петербургского университета и занимался уголовным правом. Участник Первой мировой войны. В Белом движении с 1918 года. Находился в эмиграции в Турции и Швейцарии. После убийства Воровского вел замкнутый образ жизни. Скончался при загадочных обстоятельствах 23 февраля, что породило множество слухов в русском зарубежье.
Потапов Николай Михайлович (1871–1946). Генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. После Февральской революции стал председателем военной комиссии при временном комитете Государственной думы. После Октябрьской революции сразу же начал сотрудничать с СНК и 23 ноября был назначен начальником Генштаба и управляющим Военным министерством. С декабря – управляющий делами Наркомвоена. Участник операции «Трест». В 1936 году ему было присвоено звание комбрига.
Пузицкий Сергей Васильевич (1895–1937). Комиссар госбезопасности 3-го ранга (генерал-майор). В органах ВЧК с 1921 года. Активный участник операции «Трест». Участвовал в арестах Рейли и Савинкова, похищении генерала Кутепова. Награжден орденом Красного Знамени, двумя знаками «Почетный чекист», а также золотым оружием с надписью «С. В. Пузицкому. За беспощадную борьбу с контрреволюцией. Ф. Дзержинский». Арестован в 1936 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Рейли Сидней (настоящая фамилия Розенблюм) (1874–1925). Британский разведчик, выходец из России. Один из организаторов заговоров против советской власти. Арестован в ходе операции «Трест». Расстрелян органами ВЧК.
Савинков Борис Викторович (1879–1925). Знаменитый эсеровский террорист, автор многочисленных воспоминаний. Окончил гимназию в Варшаве, учился в Петербургском университете. Входил во Временное правительство, спровоцировал Корниловский мятеж. В эмиграции с 1920 года. Во время первого этапа операции «Трест» заманен на территорию СССР, арестован сотрудниками ГПУ, осужден. Совершил самоубийство в тюрьме.
Сазонов Егор Сергеевич (1879–1910). Террорист-эсер. В 1901 году участвовал в студенческих волнениях в Москве. Дважды арестовывался за участие в революционном движении. В 1903 году отправлен в ссылку сроком на пять лет в Якутск. Из ссылки бежал за границу. В эмиграции стал членом Боевой организации эсеровской партии. 15 июля 1904 года совершил убийство министра внутренних дел Плеве. Был приговорен к каторжным работам, которые отбывал в Шлиссельбургской крепости и на Акатуйских рудниках. В ноябре 1910 года покончил жизнь самоубийством в знак протеста против издевательств тюремных властей над политзаключенными.
Стырне Владимир Андреевич (1897–1938). Комиссар госбезопасности 3-го ранга. С 1921 года служил в органах ВЧК. С 1924 года – помощник начальника особого отдела. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Сыроежкин Григорий Сергеевич (1900–1938). Майор государственной безопасности (генерал-майор). С августа 1921 года – в органах ВЧК. Активный участник операции «Трест». Принимал участие в аресте полковника Павловского и Савинкова. Расстрелял Сиднея Рейли. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Во время гражданской войны в Испании – военный советник республиканцев. Арестован в 1938 году по обвинению в заговоре Тухачевского. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Федоров Андрей Павлович (1888–1937). В органах ВЧК с 1922 года. Активный участник операции «Трест». Выступая в качестве руководителя легендированной чекистами контрреволюционной организации «Либеральные демократы», неоднократно выезжал в Париж к Савинкову. За успешное выполнение сложного задания ОГПУ 5 сентября 1924 года был награжден орденом Красного Знамени. Коллегия ОГПУ присвоила ему звание «Почетный чекист». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Федулеев Григорий Тихонович (1900–1937). Сотрудник ОГПУ для особых поручений. Принимал участие в казни Сиднея Рейли. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Чернов Виктор Михайлович (1873–1952). Лидер партии социалистов-революционеров. В 1894 году за участие в народнических кружках был арестован и после восьми месяцев заключения в Петропавловской крепости сослан на три года в Тамбов. В 1899 году, после окончания срока ссылки, выехал за границу, где спустя три года стал ведущим теоретиком, членом ЦК эсеров, редактором газеты «Революционная Россия». Раскрытие предательства Азефа Чернов пережил как личную трагедию.
После Февральской революции 1917 года вернулся в Россию. С мая по август был министром земледелия, но, потерпев неудачу в борьбе за аграрное законодательство, вышел в отставку. Выступил безусловным противником Октябрьского переворота. В 1918 году был избран председателем Учредительного собрания, отказавшегося обсуждать навязанную большевиками повестку и потому силой разогнанного. Выехав в Самару, возглавил съезд членов Учредительного собрания. После захвата власти Колчаком выступил против него. Был арестован, но вскоре освобожден. В 1919 году написал Ленину письмо: «Ваш коммунистический режим есть ложь – он давно выродился в бюрократизм наверху, в новую барщину, в подневольные каторжные работы внизу. Ваша “советская власть” есть сплошь ложь – плохо прикрытый произвол одной партии…»
Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (1862–1930). Князь. В течение многих лет был сотрудником и соратником К. П. Победоносцева, занимал должности обер-прокурора Святейшего синода, сенатора и члена Государственного совета. Один из лидеров Союза русского народа. В 1918 году пытался организовать спасение царской семьи. С 1920 года – в эмиграции в Берлине и Париже. Член Высшего монархического совета.
Штейфон Борис Александрович (1881–1945). Генерал-майор. Окончил Чугуевское военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской и Первой мировой войн: в Кавказской армии, участник похода на Эрзурум. Награжден Георгиевским оружием за разведоперации под Эрзурумом.
В Белом движении: начальник штаба 3-й пехотной дивизии; командир Белозерского полка; начальник штаба Полтавского отряда, с которым совершил легендарный Бредовский поход. Начальник Галлиполийского лагеря. Находился в эмиграции в Болгарии, Югославии, Франции, Германии. Работал в РОВС. Занимался публицистикой и литературой. Во Второй мировой войне командир Русского корпуса на Балканах. Умер 30 апреля 1945 года.
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976). Политический деятель. Один из лидеров правого крыла 2–4-й Государственной думы. В 1917 году член временного комитета Государственной думы, принимал вместе с Гучковым отречение Николая Второго от престола. Участник Белого движения на Юге России. С 1920 года в эмиграции. В 1944 году арестован в Югославии, вывезен в СССР. До 1956 года отбывал заключение за антисоветскую деятельность. В 1960-х годах призвал эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР.
Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941). Капитан. С ноября 1920 года в эмиграции в Константинополе, Праге, Париже. Участник евразийского движения, соредактор журналов «Своими путями» и «Версты». Сотрудник иностранного отдела ОГПУ, генеральный секретарь парижского Союза возвращения на Родину. В октябре 1937 года бежал из Франции в СССР. Арестован в октябре 1939 года, расстрелян 16 октября 1941 года.
Якушев Александр Александрович.(1876–1937). Действительный статский советник, участник контрреволюционных организаций в Петрограде. Председатель политсовета Монархической организации Центральной России. Активный участник операции «Трест». Осужден. Умер в лагере.
Примечания
1
Весь фотоматериал этой книги вы можете скачать по ссылке:
(обратно)2
Гучков Александр Иванович (1862–1936) – российский государственный и политический деятель, председатель III Государственной думы, военный и морской министр Временного правительства.
(обратно)3
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году.
(обратно)4
Масарик Томаш Гаррик (1850–1937) – чешский государственный деятель, первый президент Чехословацкой республики.
(обратно)5
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – участник Первой мировой и Гражданской войн.
(обратно)6
Экспроприация денег.
(обратно)7
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – один из лидеров партии эсеров.
(обратно)8
Дикгоф (Деренталь) Александр Аркадьевич (1885–1939) – эсер, соратник Б. Савинкова.
(обратно)9
Пилляр Роман Александрович (1894–1937) – активный участник революционного движения, один из основателей Компартии (большевиков) Литвы и Белоруссии. В июле 1922 – декабре 1925 года заместитель начальника Контрразведывательного отдела Секретно-оперативного управления ГПУ А. Х. Артузова.
(обратно)10
Контрреволюционного движения. – Примеч. ред.
(обратно)11
Гудзь Борис Игнатьевич (1902–2006) – советский разведчик, участник Гражданской войны.
(обратно)12
Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867–1939) – русский военачальник; руководитель Белого движения на севере России в 1919–1920 годах. С 1925 года старший помощник председателя Русского общевоинского союза. После похищения советской разведкой генерала А. П. Кутепова в 1930 году Миллер стал председателем РОВСа.
(обратно)13
Марков Николай Евгеньевич (Марков-второй) (1866–1945) – политик, публицист. Депутат III и IV Государственной думы. С 1910 г. председатель главного Совета Союза русского народа.
(обратно)14
Радкевич Георгий Николаевич (подпольный псевдоним Шульц) (1898–1928) – участник боевой организации Кутепова; сотрудник врангелевской контрразведки; галлиполиец.
(обратно)15
Московского военного и Петроградского военного округа. – Примеч. ред.
(обратно)16
Мирбах фон Вильгельм (1871–1918) – немецкий дипломат, посол Германской империи при правительстве РСФСР.
(обратно)17
Члены Русского общевоинского союза. Отправлены в СССР для проведения террористических актов генералом Кутеповым.
(обратно)18
Боевая организация генерала Кутепова. В нее входили Захарченко-Шульц, Радкевич, Ларионов и др. Самые громкие акции: взрыв приемной ГПУ в Москве и взрыв партклуба в Ленинграде. После похищения Кутепова прекратила свое существование.
(обратно)19
Ларионов Виктор Александрович (1897–1988) – участник Первой мировой и Гражданской войн, галлиполиец, террорист.
(обратно)20
Член РОВС, участник белого движения на Юге России.
(обратно)21
Участник белого движения на Юге России, входил в РОВС.
(обратно)22
Участник белого движения на Юге России, входил в РОВС.
(обратно)23
Международная организация помощи борцам революции.
(обратно)24
Шатилов Павел Николаевич (1881–1962) – генерал от кавалерии. Участник Белого движения. В 1924–1934 годах – начальник первого отдела Русского общевоинского союза. После похищения генерала Е. К. Миллера в 1937 году отошел от политической деятельности.
(обратно)25
Волошин Максимилиан (1877–1932) – русский поэт, литературный критик, друг Цветаевой и Эфрона.
(обратно)




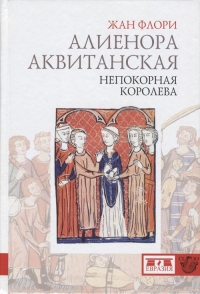
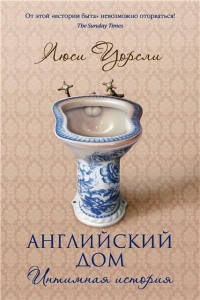
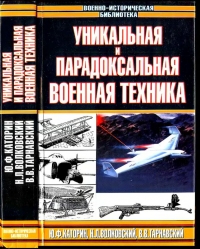
Комментарии к книге «Операция «Трест». Шпионский маршрут Москва – Берлин – Париж», Армен Сумбатович Гаспарян
Всего 0 комментариев