Михаил Кубланов ИИСУС ХРИСТОС — БОГ, ЧЕЛОВЕК, МИФ?
Остерегайтесь… слепой веры, остерегайтесь этих первых и слепых впечатлений, которые вы восприняли со дня вашего рождения и, при вашем воспитании, воспринимайте вещи более глубоко… взвесьте как следует основания для того, чтобы верить или не верить тому, чему ваша религия учит вас… Я уверен, что если вы последуете за естественным светом вашего разума, вы увидите… что все религии мира суть только измышления людей и что все, чему учит вас ваша религия и во что она заставляет вас верить как в сверхъестественное, божественное, в сущности есть только заблуждение, обман, иллюзия и лицемерие.
Жан Мелье[1]Глава первая. Два «Слова» о Христе и христианстве
За полтора столетия до первого вселенского Никейского собора (325 г. н. э.), закрепившего союз христианской церкви с римской императорской властью, просвещенный римлянин Цельс написал сочинение, которое называлось «Правдивое слово». Книга Цельса до нас не дошла. Возможно, в период господства церкви она была уничтожена фанатически настроенными христианами, подобно тому как они уничтожали списки сочинений философов-эпикурейцев и другие «языческие» памятники античной культуры.
Однако, в отличие от многих других, сочинение Цельса не исчезло бесследно, и невольными виновниками этого оказались… те же фанатически настроенные христиане. В середине III в. н. э. некий дьякон Амвросий, богач и сеятель христианской «учености», поручил широко известному в то время христианскому писателю Оригену написать опровержение взглядов Цельса. Для ускорения работы ему были предоставлены стенографы, переписчики, каллиграфы, и таким образом было создано христианское полемическое сочинение в восьми книгах, получившее название «Против Цельса».
Стремясь наиболее полно опровергнуть аргументы своего опасного противника, Ориген прибегнул к приему, который оказался чрезвычайно благодатным для науки. Полемизируя, Ориген вначале выписывал цитату из сочинения Цельса, а затем уже давал пространный ответ. Таким образом значительная часть «Правдивого слова» оказалась переписанной Оригеном, и исследователи нового времени, выбрав все эти цитаты, сумели до известной степени восстановить само исчезнувшее произведение.
Цельс, как об этом свидетельствует его книга, был широко образованным для своего времени человеком. Он знал историю, художественную литературу, философию, имел представление о религиозных настроениях и вкусах своих современников и, кроме того, хорошо изучил Ветхий завет, христианскую и гностическую литературу. На этой основе он с позиций рационализма подверг рассмотрению христианское вероучение и в первую очередь учение о Христе. Предваряя идеи, которые пятнадцать столетий спустя будут высказаны французским священником Жаном Мелье, Цельс говорит, что прежде чем воспринять какое-либо учение, надо его подвергнуть суду разума, ибо иначе легко поддаться обману. «А именно, так, — пишет он, — обстоит дело с христианами. Некоторые из них не хотят ни давать, ни получать объяснения насчет того, во что веруют. Они отделываются (фразами вроде): „не испытывай, а веруй“, „вера твоя спасет тебя“, они говорят: „мудрость в мире — зло, а глупость— благо“»[2].
Цельс отвергает евангельский миф о непорочном зачатии и приводит версию, видимо, бытовавшую в его время, будто Иисус — плод тайной любовной связи пряхи Марии и солдата Пантеры. Он говорит, что миф о непорочном зачатии матери Иисуса сходен с целым рядом эллинских мифов о Данае, Меланиппе, Антиопе и совсем не оригинален. Цельс подчеркивает безосновательность перенесения ветхозаветных пророчеств на Иисуса. Почему на него, а не на кого-либо другого? — спрашивает он. Вообще, замечает он, такого рода пророчества, произносимые в состоянии экстаза, открывают возможность для различных толкований. Цельс отрицает божественную сущность Иисуса, доказывая это на примерах его евангельской биографии. К чему евангельский рассказ о бегстве родителей Иисуса с новорожденным младенцем в Египет? Ведь бог не может бояться, что его убьют. Он подчеркивает неправдоподобие и неоригинальность евангельских рассказов о чудесах. «Допустим на минуту, — пишет он, — (что правда) все то, что рассказывают морочащие (читателей) ученики твои насчет исцелений, воскресения, о нескольких хлебах, насытивших толпу, причем еще остались большие излишки, и о всем прочем; поверим, что ты все это совершил: (но ведь ничем не хуже) дела чародеев, обещающих еще более удивительные вещи, и то, что совершают выученики египтян, отдающие посреди рынка за несколько оболов свои замечательные знания, изгоняющие бесов из людей, выдувающие болезни, вызывающие души героев, показывающие призрачные роскошные пиры, трапезы, печения и лакомства, приводящие в движение не существующих в действительности животных, являющихся таковыми лишь для воображения. Так что же, если они проделывают такие вещи, нам придется считать их сынами божьими? Или нам надо сказать, что это проделка дурных и жалких людей?»[3].
Целый ряд евангельских несуразностей, привлекших внимание научной критики в Новое время, был уже подмечен Цельсом в его «Правдивом слове». Он отвергает евангельский миф о воскресении, показывая, во-первых, что аналогичные мифы существовали среди «язычников» еще до появления христианства и, во-вторых, что сами евангельские доказательства воскресения несостоятельны и покоятся на свидетельствах, взаимно друг друга исключающих. Цельс ставит перед своими читателями и такой вопрос: в чем смысл сошествия христианского бога на землю? Чтобы узнать, что делается у людей? Значит, он не всеведущ. Или он все знает, но не может исправить с высоты своей обители? Значит, он не всемогущ. Или, может быть, он сделал это из стремления приобрести популярность? Значит, он тщеславен. Автор «Правдивого слова» отмечает, что христиане наделяют своего бога чертами людей и приписывают ему дела и идеи, воспринятые из греческих мифов и неправильно понятых ими, искаженных постулатов античной философии.
С острым сарказмом говорит Цельс о претензиях христиан и иудеев его времени на преимущественное перед другими народами положение у бога. Он уподобляет их лягушкам или черням, которые, усевшись вокруг лужи, стали бы говорить, что они — главная забота бога и бог, оставив все остальное, не устает посылать к ним вестников и домогаться, чтобы они его не оставили. Цельс насмехается над их идеей божественной целесообразности. «Христиане, — иронизирует он, — подобны червям, которые стали бы говорить, что, мол, есть бог, а затем следуем мы, рожденные богом, подобные во всем богу; нам все подчинено — земля, вода, воздух и звезды, все существует ради нас, все поставлено на службу нам. Ныне, говорят черви, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет бог или он пришлет своего сына, чтобы поразить нечестивых и чтобы мы прочно обрели вечную жизнь с ними». И заключая, Цельс добавляет: «Все это более приемлемо, когда об этом спорят между собой черви и лягушки, чем иудеи и христиане»[4]. Стремясь просветить заблудших иудеев и христиан и вернуть их в лоно разума, Цельс с наивной убежденностью восклицает: «Иудеи и христиане! Ни один бог и ни один сын божий не спускался и не стал бы спускаться на землю»[5].
С рационалистических позиций критикует он также христианские учения о воскресении мертвых, о страшном суде и огненной геенне. Он отмечает расхождения среди самих христиан по многим вопросам вероучения — о гностических сектах, о многократных переделках евангелий, ввиду обнаружения в них уже в его время, в последние десятилетия II в. н. э., бесконечных несуразностей и противоречий.
Цельс не атеист. Развенчивая христианское вероучение, он призывает его приверженцев вернуться в лоно «отчих» богов и официального культа. Однако его наблюдения, относящиеся еще к тому времени, когда только шло формирование христианства, выявление им противоречий в христианском вероучении и попытка показать исторические корни некоторых евангельских мифов представляют в истории науки выдающийся интерес. До известной степени Цельса можно считать родоначальником того критического направления, которое спустя полтора тысячелетия породит целые школы научной критики новозаветных произведений.
* * *
«Дорогие друзья, мне нельзя было при жизни открыто высказать то, что я думал о порядке и способе управления людьми, об их религиях и нравах, это сопряжено было бы с очень опасными и прискорбными последствиями; поэтому я решил сказать вам это после своей смерти… Цель моя — по мере сил моих открыть вам глаза, хоть и поздно, на те нелепые заблуждения, среди которых мы все, сколько нас есть, имели несчастье родиться и жить, на заблуждения, которые я сам имел неприятную обязанность поддерживать в вас. Говорю — неприятную, потому что эта обязанность поистине была мне тяжела…»[6].
Так начинает свое знаменитое «Завещание» французский священник Жан Мелье. И хотя оно было написано свыше двухсот тридцати лет назад, значительность содержащихся в нем мыслей и драматизм жизни самого автора, вынужденного проповедовать то, во что он все больше утрачивал веру, побуждают нас и сейчас обращаться к этому документу. Заявляя себя поборником подлинного равенства между людьми, Мелье говорит, что в жизни эти справедливые принципы подавляются теми, кто хочет жить за счет тружеников — правящей верхушкой и эксплуататорскими сословиями. Носители гордых титулов — сеньоры, государи, короли, монархи, властители — под предлогом божественного происхождения своей власти заставляют народ почитать, бояться и слушаться их самих как богов. При этом религия, которая, казалось бы, должна осуждать дурной, несправедливый режим, в действительности неплохо уживается с ним. Священники призывают паству повиноваться начальству, князьям и государям как власти, поставленной от бога, а власти в свою очередь наделяют священников жирными бенефициями и богатыми доходами.
При этом, говорит Мелье, католическая религия, которую исповедует он сам, не составляет исключения. «Ваша религия, — пишет он, — не менее призрачна, не менее суеверна, чем все другие; она не менее ложна в своих основаниях, не менее смешна и нелепа в своих догмах и правилах; вы не менее идолопоклонники, чем те, которых вы сами порицаете и осуждаете за идолопоклонство. Ваши представления отличаются от представлений язычников только по виду. Короче говоря, все, что ваши богословы и священники с таким пылом и красноречием проповедуют вам о величии, превосходстве и святости таинств, которым они заставляют вас поклоняться, все, что они с такой серьезностью рассказывают вам об их мнимых чудесах, все, что они с таким рвением и уверенностью расписывают вам о небесных наградах и страшных адских муках, — все это в сущности не что иное, как иллюзии, заблуждения, обман…»[7]. И далее главу за главой он приводит доказательства «тщетности и ложности» религий вообще и отдельных догм и положений христианской религии. При этом, подобно своему далекому предтече Цельсу, Мелье черпает доводы в критическом рассмотрении и сопоставлении самих положений Библии.
Среди этих размышлений Мелье привлекают к себе внимание главы, где он задается вопросом: что представляет собой Христос, каковы его проповеди и поучения, сопоставим ли образ Иисуса с его языческими предшественниками и современниками, как расценивать евангельские догмы о воплощении, искуплении, воскресении и др.
Христианская апостольская римская религия, говорит Мелье, обязывает верить, что бог один и в то же время их трое. Но истина не может заключаться сразу в обеих противоположных частях этого утверждения, ибо они взаимоисключают друг друга. Следовательно, нельзя верить ни тому, ни другому. Церковь называет одно из божеств троицы отцом, а другое — сыном, порожденным отцом. Значит, бог-отец должен быть старше порожденного им сына. Между тем христианская догматика стоит на их одновременности. Далее, если бог-сын рожден отцом, значит, он имеет начало; между тем творцы христианского учения утверждают, что он, как и отец, безначален. Все это относится и к третьему персонажу троицы — святому духу, порожденному будто бы совместно богом-отцом и сыном[8].
Далее, если боги троицы, как им подобает по христианскому учению, не имеют ни тела, ни формы, ни образа, то почему бог-отец, единолично породивший бога-сына, называется отцом, а не матерью и почему порожденный им называется сыном, а не дочерью. Какие к тому имеются основания? Ведь боги лишены признаков пола[9]. «Наши христопоклонники чувствуют эти нелепости, — отмечает Мелье, — но не могут привести ни одного разумного аргумента; поэтому им остается только говорить, что необходимо благочестиво закрыть глаза человеческому разуму, что надо сковать ум человека послушанием веры и смиренно благоговеть перед такими возвышенными и божественными тайнами, не пытаясь их постигнуть. Но то, что они называют верой, в действительности есть только принцип заблуждений, выдумок и обмана…»[10]
Христианского Христа Мелье считает некогда жившим обыкновенным человеком, которому невежество и заблуждения приписали божественность и сделали объектом поклонения. Он доказывает это на основании самого Священного писания. Разве он не был смертен, как все смертные, «настолько смертен», что даже подвергся позорной казни? А какими он обладал талантами? Он творил чудеса — утверждают евангелисты. Но многие писатели приписывают такие деяния целой плеяде «языческих» чудотворцев. Какие основания утверждать, что евангельские рассказы более достоверны, чем те, другие рассказы? Из самих евангелий он выступает как фанатик, неудачник и попросту безумец. Даже у себя на родине он был объектом презрения, и собственные его братья считали его ненормальным. И вот именно он, жалкий человек, признан христианством вочеловечившимся богом, а его безумные речи — выражением божественной благодати[11].
Но допустим, говорит автор в другом месте, что апологеты правы и Христос — бог, явившийся в мир, чтобы спасти людей. Допустим, что христианский догмат искупления реален. Изменилось ли что-нибудь со времени его прихода? Оказывается, минувшие тысячелетия не ощутили никакого результата, «никакого реального проявления этого мнимого искупления людей». Зла в мире — Мелье в первую очередь имеет в виду социальное зло — скорее стало больше, чем меньше. Поток пороков и несправедливостей нарастает. И если верно утверждение христопоклонников, будто порок ведет в ад, а добродетель — в рай, придется признать, что после появления христианства число идущих по первому пути скорее увеличилось, чем уменьшилось. Да и сами приверженцы христианства не могут похвастать тем, что у них лучшее управление, лучшие нравы и более высокие добродетели, чем у нехристианских народов мира[12]. Где же проявление благодетельной роли «вочеловечившегося» Христа?
В ряде глав «Завещания» Мелье развенчивает евангельские чудеса Христа, показывая, что в общем рассказы о них во многом совпадают с рассказами о чудесах «языческих». Воскрешали мертвых, по уверениям древних, и Эскулап, и Геракл, и вполне исторический «чудотворец» Аполлоний Тианский. Если быть последовательными и принимать, что Иисус Христос воскрешал, нельзя отвергать и эти языческие воскрешения. А в этом случае чем одно отличается от другого? Если признать, что Христос вознесся в сиянии славы на небо, то какие основания отвергать такие же «языческие» вознесения Ганимеда, виночерпия Зевса, и многих других персонажей античных мифов, среди которых помещен даже осел Силена?
Много метких и острых наблюдений сделано Жаном Мелье и в отношении недостоверности и противоречивости евангелий. Какие существуют доказательства того, что четыре евангелия, сообщающие о чудесах Иисуса Христа, действительно составлены теми авторами, под именем которых они имеют хождение? И тем более, какие основания доверять их содержанию, особенно в той части, где они рассказывают о маловероятных и ничем не подтверждаемых вещах?
С этих рационалистических позиций автор «Завещания» сравнивает, как рассказывается об одних и тех же эпизодах из «биографии» Иисуса Христа в четырех канонических евангелиях. Он подмечает, что евангелист Матфей связывает Иисуса с царем Давидом через сына Давида Соломона и его потомков, а Лука — через другого его сына, Натана. Но одно исключает другое. Можно ли в таком случае верить целому? Матфей сообщает о бегстве Иосифа и Марии вместе с новорожденным Иисусом в Египет в связи с избиением Иродом младенцев. У Луки об этом нет никаких упоминаний. Да и у историков, писавших об Ироде и этом времени, не говорится о таком неслыханном злодеянии, как массовое избиение детей. Матфей, отмечает далее автор, говорит только о двух явлениях Христа после его мнимого воскресения — вначале двум Мариям, затем одиннадцати его ученикам; Марк упоминает три явления — Марии Магдалине, затем двум ученикам, наконец одиннадцати; Лука называет два явления — вначале двум ученикам, потом одиннадцати и другим; Иоанн насчитал четыре явления. Таковы же разноречия и в отношении места этих явлений. Какому из четырех евангелий отдать предпочтение? — спрашивает Мелье. Так же обстоит дело и с рассказом о мнимом вознесении Христа. Лука и Марк определенно утверждают, что он вознесся на небо в присутствии своих одиннадцати апостолов. А Матфей и Иоанн об этом ничего не знают. Лука, если он действительно автор этих рассказов, противоречит даже самому себе в двух новозаветных произведениях, названных его именем. В евангелии он называет местом «вознесения» Вифанию, в «Деяниях апостолов» — Масличную гору под Иерусалимом; в евангелии он утверждает, что это произошло в первый день воскресения Христа, в «Деяниях апостолов» — на сороковой день.
Откуда могли появиться все эти противоречия и несуразности «биографии» Христа, если апостолы были очевидцами событий или были вдохновлены «свыше» на их описание? — ставит Ж. Мелье неодолимый для апологетического богословия риторический вопрос. «Отсюда ясно, — заключает он, — что в их рассказах имеются ошибки, несуразности и противоречия и что все это пустые басни. Я обхожу молчанием другие подобные противоречия в этих якобы святых и божественных книгах, так как излагать их здесь было бы слишком долго; но уже из сказанного ясно видно, что эти книги — не результат божественного вдохновения и даже не плод какой-либо человеческой премудрости и поэтому не заслуживают веры»[13].
«Завещание» Жана Мелье в известном смысле можно считать «Правдивым словом» Нового времени о Христе и христианстве. Между ним и Цельсом — пятнадцать веков, большая часть которых отмечена печатью бесплодной схоластики, кострами инквизиции и процессами ведьм. Отзвуки этого не вполне исчезли еще во времена самого «Завещания». И известный французский энциклопедист Даламбер в ответ на упреки Вольтера в том, что он и его единомышленники проявляют вялость в деле опубликования и распространения этого «светильника» атеизма, пишет: «Вы упрекаете нас в холодности. Но я, кажется, уже говорил вам: боязнь костра очень расхолаживает»[14]. Костер для еретических книг и тюремная камера для их авторов — последние жупелы абсолютизма и мракобесия — еще не утратили в то время своего значения.
«Завещание» Мелье, написанное в 20-х годах XVIII в., произвело огромное впечатление на современников. Оно явилось одним из отправных пунктов той вначале чисто рационалистической, а затем и научной критики новозаветных произведений, которая за два столетия своего существования выдвинула ряд видных исследователей и сделала множество крупных открытий. В конце XVIII и начале XIX столетия была выработана новая методика исследования исторических произведений. Чисто рационалистическая критика сменилась аналитическим подходом к источникам. Были созданы научные приемы анализа древних литературных памятников, и эти приемы, примененные к Новому завету, дали блестящие результаты. Священное писание перестало быть тем осененным святостью одноплановым повествованием, за которое его выдавала христианская апологетика. Немецкий профессор Баур и его последователи выявили в Новом завете два враждебных друг другу направления. Они вскрыли также, что четвертое евангелие — от Иоанна— существенно отличается от первых трех, называемых синоптическими. Д. Штраус, автор нашумевшей книги «Жизнь Иисуса», неопровержимо показал мифичность большинства евангельских сказаний об Иисусе. Были выявлены их корни в мифах и религиозных течениях дохристианского времени. Бруно Бауэр исследовал греко-римские элементы христианского учения. Целый ряд других исследователей[15] внес свой вклад в научное изучение процессов формирования христианства, его литературы, образов его деятелей. «Легенда о христианстве, которое якобы сразу и в готовом виде возникло из иудейства и которое из Палестины покорило мир своей раз навсегда установленной в главных чертах догматикой и этикой, оказалась полностью развенчанной со времени Бруно Бауэра; она может прозябать еще только на теологических факультетах и среди людей, которые хотят „сохранить религию для народа“, даже в ущерб науке», — писал Энгельс, пристально следивший за развитием критического изучения новозаветной литературы и принимавший сам в этом серьезное участие[16].
Критика христианской догмы и евангельских сказаний — «Правдивое слово» Цельса, созданное при самом основании этой новой религии, и «Завещание» Мелье, появившееся после крушения «тысячелетнего царства» средневековой схоластики, — вот важнейшие исходные вехи борьбы свободомыслия и атеизма против догматического богословия. А всего лишь через два столетия после Мелье все позиции догматического богословия по вопросу о происхождении новозаветной литературы, евангельских сказаний, образа Христа и возникновения самого христианства оказываются разрушенными научной критикой.
Это очень образно выразил американский епископ В. М. Браун, который под впечатлением всех этих достижений научной критики Библии и социальных идей века стал чем-то вроде епископа-еретика. «Некогда существовала, — писал он, — система христианского богословия. Она была замечательной, хотя и весьма искусственной постройкой, возведенной из красивых, но весьма старых и окаменелых догм, которые никто не мог доказать, но лишь немногие осмеливались оспаривать. Существовал величественный старец в небесах, непогрешимая библия, продиктованная святым духом, троица, падение, искупление, предопределение и благодать, оправдание верой, избранный народ, всемогущий фантастический дьявол, мириады духов, вечное блаженство, получаемое за бесценок, и вечные муки для тех, кто не воспользовался предложением. Ныне этот карточный домик разрушен, или, вернее, он медленно расползается, „как беспочвенное создание сновидения“, по выражению Шекспира. Библейская хронология, история, этика — все одинаково оказались сомнительными и опороченными. Божественное откровение дискредитировано, человеческая летопись занимает ее место. Что же привело к этой поразительной перемене? Знание, мысль, исследования критики показали, что традиционные библейские построения не могут удержаться. Логика фактов подтвердила рассуждения свободомыслящих и поставила догматику перед все более обостряющейся дилеммой»[17].
Эти именно обстоятельства побуждают современных теологов отвергать пути научного изучения проблемы происхождения христианства, хотя время от времени они выступают с декларациями о том, будто наука и религия не противоречат друг другу и разными путями идут к одной и той же цели — познанию тайн сокровенного. В действительности же, конечно, метод научного анализа и «метод» слепой веры не могут иметь между собой ничего общего. Но именно слепая вера избирается современными богословами и клерикальными учеными как принцип решения евангельских проблем. И даже с трибуны международного конгресса историков в Риме в 1955 г. прозвучал призыв главы католической церкви папы Пия XII изъять Иисуса из компетенции науки и, возвратившись к исходному положению, оставить его всецело в области иррациональной веры.
Глава вторая. Источники. Открытия
Для догматического богословия источником всякой мудрости и непререкаемым авторитетом в вопросах истории возникновения христианства был и остается Новый завет. Он вместе с Ветхим заветом составляет Священное писание, т. е. Библию, которой приписывается сверхъестественное происхождение. «Нужно помнить, — писал „Журнал Московской патриархии“, — …что святые божии человеки, написавшие книги Священного писания, написали их не сами от себя, а по вдохновению от Духа святого, наставляющего их на всякую истину». Журнал подчеркивает, что все написанное там — «не человеческие слова», и с оттенком сожаления вспоминает стародавние времена, когда в знак благоговения к происхождению этих книг их брали не иначе, как «умовенными руками»[18]. В другой статье того же журнала эта мысль выражена еще более решительно. «Священное писание, — говорится там, — слово божие, заключенное в книги богодухновенными мужами». При этом автор уверяет, что «церковь хранит его в целости и неповрежденности (разрядка моя. — М. К.), в том виде, в каком оно дано ей богом»[19].
Однако два с лишним столетия, прошедшие с тех пор как французский священник Ж. Мелье и немецкий ученый Г. С. Реймарус, таясь своих современников, подвергли рационалистическому анализу евангельские сказания, в корне перечеркнули подобные представления. Бесчисленное множество фактов разрушило их. Более того, анализ новозаветных произведений показал, что сами христиане не смотрели так на эти книги в период их формирования и что боговдохновенность была им приписана церковью позже.
Было непреложно выяснено, что новозаветные произведения сопоставимы с другими человеческими творениями подобного рода. В них заключены все достоинства и пороки аналогичных произведений. Они полны противоречий — потому что их создавали различные люди в разное время. В них отразились социальные и идейные противоречия века. В них запечатлелась борьба разнообразных групп и движений внутри формирующегося христианства. Они полны исторических ошибок, ибо тенденциозность их составителей и скудость письменных источников, которыми располагали авторы Нового завета, неизбежно должны были привести к такому результату. Ни одно из этих произведений не избежало влияния своего времени и создававшей их среды. Следовательно, проблема новозаветной литературы — это прежде всего проблема ее критического раскрытия. Работа историка может быть в данном случае уподоблена работе анатома. Препарируя сантиметр за сантиметром ткань так называемого Священного писания, он выявляет древнейшие образования и позднейшие наросты, органические пороки и чужеродные включения. Только при таком подходе можно говорить о Новом завете как историческом источнике и только опираясь на такие предпосылки можно объяснить имеющиеся там бесчисленные противоречия.
Эти положения легко иллюстрировать следующими несколькими примерами.
В евангелиях от Матфея и Луки приводится родословие Христа. Однако родословия эти коренным образом отличаются друг от друга. У Матфея (1, 2) счет ведется от праотца Авраама, у Луки (3, 38) — от первочеловека Адама. У Матфея за последние примерно четыреста лет (от Зоровавеля до Иосифа, мужа Марии) насчитывается десять поколений, у Луки — девятнадцать. У Матфея отцом Иосифа назван Иаков, у Луки — Илий. Да и остальные имена у Матфея во многом отличаются от имен, приведенных у Луки.
Эти и подобные им несообразности были подмечены уже в древности как противниками христианства, так и его апологетами. Античные критики христианства бросили упрек церкви в фальсификации, в многократной переделке евангелий.
В ответ на такие разоблачения отцы церкви уже в III–IV вв. начинают конструировать различные объясняющие версии, и эта сизифова работа не прекратилась еще и поныне. Так, в рассмотренном нами случае с родословиями Иисуса уже христианский апологет Юлий Африкан, живший в III в. н. э., пытался преодолеть расхождение следующим довольно поучительным образом. Он сделал совершенно произвольное предположение, что мать Иосифа была вначале замужем за Илией, а когда тот умер, не прижив с ней детей, она по обычаю левирата вышла замуж за его брата Иакова. Родившийся от этого брака Иосиф мог быть фактически сыном Иакова, а юридически сыном Илии. Однако беспочвенность этой конструкции выявляется не только в том, что нигде в новозаветной литературе нет ни малейшего намека на ситуацию со вторым замужеством матери Иосифа. Дело осложняется тем, что для реабилитации евангельских генеалогий пришлось бы применить этот прием и ко многим другим лицам данных родословий и предположить, что все они умерли бездетными, что у всех у них были братья, которые поголовно женились на их вдовах, а эти последние безотказно дарили им сыновей… Но и в этом случае преодоленные затруднения рождают новые, а эти последние преодолеваются апологетикой подобными же приемами.
Действительные же причины этого расхождения заключаются в том, что у некоего безвестного плотника Иосифа, каким рекомендует мужа Марии второе и, кстати сказать, самое древнее евангелие Марка, если даже этот Иосиф историческое лицо, — не могло быть никакого столетиями фиксируемого генеалогического древа. Это — конструкция евангелистов, конструкция позднейшая, и исследователям путем критического анализа удалось представить себе даже «технологию» творчества благочестивых измыслителей родословия Иисуса. Небезынтересно в связи с этим отметить, что в древнейшем евангелии Марка никакого родословного древа Христа нет вовсе.
Можно привести и другой пример. В евангелиях Матфея (26, 17–19), Марка (14, 12), Луки (22, 7) рассказывается, что в первый день опресноков — еврейской пасхи — ученики Христа отправляются по его поручению на розыски места для пасхальной трапезы. Первый день опресноков всегда приходится на пятнадцатый день месяца нисана, и следовательно, евангельская тайная вечеря, если следовать этому рассказу, могла быть не раньше вечера того же 15-го числа. Даже если принять во внимание календарную систему Иудеи того времени, по которой вечер причислялся не к текущему дню, а к следующему, и отнести время тайной вечери на один день назад (что в данном случае противоречит ясному тексту рассказа), то все же это будет вечером 14 нисана. Казнь же Христа, как это вытекает из всех трех евангелий, произошла на следующий день, т. е. либо 15, либо 16 нисана. Между тем в других местах тех же евангелий говорится, что накануне пасхи, в пятницу — что может соответствовать только 14 нисана — он уже был казнен (Марк 15, 42; Лука 23, 54; Матф. 27, 62).
Если мы теперь обратимся к евангелию Иоанна (19, 14, 31), то найдем еще одну версию. По Иоанну, суд над Христом состоялся накануне пасхи, т. е. 14-го числа, а тайная вечеря накануне суда, т. е. 13 нисана!
Подобные противоречия в пределах одного произведения или между несколькими произведениями одного круга, рассказывающими об одном и том же событии, приоткрывают и историю формирования, и характер источников, и состав самих новозаветных произведений. Они предстают перед нами как произведения, в которых можно выделить несколько пластов, различных как по времени их возникновения, так и по составу источников, легших в их основу. В этом направлении и была проделана огромная исследовательская работа, принесшая свои плоды.
На основании многих признаков было установлено, что наиболее древним является не евангелие Матфея, стоящее первым в нынешнем каноне новозаветных произведений, а евангелие Марка, которое там отнесено на второе место. Но и само евангелие Марка оказывается неоднослойным. В основе его лежит устное предание, затем арамейская запись, затем начальный греческий вариант, возможно осложненный некоторыми другими источниками, и лишь затем его позднейшая редакция. Авторы евангелий Матфея и Луки использовали Марка, его источники, а кроме того еще и другие предания.
С другой стороны, Матфей и Лука также различаются и между собой по ряду использованных ими материалов.
Евангелие Иоанна тоже состоит из нескольких слоев. В основе их — частично уже упоминавшиеся источники, частично другие. Так, у Марка проповедническая деятельность Иисуса продолжается около года, в древнейшем пласте евангелия Иоанна — несколько лет… Под благодатным лучом научного анализа безжизненный лик Священного писания приобрел земные цвета. Процессы формирования новозаветных произведений оказались сопоставимыми с процессами формирования других произведений подобного рода — Ветхого завета, индийских Ригвед, греческих «Илиады» и «Одиссеи».
Новый завет состоит из 27 произведений (четырех евангелий, Деяний апостолов, 21 послания и Откровения Иоанна). Многочисленные и разновременные списки этих произведений содержат множество разночтений — до нескольких десятков тысяч. Только эти 27 произведений включены церковью в Священное писание. Однако кроме них имеется большая группа раннехристианских произведений (отчасти дошедших до нас в фрагментах, большей же частью известных только по названиям и цитатам из них у других авторов), которые церковью были в свое время отвергнуты как не отвечающие официальному вероучению. Их называют апокрифическими. Среди них мы находим те же виды произведений, что и в Новом завете. Существует ряд евангелий (от Фомы, Марии, Никодима, евреев, египтян и др.), откровений, посланий, деяний. Другая группа раннехристианских произведений не была осуждена господствующей церковью как еретическая, но и не вошла в каноны («Пастырь» Гермы, Дидахе и др.).
Большое число раннехристианских произведений, деление их официальной церковью на истинные и ложные, бесконечный разнобой и противоречия, свойственные им, — все это в первую очередь отражает ожесточенную борьбу различных течений внутри самого христианства и убедительно показывает, что изначальное и неизменное христианское вероучение, будто бы данное в откровении и провозглашенное Христом, — не более как богословская фикция. Прошли столетия, прежде чем выработалось то вероучение, которое сейчас составляет основу церковной догматики. Но и поныне представители различных направлений современного христианства — католики, православные, протестанты — по ряду догматических вопросов не сумели еще прийти к единству.
Некоторые сведения о христианстве, его вероучении, обстановке, в которой оно формировалось, отношении к нему современников в различные периоды содержатся у нехристианских писателей. Здесь имеются в виду писатели, лишь попутно сохранившие сведения об этом, например Иосиф Флавий, Светоний, Тацит, Плиний Младший. Сюда может быть отнесена и целая группа античных критиков христианства, среди которых самым значительным является упоминавшийся уже Цельс, а также Лукиан, «Цецилий», Порфирий, император Юлиан. Последнего церковь за его отрицательное отношение к христианству нарекла Отступником. В полемике с ними, а также с «еретическими» движениями внутри христианства получили известность многие крупные христианские писатели, среди которых заметно выделяется своими литературными талантами неистовый Тертуллиан (некоторые его взгляды впоследствии были тоже осуждены как еретические), необычайно плодовитый Ориген, автор первой «Церковной истории» Евсевий и многие другие. Их произведения содержат интересный, но, конечно, тенденциозно излагаемый материал по религиозным движениям эпохи.
Самым ранним списком новозаветных произведений, фрагмент которого сохранился в среднем Египте, считается папирус из библиотеки Райлендса, приобретенный еще в 20-х годах нашего века, но долго остававшийся в безвестности. На нем имеются небольшие отрывки из 18-й главы евангелия Иоанна. По палеографическим признакам исследователи датируют его серединой или даже 30-ми годами II в. н. э. Близки к ним по времени открытые в 1935 г. фрагменты неизвестного евангелия из коллекции папирусов Эджертона, в некоторой степени сходного с евангелием Иоанна. В 1930 г. был найден древнейший текст посланий Павла и кое-какие другие фрагменты. Эти документы получили название папирусов Честер-Битти. Датируют их первой половиной III в. К этому же времени относится опубликованный в 1956 г. папирус Бодмер II, на котором записана половина евангелия Иоанна. В 1934 г. при раскопках Дура-Европос близ арабской деревни Ес-Салихие по среднему течению Евфрата был найден фрагмент Диатессарона — евангелия, составленного Татианом по четырем каноническим. Оно датируется серединой III в. н. э.
Папирус Райлендса. Фрагмент евангелия от Иоанна (18, 31–33; 37–38). Первая половина II в. н. э. Манчестер.
Папирус Эджертона. Фрагмент неизвестного евангелия. Первая половина II в. н. э. Лондон. Британский музей.
Папирус Честер-Битти. Отрывок из евангелия от Луки (11, 50–12, 12). Первая половина III в. н. э. Лондон. Коллекция Честер-Битти.
Наконец, следует назвать Ватиканский и Синайский кодексы новозаветных произведений, датируемые серединой IV в. н. э. Большой интерес представляет также так называемый кодекс Муратори, составленный, как полагают, на рубеже II–III в. н. э. Этот кодекс представляет собой перечень канонических новозаветных произведений. Кроме ранней даты интересно и то, что состав канона Муратори отличается от общеизвестного. Из 27 новозаветных произведений позднейшего канона там названы 22; зато в кодекс включены некоторые неканонические произведения, сочтенные позднее апокрифическими.
Две выдающиеся находки, сделанные почти в одно и то же время, обогатили науку уникальными материалами, имеющими важное значение для истории происхождения христианства.
В 1947 г. (по другой версии — в 1945 г.)[20] на побережье Мертвого моря была обнаружена пещера с древними рукописями — списками некоторых ветхозаветных книг и неизвестных ранее произведений секты, которая была сопоставлена исследователями с иудейской сектой эссенов. В следующие годы усилиями кладоискателей и ученых было выявлено еще десять пещер с рукописями, множество жилых пещер и руины административного центра общины — Хирбет Кумран.
Развалины поселения Хирбет Кумран. Общий вид раскопок.
Изучение рукописей показало, что многие черты идеологии, социальных идеалов, этических и религиозных идей кумранской секты перекликаются с такими же чертами раннехристианских общин. И поскольку эти элементы кумранской общины сложились в дохристианское время, возникла проблема влияния религиозного движения, представленного кумранитами, на формирование христианства. При этом наибольшую сенсацию вызвал образ «учителя праведности» кумранских свитков, некоторые черты которого сопоставимы с обликом евангельского Иисуса.
В 1945 или 1946 гг. была сделана замечательная находка в Верхнем Египте[21]. На левом берегу Нила, в районе Наг-Хаммади (неподалеку от античного поселения Хенобоскион), где в IV в. н. э. возникли первые христианские монастыри, был обнаружен сосуд с рукописями.
По мнению исследователей, он был укрыт не позже V в. н. э. в погребении (?) на заброшенном христианском кладбище. В сосуде оказалась целая библиотека произведений на коптском языке. Это были тайные религиозные книги одной из тех гностических сект, которые в ранний период находились в русле христианского движения, но впоследствии ввиду расхождения по различным вопросам вероучения и, возможно, социальных идеалов были объявлены официальной церковью еретическими. Хенобоскионская находка содержала 44 произведения. По палеографическим признакам они датируются III–IV вв. н. э. Но это не оригиналы, а копии-списки, сделанные, по-видимому, с греческого текста II в. н. э.
Нераскрытые свитки.
Гностические рукописи, найденные в Верхнем Египте. III–IV вв. н. э. Каирский музей.
Значение этой находки выясняется уже из самого характера этих книг. Здесь — евангелия, послания, деяния, апокалипсисы, т. е. те же виды произведений, которые мы находим в Новом завете (а также и некоторые другие). Но это были запрещенные церковью и, по-видимому, уничтожавшиеся ею «еретические» произведения — евангелие от Фомы, евангелие от Филиппа, евангелие истины, послание Евгноста и др. Некоторые из них были известны ранее лишь по названию или в незначительных отрывках. Сейчас в руки ученых попали произведения оппозиционных течений христианства в первоначальном их объеме.
Уже первые сличения выявили черты сходства и различия их с новозаветными книгами. Открылась возможность конкретно изучить процесс формирования того круга христианских произведений, которые церковь назвала «священным писанием», и показать их связь, а в ряде случаев и зависимость от других раннехристианских писаний, объявленных затем апокрифическими.
Работа эта только начинается, и нужно ожидать, что она окажется чрезвычайно плодотворной для научного раскрытия ряда вопросов возникновения новозаветной литературы и формирования христианства.
Глава третья. «Великая блудница» Апокалипсиса
В одном из новозаветных произведений, в Апокалипсисе (Откровении Иоанна), приводится пророческое видение относительно «великой блудницы», сидящей на водах многих, великого города, царствующего над царями земными. Современникам автора нетрудно было догадаться, кого тот имел в виду. Речь шла о Риме, и сочинитель Апокалипсиса не скрывает своей ненависти к этому царственному городу, олицетворявшему в его представлении все пороки огромного государства. Он обличает его за «жемчуга и виссон», гневно обрушивается на «яростное вино блудодеяния», которыми Рим напоил и купцов, и царей, и народы, и целые страны (18, 2–3). Автор Откровения тешит свое воображение картинами гибели этого «вечного» города, черпая свои образы частично из Ветхого завета, частично из мистических представлений, господствовавших в его время. Тут и бездонные бездны, и семирогие звери (число рогов символизирует семь холмов, на которых раскинулся Рим), и дым пожарищ, и кровь «всех убитых на земле» (18, 24). Он противопоставляет земной виссон римских язычников небесному виссону христианской праведности и ждет «страшного суда». Ф. Энгельс, который в своих занятиях вопросами происхождения христианства особо останавливался на этой книге, датирует ее 68–69 г. н. э.[22]
Что же представлял собой этот апокалипсический зверь — рабовладельческий Рим на том хронологическом рубеже, который позднее будет объявлен христианской церковью началом новой эры?
Римская империя в начале II в. н. э. Схематическая карта.
В период своего наивысшего территориального распространения Римское рабовладельческое государство превратило Средиземное море в своего рода внутреннее озеро, все прибрежные земли которого управлялись его наместниками. Римская держава поглотила значительную часть Европы, все северное побережье Африки, Малую Азию. Римские гарнизоны стояли на побережье Атлантического океана, на берегах Красного моря, на большей части побережья Черного моря.
Таким образом, Рим подчинил множество народов и государств, уничтожив не только их политическую самостоятельность, их государственность, но и самобытность их общественной жизни. «Римское завоевание, — писал Энгельс, — во всех покоренных странах прежде всего непосредственно разрушило прежние политические порядки, а затем косвенным образом и старые общественные условия жизни. Разрушило, во-первых, тем, что вместо прежнего сословного деления (если не касаться рабства) оно установило простое различие между римскими гражданами и негражданами или подданными государства; во-вторых, и главным образов — вымогательствами от имени Римского государства. Если при империи в интересах государства старались по возможности положить предел неистовой жажде к обогащению со стороны наместников провинций, то вместо этого появились все сильнее действующие и все туже завинчиваемые тиски налога в пользу государственной казны — высасывание средств, которое действовало страшно разрушительно. Наконец, в-третьих, римские судьи повсюду выносили свои решения на основании римского права, а местные общественные порядки объявлялись тем самым недействительными, поскольку они не совпадали с римским правопорядком»[23]. Эти три рычага действовали с огромной силой, подавляя все самобытное, насильственно нивелируя и беспощадно опрокидывая всякие попытки сопротивления.
Римское общество времени формирования христианства схематически может быть поделено на три группы. Во-первых — это высшие слои.
Дом богатого рабовладельца. Парадные покои и помещения для рабов. Худ. Бородин и Салин. Реконструкция. Ленинград. Музей истории религии и атеизма.
Новозаветные авторы не раз делают их объектом своих угроз и порицаний. Эти слои возглавляла землевладельческая знать, расширявшая свои владения за счет разорявшихся мелких земледельцев. Сюда же относятся и владельцы больших мастерских, основанных на рабском труде, крупные торговцы, ростовщики. Прошло время, когда ростовщичество рассматривалось как занятие, неподходящее для человека из хорошего рода. Сейчас этим не брезгают заниматься не только разбогатевшие вольноотпущенники, но и аристократы.
К другой группе могут быть отнесены свободные низы общества. Сюда входят мелкие земледельцы и ремесленники, торговцы и огромное количество люмпен-пролетарских элементов, по тем или иным причинам выпавших из процесса производства. Случайные заработки и подачки, которые им время от времени перепадали от государства и правителей отдельных городов, были их основным средством существования.
Третью категорию составляли рабы. Их число, особенно в западных провинциях, было довольно большим. Рабы были заняты в сельском хозяйстве, в ремесленных мастерских, в городских домах рабовладельцев в качестве дворовой челяди. Кроме того, рабы работали в конторах откупщиков, в государственных канцеляриях к здесь порой взбирались по служебной лестнице до больших высот. Получает распространение категория рабов, выведенных на пекулий. Эта категория держала в условном владении некоторую часть имущества и могла самостоятельно заниматься на определенных условиях торговлей, ремеслом или сельским хозяйством.
Конечно, это деление не исчерпывает всего социального многообразия и пестроты римского общества времени формирования христианства. Не исчерпываются этим и социальные противоречия. В каждой из этих групп имелись свои внутренние противоречия.
Антагонизм между верхами и низами свободного римского общества, между владельцами богатств и неимущими был постоянной заботой правящих кругов и постоянной угрозой для их правления. Огромные массы люмпен-пролетариев, отвыкших от производительного труда и неспособных конкурировать с более дешевым рабским трудом, постоянно требовали «хлеба и зрелищ». И императорская власть в Риме, как и правящая верхушка провинций, вынуждена была идти на эту форму подкупа паразитического слоя общества. Пышные празднества, пиры, театральные представления, хлебные раздачи, которые устраивались для сотен тысяч непроизводящих членов общества, тяжким бременем падали на плечи государства. Но все это являлось неизбежной данью самой социальной системе: только на этой основе удавалось поддерживать относительный мир внутри рабовладельческого общества.
Отношения между рабовладельцами и рабами были не менее сложны и запутаны. Рабский труд постепенно вытеснял из производства труд свободных. Рабовладельческая система эксплуатации порождала силы, подрывавшие ее основу: по мере развития рабовладения возрастали и деклассированные люмпен-пролетарские элементы среди свободного населения.
Последнее крупное восстание рабов в Риме — восстание Спартака — произошло в 74–71 гг. до н. э. Оно потрясло самую основу Римского государства. Однако подавление восстания не ликвидировало проблемы. В сочинениях античных авторов конца республики — начала империи и в других документах этой поры ощущается глубокая озабоченность и тревога по поводу взаимоотношений между рабами и рабовладельцами[24]. Высказывается сожаление по исчезнувшим патриархальным отношениям между рабами и их владельцами, господствовавшим в старину. Выражается недовольство строптивостью рабов, их враждебностью господам, их готовностью учинить донос или даже убить своих господ, рискуя при этом, может быть, собственной жизнью.
Плиний Младший в письме к некоему Ацилию описывает «страшное дело», которое претерпел от своих рабов преторий Ларций Македон. «Был он, впрочем — замечает Плиний, — господином гордым и жестоким и плохо, — нет, слишком хорошо — помнил, что отец его был рабом. Он мылся у себя в формианской[25] усадьбе; вдруг его обступили рабы, один схватил за горло, другой стал бить по лицу, третий стал колотить, по груди и по животу… Сочтя его уже бездыханным, они бросили его в раскаленное подполье, чтобы испытать, не жив ли? Он… лежал неподвижно, вытянувшись, и тем уверил в своей смерти. Тогда только его вынесли будто обмершего от жары… Придя в себя от прохлады, он открыл глаза и, пошевелившись, подал признаки жизни… Рабы разбежались, значительная часть их схвачена, остальных разыскивают. Сам он, едва оживши, скончался через несколько дней… Видишь, скольким опасностям, скольким обидам, скольким издевательствам мы подвергаемся! Никто не может быть спокоен потому, что он снисходителен и мягок: господ убивают не по размышлению, а по злобности»[26].
В одном из писем Сенека, утешая своего корреспондента по поводу бегства его рабов, говорит, что это еще не самое плохое, что могло случиться. «„Мои рабы разбежались“. Что за беда? — пишет он. — Есть люди, которых они ограбили, на кого донесли, кого убили, предали, над кем надглумились, кого отравили, оклеветали. То, на что ты жалуешься, все уже случилось со многими»[27]. По-видимому, это была серьезная проблема, и над ней задумываются многие идеологи рабовладеления. Одни из них выступают за усиление наказаний, за предельную жестокость, другие, как, например, известный естествоиспытатель Плиний Старший, — за смягчение нравов, против клеймения и оков. При этом он руководствуется не этическими побуждениями, а производственной целесообразностью этого: таким образом он надеется сделать раба радивым. Ювенал осуждает одного из своих персонажей, хозяина «дрожащего дома», для которого свист бича— музыка, а процесс клеймения раба и пытки — приятное времяпрепровождение[28].
С другой стороны, сами рабы, юридически одинаково бесправные, в других отношениях заметно отличаются друг от друга. Начавшийся в конце республики процесс расслоения в их среде получает значительное развитие[29]. В среде рабов образуется некая верхушка. Раб, управляющий имением, занимает иное положение, чем рядовой раб. Условия быта пастухов, получающих пекулий, лучше, чем земледельцев, не имеющих ни собственности, ни самостоятельности. Рабы-ремесленники стоят на более высокой экономической ступени, чем эти две категории, а в их среде в свою очередь намечается значительная дифференциация.
Казнь восставших рабов. Художник В. А. Кокорев. Ленинград. Музей истории религии и атеизма.
Некоторые предприимчивые рабы, выведенные на пекулий, сами держат рабов.
С другой стороны, общность занятий, местожительства, условий быта и, вероятно, кругозора сближает рабов-ремесленников и их свободных собратьев, которые постепенно отвыкают видеть существенные различия между собой. Создаются предпосылки для слияния в последующем римских свободных низов с римскими рабами. Не в этой ли тенденции надо искать истоки той евангельской фразы, где провозглашается, что нет «ни раба, ни свободного»?
Наконец, видную роль начинает играть та часть интеллигенции, которая находится в рабском состоянии или недавно освободилась от него. Известны рабы-философы, историки, грамматики. Многие из них вращаются в самых высших сферах рабовладельческого общества, и их вклад в духовную культуру эпохи не может быть сброшен со счетов.
Таковы сложные и во многом противоречивые социальные отношения, сложившиеся в римском обществе в эпоху формирования христианства.
* * *
В 29 г. до н. э. из Египта в Италию вернулся римский политический деятель Октавиан. Последние его соперники— соправитель Антоний и египетская царица Клеопатра— сошли со сцены. Гражданские войны, потрясавшие на протяжении многих десятилетий Римское рабовладельческое государство, окончились. Однако, несмотря на видимость восстановления старых порядков, в политическом строе произошли существеннейшие изменения. Кончился период республики. На смену ей пришла новая политическая форма правления — империя. Власть императора, которому присваивался титул «Августа» (Священного), поддерживаемая как военной силой, так и определенными социальными условиями рабовладельческого общества того времени, постепенно становилась все более единоличной. В 60-х годах республиканский сенат решительно выступил против Катилины, пытавшегося захватить власть в Риме. Теперь же сенат пришел в смятение, когда вышедший победителем из этих междоусобий Октавиан с присущим ему политическим лукавством инсценировал отказ от власти.
Переход от республики к империи был объективной закономерностью развития рабовладельческого общества. Порожденные им многочисленные противоречия между рабами и свободными, между низами и верхами общества, между старинной знатью и — недавно возвысившимися сословиями, между полноправными римлянами и ограниченными и правах провинциалами требовали своего разрешения.
Не менее существенными были противоречия экономического порядка. Их корни не лежали на поверхности. Не каждый мог объяснить их причины. Но последствия этих противоречий были видны всем: по мере развития рабовладения эффективность рабского труда неизменно падала. Духовное и физическое угнетение раба, оценка его лишь как говорящего орудия, отрицание за ним каких-либо прав, в том числе права на человеческое достоинство, — все это как бумеранг било по рабовладельцам: поля обрабатывались плохо, сады и виноградники оставались бесплодными, производительность труда падала. Создавшееся положение становилось все более грозным. И идеологи рабовладения на протяжении всего периода империи пытались отыскать выход из тупика.
Время Августа и последующих принцепсов римские историографы обозначали термином pax Romana (римский мир). В этой формуле нашла выражение та официально пропагандируемая идея, согласно которой после многолетних беспрерывных внутренних и внешних войн наступил наконец «сладкий мир». На двух бронзовых досках, выставленных для всеобщего обозрения и содержавших описание «деяний божественного Августа», всячески пропагандировалась эта идея. Октавиан Август похвалялся тем, что храм Януса Квирина (ворота которого оставались открытыми, пока в подвластных Риму территориях шли войны), за все столетия существования государства был заперт лишь два раза, а за четыре десятка лет правления Августа находился под замком трижды. Август с гордостью заявлял, что цари парфянский и мидийский просили его о защите, что индийские цари присылали ему никогда не виданные ранее в Риме посольства, что его дружбы искали бастарны, скифы, сарматы.
Действительно, в первый период империи наступило относительное успокоение. Однако оно вовсе не было безмятежным. В меньших, может быть, масштабах, в более легких условиях (объясняемых внутриполитическим положением противников) Рим продолжает вести многочисленные войны на Востоке, Западе, Севере.
Не столь идеальным оказалось и внутреннее замирение. Страх высших слоев общества перед рабами и деклассированными (хотя юридически и свободными) люмпен-пролетариями — «чернью», которой в одном только Риме насчитывалось несколько сот тысяч, взаимная ненависть рабов и рабовладельцев, безуспешные поиски идеологами высшего общества каких-то идейных и моральных основ для примирения — все это создает картину, далекую от идиллии. По словам Тацита, «грязная чернь» и «худшие из рабов» были постоянным внутренним очагом беспокойства. «Свое исключительное положение, — замечает акад. Р. Ю. Виппер, — господствующий класс должен был оплачивать вечным страхом за существование»[30].
Тацит приводит рассказ о заговоре некоего раба Климента, объявившего себя внуком Августа и пытавшегося «духом не рабским» перехватить у Тиберия императорскую власть. При этом, по словам историка, «огромная толпа черни» верила ему и ждала[31]. Спустя непродолжительное время в Брундизии и окружающих городах возникло движение рабов, во главе которого стал бывший солдат преторианской когорты Т. Куртизий. Вначале на тайных сходках, а потом открыто он стал призывать рабов к свободе. Любопытно замечание Тацита о том, что город Рим, куда были доставлены захваченные трибуном главари мятежников, «трепетал вследствие множества домашних рабов»[32], скопившихся там.
Еще более яркую картину общественных отношений в Риме второй половины I в. н. э. нарисовал Тацит в связи с делом префекта города Рима Педания Секунда, убитого одним из своих рабов. Согласно давнему установлению, впрочем, уже не исполнявшемуся, всех рабов его фамилии[33], находившихся с ним под одной кровлей (а их насчитывалось 400 человек), должны были казнить. Однако сбежался народ, защищая «стольких невинных». В сенате, куда было перенесено дело, возникли колебания. Некоторые старались умерить излишнюю жестокость. Большинство же сенаторов высказалось за суровые меры. В этом отношении интересна своей аргументацией речь сенатора Гая Кассия. Он заявил, что хотя и раньше сознавал преимущество установлений и законов предков перед новыми декретами, однако, не желая вносить разноречие, он не противился и введению нового. Нынешний случай особый. Господин убит своим рабом, никто из живущих в доме рабов не предупредил его замысла и не выдал его. Более того, некоторые как будто готовы искать веские побудительные причины убийства и чуть ли не хотят сказать, что господин убит «за дело». Отмена старинного установления опасна, заявляет Кассий. «Если рабы станут нас предавать, то возможно ли будет нам жить одним среди более многочисленных, спокойным среди беспокойных, наконец, — если уж нам придется погибать не отмщенным среди виновных? Предкам нашим расположение умов рабов всегда казалось подозрительным, хотя бы они родились на тех же полях и в тех же домах и немедленно встречали любовь господ. А теперь, когда наши фамилии состоят из людей (чуждых) племен с совершенно другими обычаями, другими верованиями или не имеющими никаких (верований), то такую пеструю толпу можно удержать только страхом»[34]. Мнение Кассия взяло в сенате верх. Однако Тацит сообщает, что осуществить казнь было невозможно, так как «столпился народ и грозил каменьями и поджогом», и только вооруженные отряды, присланные Нероном, помогли провести казнь.
Далеко от идиллии и положение в армии. В изложении Тацита отношения между командирами (вплоть до императора) и солдатами напоминают отношения укротителя и опасного зверя. Действуя бичом и приманками, им удавалось держать легионы в повиновении. Но время от времени «зверь» выходил из повиновения, и тогда вспыхивали опасные военные мятежи. История империи полна таких выступлений. В 14 г. н. э., в год прихода к власти Тиберия, вспыхнуло восстание трех римских легионов, стоявших в Паннонии на Дунае. Зачинщиком мятежа был некто Перцений, который, подстрекая солдат к неповиновению командирам, призывал их воспользоваться сменой императора и требовать облегчения участи «мольбами или оружием». Солдаты, говорил он, переносят великие тяготы. Вся жизнь их проходит в непомерных военных трудах. Многие из них совершили по 30–40 походов, тела их изуродованы ранами, они подвержены суровостям побоев и случайностям войны. И все это за десять ассов в день, из которых надо выкраивать на оружие, одежду, палатки, откупаться от жестокости центурионов.
В том же году вспыхнуло восстание четырех германских легионов, стоявших на нижнем Рейне. С большим драматическим напряжением описывает Тацит эти события. «Наступило время, — говорили восставшие, — чтобы ветеранам добиться своевременного увольнения, молодым воинам — более щедрого жалования, а всем вместе — конца своих бедствий и мщения за жестокость центурионов»[35]. Множество восставших кричали, что они своими победами умножают пределы государства и сами императоры обязаны им своим положением. «Вдруг придя в неистовство, — пишет Тацит, — они обнажают мечи и нападают на центурионов — давний предмет ненависти солдат и повод к их жестокости. Повалив их, солдаты осыпают их ударами… затем избитых и истерзанных и частью уже бездыханных они бросают их в ров или прямо в Рейн»[36].
Такие восстания неоднократно возникали в эпоху империи, и по мере того как солдаты узнавали «тайну императорской власти», сами императоры все чаще становились жертвами выходивших из повиновения солдат.
На время империи приходится и целый ряд восстаний в завоеванных римлянами странах, превращенных в римские провинции. В 17 г. вспыхнуло восстание в Африке. В 21 г. начались волнения во Фракии. В том же году вспыхнуло восстание в Галлии, вызванное налоговыми тяготами, наложенными на покоренные племена.
В 61 г. произошло восстание в Британии. Тацит, оставивший нам его описание, вкладывает в уста одного из вождей следующую оценку римской завоевательной политики. «Мы, вольные, живя на краю земли, находили до сих пор защиту в самой нашей отдаленности и в этом заливе. А теперь уже сделался доступным и крайний предел Британии… Но далее уже нет жителей, одни лишь волны и скалы, а римляне еще враждебнее их. Напрасно старались мы уклониться от их надменности покорностью и смирением. Захватив весь обитаемый мир, они, когда им недостает уже грабить земли, начинают обшаривать море. Если враг богат — ими руководит жадность, если беден — честолюбие. До сих пор их не насытил ни Восток, ни Запад. Отнимать убивать, похищать — это на их лживом языке называется управлением, а где они все превратят в пустыню, там, по их мнению, господствует мир»[37].
Среди ряда крупных восстаний этого времени видное место занимает восстание в Иудее. Интерес к нему обусловливается не только его размахом, ожесточением, сложностью побудительных мотивов, где социальные факторы и религиозный фанатизм переплетаются с борьбой против римского владычества. Это восстание, начавшееся в 66 г. и в течение четырех лет представлявшее серьезную угрозу целостности римских владений на Востоке, примечательно и тем, что обнажает обстановку, сложившуюся в том районе, где как раз в эти десятилетия зарождалось и делало свои первые шаги христианство.
Маленькое рабовладельческое государство Иудея находилось как бы на стыке дорог международной политики древнего мира. Расположенное в юго-восточном углу Средиземноморья, оно на протяжении всей истории оказывалось в орбите дипломатических и военных столкновений крупных государств, возникавших в I тысячелетии до н. э. в этом районе. Древний Египет, Ассирия, Нововавилонское царство, Александр Македонский, эллинистический Египет Птолемеев, Сирийское царство Селевкидов в своих завоевательных устремлениях неизменно оказывали политическое или военное давление на Иудею. В ряде случаев это завершалось потерей на более или менее длительное время самостоятельности государства и по условиям того времени пленением его жителей. Процесс диаспоры — рассеяния евреев Палестины по различным районам Переднего Востока, начался еще в VIII в. до н. э., а на рубеже новой эры значительные колонии евреев имелись во многих больших городах средиземноморского бассейна.
В II–I вв. до н. э. могущественнейшим государством этого района сделался Рим. В 63 г. до н. э. римский полководец Помпей захватил Иерусалим и превратил правящую династию Иудеи в римских вассалов. А спустя несколько десятилетий, в 6 г. н. э., Иудея стала римской провинцией третьего класса, управляемой римским прокуратором из всаднического сословия.
Социальная борьба в Иудее теснейшим образом переплеталась с религиозно-этическими движениями. Иосиф Флавий называет три таких направления, три секты, существовавшие там в его время. Это саддукеи, фарисеи и эссены.
Саддукеи представляли жреческую и земледельческую знать. Их движение, не имевшее широкой социальной опоры, ослаблялось еще внутренними распрями. «Это учение распространено среди немногих лиц, — пишет Иосиф Флавий, — притом принадлежащих к особо знатным родам. В прочем их влияние настолько ничтожно, что о нем и говорить не стоит. Когда саддукеи занимают правительственные должности, что случается, впрочем, редко… они примыкают к фарисеям, ибо иначе их не потерпело бы простонародье»[38].
Другое течение — фарисеи — было, вероятно, многочисленным и влиятельным. Иосиф Флавий, в прошлом сам фарисей, иронизирует по поводу их притязаний на особо близкие отношения с богом. Он отмечает их согласие открыто выступить против царей и рассказывает, что «когда все иудеи клятвенно подтвердили свою верность Цезарю и готовность повиноваться постановлениям царя, эти лица, в числе более шести тысяч человек, отказались от присяги»[39]. Иосиф отмечает также, что они имеют чрезвычайное влияние на народ. Однако некоторые другие источники рассказывают о враждебном отношении народа к фарисеям-книжникам, скрывающим под личиной показного благочестия многочисленные нравственные пороки: корыстолюбие, приверженность к мирским удовольствиям, лицемерие. По-видимому, в этих противоречивых свидетельствах проявились взгляды представителей различных течений среди иудеев. Что касается социального состава фарисеев, то, по мнению исследователей, он был неоднороден. К фарисеям, по-видимому, примыкали средние слои и отчасти низы общества— земледельцы, торговцы, беднейшая часть жречества.
Третьим течением были эссены, или ессеи. Они выступали против отдельных официальных норм богослужения, социальных отношений и морали. Некоторые группы эссенов жили замкнутыми общинами, занимаясь земледелием и ремеслами и посвящая свой досуг молитвам и изучению священных книг. «…Имущество у них общее, — пишет Иосиф Флавий, — и богач пользуется у них не большим, чем ничего не имеющий бедняк. Такой образ жизни ведут эти люди и число их превышает четыре тысячи человек. Они не имеют ни жен, ни рабов, полагая, что женщины ведут лишь к несправедливости, а рабы дают повод к недоразумениям»[40].
Недавние открытия древних рукописей в пещерах Вади Кумрана и раскопки поселения Хирбет Кумран пролили новый свет на идеологию, социальные идеалы, общественный уклад эссенов, отождествляемых с сектантами из Хирбет Кумрана.
Упоминает Иосиф Флавий еще об одном течении, чье мировоззрение, по его словам, примыкая к учению фарисеев, отличалось ничем не сдерживаемой любовью к свободе, ради которой его приверженцы готовы подвергаться страданиям и идти на смерть. «Безумное увлечение» народа этими идеями, замечает Иосиф Флавий, и злоупотребления римской администрации вызвали восстание Иудеи против римлян[41]. Те, о ком здесь говорит иудейский историк, назывались зелотами. Их социальную основу составляли средние слои и низы общества. Под лозунгами ревностного соблюдения отечественной веры они выступали против римского владычества в Иудее, а также против социальных верхов самого иудейского общества. Наиболее радикальными в этом движении были так называемые сикарии («кинжальники»), пользовавшиеся в высшем обществе и у римлян славой разбойников.
По-видимому, они опирались на самые неимущие слои населения, а также на рабов. Во всяком случае Иосиф Флавий сообщает об уничтожении ими долговых документов[42], о рабах, входивших в состав отрядов[43], о расправах с римскими ставленниками и собственными богачами[44].
Давая общую характеристику обстановки в Иудее, Иосиф писал: «Сильные угнетали простой народ, а масса стремилась погубить сильных. Те жаждали власти, а эти — насилий и ограбления зажиточных»[45]. Таким образом, сложные социальные и общественные отношения, издавна накалявшие обстановку в стране, еще более обострились со времени превращения Иудеи в римскую провинцию.
Арка императора Тита Рим.
Конец I в. до н. э. — I в. н. э. заполнен смутами и потрясениями. Борьба за власть в самом Риме, необычайно сложная и запутанная политика на Востоке, опасные интриги при императорских дворах — все это докатывалось и сюда, в форме частой смены римской администрации, вмешательства в религиозные дела, режима террора по отношению к населению. Сентенция императора Тиберия о том, что умный пастух должен стричь своих овец, но не сдирать с них шкуру, в значительной степени оставалась благим пожеланием. Бесконечные стычки с римской администрацией, кончавшиеся военными экзекуциями, создавали благоприятную обстановку для различного рода движений, где реальная борьба против римских поработителей и своих угнетателей причудливо переплеталась с иллюзорными надеждами на вмешательство и помощь небесных сил, обещанные всеми предшествующими пророками, всем Ветхим заветом.
Оценка сложившейся обстановки как «последних дней», отчаянная жажда мессии — небесного спасителя, с чьей помощью только и возможно одолеть грубую силу римских когорт, рождало и бесконечный ряд таких мессий. Иосиф Флавий называет главу одного из таких движений, «праведного человека» Иоанна (христианство нарекло его «Крестителем»), которого Ирод поспешил казнить, чтобы его большое влияние на народ не привело к опасным столкновениям с правительством[46]. К этому же времени Флавий относит некоего «лживого человека», который, «легко влияя во всем на народ», смутил самаритян обещанием чуда и побудил их собраться на священную гору Гаризим. Иосиф отмечает, что народ при этом вооружился, что отовсюду к нему прибывали новые пришельцы. Однако прокуратор Иудеи Понтий Пилат предупредил события и, выслав отряды всадников и пехоты, разгромил собравшихся[47]. Несколько позднее некий Февда, объявив себя пророком, собрал большую массу народа и, отправившись к реке Иордан, собирался приказать реке расступиться и пропустить их. Военные отряды наместника не дали осуществиться этому чуду и сам Февда был казнен[48]. Иосиф Флавий сообщает также о еще более крупном движении, возглавляемом неким безымянным «лжепророком» из Египта. Иудейский историк рассказывает, что тот «прослыл за небесного посланца. Он собрал вокруг себя около 30 000 заблудших, выступил с ними из пустыни на так называемую Масличную гору» и намеревался, вторгнувшись оттуда в Иерусалим, захватить город и править народом[49]. Этот лжепророк обещал разрушить иерусалимские стены чудесным образом, «по его мановению»[50].
Такова была обстановка в одной из римских провинций во время, официально именуемое «римским миром». Вспыхнувшее в 66 г. восстание, завершившееся в 70 г. падением Иерусалима, массовыми казнями и уводом в плен большой части населения, является кульминацией антиримского движения в Палестине.
Захват священной утвари Иерусалимского храма римскими солдатами. Деталь барельефа арки Тита. Рим.
Характеристика «римского мира» будет неполной, если не упомянуть о том калейдоскопе императоров, который обрамляет историю эпохи и хорошо передает ее колорит. Первый в списке принцепсов новой эпохи Октавиан Август умер естественной смертью. Но уже его преемник Тиберий вынужден был вести кровавую борьбу с действительными и мнимыми претендентами на императорский престол. Усердие поощряемых им доносчиков не только стоило жизни многим знатным и приближенным императора, оно наложило неизгладимую печать на него самого. Снедаемый подозрениями, омраченный страхом, он заточил сам себя на острове Капри, пока наконец болезнь и предприимчивость его окружения не оборвали его жизненный путь. Следующий император, Гай Калигула, возведенный на престол солдатами императорской гвардии (его террористический режим и безмерные траты дорого обошлись государству), на четвертом году правления был убит в результате заговора. Его преемник Клавдий, случайно и при анекдотических обстоятельствах провозглашенный императором, оказался дальновидным и дельным государственным деятелем. Однако это не избавило его от общей участи. Отравленный властной женой, он уступил место своему пасынку Нерону. Новый семнадцатилетний император, украсивший длинный список официальных казней и полуофициальных убийств именами своего сводного брата, своей матери, приведшей его на престол, своего воспитателя, известного философа Сенеки, и многих других, должен был в конце концов перед лицом мятежа бежать из Рима и покончить с собой. После него за короткий срок сменилось три императора, и только четвертому, Веспасиану Флавию, положившему начало династии Флавиев, удалось несколько стабилизировать императорскую власть. Но уже третий император этой династии, Домициан, окончил свои дни в результате нового заговора… По мере нарастания общего кризиса «императорская чехарда» стала еще более характерным явлением.
А над всем этим, как бы венчая здание «римского мира» первых веков империи, царили глубокие социальные и этические контрасты: непомерная роскошь высших слоев и нищенская жизнь низов. Придворный историограф Светоний, живший в конце I и первой половине II в., оставил впечатляющие картины нравственного разложения того высшего света, к которому принадлежал и сам. Бесчестные льстивые царедворцы, погрязшие в преступлениях императоры, развратная, распущенная челядь длинной вереницей проходят по скандальным «Жизнеописаниям» Светония. Полное отсутствие стыда, которым, по словам Светония, похвалялся император Калигула, в известном отношении было свойством и всего высшего света.
Всадники Апокалипсиса. Худ. В. М. Васнецов. Ленинград. Музей истории религии и атеизма.
Стоический философ Сенека, провозглашавший отказ от роскоши, умеренность и скромные потребности, равенство души раба и свободного, для себя, однако, считал допустимым пользоваться и роскошью подаренных ему императором Нероном вилл, и драгоценностями, и рабами. «Этот стоик, — писал Энгельс, — проповедовавший добродетель и воздержание, был первым интриганом при дворе Нерона… и, проповедуя бедность евангельского Лазаря, сам-то в действительности был богачом из той же притчи»[51]. Картины разврата, кровосмесительных связей, придворных интриг переполняют сочинения многих античных авторов, писавших об этом времени.
«Трудно сатир не писать, когда женится евнух раскисший!» — восклицает Ювенал. Кто настолько терпим к извращениям Рима, «настолько стальной», чтоб удержаться от гнева при виде плутоватого юриста, сотрудничающего с «быстро хватающим» добычу доносчиком? Бичуя социальные и моральные язвы современного ему общества, Ювенал продолжает:
Здесь оттеснят тебя те, кто за ночь получает наследство, Те, кого к небу несет наилучшим путем современным Высших успехов — путем услуженья богатой старушке: Унцийка у Прокулея, у Гилла одиннадцать униций,— Каждому доля своя соответственно силе мужчины… Разве не хочется груду страниц на самом перекрестке Враз исписать, когда видишь, как шестеро носят на шее Видного всем отовсюду, совсем на открытом сиденьи К ложу склоненного мужа, похожего на Мецената,— Делателя подписей на подлогах, что влажной печатью На завещаньях доставил себе и известность и средства. Там вон матрона, из знатных, готова в каленское с мягким Вкусом вино подмешать для мужа отраву из жабы… Хочешь ты кем-то прослыть? Так осмелься на то, что достойно Малых Гиар да тюрьмы: восхваляется честность, но зябнет, Лишь преступленьем себе наживают сады и палаты, Яства, и старый прибор серебра, и кубки… Разве когда-либо были запасы пороков обильней, Пазуха жадности шире открыта была и имела Наглость такую игра? Ведь нынче к костям не подходят Взяв кошелек, но сундук на доску поставив играют… Есть ли безумие хуже: сто тысяч сестерциев бросить И не давать на одежду рабу, что от холода дрогнет?[52]Конечно, автор Апокалипсиса, вероятно выходец из Иудеи, с высот своего времени не мог охватить картины римского общества в целом. Но и то, что ему подсказывал ограниченный собственный опыт, возбуждало в нем гнев и вместе с тем чувство бессилия, что отложилось на самом его произведении: обличая «великую блудницу»— рабовладельческий Рим, пророча ему гибель и страстно желая его гибели, автор Апокалипсиса, однако, перелагает осуществление этого пожелания на небесные силы. Общество, погрязшее в неразрешимых социальных противоречиях, растратившее свои силы в бессильной борьбе с «нивелирующим рубанком» римской государственной машины, разуверившееся в возможности установления человеческими средствами мира социальной справедливости на земле, обращало свои взоры к небу, к божественному спасителю. Социально-экономические и политические условия эпохи породили потребность в чудесном избавителе — мессии. Они же выработали и его учение. Потребности и идеи века, проецируемые религиозной фантазией на небо, возвращались обратно в виде божественных установлений. А старые «языческие» боги и разнообразные религиозные течения эпохи, взаимодействуя и друг с другом и с новыми движениями, давали тот субстрат, то «костное» вещество, из которого строился скелет формирующейся новой религии.
Глава четвертая. Идеи века
Среди чрезвычайно интересных поговорок и пословиц, ходивших в римском обществе в эпоху формирования христианства, привлекают своей контрастностью две сентенции. Одна из них выражает точку зрения высших слоев. Она гласит: «Сколько рабов — столько врагов». Другая, по-видимому, сложилась на другом социальном полюсе. Мысль, заключенная в ней, сводится к тому, что «не может быть дружбы между рабом и господином».[53] Так эти два миниатюрных творения народной мудрости вводят нас в круг ведущих проблем эпохи.
Проблема рабства в первые века империи несомненно является центральной. Не говоря уже об экономическом аспекте (рабский труд в производстве становится все менее рентабельным), рабовладельческий Рим все более страшится своих рабов, несмотря на рост государственно-чиновничьей машины. Тацит сообщает, что при Нероне «для возмездия и общей безопасности» состоялось сенатское определение, по которому в случае убийства господина казни подвергаются не только все его рабы, но и те, которые в этот момент находились с ним под одной кровлей, хотя по духовному завещанию были уже отпущены на волю[54]. Приведенная выше речь Гая Кассия по поводу убийства римского префекта выражает ту мысль, что невозможно жить среди многочисленных рабов, если не держать их в страхе.
Все это побуждает общественную мысль эпохи избрать этот предмет объектом своих исканий. Известный философ-стоик Сенека, блестящий придворный, идеолог рабовладельческих верхов общества, к которым он принадлежал и сам, видит выход из антагонизма между верхами и низами в смягчении правовых норм рабовладения. Высказываемые им идеи казались необычными для тех общественных групп, к которым он принадлежал. «Все люди, — говорил он, — одинаковы по существу, все одинаковы по рождению, знатнее тот, кто честен по природе. У всех нас общий родитель — мир: к нему восходит род каждого из нас, прошел ли он по блестящим или грязным ступеням общественной лестницы. Природа велит нам приносить пользу всем людям — все равно, рабы они или свободные, свободнорожденные или вольноотпущенники, получена ли свобода официальным путем, или она дарована в кругу друзей»[55]. В другом месте он говорит, что раб и по природе равен другим людям. В нем заложены те же чувства человеческого достоинства, мужества.
Как бы ни возвышались эти идеи Сенеки над уровнем идеологии верхов общества, по-прежнему видевших в рабе лишь орудие, наделенное голосом, они не означали, однако, что их автор стоит за отмену рабства. В ряде других мест он высказывается и за наказание рабов, и за суровые меры по отношению к ним, но в пределах благоразумия. Следуя своему идеалу мудреца, в котором справедливость, благочестие, простота должны быть пронизаны и увенчаны житейским благоразумием, он доказывает, что неразумно озлоблять рабов и превращать их в своих врагов.
Его слова как бы направлены сразу в два адреса. Во-первых, он зовет господ к более мягкому обращению со своими подневольными и вообще с зависимыми людьми. Не следует, проповедует он, чрезмерно унижать раба-пленника: он ведь недавно был свободным. Пусть господин не видит в рабе только безвольное орудие его прихотей: ведь раб — человек. Пусть он дарит ему снисходительное общение, не брезгует сесть с ним за обеденный стол, как это делали в старину. Такие рабы не будут ненавидеть своих господ, угрожать их жизни, делать на них доносы. А в случае допроса по чужому навету такие обласканные рабы будут молчать и под пыткой. Кроме того, судьба переменчива, и сегодняшний спесивец может при известных обстоятельствах и сам оказаться в зависимости от своего же прежнего раба. И заранее отвечая на угадываемые им возражения людей своего круга, Сенека говорит им, что рабство духа порой более присуще господам, чем рабам. Этот богач — раб корысти, этот — раб любовницы, этот — раб льстивого пресмыкания перед сильными мира сего, а этот — раб развращенной похоти… Придворный императора Нерона хорошо знал высший свет своего времени!
Вместе с тем Сенека призывает тех, кто находится в зависимости и рабском положении, проявлять терпение и покорно сносить оскорбления и обиды. Только покорность и терпение могут облегчить участь рабов и зависимых лиц. Возмущение же только усугубит тяжесть их положения. Обращаясь, видимо, и к господам и к рабам, он говорит, что только тело раба находится в рабском состоянии, душа же его свободна. А это залог того, что и раб может усовершенствоваться в добродетели и достичь в этом отношении равенства с именитым свободным.
Эти идеи, родившись в середине I в. н. э., лишь постепенно становятся в дальнейшем идеями века; только в следующем столетии некоторые идеологи римского рабовладельческого общества начинают их развивать и пропагандировать.
Другая злободневная тема — отношение к труду. Высшие классы рабовладельческого общества устами своих идеологов выражают презрение к физическому труду и его носителям, не только рабам, но и свободным. Шерстобиты, сукновалы, сапожники, медники являются объектом высокомерного пренебрежения. Их невежество, легковерие, готовность следовать за любым шарлатаном воспринимаются как следствие их занятий низменным, отупляющим трудом.
В одном из своих произведений Лукиан так характеризует ремесленника: «…ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и недостойный заработок. Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато: друзья не станут искать твоего общества, враги не будут бояться тебя, сограждане — завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед власть имущими и служить тому, кто умеет хорошо говорить; ты станешь жить, как заяц, которого все травят, и сделаешься добычей сильного… Ты решаешься надеть какой-то грязный хитон и принять вид, мало чем отличающийся от раба. Ты собираешься сидеть согнувшись над работой, имея в руках лом, резец и молот или долото, склонившись над работой и живя неизменно и обыденно, никогда не поднимая головы и ничего не замышляя, что было бы достойно свободного человека, заботясь только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей…»[56]
Такое отношение верхов общества к представителям трудовых профессий было широко распространенным явлением. Можно полагать, что и в Иудее этой поры земледельческая знать и жречество держались аналогичных взглядов, сформулированных еще во II в. до н. э. в апокрифической книге Бен Сиры. Там говорится: тот, чье сердце занято проведением борозд на пашне, кто погоняет волов и думает о корме для телят, кто вертит гончарный круг или имеет дело с пылающим горном, не может претендовать на общий с мудрыми удел.
На другом социальном полюсе римского общества, в среде рабов и примыкающих к ним слоях свободных ремесленников и вольноотпущенников формируются иные взгляды.
Каковы взаимоотношения между верхами и низами? Как нужно относиться к презираемому верхами физическому труду? Как нужно отвечать на наносимые сильными обиды? Эти и многие другие вопросы каждодневного бытия нашли выражение в многочисленных поговорках, сентенциях, баснях, а также в некоторых философских системах.
В басне вольноотпущенника Федра о тяжбе между пчелами и трутнями спор идет о том, кто сделал соты в улье и кому, следовательно, принадлежит мед. Судья-оса правильно решает дело: плоды трудов должны достаться труженикам. Но, замечает баснописец, трутни отказываются соблюдать договор.
Противопоставление труда безделью, а скромной трудовой жизни маленького человека праздности и роскоши высших классов становится в этих кругах излюбленным мотивом. «Избегай великих господ, — читаем мы в одном поучении, — и имен, прославленных молвой, и домов, отягощенных благородным происхождением, и беги от них далеко…»[57]
В многочисленных надгробных надписях социальных низов — рабов, отпущенников, солдат, ремесленников в качестве аргумента для достижения загробного воздаяния приводятся трудолюбие, мастерство, доброта, бедность[58]. Так, раб, управляющий имением, ставит себе в заслугу, что он оставил своих детей бедными. Некая жрица похваляется своими родителями-вольноотпущенниками, которые были бедны, но свободны духом. Даже люди, судя по всему, среднего достатка стараются либо причислить себя к беднякам, либо приписать себе те добродетели — кротость, милосердие, бескорыстие, — которые, по-видимому, признаются в их среде уделом бедняков. Очень популярно простодушие. На многих надгробиях подчеркивается и несколько расплывчатое выражение — невинность и другие такие же свойства. Авторы эпитафий уверены, что эти добродетели не могут не быть вознаграждены божественными силами и они останутся в веках. Простодушие и немудрcтвование — в известном отношении девиз этого круга лиц.
Наряду с этим развивается мысль о том, что люди низкого положения, обладавшие указанными добродетелями па земле, вправе рассчитывать на лучшую долю в загробном мире. В эпитафии мальчику, который в жизни занимал самое жалкое место — был рабом раба и при этом отличался прилежанием и добротой, утверждается, что за это он после смерти пользуется заслуженной наградой. Эпитафия вольноотпущеннику Понтиану свидетельствует, что своим «простодушием» он добился того, что его душа местожительствует с богами, в то время как тело, свободное от трудов, покоится в земле. В некоторых эпитафиях высказывается мысль, что умерший сам может стать богом, приобщиться к богу, к потустороннему блаженству. При этом путь к нему лежит не через богатство и почести, но через добродетель.
Общественная мысль социальных низов отводит значительное место теме товарищества и равенства маленьких людей, их содружеству и солидарности, которые являются мощной защитой от подстерегающих всюду опасностей. В басне о льве и четырех быках рассказывается, что лев не мог напасть на находившихся в дружбе быков, но когда ему удалось подорвать их дружбу, он легко справился с каждым в отдельности. В сентенциях и пословицах говорится, что «маленьким людям» надо опираться на согласие — прибежище в беде. При этом подчеркивается, что дружба невозможна между теми, кто стоит на разных ступенях социальной лестницы. Создается впечатление, что в пословицах и поговорках «маленьких людей» отвергаются идеи снисходительной дружбы верхов общества, которые пропагандировались Сенекой и другими. «Маленькие люди» понимают цену благодеяниям господ. Такие благодеяния оплачиваются свободой и благополучием «облагодетельствованного». «Могущественный когда просит — принуждает», — свидетельствует поговорка[59]. Этому противопоставляются как выражение подлинной добродетели бескорыстные благодеяния равных друг другу трудовых людей.
Весьма любопытно и отношение к обиде и обидчику. В басне о лисице и журавле делается вывод: обидчику нужно ответить тем же. В сентенциях проводится мысль, что с людьми, лишенными совести, глупо поступать благородно. Прощая обидчику, ты наносишь вред не только себе, но и другим, ибо это вдохновляет обидчика и на другие обиды. В одной поговорке резко осуждается идея непротивления. «Кроткие живут в безопасности, — говорится там, — но зато они рабы».
Однако наряду с вольнолюбивыми поучениями в этой среде обнаруживается и другое течение. Оно исходит из принципа покорности, кротости, рабского непротивления злу, как бы перекликаясь с аналогичными рекомендациями Сенеки. «Лекарство против обид, — провозглашает оно, — прощение»[60]. Здесь рекомендуется не гневаться на могущественного, бояться всего, обращаться к врагу с добрым словом, не вредить обидчику, даже если ты мог бы это сделать.
Небезынтересно отметить, что сходные социальные условия порождают аналогичные поучения и в восточных пределах Рима. «Люби труд, — говорится в одном иудейском афоризме, — презирай господство и не води знакомства с властью». «Не делай твоему товарищу того, что тебе нежелательно в отношении самого себя», «Люби мир», «Люби людей», «Не отделяй себя от общества».
Римский философ Сенека. Ленинград. Музей истории религии и атеизма.
Таким образом, среди низов общества складываются идеи, совершенно необычные с точки зрения высших классов: ни богатство, ни происхождение, ни высокое положение не дают удела в загробном блаженстве. Роль играют только добродетели, причем перечень их — бедность, доброта, бескорыстие и простодушие— выдает их происхождение. Этими качествами владеют в первую очередь рабы, вольноотпущенники, ремесленники — все эти медники, кузнецы, шерстобиты, красильщики, которых высший свет рабовладельческого Рима считает невеждами и разбойниками, а Новый завет назовет «простецами», «немудрствующими», «нищими духом». Они склонны рассматривать свое положение как более предпочтительное, чем положение господ, ибо именно в социальных низах заключены добродетели, приносящие потустороннее блаженство.
Многие из этих этических представлений отложились затем в новозаветной литературе. Это показывает, что этические нормы, провозглашаемые в новозаветных произведениях, не являются ни божественным откровением, ни изобретением основателей христианства. Они были порождены социальными условиями самого рабовладельческого общества. Это земные идеи той эпохи, которую можно назвать началом конца рабовладельческого Рима. Христианство восприняло их и, освятив своим авторитетом, трансформировало в божественные установления.
В первой половине I в. н. э. в египетском городе Александрии жил еврейский философ Филон, образно названный Энгельсом отцом христианства. Такое название обусловлено тем, что учение Филона во многих созвучно христианским догмам. Путем аллегорического истолкования Ветхого завета Филон пытается сочетать идеи еврейской части Библии с идеалистическим учением греческого философа Платона. Одним из существеннейших результатов этого соединения является предельное развитие у Филона идеи монотеизма — единобожия, выраженного в Ветхом завете достаточно непоследовательно. По Филону, бог — не ветхозаветный Ягве, наделенный конкретными качествами и явно заимствованными у человека чертами. Бог — это беспредельная абстракция. Он не может быть заключен ни в какие определения, к нему не приложимы никакие качества, его нельзя выразить никаким именем. Единственное, что о нем можно сказать, — это то, что он един, изначален, вечен и неизменен. Свою творческую сущность эта идеальная божественная абстракция проявляет не непосредственно. Между ней и материальным миром находятся промежуточные силы. Филон называет их «благость» и «власть». Они — творцы и управители мира, они формируют материю и правят ею. А между ними и богом стоит центральное связующее звено, Логос (божественный разум), пли Слово, через которое в конечном счете бог правит миром и при посредстве которого люди общаются с богом. Таким образом, Логос оказывается двуединым началом, занимающим промежуточное место между материальным и идеальным миром. «Он не изначален как бог, но и не рожден как мы. Он посредине этих крайностей, совпадая с обеими»[61].
Разумеется, это сложное философско-религиозное учение о едином абстрактном боге и его связях с миром и человеком было недоступно простолюдинам, «иссушавшим» свой ум и тело в повседневных материальных заботах и трудах. Однако, когда позднее вырабатывалось христианское вероучение, отцы церкви нашли в учении Филона приемлемую схему для христианского богочеловека, также находящегося где-то «посредине» — между божественным и человеческим и удивительно непоследовательно совмещающего в себе и то и другое. «Вначале было Слово (по-гречески „логос“. — М. К.), — читаем мы в первых строках евангелия Иоанна, — и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (I, 1–3). А затем, как известно, это пресловутое платоновско-филоновское божественное Слово, войдя в еврейскую деву Марию, превратилось в христианского Иисуса Христа.
В учении Филона различимы в зародыше идея прирожденности человеческого греха (поскольку он заключен в самом факте рождения) и многие другие элементы, которые христианство так или иначе воспринимает и выдает за абсолютно уникальное «духоносное», упавшее непосредственно с чисто христианских небес откровение.
Римского философа Сенеку (о нем упоминалось выше в другой связи) Энгельс называл «дядей» христианства. Этим Энгельс подчеркивал элементы родства, связывающие некоторые положения христианства с учением этого «языческого» философа. Родство это подтверждают и отцы церкви. Тертуллиан называет его «часто наш», а Иероним говорит о нем «наш», не делая даже и этой оговорки.
У Сенеки создатель, творец вселенной также строго монотеистический бог. Монотеизм — идея века, ее проявление мы можем подметить и в других философских и религиозных учениях. Сенека как стоик признает исключительную роль божьего промысла, который предопределяет и направляет и судьбы мира и судьбы человека. В мире, по учению Сенеки, благостным промыслом все устроено целесообразно. Если же кто-нибудь укажет на случаи несправедливости, обид, злодейств, существующих в обществе, то это лишь кажущаяся нецелесообразность. В действительности таким образом бог закаляет добродетель испытуемого. Вопреки своему собственному поведению, Сенека выдвигал идею самоотречения и презрения к земным благам. Дети, почести, богатство, обширные владения, обилие клиентов, славное имя, красивая жена — все это ничто перед лицом переменчивой судьбы. Всем этим можно пользоваться, пока оно есть, и не печалиться, когда его нет. Ибо, говорит он, подлинная ценность не в «мгновениях смертной жизни». Жизнь лишь прелюдия. Она вынашивает нас для другого мира; в промежутке «между рождением и старостью мы созреваем для нового рождения». Не случайно раннехристианский писатель Лактанций поражался сходству положений Сенеки с «божественным учением»— приведенные выше строки являются и сейчас составной частью церковных поучительных «Слов».
Из этих положений Сенеки вытекают и последующие: смерть — «день рождения в вечность», она касается лишь тела, но не души. Душа — бог, пребывающий в бренном теле. Сенека заявляет, что для потусторонней будущей жизни не имеет значения, пребывает ли душа в теле привилегированного римского всадника, вольноотпущенника или раба. «Подняться на небо, — говорит он, — можно из любого закоулка. Воспрянь духом и сделайся равным бессмертным»[62].
Все эти положения, несомненно оказавшие существенное влияние на выработку христианского учения, приводят Сенеку еще к одному тезису, также воспринятому христианством. «…Наше тело, — пишет он, — только тяжкое бремя для души. Под давлением его она страдает, она находится в оковах, пока не является философия и не дает ей свободно вздохнуть в созерцании природы вещей и вознестись от земного к небесному. В этом свобода души, в этом ее освобождение. В такие минуты душа ускользает из темницы, где она содержится, и возносится к небу… Душа, заключенная в своей мрачной и темной тюрьме, всеми силами стремится на волю и отдыхает, созерцая природу… Мудрец, равно как и тот, кто еще только стремится к мудрости, хотя они и связаны с телом, однако лучшею своей частью не принадлежат ему (и возносятся мыслью к возвышенным предметам)… У них нет ни любви, ни ненависти к жизни, и они терпеливо переносят свое земное существование, зная, что им предстоит затем другое, лучшее… В самом деле, все состоит из материи и бога. Бог управляет материей, а она, облекая его, повинуется ему как повелителю и руководителю. Но ведь творящее начало, т. е. бог, могущественнее и выше, чем управляемая им материя. То место, которое в мире занимает бог, в человеке занимает душа, а материи мира соответствует наше тело. Итак, пусть же низшее служит высшему»[63].
Среди других элементов учения Сенеки в рассматриваемом нами плане представляют интерес его идеи космополитизма. Жизнь человека вращается в пределах двух условных государств, образно излагает он свою мысль. Одно — это место, к которому нас приписала случайность. Это могут быть Афины или Карфаген. Другое— весь мир. В нем наш взор не ограничен тем или иным уголком земли, его границы — движение солнца. Эта вселенская идея, стирающая границы и в прямом и в переносном смысле, тоже преломляется затем в христианстве.
Среди идей первых веков империи необходимо упомянуть и сложные философско-религиозные течения, объединяемые под общим названием гностицизма. Общим в различных и часто далеких друг от друга учениях является стремление не довольствоваться слепой верой в бога, а «познать» его (отсюда и само название гностицизм; «гносис» — по-гречески «знание»). По-видимому, центральное место у гностиков занимает переход от мира материального к миру духовному. Сложная система «небес» — ступеней перехода — характерна для некоторых ответвлений гностицизма. Умозрительные хитросплетения, со многими элементами мистики и магии, делали учения гностиков мало приемлемыми для низов общества. Однако в некоторых поучениях заметны и гражданские и социальные — мотивы. Один из отцов церкви, Климент Александрийский упоминает гностика Епифана, учившего, что справедливость божья состоит в общности и равенстве. Это получает у него космическое обоснование: небо облекает всю землю, солнце изливает свет одинаково для всех. Оно не делает различия для богатого и бедного, для правителя и народа, для неразумных и разумных, для свободных и рабов. В этом поведении солнца виден высший, божественный принцип справедливости. Никто не может отнять свет у ближнего, чтобы получить больше, чтобы самому иметь его вдвойне. Но люди нарушают этот божественный закон, по которому виноградник и хлеб и плоды принадлежат всем — и воробью, и вору. И люди, чтобы восстановить нарушение, прибегли к воровству[64].
Если обратиться к философско-религиозным воззрениям иудейских сект, перечисленных Иосифом Флавием, то саддукеи занимают совершенно особую позицию, отрицая бессмертие души. «По учению саддукеев, — пишет он, — души людей умирают вместе с телом»[65]. Фарисеи в его описании ближе к учению стоиков о божественном провидении. «По их мнению, — пишет он, — все совершающееся происходит под влиянием судьбы»[66]. Впрочем, они не отнимают у человека свободу воли, но считают, что по божественному предначертанию происходит смешение воли бога и человека в выборе пути добродетели или порока. Кроме того, отмечает Иосиф, фарисеи верят в бессмертие души. Они верят, что после смерти люди подвергаются загробному суду, на котором взвешиваются их земные дела. Грешники осуждаются на вечное заключение в подземном мире, а добродетельные могут рассчитывать на воскресение.
Что касается эссенов, то свидетельства Иосифа и недавно найденные кумранские рукописи представляют их нам как приверженцев дуалистического взгляда на мир. В мире существует два начала, гласит их учение, — царство света и царство тьмы, дух правды и дух кривды. До назначенного тайного срока они борются «в сердце мужа», побуждая его ходить в «мудрости и глупости», в праведности и греховности. Эссены верили, что в «конце дней» произойдет страшный суд, на нем праведники будут отсеяны от грешников. Первые получат удел с богом, последние будут низвергнуты в огонь мрачных областей. Это осуществится с приходом божьего посланца — мессии, который и будет верховным арбитром в этом судебном разбирательстве. Некоторые из ответвлений эссенов отрицали рабство или во всяком случае не пользовались рабским трудом и считали обязательной для себя трудовую деятельность. Они, по-видимому, старались уклониться от брака, проповедовали аскетизм и уход от мира.
Таковы важнейшие идеи века. Подобно тому как в плане социальном, организационном и политическом в христианстве всякий раз своеобразно преломлялись социально-экономические и политические черты породившего его общества, так и при выработке своего мировоззрения христианство аккумулировало идеи века и, преломив их сквозь призму религиозной фантазии, обернуло божественным откровением.
Глава пятая. Боги. Скептицизм. Искания
На рубеже новой эры известный римский политический деятель и оратор Марк Туллий Цицерон написал трактат «О природе богов». В этом сочинении он изобразил трех философов, представителей трех философских направлений своего времени, и заставил их вступить между собой в спор: Что следует думать о религии, благочестии, обрядах, жертвоприношениях? Как расценивать деятельность авгуров — жрецов, предсказывающих будущее по полету птиц, и гаруспиков, определяющих то же по внутренностям жертвенных животных. Наконец, что следует думать о самих бессмертных богах?
Эпикуреец Веллей, учению которого Цицерон менее всего сочувствует, выведен в несколько сатирическом плане. Он ни в чем не сомневается, предельно самоуверен, словно, иронизирует автор, он только что вернулся с собрания богов из эпикуровых междумирий. Эпикуреец отрицает вмешательство богов в дела людей, отвергает почитание гаруспиков, авгуров, прорицателей, предсказателей, толкователей снов и другие суеверия; хотя он как будто признает существование блаженных богов, равнодушно внимающих добру и злу и живущих где-то вдали от земли и людей. Однако Цицерон сразу отмечает, что такое признание ничего не стоит. Утверждение, будто боги не могут или не хотят воздействовать на человеческую жизнь, равносильно в житейском плане отрицанию самого их существования[67] и ведет к подрыву благочестия, набожности и самой религии.
Стоик Бальб, наоборот, утверждает, что строение вселенной исполнено божественного разума, что силы, действующие в мире, суть проявление божественной силы. Боги заботятся о жизни человека и все устроили для его пользы. Вселенная, солнце, луна, виноградная лоза, животные — все это создано для благополучия людей. Овцы — ради шерсти, которая нужна людям, волы — чтобы удовлетворить потребность человека в тягловой силе, плодовитые свиньи — ради удовлетворения потребности в мясе. Даже такие космические явления, как смена дня и ночи, и те имеют определенную цель — упорядочить сон и бодрствование людей. В римских богах стоик видит проявление общей божественной сущности, следовательно их необходимо почитать и соблюдать установленные издревле обряды. Таким образом, признавая значение обрядов, знамений и других элементов римской официальной религиозности, стоики стремились приспособить свое философское учение к существующим верованиям и государственной религии.
Третьим участником спора, а именно ему более всего сочувствует Цицерон, выведен новоакадемик Котта. «Если ты меня спросишь, — говорит Котта, — что такое божество и каково оно, я воспользуюсь примером Симонида…», который «отвечал, что чем дольше он раздумывает, тем вопрос ему кажется темнее»[68]. Котта не отрицает римских богов, но и не видит доказательств их существования. Он разбивает доводы стоиков, но не менее решительно выступает против эпикурейцев. Его участие в споре носит негативный характер. «В вопросе о природе богов, — говорит он, — прежде всего спрашивается, есть ли боги, или нет. Неудобно отрицать? Думаю, что да — если бы вопрос был предложен в Народном собрании. Но в таком разговоре и таком собрании, как наше, весьма легко (отрицать). И вот я, сам жрец, который считает необходимым в высшей степени свято охранять религиозные обряды и господствующую религию, хочу, чтобы положение… что боги существуют, не только принималось на веру, но чтобы меня убедили в нем и вполне обоснованными доводами. Много ведь попадается такого и смущает так, что иногда кажется, что совершенно нет таких богов»[69].
Таким изобразил Цицерон состояние умов своих образованных современников во время, непосредственно предшествовавшее возникновению христианства. При этом он счел нужным отметить, что нет ничего другого, в чем мнения «неученых и даже ученых» до такой степени расходились бы, как в этих вопросах.
Здание Пантеона в Риме. Внутренний вид. Реконструкция.
Римская религия на рубеже нашей эры сохранила многие примитивные черты, сложившиеся еще в то время, когда Рим был центром небольшого государства, в котором были сильны традиции родового общества и присущие ему религиозные представления. Римский пантеон — необычайное по количеству собрание богов. Современники исчисляли их тысячами и даже десятками тысяч. Сведущие историки составляли каталоги их имен и функций, и римский писатель I в. н. э. язвительный Петроний, имел, по-видимому, достаточные основания для того, чтобы вложить в уста одного из своих персонажей заявление, что «бога здесь легче встретить, чем человека»[70] — так много в стране почиталось богов.
Христианский писатель IV–V вв. Августин также замечает, что римлянам требовались тома, чтобы уместить один их перечень. «Даже охранение полей, — пишет Августин, — они не сочли возможным вверить какому-нибудь одному божеству, но над полями поставили богиню Русину, над горными вершинами — бога Югатина, над холмами — богиню Коллатину, над долинами — Валлонию. Не могли они придумать хотя бы такой Сегеции, чтобы ей полностью поручить посевы. Но посеянными семенами, пока те еще в земле, поручили ведать богине Сее, а когда они выходят из земли и образуют жнивье — богине Сегеции. Наконец, когда хлеб обмолочен и убран, сохранность его поручалась богине Тутилине. Кто бы мог подумать, что от времени выхода семян из земли зеленой травой до превращения их в спелые колосья недостаточно одной Сегеции? Однако… к зеленым всходам семян они приставили Прозерпину, к коленцам и узлам стеблей — бога Нодута, к покровам колосьев — богиню Волутину; когда же чашечки раскрываются и из них проклевывается колос — вступает богиня Пателана; когда на ниве подравниваются новые колосья — богиня Гостилина, так как выравнивать у древних называлось — hostire. Хлеб в цвету вверяли богине Флоре, в стадии наливания — богу Лактурну, в стадии зрелости — богине Матуте…»[71]
Августин не устает приводить все новые и новые имена. Тут и бог дверей, и бог дверных петель, и богиня порога. Тут богиня активной деятельности Стимула, и богиня лени Мурация, и бог первого крика ребенка, и богиня — охранительница колыбели, и богиня сосания груди, и богиня, заведующая ростом мужской бороды, и богиня, участвующая в развязывании пояса новобрачной.
Такое необычайное разграничение сфер деятельности божеств, отсутствие у большинства из них конкретного облика, истории, мифологии, сами их имена, представляющие собой лишь обозначение их функций, — все это показывает, что в римском культе сохранились чрезвычайно примитивные представления. Это относится и к ритуалу, требовавшему точного соблюдения обряда и отрицавшему его силу при малейших отклонениях и нарушениях. Необходимо было точно знать, какие и в какой последовательности произносить формулы и к какому из легионов богов нужно обращаться по тому или иному поводу. Как необходимо, говорит Августин (излагая положения Варрона), прежде чем обратиться к ремесленнику, хлебопеку, штукатуру, знать, что обозначают эти названия и чем каждый из них занимается, точно так же следует знать, какого бога и в связи с чем нужно призывать, и не уподобляться актерам в комедиях, которые просят воды у бога виноделия и вина у бога ручьев и источников[72].
Картина, нарисованная Августином, во многом гиперболизирована. Однако ряд черт, по-видимому, соответствовал действительному положению вещей, поскольку еще в IV–V вв. н. э. Августин делает объектом своих нападок именно эту сторону «язычества».
Августин направляет свои стрелы не только против этих безликих богов, но против «богов главнейших». Здесь, во-первых, называется Юпитер — верховный бог Рима, отождествлявшийся с греческим Зевсом. Юпитер, по представлениям римлян, — бог неба и владыка мира. Он имел множество ипостасей, отображавших различные его функции и топографию самого культа. Но над всеми его ликами возвышалась ипостась Юпитера, «лучшего и величайшего», обитавшего в центре Рима, в главном святилище на Капитолии.
Юпитер Непреоборимый. Берлинский музей.
Женской ипостасью Юпитера, а в римской мифологии его божественной сестрой и супругой была Юнона. У нее также разнообразные функции. Плодородие, успех, брак и множество других чисто человеческих забот находилось на ее попечении. Третьим божеством, замыкавшим капитолийскую троицу, была Минерва — богиня мудрости, покровительница ремесел, целительница. Римские полководцы подносили ей трофеи. Ремесленники почитали ее празднествами.
Далее следует хтоническая божественная пара. Супруг — бог Плутон (отождествляемый с греческим Аидом) — властитель подземного царства, куда стекаются через имеющиеся в земле входы души или тела умерших. Его жена — Прозерпина (греческая Персефона), похищенная им и магически привороженная, должна проводить с ним часть года. У этой пары обширное царство, подземные реки и подземные горы и множество подданных — ведь люди умирают испокон веков. Как и в земном царстве, здесь имеются специальные загробные судилища. Легионы демонов и чудовищ выполняют полицейские функции. Древние римляне указывали даже несколько мест, где находились входы в эту страну Плутона; один из них — у Авернского озера в самой Италии.
Следующая пара — бог морей и вместе с тем покровитель коневодства Нептун и его супруга Салация, ведавшая «нижней частью моря», затем следует бог Марс, сочетавшийся с земной женщиной весталкой Реей Сильвией и породивший основателей Рима — Ромула и Рема. Марс, кроме того, и бог войны. Оба эти обстоятельства сделали его чрезвычайно почитаемым божеством Рима. Среди других божеств стоит назвать также богиню чувственной любви и плодородия Венеру, культ которой приобрел большую популярность в начале империи в связи с тем, что императорский род Юлиев вдруг открыл в ней свою отдаленную прародительницу.
Следует сказать несколько слов еще об одной римской богине. Художники изображали ее то с рогом изобилия — символом щедрости, то на колесе — символе изменчивости, то с повязкой на глазах — символом нелицеприятности. Речь идет о богине Фортуне, олицетворявшей слепую судьбу, изменчивое счастье и отдельного человека и целых государств. Богиня Фортуна, возносившая на императорский трон простых военачальников, поднимавшая порой на вершину социальной лестницы простолюдинов и даже рабов, была вожделенной богиней и для верхов и для низов общества. «Во всем мире, во всех местах и во все часы, — писал Плиний Старший, — все голоса призывают и называют одну Фортуну, ее одну обвиняют, только ее тянут к ответу, только о ней думают, ее одну хвалят, ее одну винят, ее ругают и чтут; она превратна, многие ее считают даже слепой, она непоседлива, непостоянна, неверна, изменчива, покровительствует недостойным. На ее счет относят все убытки и прибыли, и в счетной книге смерти она занимает обе страницы. Мы до такой степени подчинены судьбе, что она сама считается божеством»[73].
Функции Фортуны были многогранны, и это породило множественность ее образов. В Риме отправляли культ и Фортуны — покровительницы государства, и другой — покровительствующей дому императора. Была Фортуна семьи и Фортуна девушек, Фортуна победы и даже Фортуна сегодняшнего дня, которая имела в Риме свое отдельное святилище.
Юнона. Париж. Национальная библиотека.
Развенчивая с позиций христианской апологетики «истинность» всех этих богов, Августин фиксирует внимание читателя на давно начавшейся в римском культе тенденции к совмещению функций многих богов в одном все более универсализирующемся боге[74]. Этот процесс нам известен с разных сторон. С одной стороны, «лучший и величайший» Юпитер Капитолийский сосредоточивает в себе функции большого количества богов — Августин перечисляет их имена на нескольких страницах. Юпитер все более становится «всем», олицетворяя в одном лице множество обожествленных стихий и явлений. Он — бог неба и бог земли, устроитель законов и дарователь побед. Он — защитник государства и покровитель отдельных людей.
С другой стороны, низы общества, вольноотпущенники, рабы, свободные ремесленники, относясь безразлично к этим официальным богам и отправляя культ своих, «низших» богов, тоже начинают придавать им более универсальный характер.
Плутон, похищающий Персефону. Роспись склепа Деметры. I в. до н. э. Керчь.
Исследователи выявили здесь много интересных подробностей[75]. Так, оказалось, что почти забытая в верхах Bona Dea — Добрая богиня, имевшая неименитую родню (ее отцом был низший лесной бог Фавн), не только сделалась популярной среди рабов и отпущенников, но и стала наделяться множеством важных функций. Она — богиня полей, кормилица, целительница, охранительница отдельных фамилий. Она же — небесная, могучая, светоносная победительница. В ее руках рог изобилия, она имеет отношение и к колдовству. Она лучше других может помочь получить свободу, и рабы в посвятительных надписях приносят ей обет за освобождение.
Колесо Фортуны.
Другим божеством такого рода является Приап, с точки зрения верхов общества жалкий божок, нечто вроде пугала в саду. Вот «монолог» бога Приапа, вложенный в его уста насмешливым Горацием:
Некогда был я чурбан, от смоковницы пень бесполезный; Долго думал художник, чем быть мне, скамьей иль Приапом. «Сделаю бога!»— сказал; вот и бог я! — С тех пор я пугаю Птиц и воров. — Я правой рукой воров отгоняю… А тростник на моей голове птиц прожорливых гонит, Их не пуская садиться в саду молодом на деревья[76].Но не таков Приап для простолюдина. Он сторожит его клочок земли. Это старая, важная функция, ведь клочок земли — основа благополучия для его хозяина. И бог, который дарует благополучие, — великий бог. Он Пантей — Всебог, как его рекомендуют посвятительные надписи. В нем сосредоточены плодоносящие силы природы. Он — могущественный, сильный, непобедимый, владыка лесов и вод. Он властен над юностью и старостью, он укрощает нечестивцев, он родитель и создатель вселенной, ему повинуется сам Юпитер и другие божества верхов общества. «Привет тебе, святой Приап, отец всего сущего», — говорится в одной надписи.
Еще более популярен среди социальных низов Италии Сильван, лесной бог, образ которого по ряду функций сливался с греческим Паном и римским Фавном. Его изображали в одежде селянина с венком из сосновых веток на голове и серпом и плодами в руках. Вначале малопопулярный, он в дальнейшем получает признание как охранитель фамилии и страж земельных участков. Эпитеты, прилагаемые к нему в посвящениях, выражают функции, которые ему придавались. Его зовут сеятелем, полевым Ларом, скотником. В то же время его именуют спасителем, защитником, господином. Он могучий, непобедимый. Как Приап, он тоже Всебог. Рабы, солдаты, вольноотпущенники, свободные «маленькие люди» в надписях заявляют о своей преданности ему, выражают благодарность за освобождение от рабства, исцеление, благополучие. У него, видимо, имеются и какие-то храмы, сооруженные все теми же низами общества, ему по обету ставят алтари, дарят священные участки. Для этих социальных слоев верховные боги официального культа — чуждые и даже враждебные силы, равнодушные к судьбам «маленьких» людей. Последние ищут себе защитников в среде близких им маленьких местных старинных божеств, наделяя их, однако, чертами великих победоносных богов.
Таковы некоторые черты развития религиозных представлений в Риме в первые века империи. В целом же по мере развития здесь монархической формы правления, вознесшей на вершину власти императора, эти земные отношения, проецируясь на небо, способствуют развитию и «здесь» идей консолидации власти. Римская религия в силу ее консервативности и многих примитивных черт мало отвечала этой задаче. Тем не менее, как мы видели, такие тенденции пробуждаются и в ней. Но еще в большей степени эти тенденции проявляются в восточных религиях, которые уже в последний период республики довольно интенсивно проникают в Рим и завоеванные им территории.
Лесной бог Лувр.
На Востоке в силу конкретно-исторических причин религиозный синкретизм (совмещение функций нескольких богов в одном и смешение различных культов) начался давно. Походы Александра Македонского, контакты эллинского и восточного миров, создание эллинистических государств, где синкретизм в области социально-экономической и культурной составлял самое существо этих политических образований, — все это оказало непосредственное влияние и на процессы религиозного синкретизма. В этих условиях естественно отпадал водораздел между эллином и варваром, по крайней мере в области религии. Греческая Афродита сливается с египетской Исидой, олимпиец Зевс — с египетским Амоном. Позднее, в период империи, это движение еще более усилилось. Возникает смешанный культ Зевса и Сераписа, Ягве и Анубиса, Гермеса и Тота.
Но еще более важно формирование и распространение монотеистических представлений. Здесь имеется в виду не только монотеизм самой Иудеи, который в еврейских общинах диаспоры (под влиянием контактов с другими народностями) теряет свои узконациональные черты. Находки за пределами Римской империи ряда надписей коллегий, исповедующих некоего безымянного «высочайшего», «благословенного», «гремящего», «внемлющего», «праведного вседержителя», явно тяготеющего к иудейскому Ягве, но и отличающегося от него[77], достаточно выразительны.
Также ведет к формированию монотеистических представлений и процесс сосредоточения функций богов. Наибольшее значение здесь приобретает Исида. «Я Исида, — читаем мы на одной посвятительной надписи, — владычица всякой земли; воспитана Гермесом и вместе с Гермесом изобрела письмо священное (иероглифическое) и демотическое письмо, чтобы не писали всего одними и теми же знаками. Я положила людям закон, и что я положила, никто не может изменить. Я — старшая дочь Кроноса. Я — жена и сестра царя Осириса. Я та, кто изобрел для людей земледелие. Я — мать царя Гора. Я та, кто у жен прозвана божеством. Я та, кто восходит в созвездии Пса. Мне построен город Бубастис. Я отделила землю от неба. Я указала пути звездам. Я установила движение солнца и луны. Я изобрела морское дело. Я утвердила силу справедливости. Я свела жену с мужем. Я установила, чтобы женщина рождала на свет дитя на 10-й месяц. Я положила, чтобы родители любили детей. Я установила наказание для родителей, не знающих любви. Вместе с братом Осирисом я положила конец людоедству. Я указала людям таинства. Я научила почитать таинства богов. Я соорудила священные храмы богов. Я сокрушила власть тиранов. Я сделала необходимым, чтобы мужья любили жен. Я сделала справедливость ценнее золота и серебра. Я установила, чтобы истина считалась прекрасной. Я изобрела брачные контракты. Я установила языки для эллинов и варваров. Благодаря мне различают по природе прекрасное и постыдное. Благодаря мне нет ничего страшнее клятвы. Несправедливо строящего козни я отдала во власть обижаемым. Я налагаю кару на поступающих несправедливо. Я законоположила милосердие к просителям. Я защищаю справедливо обороняющегося. У меня справедливость торжествует. Я владычица рек, ветров, моря. Никто не прославляется без моего решения. Я распоряжаюсь молнией. Я распоряжаюсь войной. Я укрощаю и вздымаю волны моря. Я нахожусь в лучах солнца при его движении. Все, что я решу, свершится. Мне все подобает. Я освобождаю узников. Я владычица мореплавания. Я делаю судоходное несудоходным, когда мне угодно. Я создала ограды городов. Я та, которую называют законодательницей. Я вывела острова на свет из бездны. Я распоряжаюсь дождем. Я побеждаю судьбу. Судьба послушна мне. Радуйся, Египет, взрастивший меня»[78].
Вот какую карьеру сделала в представлениях современников эта некогда скромная богиня плодородия, материнства, мореходства… Сосредоточение в ее руках функций владычицы космических явлений, божества культурных достижений человечества, творца его этических установлений, его законов не только возвышало ее над другими небожителями, но фактически делало верховным божеством.
Исида-Тиха. Берлин. Египетский музей.
Эта тенденция к совмещению функций отдельных божеств в одном развивалась, по-видимому, независимо от иудейского монотеизма. Плутарх следующим образом выражает такие представления: «Не существует разных богов у народов северных и южных, не существует богов варваров и богов греков. Но как солнце, луна, небо, земля и море — они едины для всех людей. Несмотря на множество разнообразных имен, которыми их называют, также есть только единый разум, который царствует над всем миром, есть единое провидение, управляющее миром. Повсюду действуют одни и те же силы, а изменяются лишь имена и обряды культов, и те символы, которые возносят душу к (божеству, бывают иногда ясны, иногда темны»[79].
* * *
Известный этнолог Дж. Фрэзер писал, что, когда знаменитый Ганнибал, полтора десятилетия державший в трепете Рим, покидал Италию, он не мог предвидеть, что Европа, победоносно отразившая опасность, шедшую с Востока, — нападение Ганнибала — не окажет сопротивления и сравнительно легко покорится восточным богам[80]. Действительно, как раз с конца второй Пунической войны в Рим начинают интенсивно проникать восточные культы. Одним из первых был культ великой фригийской богини, матери богов Кибелы, воплощенной в маленьком черном камне, который в 204 г. до н. э. был торжественно ввезен в Рим. Культ Кибелы — оргиастический культ. Яркие театрализованные празднества, странные наряды жрецов, нанесение себе ран и самооскопление в честь богини, общее состояние экстаза, во время которого приверженцы ощущали себя приобщившимися к божеству, — все это производило большое впечатление на суеверную экзальтированную толпу. Известный римский поэт и философ Лукреций так описывал празднества в честь этой богини:
Бубны тугие гудят в их руках и пустые кимвалы, Хриплые звуки рогов оглашают окрестности грозно, Ритмом фригийским сердца возбуждает долбленная флейта; Свита предносит ножи — необузданной ярости знаки, Дабы сердца и умы толпы нечестивой повергнуть В ужас священный и страх перед мощною волей богини[81].С Кибелой связан культ Аттиса, ее умершего и воскресшего возлюбленного. Вскоре он сделался одним из важнейших государственных римских культов.
К I в. до н. э. в Риме распространяется почитание Исиды. Оно также носило оргиастический характер. Апулей оставил красочное описание празднеств Исиды, благодаря которой наступает чередование времен, «пред которой ответственны звезды… и радуются небожители»[82].
Посвящение в ее культ было окружено великой тайной. Испытуемый предварительно подвергался различным искусам и затем вводился в святая святых, где приобщался к божеству. В своем воображении он достигал пределов смерти, переступал порог подземного царства, встречался в полночь при сияющем солнце с подземными и небесными богами и, пройдя все стихии, снова возвращался к жизни. Эти посвящения, сопровождавшиеся состоянием экстаза, имели в глазах приверженцев Исиды большую привлекательность. Даже несколько столетий спустя, когда христианство из религии преследуемой становится религией преследующей, ему нелегко далось искоренение культа Исиды.
Кибела на колеснице, запряженной львами. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.
С Исидой связан культ ее брата и мужа, умершего и воскресшего Осириса, дававшего его приверженцам надежду на справедливый загробный суд и воскресение.
Осирис в египетской мифологии предстает как благое божество, символ светлого начала, гибнущего в борьбе со злыми силами, но воскресающего вновь. В представлениях египтян Осирис — божество умирающей и воскресающей природы, и эти его черты делали его популярным далеко за пределами своей страны.
Образ Осириса переплетался и часто сливался с образом другого египетского божества, Сераписа. Серапис до известной степени искусственное образование. Его культ учредил из политических соображений Птолемей Сотер. Однако, несмотря на такое происхождение, это новое божество прижилось не только в Египте, но переселилось и в другие районы Римского государства.
Имя Сераписа составилось, по-видимому, из слияния двух имен — Осириса и Аписа. Что касается его функций, то они также сложились из слияния функций целого ряда египетских и греческих божеств. Серапис вобрал в себя функции Осириса как божества умирающей и воскресающей природы, Аида (Плутона) — как владыки подземного царства, Асклепия — как бога врачевания, Аполлона — как бога солнца. Это было типичное синкретическое божество, и сама Исида, сестра и жена Осириса, в представлениях современников часто становилась супругой и соправительницей этого нового бога. Серапису посвящались большие храмы-серапеумы. Среди них наибольшей известностью пользовался серапеум Александрии, при котором находилась знаменитая Александрийская библиотека.
Серапис. Слепок с эллинистической скульптуры.
С культом персидского Митры римляне познакомились в I в. до н. э. Этот культ проник в Римскую империю в первую очередь вместе с солдатами, набиравшимися в восточных районах, где пользовался успехом митраизм. Известную роль в его распространении играли купцы, а отчасти захваченные в этих районах рабы. В самом Риме культ Митры появился позже. Здесь он выступает как «бог Солнца непобедимый Митра». Однако в сознание современников он вошел как одетый в персидские одежды юноша, настигнувший и убивающий огромного быка. Центральное место в митраизме занимает борьба двух начал: добра и зла, правды и кривды, света и тьмы. Митра — солнечное начало. Он поборник правды, а его приверженцы, «воины Митры», тоже борцы с демонами зла. Культ Митры полон таинственности. Он выступает в обрамлении символики магических обрядов, астрологических прорицаний. Каждый посвящаемый должен пройти через семь этапов посвящения. Лишь достигшие определенной ступени могли участвовать в тайных мистериях, в которых священная трапеза играла важную роль. Трижды в день совершались богослужения. В пещерах или катакомбах в ореоле таинственности приносились кровавые жертвы. Вся обрядность порождала у митраистов мистическое восприятие окружающего, а идея борьбы приверженцев митраизма со злом давала чувство удовлетворения тем низам общества, которые примыкали к этой религии. Эти обстоятельства, по-видимому, способствовали распространению митраизма и превращению его в грозного соперника христианства.
Не останавливаясь на некоторых других восточных культах, не оставивших заметного следа в истории религиозных исканий эпохи, нужно отметить лишь значительное распространение иудаизма. Во многих городах империи имелись многолюдные еврейские общины, исповедовавшие монотеистический культ своего всевышнего бога.
Однако этот бог евреев диаспоры существенно отличался от Ягве самой Иудеи. Иные условия жизни, более тесное знакомство и общение с другими народами греко-римского мира, влияние религиозно-философских и этических воззрений этих народов — все это, разумеется, не могло не сказаться на представлениях самих евреев «стран рассеяния». И если в отношении обрядности, где тоже произошли известные изменения, диаспора все-таки удержала целый ряд старых установлений неколебимыми (табу на некоторые виды пищи, представления о ритуальной чистоте, обряд обрезания), то во взглядах на верховного бога иудеев произошли серьезные сдвиги. В представлениях современников, живущих вне Иудеи, это уже не узко национальный бог Ягве, местожительствующий на своей библейской родине и пекущийся только об «избранном» им народе. Вынужденный навещать религиозные общины всего ареала рассеяния — и Антиохии, и Дамаска, и Рима, и Пантикапея, он, естественно, приобретает космополитический характер и становится богом вселенной.
Другим существенным фактором в этом превращении явилось развитие прозелитизма — приобщения к иудейской религии людей других народностей. Есть основания считать, что прозелитизм получил значительное распространение в греко-римском мире[83]. Это, конечно, не могло не отразиться и на облике самого исповедуемого бога. Новые социальные и политические условия и идейные движения эпохи понуждают его «смотреть» на вещи шире своего двойника из Иерусалимского храма. Так, в Иерусалиме ждут близкого по времени земного мессию, потомка царского дома Давида, который будет помазан в земные цари и будет править Иудеей. В диаспоре этот образ абстрагируется. Предметом опеки мессии становится весь мир; целью его прихода — спасение человечества.
В этой связи уместно вспомнить, что в греческом переводе Библии, Септуагинте, само осуществление которого до известной степени ломало узконациональный характер этого памятника и обращало его к греко-римскому миру, ветхозаветный бог Ягве утрачивает свое имя. Вместо него в греческий текст введено слово кюриас (κύριος) — повелитель, владыка, господь, что, может быть, еще с одной стороны иллюстрирует общую тенденцию к абстрагированию и «интернационализации» образа иудейского бога за пределами самой Иудеи. И когда Филон Александрийский, один из наиболее известных еврейских философов диаспоры, в своем аллегорическом толковании Библии налагает на старые представления о Ягве античные идеи о беспредельном и абстрактном Логосе, то он в общем не выходит за пределы очерченной выше тенденции.
Таким образом, монотеизм диаспоры становится более всеобъемлющим, более «наднациональным» и гибким, чем ограниченный территориальными, этническими и консервативно-религиозными препонами монотеизм собственно Иудеи. И это не могло не обусловить его роль в выработке христианских представлений.
Таковы некоторые черты религиозных движений в Римской империи в эпоху формирования христианства, и «безбожный» Лукиан метко запечатлел их в своих многочисленных сатирах. Наплыв чужеземных богов, совмещение функций, тенденцию к универсализму он изобразил применительно к греческому Олимпу в своем «Собрании богов». Старые боги, повествуется там, — Зевс, Посейдон, Аполлон обеспокоились тем, что на Олимп проникло множество чужеземцев, так заполонивших небо, что собрание богов стало походить на беспорядочное разноязычное сборище, и не стало даже хватать амброзии и нектара. В связи со всем этим исконные олимпийцы постановили учинить чистку. Пришлые боги должны прийти на суд, представить свидетелей и доказательства своего высокого происхождения. Тот, кто этого сделать не может, будет низвержен, и судьи не посчитаются с тем, что у него на земле много храмов и люди признают его за бога. «И каждый, — намекая на стародавние времена, возглашает сатирик, — пусть делает только свое дело. Афина не должна исцелять, Асклепий — пророчествовать. Аполлон пусть не исполняет сразу столько дел, но, выбран что-нибудь одно, да будет либо пророком, либо музыкантом, либо врачом»[84].
В конце этой вереницы божеств, продефилировавших на этих страницах, должен быть помещен еще один бог. Он возник на развалинах республики и вошел в Рим вместе с победоносными императорскими легионами. Это был сам император, вознесенный Фортуной высоко над другими людьми и уже этим самым завоевавший право примкнуть к сонму небожителей.
В 27 г. до н. э. император Октавиан получил от римского сената титул Августа — священного. Около этого времени его культ был учрежден в некоторых восточных провинциях. Ему воздвигаются храмы, его имени придаются эпитеты: благодетель, избавитель, спаситель.
Последним эпитетом император вводился в круг сотерических (т. е. спасительных) божеств, к которым в общем следует отнести и Иисуса Христа. В магической раннехристианской формуле, образованной из первых букв греческого слова «ихтюс», к Христу прилагается тот же термин «сотер» — спаситель.
«Пришествие» Августа изображалось льстивыми придворными как исполнение воли провидения[85]. Вокруг его биографии начинают складываться благочестивые легенды. Светоний собрал целый ряд таких рассказов о «счастливых и великих» знамениях, связанных с рождением и младенчеством Августа. Тут и вещие сны, в которых Юпитер отличает его от других отроков и вручает печать республики, и необычное зачатие. Совсем как евангельская Мария, мать Августа Атия родила его от бога Аполлона, который под видом дракона сочетался с ней, когда она в полночь заснула в его храме[86]. Таким образом, император оказался прямым потомком Аполлона, и это, разумеется, освящало его земную власть и давало право на божеские почести.
Так устанавливается культ императора, возникают особые жреческие коллегии, перед его изображениями приносятся жертвы, и новый культ входит как равный в состав других культов империи. Искусственное, часто насильственное насаждение императорского культа является характерным штрихом для тех исканий, которые в первые века империи велись и снизу и сверху.
Император Август — верховный жрец. Рим. Национальный музей.
* * *
Мы уже упоминали о скептицизме, овладевшем образованными слоями римского общества на рубеже между республикой и империей. Он не исчезает и в дальнейшем; сатиры Лукиана, который, по выражению Энгельса, одинаково смеялся и над язычеством и над христианством, имели широкий круг читателей. Взгляды эпикурейцев на загробную жизнь, их суждения о невмешательстве богов в дела людей пользовались распространением, и бытовая зарисовка Лукиана, где приверженцы лжепророка Александра прежде чем начать мистерии символически изгоняют эпикурейцев, достаточно выразительно свидетельствует об известности последних.
Идеи скептицизма в известной степени коснулись и «маленьких людей». В ряде эпитафий они выражают сомнения в загробной жизни, в воздаянии, в значении благочестия для получения потустороннего блаженства. Иногда такие взгляды вызывают у авторов эпитафий глубокий пессимизм, иногда в них явственно ощущается влияние эпикуреизма.
Красильщик Амарант и привратник Филолог, бывшие в разное время мужьями покойной Гилары, просят ее помнить о них, если только те, подчеркивает автор надгробия, кто под землей, способны что-либо чувствовать. Вольноотпущенник Гермен в эпитафии на могиле жены пишет: «Прошу вас, маны, если вы существуете (разрядка моя. — М. К.), чтобы Требеллии было хорошо»[87]. Некий отпущенник, чьим уделом в течение всей жизни был обременительный труд, пишет в эпитафии, что хотя могила — отдых, однако он не знает, что он теперь, и не знает, чем будет. «Небольшое утешение, — констатирует эпитафия, — остается нам за наши дела»[88].
В некоторых надписях неверие в загробное существование завершается советом пользоваться всеми благами, пока человек жив. В других содержатся глубокие раздумья над проблемой жизни и смерти. «Некогда нас не было, — пишется в одной эпитафии, — мы родились, теперь мы пребываем в покое такими, какими были, оставь же заботы». «Меня не было, меня нет, и это меня не касается»[89],— перелагает эпитафия некоей Примитивы, жены раба-управителя, известное изречение Эпикура: «…смерть не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем»[90].
В век, когда Фортуна, вознесшая из безвестности одних и на глазах у всех губившая других, является как будто предметом всеобщего почитания, в баснях и поговорках эпохи встречаются и иные мотивы. «Никогда Фортуна не бывает сильнее разума», — говорится в одной басне; боги не прислушиваются к обетам и просьбам лентяев, они помогают тем, кто сам помогает себе, утверждает другая[91].
Однако не эти тенденции господствуют. Социальное неустройство и политические потрясения, перед лицом которых жизнь, благополучие отдельного человека и целых общественных групп оказывались зыбкими и непрочными, толкали массы на религиозные поиски, заставляли их обращаться к фикциям религиозных таинств и суеверий. Этому способствовало и то, что с захирением демократических учреждений в эпоху империи и общим затуханием общественной жизни естественным средством ее сосредоточения становились различные религиозные общества. Духовная энергия людей искала выход в области суеверий, которые не только удерживались от прошлых времен, но и осложнялись новыми. Предзнаменования, гадания, оракулы как исконно римские, так и экспортированные с Востока, прорицания экзальтированных пророков Исиды, Кибелы, Митры, составление гороскопов, ворожба и заклинания, поиски магических формул — вот характерный фон римской жизни начала империи.
Посвятительная стела Зевсу Высочайшему, Гремящему. Константинопольский музей.
Сочинения современников полны сообщений такого рода.
Всюду по всякому поводу происходят «чудесные» явления.
Появление кометы при Нероне означало, по мнению Тацита, новые казни. Сильные молнии — близкие бедствия. Император Август, державший в узде огромную империю, остерегался отправляться в путь на другой день после ундин или начинать серьезное дело в ноны — седьмой или пятый день месяца. Он был уверен, что если утром ему случайно одевали башмак не на ту ногу, это предвещало нечто недоброе.
Вера в чудеса была настолько распространена, что трезвый и скептический император Веспасиан сам, по словам Тацита, выступил в роли чудотворца, «вернув» зрение слепцу посредством своей царственной слюны и вдохнув силу в безжизненную руку калеки[92],— чудеса, подобные евангельским деяниям Христа. А некий еврей Элеазар на глазах у множества людей повторил другое чудо евангельского Христа и даже превысил его: он изгнал бесов не из двух бесноватых, а из всех, кто только был одержим бесами. Это случилось услышать историку Иосифу Флавию[93].
Чрезвычайно впечатляющие зарисовки состояния умов своих современников в Вифинии, Галатии, Фракии, Греции и самом Риме оставил нам Лукиан. Он был приверженцем Эпикура и потому одинаково скептически относился и к греко-римским религиозным верованиям, и к завоевывающему в его время позиции христианству. Этот, по выражению Энгельса, Вольтер классической древности побуждал своих современников смеясь расставаться с верованиями прошлого и столь же иронически принимать религиозные представления настоящего.
Перед глазами читателя проходит плеяда экзальтированных «пророков» и ловких обманщиков. Один из них, лжепророк Александр, сообразив, что «человеческая жизнь находится во власти двух величайших владык — надежды и страха», начинает эксплуатировать простаков, мечущихся между этими двумя началами. Он выдает себя за сына бога-целителя Асклепия. Несколько ловко поставленных театрализованных фокусов со змеями производят громадное впечатление на доверчивых и невежественных сограждан. «Иногда, — пишет Лукиан, — он изображал из себя одержимого, и из его рта выступала пена, чего он легко достигал, пожевав корень красильного растения струтия… На рассвете Александр выбежал на площадь обнаженным, прикрыв свою наготу лишь золотым поясом, держа в руках кривой нож и потрясая развевающимися волосами… Он взобрался на какой-то высокий алтарь и стал произносить речь, поздравляя город со скорым приходом нового бога. Присутствующие— а сбежался почти весь город, с женщинами, старцами и детьми — были поражены, молились и падали ниц. Александр произносил какие-то непонятные слова, вроде еврейских или финикийских, причем привел всех в изумление, так как они ничего не понимали в его речи, кроме имени Аполлона и Асклепия, которых он все время упоминал»[94].
Поклонение змею Асклепия. Берлинский музей.
Так город, переполненный, по выражению автора, «людьми, лишенными мозгов и рассудка», уверовал, будто в нем поселился бог, и каждый жарко молился, прося у него богатств, изобилия, здоровья и прочих благ. Вскоре здесь был воздвигнут храм, возник оракул и далеко распространился слух о творящихся в храме чудесах: бог Асклепий через своего новоявленного пророка указывал местонахождение беглых рабов, помогал находить грабителей, искать клады и ее только исцелял больных, но даже воскресил несколько умерших. Чем не евангельское чудо!
Религиозный угар, опьянение, особую склонность к необычным, «чудесным» ситуациям, к мистике и беспредельное легковерие экзальтированной толпы запечатлел Лукиан и в другом рассказе, где главным действующим лицом оказывается уже не «языческий» пророк, а христианский чудотворец.
Здесь действует историческое лицо, бродячий философ Перегрин, личность, довольно типическая для времени формирования христианства. Приверженность к экзальтации, к необыкновенному, одержимость заставляют его несколько раз менять свои религиозные привязанности. При этом он выступает не как один из паствы, а как пастырь и у христиан и у язычников. Лукиан дает его внешний облик: закутанный в плащ, с ниспадающими длинными волосами, с сумой через плечо и суковатой палкой в руках он являл вид трагический для суеверной толпы, на иждивении которой он находится во время своих скитаний. Вероятно, Лукиан сгущает краски, наделяя Перегрина множеством личных пороков, но в целом обстановка передана верно. Перегрин завоевывает популярность обличением и поношением местных «властей предержащих» и даже самого императора, благо тот, добавляет автор, имея в виду Антонина Пия или Марка Аврелия, «очень кротон и не обидчив». Когда, наконец, раздраженные власти изгоняют его из города или сажают в тюрьму, это служит только к возвеличению его славы. «За свое безумие, — говорит Лукиан, — он пользовался уважением со стороны необразованных людей… у всех на устах было имя философа, изгнанного за свободоречие и беззаветную правдивость»[95].
Примкнув к христианам, Перегрин вскоре сделался у них видным деятелем — пророком, главой общины, руководителем собраний. Он не только истолковывал ходившие у христиан «священные книги», но и сам, как утверждает Лукиан, сочинял некоторые из них.
Когда христиане за какой-то проступок перестали допускать его в свое общество, он отправился в Египет, где, иронически замечает автор, «стал заниматься удивительными упражнениями в добродетели: обрил половину головы, мазал лицо грязью… кроме того, проделывал еще множество других, еще более нелепых вещей»[96].
Последний аккорд этой колоритной биографии — театрализованное самосожжение Перегрина, хорошо передает дух эпохи. Падкая до чудес толпа верит абсолютно всему, и росказни, присочиненные в насмешку над легковерием самим Лукианом, совершив круг, возвращаются к нему уже в качестве непреложных истин.
«…Я рассказывал, — сообщает Лукиан, — а они ставили вопросы и старались обо всем точно узнать. Когда мне попадался человек толковый, я излагал рассказ о событии, как и тебе теперь (т. е. правдиво. — М. К.); передавая же людям простоватым и слушающим развеся уши, я присочинял кое-что от себя; я сообщил, что. когда загорелся костер и туда бросился Протей, сначала возникло сильное землетрясение, сопровождаемое подземным гулом, затем из середины пламени взвился коршун и, поднявшись в поднебесье, громким человеческим голосом произнес слова: „Покидаю юдоль, возношусь на Олимп!“ Слушатели мои изумлялись и в страхе молились Перегрину и спрашивали меня, на восток или на запад полетел коршун. Я отвечал им, что мне попадало на ум.
Вернувшись в собрание, я подошел к одному седому человеку, который вполне внушал к себе доверие своей почтенной бородой и осанкой. Он рассказывал все, что с Протеем приключилось, и добавил, что он после сожжения видел его в белом одеянии и только что оставил его радостно расхаживающим в „Семигласном портике“, в венке из священной маслины на голове. Затем ко всему сказанному он прибавил еще и коршуна, клятвенно уверяя, что он сам видел, как тот вылетел из костра, хотя я сам только несколько времени тому назад пустил летать эту птицу в насмешку над людьми глупыми и простодушными»[97].
В картине, нарисованной Лукианом, хорошо чувствуется обстановка, в которой возникали евангельские сказания о смерти и воскресении Иисуса Христа и о сопровождавших их чудесах и знамениях. «Это было время, — писал Энгельс, — когда даже в Риме и Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии и Египте абсолютно некритическая смесь грубейших суеверий самых различных народов безоговорочно принималась на веру и дополнялась благочестивым обманом и прямым шарлатанством; время, когда первостепенную роль играли чудеса, экстазы, видения, заклинания духов, прорицания будущего, алхимия, каббала и прочая мистическая колдовская чепуха. Такова была атмосфера, в которой возникло первоначальное христианство»[98].
Глава шестая. Проблема «Христа» до Христа
Проблема «Христа» до Христа — это, в общем, проблема земных корней христианства, происхождения его образов, сказаний, обрядности. Для догматического богословия сама постановка такого вопроса еретична. Христианство для него — результат божественного откровения, «божьего глагола». Оно беспрецедентно и уникально. Оно «выработано» на небесах. Люди получили его в готовом виде, через воплотившегося в Иисусе бога. Причем это относится не только к вероучению, но и к организации. Церковь — тело Христово. Это своего рода материальное выражение духоносного учения. И оно, разумеется, не творение людей.
Следует, однако, заметить, что эти положения вызывали сомнения даже на заре истории христианства. Уже тогда было обращено внимание на многие совпадения обрядности, ритуалов и некоторых идей этой новой религии с дохристианскими. В этом отношении наиболее яркие примеры дает митраизм; его сходство со многими элементами христианства просто поразительно. Так, в мифах о Митре говорится, что он — сын верховного бога неба, что он родился в пещере, что узнавшие об этом пастухи пришли приветствовать его и принесли дары. Когда он вырос, он совершил различные чудеса, спасшие мир. Впоследствии Митра, собрав своих учеников на последнюю вечерю, вкушал с ними хлеб и вино. Затем, вознесшись на небо к своему отцу, сделался посредником между богом и людьми.
В обрядах митр аистов много таких черт, которые позднее встречаются в христианстве. Это относится и к облачению жрецов (стихарь, риза, митра на голове) и к обстановке богослужения (свечи, лампады, каждение). Поклонники Митры по ходу богослужения опускались на колени, осеняли себя крестным знамением, пели священные гимны. Каждый седьмой день они праздновали «день Солнца», который в христианстве превратился в воскресенье («день господнего воскресения»), а рождество «непобедимого солнца Митры» они справляли 25 декабря — как раз в тот день, который христиане впоследствии набрали для своего «рождества Христова».
Некоторые из перечисленных здесь элементов сходства были замечены уже в первые века христианства. Их оказались вынужденными признать и сами апологеты. Пытаясь объяснить такое загадочное, с точки зрения церкви, обстоятельство, они приписали все это проделкам дьявола, который, стремясь внести путаницу и отвратить людей от истинного, христианского учения, заранее сотворил похожую на него, но ложную религию — митраизм. «Если бы кому угодно было спросить, — писал крупнейший христианский апологет рубежа II–III вв. н. э. Тертуллиан, — кто возбуждает и внушает ереси, я бы ответил: дьявол, который ставит своим долгом извращать истину и всячески старается в мистериях ложных богов подражать святым обрядам христианской религии. Он также погружает своих приверженцев в воду и обещает через крещение искупление грехов. Он ставит знак на челе воинов Митры, когда они посвящаются, приносит в жертву хлеб, представляет вид воскресения, предлагает одновременно венец и меч, запрещает жрецам жениться второй раз, имеет своих девственниц»[99].
Таким образом, проблема «Христа» до Христа — это проблема исторических предпосылок христианства, его места во всеобщей истории религии. Такая постановка вопроса в корне противоположна богословским и клерикальным взглядам. «Парадокс воплощения», божественное откровение, тезис об абсолютной исключительности Христа как личности и как носителя нового в целом и в своих элементах учения— все это, будучи сопоставлено с фактами дохристианских религиозных движений, оказывается совершенно несостоятельным.
* * *
Великий ритм природы, одним из проявлений которого является смена времен года, увядание и возрождение растительности, смерть живого организма и его воспроизведение в потомстве — все это получило разнообразное религиозное осмысление у древних. Наиболее распространено было олицетворение этих явлений в антропоморфных божествах, наделявшихся фантастической способностью воскресения после смерти. Древние полапали, что смерть и возрождение природы вызваны свойствами богов, ведавших этими разделами бытия. Древнее общество (за редкими исключениями) считало богов первичными, и не могло прийти к иному пониманию. Оно не могло с таких идеалистических позиций заключить, что первичны естественные явления и свойства природы и что как раз они-то и породили представления об умирающих и воскресающих богах.
Самое происхождение таких представлений мифологически объясняется в одном из наиболее древних и ярких сказаний — вавилонском цикле об Иштар и ее возлюбленном Таммузе. Когда Таммуз был похищен богиней подземного царства Эрешкигаль, богиня земного плодородия и любви Иштар отправляется следом за ним, чтобы освободить его: «В страну без возврата… направилась Иштар, дочь Сина… К дому мрака… К дому, входящие в который не выходят, на стезю, не выводящую назад, к дому, вступающий в который изъят от света, к месту, где пищей служит прах, едой — земля, где не видят света и живут во мраке…»[100]. Однако ворота преисподней заперты. И богиня произносит угрожающую речь: «Привратник, открой твою дверь. Открой твою дверь, чтобы войти мне. Если ты не откроешь дверей и я не буду в состоянии войти, я разобью дверь, сломаю засов, сокрушу вереи, оторву створки, выведу покойников…» В конце концов Эрешкигаль отдает приказание привратнику впустить ее, и два божества, два противоположных начала, жизнь и смерть яростно сталкиваются. На первых порах (победа остается за Эрешкигаль. Она запирает Иштар в своем подземном дворце и насылает на нее шестьдесят болезней: «болезнь глаз — на глаза ее, болезнь сердца — на сердце ее, болезнь ребер — на ребра ее…». Однако это приводит к необычайному потрясению всех основ жизни. С исчезновением богини плодородия и любви эти свойства утрачивает и живая природа: исчезают брачные порывы, прекращаются рождение и рост. Тогда верховные боги убеждают Эрешкигаль выпустить Иштар, а вместе с нею и окропленного живой водой, воскрешенного бога Таммуза. Их возвращение восстанавливает нормальный ход вещей. Этой этиологической легендой древние вавилоняне пытались объяснить таинственный ритм увядания и возрождения живой природы.
Культ умершего и воскресающего бога Таммуза, первоначально распространенный в Двуречье и оттуда под видоизмененными названиями двигавшийся на запад, содержит ряд примечательных для нашей темы черт: летом, в месяц, носивший имя самого бога, происходил обряд оплакивания Таммуза. В течение месяца в его честь возносились воскурения и исполнялись траурные гимны. В них выражалась скорбь по поводу его смерти, рассказывалось о переживаниях Иштар, олицетворенных в стенаниях плакальщиц. «Когда он исчезает, — говорится в одном гимне в честь Таммуза, — она начинает стенать: „О мое дитя!“ Когда он исчезает, она начинает стенать: „О мой Даму!“ Плачут семьи, оставшейся без главы, подобно ее стенание. Плачу города, оставшегося без владыки, подобно ее стенание. Она плачет о траве без корней, она плачет о хлебе без колосьев… Она оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы; она оплакивает пруд, из которого убежали рыбы; она оплакивает лужайку леса, оставшуюся без побегов…»[101]. В гимне хорошо отражена связь представлений о смерти Таммуза с тем увяданием растительности, которое в Вавилонии под влиянием палящего зноя происходило- как раз в это время года.
Культ этого умирающего и воскресающего бога справлялся и в Иерусалиме. И ветхозаветный пророк Иезекииль порицает еврейских женщин, отправлявших этот идолопоклоннический культ у самих ворот иерусалимского храма[102].
Воскресение Таммуза в Вавилоне приходилось на март — время расцвета растительного мира. Это был, по-видимому, праздник ликования, которое вместе со всей живой, цветущей природой ощущал и человек. К сожалению, мы не располагаем более подробными сведениями об этом празднике воскресения; он слился здесь с другим праздником, посвященным богу Мардуку.
Как остроумно заметил известный английский этнолог Дж. Фрэзер, образ вавилонского Таммуза гораздо яснее отражается «в зеркале греческой мифологии» в виде божественного юноши Адониса. Адонис — это эллинизированный Таммуз, прошедший через горнило финикийского мифотворчества. Само его имя образовалось из семитического эпитета, придававшегося Таммузу. Адон — означает «господин». В греческом варианте Адонис рожден мирровым деревом. Богиня плодородия Афродита спрятала его при рождении в ларец и временно укрыла у владычицы подземного царства Персефоны. Однако последняя отказалась вернуть его. Спор этот, перенесенный на суд Зевса, был решен таким образом, что на треть года молодой бог должен был отправляться в подземное царство (т. е. умереть) с тем, чтобы потом воскреснуть. Существует также сказание, согласно которому Адонис был ранен на охоте диким вепрем и мученически умер, а безутешная Афродита отправилась в загробный мир, чтобы вернуть его к жизни.
У Лукиана сохранился интересный рассказ о культе Адониса в Библе и об оргиях, устраивавшихся там в его честь. «Говорят, — пишет Лукиан, — что оргии эти установлены в честь Адониса, раненного в этой стране вепрем. В память о его страданиях местные жители ежегодно подвергают себя истязаниям, оплакивают Адониса и справляют оргии, а по всей стране распространяется великая печаль. Затем, когда прекращаются удары и утихают плачи, приносят жертву Адонису как умершему, и на следующий день рассказывают, что он жив и удалился на небо; в то же время они бреют себе головы… Если же какая-нибудь женщина не хочет остричь свои волосы, ее подвергают следующему наказанию: в течение одного дня она должна стоять на площади и продаваться; доступ на площадь открыт тогда только иностранцам, а плата, получаемая от них женщиной, приносится в дар Афродите…
В стране Библа есть еще и другое чудо — это река, текущая с Ливанских гор в море. Имя ее — Адонис. Каждый год она меняет свой цвет, делаясь кровавой. Впадая в море, она окрашивает его на далекое пространство и тем указывает библосцам время великой печали.
Рассказывают, что в эти дни на Ливане уязвляется Адонис, и его кровь, стекая в реку, меняет ее цвет. Отсюда река и получила свое имя. Так думает большинство. Мне же один библосец указал на другую, по его мнению истинную причину этого явления. „Чужестранец, — сказал он, — река Адонис протекает по Ливану, почва которого имеет красноватый оттенок. Свирепые ветры, поднимающиеся в эти самые дни, несут эту землю с большой примесью сурика в реку. Таким образом, земля эта, а вовсе не кровь Адониса, на которую указывают, придает реке кровавый цвет“»[103]. Скептический Лукиан приводит естественную причину изменения цвета реки. Однако большинство его финикийских современников расценивало это чудесное явление как подлинное свидетельство ежегодной мученической смерти Адониса в горах Ливана. Женщины-плакальщицы в траурном шествии искали его, стенаниями и криками выражая свою скорбь. На улицах выставлялись плакальщицы Адониса с деревянными статуями бога. Затем по прошествии, видимо, семи дней бог в сознании своих поклонников воскресал. Кроме приведенного выше свидетельства Лукиана это же отмечает и христианский писатель IV в. Иероним.
На основе большого сравнительно-исторического материала Фрэзер пришел к выводу, что в мистериях Адониса бога мог олицетворять живой человек, которого, возможно, даже насильственно умерщвляли как Адониса.
Празднества в честь Адониса справлялись в разных местах этого района Средиземноморья в различное время, но везде весной или летом. В Сирии это происходило весной, когда там цветет анемона, окрасившаяся, по поверью, от крови бога. У исследователей не вызывает сомнения связь культа Адониса с растительностью и земледелием.
Адонис — бог зерна, бог хлеба. Его насильственное умерщвление совершалось не только вепрем в горах Ливана, но и жнецами, срезающими колосья. «Оплакивание Адониса, — писал Дж. Фрэзер, — являлось по существу обрядом жатвы, предназначенным умилостивить бога хлеба, который во время жатвы погибал либо под серпами и косами жнецов, либо под копытами волов на току. В то время как мужчины убивали бога хлеба, женщины проливали по нем крокодиловы слезы и выражали величайшую скорбь и горесть для того, чтобы умиротворить совершенно резонно негодующего бога хлеба»[104].
Этот характер культа Адониса подтверждается, и так называемыми «садиками Адониса» — наполненными землей горшками, в которые высевались зерна ячменя и других злаков. Под действием солнца и влаги зерна быстро прорастали, олицетворяя таким образом смерть и возрождение самого бога и магически «способствуя» хорошему урожаю. Примечательно, что название места культа Адониса в Палестине — Вифлеем, Бет-Лехем — переводится как «дом хлеба», это хорошо передает сущность самого культа. Показательно, что родиной Иисуса Христа Новый завет называет все тот же Вифлеем. И когда автор евангелия вкладывает в уста Иисуса аллегорическую фразу «Я есмь хлеб жизни», он пользуется оборотом, который и по содержанию и по заключенному в нем образу был бы вполне уместен и в устах чудесно рожденного от дерева мирры Адониса.
В этом отношении большой интерес представляет сравнительный материал, собранный Фрэзером в начале нашего века. Так, в Сардинии за некоторое время до Иванова дня (он приходится на период летнего солнцестояния) высевается с соблюдением определенных церемоний горсть ячменя или других злаков в специально сделанный сосуд из коры. Посев делается с таким расчетом, чтобы зерна проросли к празднику. В этом обычае, который приходится примерно на то же время, что и высевание «садиков Адониса» в дохристианские времена, исследователи видят пережиточное сохранение старого культа в новом облике — «Святой Иван заместил Адониса».
В Сицилии на пасху аналогичные «садики Адониса» вместе с изображениями умершего Христа клались в день святой пятницы в маленькие гробики — обычай, оценивающийся Фрэзером как пережиток культа Адониса под другим именем. «Когда мы вспоминаем, — пишет он, — о той ловкости, о той настойчивости, с которой церковь сумела привить новую веру к античному стволу язычества, нам невольно приходит мысль, что пасхальная инсценировка смерти и воскресения Христа является подражанием инсценировки смерти и воскресения Адониса, которая, как мы можем думать, совершалась в это время в Сирии. Тот тип безутешной богини, несущей на руках своего возлюбленного, который создан греческими художниками, весьма похож на „пиета“ христианского искусства и, может быть, даже послужил ей образцом»[105].
Умирающий и воскресающий бог Аттис во Фригии был тем же, чем Адонис в Сирии. Это было божество растительности (по преимуществу дух дерева), в дальнейшем мифотворчестве приобретшее антропоморфные черты и соответствующую «биографию». Одной из ее примечательных особенностей является рассказ о непорочном зачатии. Мать Аттиса, девственница нимфа Нана забеременела от плода миндального дерева (или граната), который она положила себе на грудь. Родившийся таким образом Аттис вырос прекрасным юношей и стал возлюбленным фригийской матери богов Кибелы. В дальнейшем он мученически погиб, по одной версии — убитый вепрем, по другой — в результате самооскопления.
Культ Аттиса складывался из открытых оргиастических празднеств, включавших обрядовую инсценировку смерти и воскресения бога, и мистерий-таинств, к которым допускались лишь посвященные.
Открытые празднества начинались 22 марта. В этот день Аттис умирал. Его смерть олицетворяла срубленная сосна — ее наряжали в ткани и увенчивали цветами. Три дня мертвый бог находился в храме его возлюбленной Кибелы, и все это время производились разнообразные обряды оплакивания, причем кульминация приходилась на третий день — день крови, когда в оргиастическом трансе, под звуки флейт и барабанов жрецы наносили себе раны, а участники, опьяненные всеобщим психозом, тут же на улице оскопляли себя, повторяя «подвиг» самого бога. В конце концов изображение Аттиса или его статуя «погребались».
В ту же ночь инсценировалось возвращение бога из подземного царства. На месте погребения вспыхивал свет — символ воскресения. Заупокойные стенания сменялись радостными восклицаниями, а карнавальные шествия и веселые обряды следующих дней завершали собой пантомиму смерти и воскресения бога. Согласно одному древнему преданию, приводимому Фрэзером, распятие Христа относилось на 25 марта. Таким образом дата смерти Христа в этом предании как бы наслаивалась на дату смерти Аттиса.
О мистериях Аттиса мы знаем немного. Однако известно, что одним из их элементов было крещение кровью жертвенного быка. Посвящаемого опускали в яму, над которой на решетчатом помосте закалывался жертвенный бык. Омытый падающей сверху кровью, посвящаемый очищался от грехов и как бы возрождался заново. Значение этого обряда как нового рождения внешне выражалось в том, что исполнившего эту процедуру поили некоторое время, как новорожденного, молоком.
В мистериях Аттиса определенное место занимали ритуальные трапезы, когда вкушались хлеб и вино, освященные самой своеобразной сервировкой: тамбурин и кимвал — музыкальные инструменты оргиастических празднеств Аттиса здесь служили блюдом и бокалом. Считалось, что сакральная трапеза вводит участника в тесное общение с богом. Все эти черты уже в первые века христианства привели к сопоставлению культа Аттиса с культом Христа.
Египетский Осирис, брат и муж Исиды, согласно мифологии, дал своим подопечным законы, привил культурные навыки, обучил земледелию, виноградарству, виноделию, пивоварению и другим элементам цивилизации. На двадцать восьмом году жизни Осирис был предательски погублен своим братом Сетом. Неутешная Исида разыскала труп мужа. Обратившись в ястреба и летая над телом мертвого Осириса, она чудесно зачала. Затем в содружестве с другими египетскими богами и с помощью магических приемов и заклинаний — недаром древний мир признавал Египет классической страной колдовских наук — Исиде удалось вернуть мужа к жизни, и воскрешенный Осирис стал царем мертвых и судьей в загробном судилище.
Некоторые египетские обряды позволяют думать, что в одной из своих ипостасей Осирис выступает как божество хлеба. Полагают, что жатва у египтян начиналась с инсценировки скорби и стенаний над первым снопом нового урожая, сопровождавшихся призывами к Исиде. Этот обряд не выходит за круг обычных представлений земледельческих народов древности, считавших первый или последний сноп местопребыванием духа хлеба, в роли которого в данном случае выступает Осирис. Еще в большей мере это олицетворение его в хлебном злаке проявляется в изображении Осириса в фиванском святилище Исиды. Здесь из его мертвого тела пробиваются колосья ячменя, и жрец поливает прорастающее жнивье. Любопытная деталь: небольшой кувшин, из которого производится полив, завершается в верхней части крестом — давним дохристианским символом жизни; крестами же украшена и нижняя часть изображения. Таким образом, Осирис предстает здесь как умирающее и воскресающее божество растительности. Его связь с погребенным в землю зерном, возрождающимся в колосе, очевидна. Это дополнительно подтверждается неоднократно встречавшимися в погребениях своеобразными изображениями Осириса, сделанными из тростника, тканей и земли, в которую в свое время сеяли семена ячменя. Небезынтересно, что в некоторых случаях эти семена, по-видимому уже после погребения, проросли, будучи для современников неопровержимым залогом возвращения к жизни и самого бога.
Осирис как воскресающее божество изображен и на барельефах храма Осириса в городе Дендера (Верхний Египет, в 60 км от Фив). На одном из них виден мертвый Осирис, неподвижно лежащий на ложе подобно мумии. Затем мы видим его пробуждающимся от смертного сна. Он приподнимается и как бы оглядывается. Далее он уже представлен стоящим вместе со своей супругой Исидой. Осирис воскрес!
Прорастающий Осирис. Изображение в храме Исиды. Фивы.
Одной из примечательных черт культа Осириса является то, что современники усматривали в сказаниях о его возрождении залог своего собственного воскресения. «Если он (Осирис. — М. К.) жив, — говорится в одной заупокойной формуле, — то (имя рек) будет жив; если он не умрет, то и (имя рек) не умрет; если он не будет уничтожен, то и (имя рек) не будет уничтожен»[106].
Представления о прямой связи между судьбой Осириса и их собственной побуждали египтян выработать заупокойный ритуал, имитирующий таинства оживления бога. Плакальщицы воспроизводили заупокойный плач сестер Осириса. В специальном тексте с незыблемыми формулами, где каждый раз менялось лишь имя очередного умершего, последний отождествлялся с самим Осирисом. В представлениях современников он принимал божий образ, он получал удел с блаженными. Прославленные духи кланялись ему и целовали прах его ног. Перед ним отверзались врата неба и врата прохлады и сам солнечный бог Ра, беря его за руку, вел к двум святилищам неба и помещал на трон Осириса.
Все это должно быть дополнено еще идеей «страшного» загробного суда, перед которым, по представлениям египтян, неизбежно должен предстать каждый после своей смерти. В так называемой Книге мертвых — собрании различных магических формул, заклинаний и сведений о маршруте посмертного путешествия покойного большой интерес представляет 125-я глава, в которой описывается загробный суд Осириса. В зале «обоюдной правды» на престоле восседает Осирис. Вокруг — его свита: бог Тот, ведущий протокол судебного разбирательства, собакоголовый бог Анубис, разводящий умерших и взвешивающий их дела, «Пожиратель» — чудовище с головой гиппопотама и туловищем льва, расправляющийся с грешниками, и еще 42 бога, «которые живут, подстерегая злых и питаясь их кровью в день их отчета об образе жизни», т. е. в день страшного суда.
Суд Осириса. С древнеегипетского папируса.
Перед Осирисом — весы с двумя чашами. На одну из них кладется сердце умершего — олицетворение его добрых или злых дел. На другую — перо. Для того чтобы умерший был оправдан и получил удел с блаженными, необходимо, чтобы дела его были легче пера, т. е. чтобы он был безгрешен.
В ходе судебного разбирательства он произносит речь, содержащую ряд нравственных установлений (мы их встретим и в моральном кодексе христианства). «Вот я пришел к тебе, — говорит умерший, обращаясь к Осирису, — я принес к тебе правду; я возбраняю лжи доступ к тебе, я не творил неправды относительно людей; не знал я ничего недостойного, не творил зла; не делал того, что мерзость перед богами; не осуждал слугу перед его начальником, не делал больным, не заставлял плакать, не убивал, не возбуждал к убийству, не обращался ни с кем дурно, не уменьшал жертвенных хлебов, не отнимал заупокойных приношений; не прелюбодействовал, не был развратен в храме родного бога, не прибавлял на весы, не уменьшал веса… Не отнимал молока изо рта детей, не сгонял коз с пастбища; не ловил птиц богов, не ловил и рыб в их прудах; не удерживал я воды во время ее разлива, не преграждал я рукава воды во время его течения; не гасил я огня в его время; не преступал срока относительно жертв; не прогонял стад из имущества бога; не задерживал бога во время процессии. Я чист, я чист, я чист…»[107] И чтобы все же не открылось какое-либо прегрешение, он заклинает сердце «замкнуть свои уста» и не свидетельствовать против него во время взвешивания.
Таким образом, в культе Осириса содержатся некоторые идеи, встречаемые позднее в христианстве: смерть и воскресение, связь между воскресением бога и человека, посмертный суд, связь между земной греховностью и загробным воздаянием. Популярность культа Осириса и Исиды способствовала пропаганде этих идей в пределах Римской империи.
Выше уже говорилось о распространении культа Митры, имевшем сходство с некоторыми чертами христианства, что побудило ранних апологетов сослаться на подрывную деятельность дьявола. Действительно, в культе, идеологии и мифотворчестве митраизма немало таких этических и ритуальных установлений и сказаний, которые нетрудно заметить и в более позднем христианстве. Митра выступает как божественный посредник между верховным богом неба Ормуздом и человечеством. Исследователи склонны сопоставить его по значению и функциям с христианско-гностическим Логосом — «Словом», которое в христианских мифах о непорочном зачатии Марии превращается в Иисуса Христа. Митра — божественный воитель, и его последователи должны, подобно ему, вести активную борьбу со злом. Митраизм исповедует идею загробного суда и посмертного воздаяния, а сам Митра — верховный судья на этом судилище, которое происходит где-то между небом и землей, у моста, ведущего на небо. Там нелицеприятно взвешиваются на весах дела людей, и если злые дела перевешивают, душа умершего падает в бездонную пропасть.
Видное место занимает в митраизме идея конца мира, последней схватки сил добра с силами зла.
Жертвоприношение Митры. Рим. Ватикан.
В этом сражении Митра должен вторично явиться на землю как мессия и спаситель. Этой религии присуща и идея воскресения мертвых, причем, почти совсем как позднее у христиан, митраизм утверждает, что каждая душа возвратится в свое прежнее тело; в процессе воскресения все пройдут очищение огнем и только праведные выйдут целыми из этого испытания.
Мы уже отмечали некоторую общность митраистских обрядов и оказаний о рождении с аналогичными христианскими идеями и обрядами. Можно привести еще несколько примеров подобного рода. При посвящении в таинства Митры имела место ритуальная трапеза, в которой освященные хлеб и вино (или вода), по мнению некоторых исследователей, выражали идею причащения. Любопытно, что на хлебцы, там употреблявшиеся, наносился знак креста. Знак креста на лбу посвящаемого и крещение водой или кровью также были одним из элементов посвящения.
Оценивая совпадения такого рода как закономерные, частью неосознанные, частью же умышленные заимствования христианства у его «языческих» предтеч, Фрэзер рассматривал их как свидетельства того компромисса, «который церковь в час своего торжества вынуждена была заключить со своими побежденными, но еще опасными противниками. Непреклонный протестантизм первых проповедников с их пламенным отвержением язычества уступил место более гибкой политике, более удобной терпимости и широкой снисходительности предусмотрительных церковников, которые отлично понимали, что если христианство хочет покорить мир, то оно может добиться этого только смягчая слишком строгие и суровые принципы своего основателя, расширяя помаленьку узкую дверь, которая ведет к спасению»[108].
* * *
Для некоторых читателей, вероятно, будет небезынтересным и, возможно, неожиданным узнать, что само наименование христианского богочеловека, от которого произошло название этой религии, имеет нехристианское происхождение. Греческое слово «христос» не было именем собственным. Оно произведено от глагола, означающего в переводе «намазывать». Отсюда слово «Христос» означает «помазанник». Но в свою очередь это слово всего лишь перевод с более раннего древнееврейского «машиах» — помазанник, мессия.
Таким образом, происхождение этого слова уводит нас к Ветхому завету, где понятие мессии вырабатывается за много столетий до христианства. Специфика политической истории Иудеи, делавшая ее объектом многократных нападений разных держав древнего мира, породила здесь идею мессии, помазанника — царя, который в отличие от предшествующих царей будет в состоянии отразить все опасности, грозящие его народу, восстановить его политическую независимость и приведет его к торжеству над врагами. К этим чаяниям присоединяются утопические мечты об идеальном будущем мире (однако мире земном), которые противопоставляются порокам современного общества. «Горе вам, — говорит автор Первоисайи, обращаясь к богачам соплеменникам, — прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (5, 8). «Перестаньте делать зло, — говорит он в другом месте, — научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову… князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (1, 16–17, 23). «Горе замышляющим беззаконие, — читаем мы у Михея, — и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей — и берут их силой; домов — и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие» (2, 1–2).
Этим обличениям, в какой-то степени отражающим остроту социальных противоречий, противопоставлялись иллюзорные картины социальной справедливости после прихода ожидаемого мессии: «Он будет судить бедных по правде, — рисует Первоисайя счастливое будущее, — и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого… Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением господа, как воды наполняют море» (11, 4, 6, 9).
Здесь речь еще идет о земном царе из династии царя Давида, но являющимся ставленником самого бога Ягве, проводником его установлений и потому пользующимся его полной поддержкой.
В пророческой литературе этого круга имеется ряд отрывков, в которых христианские апологеты усматривают предсказания событий, связанных с евангельским Христом. Так, в одном месте Первоисайя, «пророчествуя» о событиях своего времени и опасности нападения на Иудею коалиции соседних государств, говорит, что этого не следует опасаться, ибо не успеет младенец, сейчас зачатый, научиться отличать плохое от хорошего, как эта опасность исчезнет. Вот как об этом говорится у Первоисайи: «Се дева во чреве приимет и родит сына и нарекут ему имя Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде чем этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее» (7, 14–16).
Смысл этого места вполне определенный. Но автор евангелия от Матфея, конструируя сказание о непорочном зачатии Иисуса как свершение «реченного через пророков», приводит в качестве доказательства именно этот отрывок (1, 20–23).
Представляет интерес отрывок из Второисайи, где автор, живший на несколько столетий позже Первоисайи, рисует образ мессии, сложившийся в его время. Теперь мессия уже страдалец, который своей безропотностью, добровольными страданиями и смертью искупает грехи народа. «…Он взошел пред ним (богом. — М. К.) как отпрыск и как росток из сухой земли… Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое; он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен богом. Но он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою дорогу — и господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, ведом был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых; за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его; когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством; через познание его, он праведник, раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (53, 2—12).
Мы привели знаменитую 53-ю главу Второисайи. В ней отражены уже новые представления современников об иудейском мессии. Однако он здесь еще не бог. Пророк прочит ему за его страдания удел «с великими». Тем не менее христианство сочло эту главу пророческим предсказанием об евангельском Иисусе Христе.
В книге Даниила, датируемой первой половиной II в. до н. э., дан другой образ: «Видел я, — говорится там, — в ночных видениях, — вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество его — владычество вечное, которое не прейдет и царство его не разрушится» (7, 13–14).
Примечательно, что в русском переводе этого места Ветхого завета содержится упоминание «Христа владыки», создающее иллюзию, будто Даниил за два столетия до христианства прямо называет евангельского Христа (9, 25). Однако достаточно обратиться к еврейскому оригиналу, чтобы убедиться, что здесь употреблено не имя собственное, а всего лишь знакомое уже нам слово «машиах» (помазанник, мессия), которое неоднократно встречается в ветхозаветных произведениях.
Таковы иудейские корни проблемы «Христа» до Христа.
Христианское богословие выдает рассмотренные выше отрывки за доказательство чудесного предвидения ряда черт образа евангельского Христа. Однако нетрудно понять, что здесь вопрос перевернут с ног на голову. Не Второисайя и не Даниил пророчески предсказали образ евангельского Христа, а авторы новозаветных произведений творили своего богочеловека, используя ветхозаветные пророчества о мессии. Это положение вполне очевидно и подтверждается неоднократно встречаемой в евангелиях фразой: «Да сбудется реченное через пророков». Имея перед собой такую цель, авторы новозаветных произведений легко достигали в творимом ими образе сходства с пророческими мессиями.
* * *
Кумранские открытия, по выражению одного зарубежного журналиста, вызвали бурю как в кругу ученых, так и среди широкой публики. Причиной этому было некоторое сходство идеологии, обрядности, социальных идеалов между кумранским и раннехристианским движениями. Сходство это выявилось в результате сопоставления некоторых свитков Мертвого моря с новозаветными произведениями. При этом наиболее сенсационными оказались кумранские оказания о некоем безымянном «учителе праведности». Они дошли до нас в маленьких фрагментах, разбросанных в разных произведениях кумранского круга. Взятые по отдельности эти отрывки глухо говорят о своем герое. Однако в совокупности они позволяют уловить канву какого-то широко распространенного в кумранской среде повествования об «учителе праведности», его «духоносной» деятельности, неравной борьбе с безымянным «нечестивым жрецом», его насильственной смерти и ожидании его возвращения в «конце дней».
Как можно понять, «учитель праведности» был главой или основателем кумранской общины. Он охарактеризован как «избранник божий», посланный свыше, чтобы вести своих соотечественников по начертанному богом пути. Кумранские авторы, писавшие об этом, по-видимому, считали учение «учителя праведности» откровением: оно получено «из уст бога», оно раскрывает «все тайны слов его пророков», оно же послужит и к спасению всех уверовавших в него.
Учение этого божьего посланца нашло себе приверженцев. Надо полагать, это были те «сыны света» — кумранская община, в среде которой и сохранились сами сказания. Однако в дальнейшем «учителя праведности» постигли неудачи. Во-первых, некоторые из его приверженцев отошли от него и «отвернулись от колодца живой воды»— нового богоносного учения. Еще более драматические последствия имело преследование его «нечестивым жрецом»— исследователи довольно единодушно отождествляют его с первосвященником иерусалимского храма. Один маленький отрывок рассказывает о каких-то трагических событиях, развернувшихся в «день всепрощения»— судный день, когда среди сторонников «учителя праведности» появился «нечестивый жрец», чтобы «поглотить» их. В другом фрагменте упоминается, что «нечестивый жрец» направил кого-то к «учителю праведности», «чтобы умертвить его». Как можно понять из других мест, эти усилия в конечном счете увенчались успехом: «учитель праведности» погиб насильственной и, вероятно, мученической смертью.
Но и после смерти он не утратил своего значения для его приверженцев. Они верили, что скоро наступят «последние времена» и он снова явится, чтобы судить все народы. При этом приверженцев самого учения, как об этом говорится в одном отрывке, «…бог спасет от дома правосудия за их страдания и веру в учителя праведности».
Сопоставив сохранившиеся отрывки этого кумранского повествования с евангельскими рассказами об Иисусе Христе, нетрудно заметить некоторые черты сходства в общей сюжетной линии. Некая исключительная личность— богочеловек в Новом завете, божий избранник в кумранских документах — послана свыше, чтобы возвестить богооткровенное учение. И там и здесь оно должно спасти праведников в день «божьего суда». И кумранский «учитель праведности» и евангельский Иисус наталкиваются на преследователей, и дело оканчивается в том и другом случае смертью божьих посланцев.
Интересны и некоторые детали. Замысел убийства кумранского «учителя праведности» авторы свитков приписывают «нечестивому жрецу». Замысел убийства Иисуса авторы евангелий приписывают первосвященнику иерусалимского храма (Иоанн 11, 49–50; 18, 14; Ср. Матф. 26, 3–4; Марк 14, 1 и др.). И в кумранских свитках и в Новом завете преследование божьих посланцев приурочивается к праздничным дням. В евангелии or Матфея Иисус как бы в параллель «учителю праведности» тоже назван «учителем». Иисус Христос, писал известный зарубежный исследователь, «в том виде, в каком он выступает перед нами в новозаветных писаниях, является во многих отношениях поразительным перевоплощением „учителя справедливости“»[109].
При всем этом кумранский «учитель» не может быть отождествлен с евангельским Иисусом. По мнению большинства компетентных исследователей, рукописи, где он упоминается, относятся ко времени, предшествующему середине I в. до н. э., в то время как новозаветная литература связывает деятельность Христа с концом правления римского императора Тиберия, т. е. с 30-ми годами I в. н. э. Этот столетний разрыв — кумранский «учитель» старше евангельского по крайней мере на столетие — и побудил исследователей рассматривать его как своего рода «Христа» до Христа, т. е. говорить о заимствовании авторами новозаветных произведений некоторых кумранских сюжетов.
Проблема «учителя праведности», этой загадочной тени некоей реальной исторической личности, потянула за собой цепочку других проблем. Идеология, обрядность, организация, социальные идеалы кумранской общины оказались сопоставимыми с аналогичными чертами раннехристианских общин. Множество исследователей крупицу за крупицей выявляли разнообразные черты сходства между кумранской и новозаветной литературой, и сейчас такие параллели насчитываются многими сотнями.
Приведем некоторые из них.
В кумранских документах утверждается, что в мире существуют две могущественные силы, два духа — добра и зла, правды и кривды, света и тьмы, а сотворенный богом человек до определенного «тайного» срока находится на распутье между этими двумя началами. До известной степени сходные представления мы встречаем и в новозаветной литературе. Члены кумранской общины ждут мессию, божьего посланца, который явится, чтобы судить народы и спасти праведных. Такими же идеями проникнута и новозаветная литература. Кумраниты ждут «в конце дней» решающего сражения между воинством света и воинством тьмы, в результате которого приверженцы духа тьмы, Велиала, погибнут «без остатка и без спасения». Новозаветный Апокалипсис и некоторые другие произведения этого круга полны таких же мотивов.
По оценке кумранских свитков человек греховен. От рождения до смерти он живет в неправде. То же примерно утверждает и христианское вероучение. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя» (I Иоанн 1, 8).
Изучение кумрано-эссенских литургических и других обрядов позволило сделать и другие небезынтересные сопоставления. Так, по свидетельству Иосифа Флавия, у эссенов в течение дня было три строго фиксированных молитвенных периода. Раннехристианское произведение Дидахе также предписывает молиться «трижды в день». У эссенов существовал обычай молиться, обращаясь на Восток, к восходу солнца. Но молитва на Восток обычна и для раннего христианства. «…Молитва на Восток „ad orientem“, — писал по этому поводу профессор католического института в Париже Жан Даниэлю, — входит в обряд крещения. Она лежит в основе ориентации церквей. Эссенское влияние здесь бесспорно»[110].
Иосиф Флавий сохранил нам описание сакральной трапезы у эссенов. Это перекликается с сообщением кумранских документов. По мнению исследователей, этот эссено-кумранский обряд занимает промежуточное место между иудейским обычаем благословения хлеба и вина и христианской евхаристией[111].
Кумранский Устав во главе общины ставит коллегию из двенадцати человек, которые должны охранять чистоту вероучения кумранитов, творить «правду и милость, правосудие и любовь к справедливости». Исследователи сопоставляют эту коллегию с «дюжиной из евангелия» — двенадцатью христианскими апостолами, функции которых в общем носят аналогичный характер.
В другой кумранской рукописи — Дамасском документе содержится требование не приносить клятвы (X, 1–3). «А я говорю вам: не клянись вовсе», — вторит ей нагорная проповедь (Матф. 5, 34). Дамасский документ осуждает развод (IV, 21). Это же и с той же аргументацией мы находим в евангелии от Матфея (19, 3–4).
В кумранской литературе неоднократно выражается отрицательное отношение к стяжательству и богатству. Стремление к нему расценивается как одно из свойств духа кривды. Стяжательство называется западней сатаны— Велиала, оно несовместимо с приобщением к праведной жизни и богу. В Новом завете мы встречаем те же идеи. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, — предупреждает евангелие от Матфея, — нежели богатому войти в царство божие» (19, 24). Устав кумранской общины требует, чтобы вступающий в нее «замешал» свое имущество в общей казне (I, 11–12). Это же отметил и Иосиф Флавий, сообщив, что «они (эссены. — М. К.) презирают богатство… у них общность имущества… всякий присоединившийся к секте должен уступить свое состояние общине»[112]. В Деяниях апостолов провозглашается то же: «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа», — говорится там, и никто ничего из имения своего «не называл своим, но все у них было общее…» и каждый, вступая в общину, продавал свое имущество и относил «цену проданного» в казну общины (4, 32–35). Такое правило, видимо, приводило к утайке части имущества, и кумранский Устав предусматривал за это определенное наказание. «Если среди них найдется человек, который солжет относительно имущества, — говорится в Уставе, — и это станет известно, то следует отделить его от среды чистоты старших на один год и будет наказан на четверть своей пищи» (VI, 24–25). Это было довольно суровым наказанием, поскольку из-за соображений ритуальной чистоты такой отверженный не мог брать пищу где-нибудь на стороне и был тем самым обречен на полуголодное существование.
В Деяниях апостолов мы встречаемся с тем же сюжетом, но уже претворенным в нравоучительное повествование. Некие Ананий и Сапфира, муж и жена, рассказывается там, вступая в общину, утаили часть денег, полученных от продажи имения, и не отдали их в общую казну. Однако их тут же настигла кара — они умерли. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это», — заключает автор Деяний, раскрывая воспитательное назначение этого новозаветного рассказа (5, 1 — 11).
В кумранском Уставе содержится рекомендация не отвечать злом на зло, и произволу, высокомерию, оскорблению противопоставлять лишь одно — смирение (XI, 1–2). Аналогичный мотив мы встречаем в евангелии от Матфея. «Не противься злому, — говорится там. — Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (5, 39).
Сравнивая кумранские и новозаветные произведения, исследователи нашли целый ряд и других совпадений. Так, в одном из свитков кумранская община называется «Новым союзом» или «Новым заветом». Но это название иногда прилагалось и к раннехристианским общинам, оно и поныне удерживается в общем наименовании христианской части Библии. Кумранские термины «сыны света», «сыны тьмы» встречаются и в новозаветных произведениях. Кумранские выражения «немудрствующие», «простодушные», «простецы», «малые» можно и терминологически и по существу сопоставить с евангельскими — «младенцы», «малые сии». Выражение «нищие духом» также встречается и здесь и там. Устав кумранской общины сулит всяким поборникам пути кривды «мрак вечного огня» (II, 8); «огонь мрачных областей». Новозаветная литература сулит им «огненную геенну». Исследователи заметили, что имеется некоторый набор ветхозаветных цитат, которые оказываются излюбленными и для авторов кумранских свитков и для авторов новозаветных книг. Например, цитата из ветхозаветного пророка Исайи «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь господу, прямыми сделайте в степи стези богу нашему» (40, 3) приводится и в кумранской литературе (Устав VIII, 14; IX, 19–20) и в новозаветной (Лука 3, 4; Марк 1, 3; Матф. 3, 3; Иоанн 1, 23). При этом и здесь и там ей придается мессианский характер.
Исследователи обратили внимание еще на одну любопытную деталь. Дело в том, что и Филон Александрийский и Иосиф Флавий, описывая религиозно-философские течения в Иудее времени возникновения христианства, называют три секты — саддукеев, фарисеев и эссенов. Новый же завет называет только две первых. Возникает вопрос, почему новозаветная литература не упоминает эссенов?
С другой стороны, известно, что упомянутые наименования сект присвоены им другими, и сами эссены, которые отождествляются с кумранитами, называя себя «сынами света», прибегали также к таким терминам, как «простецы», «бедные», «младенцы». Но именно так в новозаветной литературе именуют себя в ряде случаев христиане. Небезынтересно отметить, что и наименование «христиане» первоначально тоже не было самоназванием. Так их называли в общем враждебные им античные авторы. Возможно, что авторы новозаветных произведений (которые, как известно, порицают саддукеев и фарисеев) потому не упоминают эссенов, что в ряде случаев не отделяют себя от них. Круг аргументов в пользу значительных преемственных связей между кумранским движением и ранним христианством пополняется, таким образом, еще одним очень выразительным доказательством.
Из всего этого, однако, не следует, что раннее христианство выросло непосредственно из кумрано-эссенской секты и ничем существенным от нее не отличалось. Такое заключение было бы неправомерно прежде всего потому, что многие из перечисленных выше черт сходства между кумранитами и ранними христианами восходят к общей для обоих религиозных течений основе — к иудаизму. К этой основе следует отнести, например, ожидание мессии, наличие трех молитвенных периодов, проповедь смирения, число «двенадцать» (вспомним хотя бы о двенадцати коленах израилевых) и многое другое.
Еще важнее в этом плане существенные различия между кумранскими и раннехристианскими установлениями. Наиболее значительным различием является замкнутый, окруженный ореолом тайны уклад кумранской общины и открытый характер раннехристианских общин. Кумранский Устав требует скрывать учение «сынов света» от «людей кривды» (IX, 17–21).
Из соображений ритуальной чистоты кумранитам-эссенам запрещается общение с непосвященными, вкушение с ними пищи, посещение их жилищ. Эти запреты, имевшие известный культовый смысл, с другой стороны, являлись своеобразным выражением идеи бегства от жизни, идеи, порожденной условиями Иудеи того времени.
Христианство, отразившее другую, более всеобъемлющую и глубокую стадию развития, когда и социальный протест и моральная депрессия стали уделом сотен тысяч людей многоплеменной Римской империи, не могло замкнуться подобно кумранской общине. «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме», — возвещается в евангелии от Матфея (5, 15), и исследователи, по-видимому, не без основания усматривают в этих евангельских иносказаниях отзвуки какой-то полемики с кумранской доктриной замкнутости.
Новозаветная литература расходится с кумранской в представлениях о ритуальной чистоте. Так, кумранский Устав допускает к ритуальному омовению только прошедших определенные испытания членов общины. Евангельский Иоанн Креститель предлагает свое омовение широкому кругу искателей спасения. Евангелия содержат ряд нравоучительных новелл, в которых Иисус представлен то в обществе пресловутой Магдалины, то за трапезой с мытарями и грешниками, то наносящим визит язычнику-центуриону. Все эти поучения в корне расходятся с представлениями кумранитов о чистоте.
Можно упомянуть и ряд расхождений в отношении субботнего дня. В кумранском Уставе не разрешается в субботу работать, совершать длительные переходы, готовить пищу, оказывать помощь попавшему в беду домашнему животному и даже человеку. Евангелия отклоняют все это. Примером Иисуса, который в субботу исцеляет больного, который не осуждает своих учеников, предпринявших в этот день продолжительную прогулку и даже срывавших по дороге колосья для насыщения, авторы евангелий освобождают своих приверженцев от подобных запретов.
Более сложен вопрос о различиях в образах «учителя праведности» и Иисуса из Назарета. Хотя мессианские черты присущи и тому и другому, нетрудно заметить, что мессианские идеи Нового завета представляют собой более развитую концепцию сравнительно с кумранскими. Здесь появляется идея искупления, которой нет у кумранитов. То же можно сказать и относительно христианского догмата воплощения.
Перечисленные черты различия имеют существенное значение при сравнительной оценке кумранских и раннехристианских материалов. Но бесспорно также, что черты сходства столь же существенны. «Мы вынуждены сейчас признать в качестве исторического факта, — писал по этому поводу известный семитолог В. Олбрайт, — что многое из религиозной практики первых христиан новозаветного века было заимствовано из соответствующей практики ессеев»[113].
* * *
Таковы основные аспекты проблемы «Христа» до Христа. Было бы, разумеется, неправильно сводить все дело к простой перелицовке в христианстве образов и функций рассмотренных выше восточных божеств и мировоззрений и идеалов, прошедших перед нами религиозных движений древности. Пути становления новой религии гораздо более сложны. Синкретически усваивая различные элементы обрядности, идеологии, миропонимания предшествующих течений, она в процессе своего формирования вырабатывает и новые черты, отвечающие в первую очередь социально-экономическому строю и идейным запросам своего времени. Но эти религиозные учения не создаются, как утверждают богословы, на небесах. «Фабрика богов», по выражению одного индийского философа, находится на земле. И рассмотренные нами материалы являются тем субстратом идей, обрядности, сказаний, из которых и на основе которых и формировалось христианство.
Глава седьмая. Евангельский Христос и исторические свидетельства
«В совокупности голых фактов Иисус безгранично мал. Истории не удается его уловить. Оставим Иисуса, созданного верой. Забудем века христианства, то, чем стал Иисус в сердцах верующих. Отбросим его сияющий образ. Выясним, чем он был на самом деле, в обстановке своей эпохи и своей страны»[114]. Так определяет свою задачу Поль Кушу, автор вышедшей в 1924 г. в Париже книги «Загадка Иисуса». И хотя Кушу сам в ряде случаев навязывает читателю выводы, не вытекающие из материала, его совет «вести исследование обычным методом исторического анализа» является безусловно приемлемым.
По остроумному замечанию одного исследователя, образ Иисуса в Новом завете и в первую очередь в евангелиях походит на картину, которая несколько раз подвергалась «закрашиванию», т. е. такой перерисовке, при которой на первоначальный рисунок и краски накладывались другие слои и вводились новые элементы так, что древнейшие краски стали почти неразличимы.
Действительно, лишь критический анализ этих произведений позволяет разыскать фрагменты древнейших слоев. Однако некоторые элементы могут быть выявлены уже при общем внимательном чтении Нового завета. Так, совершенно явственно здесь выступают два противоположных образа Христа. Один из них Иисус-человек, бродячий проповедник, творивший по примеру бесчисленных своих собратьев по ремеслу «чудеса» и бывший одним из множества «пророков» этого экзальтированного времени. У этого Иисуса обширная родня, земные родители, соседи, изумлявшиеся его карьере.
«Не плотников ли он сын? — говорится в евангелии от Матфея, сохранившем фрагмент такой тенденции, — не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию (разрядка моя. — М. К.) их» (13, 55–58). В связи с этим небезынтересно отметить, что некий Иаков в качестве брата Иисуса упоминается и у Иосифа Флавия[115].
В плане той же тенденции надо рассматривать и отрывок из евангелия от Марка, где автор вкладывает в уста Иисуса вопрос, а кем его считают его современники? Ответ, отражающий в целом древнейшую тенденцию, характерен своей разноречивостью. Одни отвечали, что он — Иоанн Креститель, другие принимали его за Илию, «иные — за одного из пророков» (разрядка моя. — М. К.) и только одному Петру евангелист подсказывает «правильный» ответ: «Ты — Христос» (8, 28–29).
Эта традиция земного Иисуса, человека пророческого склада, возвышающегося над другими лишь своей способностью воспринимать истечение божественной мудрости, выступает и в некоторых других местах Нового завета. Так, забавный рассказ об искушении Иисуса диаволом, который, ловко оперируя ветхозаветными цитатами, предлагает Иисусу «все царства мира и славу его» за поклонение сатанинскому началу (Матф. 4, 3—10), имеет смысл только в том случае, если Иисус в представлении автора этого рассказа не бог, властвующий над миром, но человек. Аналогичным образом необходимо оценить и то место евангелия Матфея, где в преддверии неизбежного ареста своего героя автор наделяет его соответствующим случаю настроением смертельной тоски и тревоги и вкладывает в его уста известную фразу: «Отче мой! если возможно, да минует меня чаша сия» (26, 37–39). Этот же мотив и у Луки (22, 42) и у Марка, где (как и у Матфея) говорится: «…и начал ужасаться и тосковать. И оказал им: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы если возможно миновал его час сей» (14, 33–35).
Христос среди своих учеников. Роспись катакомбы. Присциллы. Рим.
Точно так же ведет он себя и во время казни. Не выдержав муки распятия, он, по словам Марка, возопил: «Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?» (15, 34; то же и у Матфея—27, 46). Чрезвычайно показательно, что уже автор евангелия от Луки, осознав неуместность таких слов в устах бога Иисуса, побуждает его не «возопить», как у других евангелистов, а «возгласить» совсем другие слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой» (23, 46).
Эти и некоторые другие фрагменты отражают, по-видимому, ту ветвь традиции, по которой Иисус представлялся современникам одним из пророков, в полном соответствии с духом времени учившим, творившим чудеса и возглавившим некое еретическое по отношению к иерусалимскому храму и официальному жречеству учение, за что был казнен. Любопытно, что в евангелии от Матфея сохранились отзвуки тех опоров, которые велись между сторонниками и противниками Христа по поводу его «воскресения»: противники пустили слух — он, по словам евангелиста, держится «до сего дня», — будто ученики Иисуса ночью выкрали его тело (28, 12–15). А отсюда само собой проистекало, что рассказ о его воскресении— фикция. Разумеется, Матфей это отрицает.
Отзвуки споров между христианами и их противниками, а также внутри христианских общин по вопросу о воскресении Христа, его мессианской природе рассеяны и в других местах новозаветной литературы. Среди такого рода сведений большой интерес представляет отрывок из Деяний апостолов. В отрывке рассказывается о некоем иудее Аполлосе из Александрии, изрядно потрудившемся, «доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос» (18, 28). Эта его деятельность — пример того, как создавался образ другого Иисуса — Иисуса Христа, божьего сына и воплощенного бога.
Мы уже говорили, что удержавшемуся в немногих фрагментах образу малозначительного экзальтированного проповедника (которого, по словам Марка, ближние его сочли даже вышедшим «из себя», т. е. сошедшим с ума, ненормальным, и хотели «взять» его; 3, 21) противостоит в Новом завете другое изображение. Этот, по выражению Кушу, «сияющий образ» триединого бога достаточно противоречив, что объясняется разнородными компонентами, участвовавшими в его формировании. Но именно он становится центральной фигурой христианского вероучения.
Основные черты этого образа очерчены уже в начале III в. н. э. Тертуллианом в его символе веры. «Мы веруем, — писал Тертуллиан, — что существует единый бог, творец мира, извлекший его из ничего словом своим, рожденным прежде всех веков. Мы веруем, что слово сие есть сын божий, многократно являвшийся патриархам под именем бога, одушевлявший пророков, опустившийся по наитию бога-духа святого в утробу девы Марии, воплотившийся и рожденный ею; что слово это — господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон и новое обетование царства небесного. Мы веруем, что Иисус Христос совершил много чудес, был распят, на третий день по своей смерти воскрес и вознесся на небо, где сел одесную отца своего. Что он вместо себя послал духа овитого, чтобы просвещать свою церковь и руководить ею. Что в конце концов он придет с великой славой даровать своим святым жизнь вечную и неизреченное блаженство и осудить злых людей на огонь вечный, воскресив тела как наши, так и всех других людей»[116].
В этом символе веры автор сводит воедино положения четырех евангелий, стремясь смягчить или снять противоречия посредством некоторых связующих элементов. Логос — творящее Слово философских систем Филона Александрийского и гностиков, предвечное божественное начало, без которого, по словам евангелия Иоанна, «ничто не начало быть, что начало быть» (1, 3), низводится новозаветными авторами и Тертуллианом на положение персонажа античных мифов о любовных похождениях богов и «вхождении» их в смертных женщин. Таковы рассказы о боге Марсе и весталке Рее Сильвии, Зевсе и ряде смертных женщин — Алкмене, Леде, Данае. Во времена формирования христианства такой миф, как отмечалось выше, возник и в отношении матери Августа. Таким образом в евангелиях туманные реминисценции о некоем земном персонаже, его смертной матери и т. п., сочетаясь с мифом о божественном нисхождении святого духа в деву Марию, непорочном зачатии и т. д., получали новое осмысление.
С другой стороны, в этих конструкциях отразилась ярко выраженная тенденция авторов «сияющего образа» Христа не упускать из виду и те ветхозаветные модели мессии, которые в свою очередь не были неизменны и в ходе своего формирования вобрали в себя разнообразные религиозные представления и сказания не только Иудеи, но и сопредельных стран. Одним из установившихся ветхозаветных представлений о мессии было генеалогическое восхождение его к дому царя Давида. И два евангелиста, Матфей и Лука, независимо друг от друга и опровергая друг друга, строят мифическое родословное древо, при этом Иисус оказывается сразу в двойном родстве: с царем Давидом, во исполнение «реченного» через ветхозаветных пророков, и с рожденным «прежде веков» наднациональным «творцом мира» — верховным богом-отцом. Установление второй линии родства вызывалось выходом христианского вероучения за пределы иудаизма и превращение его в религию, адресующуюся уже к этнически различным народностям.
В этой связи чрезвычайно интересно, что евангельский Иисус, по словам Марка, отказывает язычнице сирофиникиянке в своей чудодейственной помощи, мотивируя это тем, что вначале надо дать «насытиться детям» (7, 25–27), т. е. его собратьям иудейского происхождения.
В этом же плане стоит его запрет апостолам идти к самаритянам. «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите, a идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 10, 5–6). Однако у того же Матфея мы находим и противоположную рекомендацию, несомненно отражающую трансформацию и образа и учения Христа. «Итак идите, — говорит он, — и научите все народы (разрядка моя. — М. К.), крестя их во имя отца и сына и святого духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам» (28, 19–20), а в евангелии от Марка содержится рекомендация «идти ко всему миру» и проповедовать евангелие «всей твари» (16, 15). То, что в евангелиях сохранились оба взаимоисключающих поучения, позволяет нам на конкретных примерах разглядеть процессы изменения «взглядов» евангельского Христа, отражающие, разумеется., изменения взглядов современников на эти вещи.
В ветхозаветной литературе сложился образ мессии — могущественного царя, который одолеет врагов и установит царство социальной справедливости на земле. Однако наряду с этим в силу ряда конкретно-исторических причин там сложился и другой образ мессии — страдальца, который смирением, принятием на себя чужих грехов и самопожертвованием достигнет спасения для всех и удела с сильными для себя. Эти представления отразились в приведенном выше отрывке из Второисайи (53, 2—12). При этом исследователи подметили, что указанная глава Исайи первоначально имела в виду не отдельную личность, а еврейский народ, выступавший в этих представлениях как народ-мессия[117]. Новозаветные авторы, творя образ Христа во многом по этим ветхозаветным представлениям, переносят эти «предречения» Исайи целиком на евангельского Иисуса. Он — страдалец, добровольно взявший на себя немощи людей, их грехи, он претерпел казнь за преступления народа, «наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились», — аллегории и метафоры Ветхого завета, возникшие по одному поводу, именно в силу их аллегорического характера оказывались податливым материалом для приспособления его к другим обстоятельствам.
И евангелисты широко пользуются этим приемом для фундирования своих положений. «Да сбудется реченное господом через пророка» — это и указание на эталон и распространеннейший аргумент авторов новозаветных сказаний.
Трехликий Христос. Икона. Ленинград… Музей истории религии и атеизма.
В тертуллиановском символе веры раннего христианства важное место занимает воскресение и второе пришествие Иисуса Христа. Значение этого пункта как центрального в вероучении христианства подтверждается и современными богословами. «В христианстве действительно все зиждется на вере в воскресение христово, — говорится в одной недавно опубликованной богословской статье. — …Без веры в воскресение… Иисус Христос — уже не „святый крепкий“… а в лучшем случае просто человек (Ренан, Штраус), в худшем — произведение человеческой фантазии, миф (Древс)»[118]. И далее автор обосновывает это положение тем, что Христос, который всю жизнь страдал, потом просто умер, оказался бы мало привлекательной личностью — люди не стали бы ему верить. Эта современная аргументация перекликается с полемикой Павла с коринфянами: «…если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна»… (I Кор. 15, 17).
Таким образом, авторам новозаветных произведений было чрезвычайно важно как можно более аргументированно доказать «факт» воскресения, и они стремились ввести в свои произведения множество «свидетельских» показаний. Однако достаточно сравнить различные «свидетельства» такого рода, чтобы убедиться в том, что рассказы о воскресении евангельского Христа являются лишь отражением вырабатывавшегося догмата воскресения. Примечательно, что в Новом завете сохранились отзвуки скептицизма и борьбы, развернувшейся против учения о воскресении. Так, в евангелиях говорится, что апостолы не поверили сообщению о воскресении Христа (Лука 24, 11; Марк 16, 14); «иные», сообщается в другом месте, усомнились в этом даже при личном свидании с воскресшим Иисусом в Галилее (Матф. 28, 17). Евангелисты навязывают Иисусу неподражаемую по своей наивности «вещественную» аргументацию: он показывает апостолам свои руки и ноги, дабы они могли «осязать» его, ест «пред ними» печеную рыбу (Лука 24, 36–43) и даже предлагает неверующему Фоме вложить перст в свои раны от гвоздей (Иоанн 20, 24–27). Многочисленные противоречия и разнобой в «свидетельствах» новозаветных авторов составляют естественный фон всего этого евангельского мифа.
Столь же разноречиво представлена в Новом завете идея второго пришествия Христа, что, вероятно, надо поставить в связь с разноречивостью представлений о Христе. Первоначально ожидалось, что «последние дни» наступят в предельно короткие сроки. «Не успеете обойти городов израильских, — свидетельствует евангелие от Матфея, — как придет сын человеческий» (10, 23). В другом месте того же евангелия говорится, что это произойдет в пределах жизни одного поколения — «не прейдет род сей» (24, 34). Однако в той же главе это переносится уже в неопределенные будущие времена, когда евангелие будет проповедано по всей вселенной и всем народам (24, 14), т. е. когда христианство, вытеснив всех своих соперников, станет единственной мировой религией.
Троица. Худ. Андрей Рублев. Икона. Москва. Третьяковская галерея.
Таковы некоторые противоречивые черты этого «сияющего образа» евангельского Христа. По замечанию одного исследователя, евангельские сказания сотканы из эпизодов, широко встречающихся в древнейших пластах фольклора многих народов[119], но в особенности этого района Средиземноморья. Следует лишь добавить, что образ этого мистического Христа вобрал в себя не только фольклор, не только мифы об умирающих и воскресающих богах Востока, но и многие другие дохристианские идеи века.
Если сопоставить евангельские сказания о чудесах, исцелениях и знамениях с аналогичными рассказами в сочинениях античных «языческих» авторов, нетрудно заметить, что они не выходят за рамки представлений своей эпохи. Император Веспасиан, как уже отмечалось, «излечивает» одним своим прикосновением калеку и «плюнонением» возвращает зрение слепцу; император Август «непорочно» рождается от бога; некий Элеазар изгоняет бесов из одержимых; какой-то безымянный пророк-бунтовщик, собрат и почти современник Иисуса, собирается силой своего слова разрушить иерусалимские стены… Примеров такого рода множество.
Перекликается с идеями века и этическая проповедь христианства; противоречивые тенденции в некоторых из них являются лишь отражением противоречий эпохи. Павлово «нет ни эллина, ни иудея… варвара, скифа, раба, свободного…» (Кол. 3, 11) — не откровение христианства, а усвоенная им и освященная божественным авторитетом Христа идея века. Идеал евангельской бедности — плод общественной мысли «маленьких людей», социальных низов общества во всех пределах Римской империи. Общность имущества — здесь, как мы видели, кумранские сектанты имеют безусловный приоритет перед христианскими общинами. Евангельские добродетели— немудрствование, простодушие, милосердие, бескорыстие— не откровение Христа, а моральный кодекс, стихийно выработавшийся среди социальных низов римского общества. Он формировался как реакция на враждебную низам и прогнившую мораль рабовладельческих верхов. Христианство восприняло все эти принципы, и, освятив своим авторитетом, возвратило их тому же обществу, но уже в ранге божественного откровения. И даже печально-знаменитые новозаветные поучения о непротивлении злу и рабской покорности обидчикам также отражают определенные тенденции в развитии общественной мысли века. Перечень таких примеров тоже может быть значительно увеличен.
Наконец, сам, по выражению современного богослова, «центр центра» христианства — идея воскресения Христа не является ни уникальной, ни беспрецедентной. Длинный ряд воскресающих богов древности — Таммуз, Адонис, Аттис, Осирис и др. — отражает эволюцию идеи умирающего и воскресающего божества в связи с конкретно-историческими обстоятельствами тех обществ, где идеи формировались.
По утверждению догматического богословия, умирающих и воскресающих богов «язычества» от христианского богочеловека отделяет пропасть, но при ближайшем рассмотрении она оказывается всего лишь ложем единого исторического потока — в верхнем течении его стоят упомянутые выше «языческие» боги, а в устье — евангельский Христос.
Христос Пантократор. Икона. Афины. Византийский музей.
Таковы некоторые компоненты и истоки того «сияющего образа» евангельского Христа, которого исповедует церковь и отстаивает догматическое богословие. Такого Христа «во плоти» никогда не было. Он результат религиозных «туманных образований» в мозгу людей, образований, которые, по словам Энгельса, «являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса…»[120]. Христос — плод религиозного мифотворчества, он создан в ходе борьбы различных религиозных течений, философских школ, направлений общественной мысли, в свою очередь представляющих собой в конечном счете выражение социально-экономических процессов породившего их общества Процесс формирования этого мифического Христа в недрах «матери-церкви» растянулся на столетия, и «пререкания» (по выразительному определению некоего современного богослова) относительно «естества» Иисуса[121] продолжались долго; они не вполне закончились и ныне.
Упоминавшийся выше Цельс, обстоятельно изучивший ветхозаветную литературу и христианские произведения, имел достаточно оснований упрекнуть апологетов христианства в фальсификации и преднамеренной многократной переделке евангелий с целью устранения противоречий. «И вот, вы, — ученики Иисуса, даже ложью не сумели облечь свои измышления в форму правдоподобия, — пишет он;… — трижды, четырежды и многократно переделывают и перерабатывают первую запись евангелия, чтобы иметь возможность отвергнуть изобличения»[122].
* * *
Отвергая реальное существование богочеловека, обрисованного в приведенном выше тертуллиановском символе веры, целесообразно попытаться рассмотреть вопрос об историческом зерне этого мифа. Предметом дискуссии является неоднократно ставившийся исследователями вопрос о том, стоит ли за мифическим образом евангельского Христа какой-нибудь «земной» исторический персонаж, вокруг личности которого и наслоились все эти лишенные рациональных оснований мифы.
В «совокупности голых фактов» Иисус из Назарета, как это уже отмечал Кушу, действительно мал. Современные эпохе первых императоров писатели и историки либо не слышали о нем, либо не сочли заслуживающим специального упоминания, поскольку локальные движения и местные проповедники и пророки были в первые века новой эры довольно распространенным явлением и на западе империи и в особенности на востоке. «Многие безвестные личности, — писал Цельс, — в храмах и вне храмов, некоторые даже нищенствующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда представляется случай, начинают держать себя как прорицатели. Каждому удобно и привычно заявлять: „Я — бог или дух божий, или сын божий. Я явился. Мир погибает, и вы, люди, гибнете за грехи. Я хочу вас спасти и вы скоро увидите меня возвращающимся с силой небесной. Блажен, кто теперь меня почтит; на всех же прочих, на их города и на земли я пошлю вечный огонь, и люди, не сознающие своих грехов, тщетно будут каяться и стенать; а кто послушался меня, тем я дарую вечно спасение“»[123].
Это свидетельство современника и очевидца хорошо объясняет скудость наших источников. Вне узкого круга своих приверженцев Иисус, если даже допустить наличие в этом евангельском персонаже какой-то исторической основы, мог быть лишь одним из многих прорицателей такого рода, к которым образованный античный мир относился с полным пренебрежением.
Однако Кушу, по мнению некоторых исследователей, сгустил краски, заявив, что в мифе о Христе истории не удается уловить никакого исторического зерна. Если говорить не о позднейшем догматическом Христе, полном противоречий и мистицизма, создававшемся столетия и синкретически усвоившим множество представлений, мифов и социальных чаяний различных слоев общества, — если говорить не об этом, а об истоках движения, то там, по их мнению, как будто улавливаются отдельные скупые реминисценции о некоем маленьком земном проповеднике, который в духе своего времени именует себя посланцем божьим, но у которого, кроме имени, мало общего со своим позднейшим божественным тезкой.
Где следует искать отзвуки воспоминаний об этом проповеднике?
Разумеется, в первую очередь надо обратиться к тому древнему писателю, который должен был больше всех знать об этом предмете. Речь идет о еврейском историке I в. н. э. Иосифе Флавии. Он родился в Иерусалиме в 37 г. н. э., т. е. как раз в том десятилетии, когда по евангельской традиции происходят основные события «биографии» Христа. Он хорошо знал религиозную жизнь Иудеи своей эпохи, и кумранские открытия в общем подтвердили достоверность его сведений об эссенах. Некоторое время Иосиф играл видную роль в общественной и политической жизни страны и в ходе антиримского восстания в Иудее в 66 г. н. э. занимал важный пост военачальника одной из областей.
Сообщает ли что-нибудь Иосиф Флавий об Иисусе Христе?
В восемнадцатой книге его «Иудейских древностей» содержится абзац, ставший предметом беспрестанных дискуссий.
«Около этого времени, — пишет он, — жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно- назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к распятию на кресте. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как об этом и о многих других его чудесных делах предсказали боговдохновенные пророки. И до нынешнего дня существует еще секта христиан, которые от него получили свое имя»[124].
Не требуется особой прозорливости, чтобы заметить, что иудей Иосиф, примкнувший в бытность свою в Иудее к фарисеям, самым закоренелым врагам Иисуса, по свидетельству евангелия, не станет петь ему дифирамбы. Поэтому все сколько-нибудь серьезные ученые признали этот отрывок за грубейшую христианскую подделку или интерполяцию (вставку), которая была сделана благочестивым христианским переписчиком. Удается уловить и время появления этой вставки. Крупнейший христианский писатель Ориген, создававший свои произведения в первой половине III в. н. э. и основательно изучивший сочинения Иосифа, не знает еще этой апологетической тирады. Он трижды упоминает куда менее важное место из «Иудейских древностей», где говорится о казни брата Иисуса; он знаком с местом, где упоминается Иоанн Креститель, но приведенной выше цитаты он не нашел. Более того, он говорит, что Иосиф «не верит в Иисуса как в Христа»[125], т. е. нечто диаметрально противоположное тому, что говорится в указанной вставке. Но христианский писатель начала IV в. н. э. Евсевий ссылается уже на этот отрывок из «Иудейских древностей». Следовательно, подделка была совершена во второй половине III — начале IV в. н. э.
Если этот вопрос решается сравнительно легко, то другая часть абзаца сложнее. Как понимать утверждение интерполятора, что «до нынешнего дня» существует еще секта христиан, получивших свое название «от него» — Христа? Если речь идет о времени интерполяции, то очевидно, что вторая половина III и начало IV в. не нуждались в такой справке. В 325 г. состоялся первый вселенский Никейский собор, оформивший признанную императором широко разветвленную и всем известную вселенскую церковь; вряд ли о христианах стали бы тогда говорить, как о «еще» существующей секте. Но такая фраза вполне уместна для второй половины I в. н. э. — того времени, когда Иосиф Флавий писал «Иудейские древности». Быть может, эта заключительная фраза является осколком первоначального текста, в остальном фальсифицированного неизвестным христианским переписчиком. Бесполезно гадать, каково содержание этого первоначального текста. Но он мог быть только враждебен христианству. Иисус не признается мессией, Христом— свидетельствует Ориген. Отсюда можно заключить, что у Иосифа фигурировал некто, претендовавший на такое звание.
У Иосифа Флавия есть еще одно упоминание о Христе. В двадцатой книге рассказывается о жестоком первосвященнике Анане, принадлежавшем к партии саддукеев, который, выбрав удобный момент, «собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как и нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями»[126]. Это место, как уже отмечалось, трижды упоминается Оригеном. Если отнести указанный эпизод к упоминаемым там же наместникам Иудеи Фесту и Альбину, то его надо датировать 62 г. н. э. Заметка эта по своей сдержанности, краткости и отсутствию апологетических ноток в отношении христианства производит впечатление подлинной. К сожалению, Иосиф не раскрывает мотивов ненависти первосвященника Анана к Якову. Однако названные там лица, в связи с которыми упомянут Иисус, представляются вполне реальными персонажами.
Наконец, еще одна заметка у Иосифа, хотя не называет Христа, имеет касательство к формированию христианства. В восемнадцатой книге «Иудейских древностей» содержится рассказ о так называемом Иоанне Крестителе, «праведном человеке», убитом Иродом за его опасную популярность в народе и из боязни каких-то волнений, связанных с его именем[127]. О деятельности Иоанна пишется в мягких, полных доброжелательности тонах, что могло бы навести на мысль о позднейшем христианском искажении и этого места. Однако Иосиф, в юности примкнувший к эссенам и проведший три года вместе с ними в пустыне, возможно сохранил симпатии к персонажу этой заметки, который, как полагают в связи с кумранскими открытиями некоторые исследователи, имел какие-то связи с кумранакой общиной.
У Тацита в рассказе о грандиозном пожаре Рима в 64 г. н. э., уничтожившем две трети строений столицы, упоминаются христиане. Чтобы погасить распространившийся по Риму слух, будто поджог города был совершен по распоряжению императора, рассказывает Тацит, «…Нерон подставил виновных и применил самые изысканные наказания к ненавистным за их мерзости людям, которых чернь называла христианами. Виновник этого имени Христос был в правление Тиберия казнен прокуратором Понтием Пилатом, и подавленное на первое время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где совершаются все гнусности и бесстыдства. Таким образом, сначала были схвачены те, которые признавались, а затем по их указанию огромное множество других, которые были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому»[128].
Приведенный отрывок является издавна предметом дискуссии, хотя весь его тон, хронологическая близость автора к описываемым событиям (ему было около девяти лет, когда все это произошло) и довольно суровый отзыв о христианском учении, названном «пагубным суеверием», человеконенавистничеством, мерзостью, едва ли дает к этому большие основания.
Сторонники интерполяции открывают в тексте ряд «несуразностей и странностей»[129]. Так, подозрению подвергается сама литературная композиция: абзац о христианах Тацит вкомпоновывает не в раздел, посвященный Тиберию, как следовало бы по мнению его критиков, а в раздел, посвященный событиям в Риме эпохи Нерона. Они считают также странным, что в рассказе Тацита упоминается прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Откуда тот вообще мог бы узнать о нем? Аргументом против подлинности этого отрывка считается также выражение «огромное множество», которое Тацит употребляет в отношении христиан.
Однако ряд других исследователей находит эти возражения недостаточно вескими. Не говоря уже о неправомерности самого вопроса, почему тот или иной автор избрал такую, а не другую компоновку материала или почему он включил в свой рассказ данное историческое имя, опустив другое, — не говоря уже о всем этом, неубедительность приведенных возражений заключается и в том, что в общем избранное Тацитом построение имеет свою логику. Для образованного римлянина христиане времени Тиберия — величина ничтожная и, вероятно, даже неизвестная. Историк говорит о них только в связи с пожаром Рима и лишь попутно приводит то, что о них рассказывалось в его время. Среди людей его круга было неизвестно даже их наименование, да едва ли оно и было у них в это время. Тацит приводит прозвище, данное им «чернью» и лишь во II в. н. э. ставшее их самоназванием.
Сторонники интерполяции несколько преувеличивают и значение оборота «великое множество» применительно к христианам. В отрывке говорится лишь о великом множестве людей, схваченных и уличенных в ненависти к роду человеческому. В обстановке нероновского террора вряд ли велась строгая отфильтровка подлинных христиан от других подозрительных элементов. Да и сами слова «великое множество» (в данном случае образное выражение) означают лишь то, что их были не единицы и не десятки. Захват сотен обвиненных в «ненависти к роду человеческому» должен был произвести на современников и на Тацита впечатление, будто Рим полон преступников, которых «чернь называла христианами». По-видимому, только так можно понимать это пресловутое «великое множество». Следует отметить, что в настоящее время лишь немногие исследователи безоговорочно принимают этот отрывок за интерполяцию.
У Светония, жившего между 75 и 160 г. н. э., имеются две небольшие заметки по рассматриваемому вопросу. В жизнеописании императора Клавдия, который правил между 41 и 54 г., содержится следующая заметка: «Иудеев, которые по подстрекательству Хреста заводили некие смуты, он изгнал из Рима»[130]. Кто упомянутый здесь Хрест (Chrestus)? Мало известное для римлян и потому искаженное Светонием имя Иисуса Христа или довольно распространенное в это время греческое имя Хрест? Разумеется, ответить на этот вопрос ввиду краткости самой заметки не представляется возможным. Но Светоний, бесспорно, что-то слышал о христианах и в описании деятельности Нерона между рассказом о запрете продавать в харчевнях что-либо вареное и ограничениях, наложенных на цирковых наездников, вставляет фразу: «Христиане, новый и зловредный вид религиозной секты, подверглись преследованию казнями»[131].
Между 111 и 113 г. наместник Вифинии Плиний Младший обратился с письмом к императору Траяну по поводу христиан его провинции. В этом письме он спрашивает императора, как вести дознание по такого рода делам и каким подвергнуть наказаниям упорствующих. Он сообщает, что в ходе расследования, очевидно по анонимному доносу, ему был предложен список, содержащий «много имен». Далее он сообщает о принятых им мерах и испрашивает императорского одобрения. «Тех, — пишет он, — кто отрицал, что они являются христианами или были ими, я решил отпустить, когда они вслед за мной призвали богов, совершили перед изображением твоим… жертву ладаном и вином, а кроме того обругали Христа… Другие, названные доносчиком, сказали, что они христиане, а затем отказались от этого, сказав, что они были христианами, а затем отпали, некоторые за три года, другие за много лет назад, некоторые даже за двадцать. Все они почтили и твое изображение и статуи богов и обругали Христа»[132]. В результате Плиний приходит и заключению, что все действия христиан не обнаруживают ничего, кроме «безмерно уродливого суеверия», однако опасность его распространения представляет угрозу для тех, кто подвергается этой «заразе».
Вопрос о подлинности этого письма Плиния и ответа Траяна вызвал обширную полемику. Ряд ученых, среди них можно назвать и акад. Р. Ю. Виппера, считали это письмо бесспорно подложным. Они обосновывали это и несообразностями композиции письма, и тем, что среди ста других писем Плиния больше нигде нет речи о христианах, и молчанием писателя Диона Хрисостома, современника Плиния[133]. Вызывало сомнение и то, что, согласно этому письму, у христиан Вифинии в начале II в. н. э. была уже довольно прочная организация. Наконец, сомнению подверглось и описание некоторых элементов литургической службы у христиан времени Плиния. Сторонники подложности письма считали, что здесь налицо перенесение черт, присущих IV в., во II в.
Однако всему этому были противопоставлены серьезные доводы в пользу подлинности письма. Во-первых, на основе литературно-филологического анализа исследователи пришли к выводу, что письмо написано в манере Плиния и литературы его времени. Было замечено также, что ответ Траяна по своей манере, лаконичности и самому существу полностью отвечает и литературному стилю и политическим взглядам этого императора. Но кроме этого имеется еще один аргумент, который едва ли возможно опровергнуть. Дело в том, что письмо Плиния упоминается апологетом Тертуллианом, писавшим на рубеже II–III вв. н. э., задолго до Никейского собора.
«Во время своего управления провинцией, — пересказывает Тертуллиан содержание переписки, — Плиний Секунд иных из христиан осудил на казнь, иных лишил занимаемых ими должностей, но, напуганный великим множеством их, запросил Траяна, бывшего тогда императором, что ему делать с остальными, указывая, что помимо их упорства и нежелания приносить жертвы, он не узнал о собственных их таинствах ничего иного, как только то, что они собирались перед рассветом с пением гимнов Христу как богу и для клятвенного обещания исполнять правила жизни: не совершать убийств, обмана, измены и каких-либо других преступлений. Тогда Траян ответил ему в своем рескрипте, что разыскивать такого рода людей не следует, но тех, кто представлены на суд, следует наказывать»[134].
Таким образом, письмо Плиния, известное Тертуллиану, не могло быть написано позднее самого Тертуллиан а и в делом его нельзя выносить за пределы II в. н. э. И лишь некоторые выражения, в которых христиане изображаются в идеализированных тонах, а положение официальной римской религии — в чересчур мрачных, вероятно, следует считать творчеством позднейшего христианского переписчика[135].
* * *
Среди нехристианских источников, в которых упоминается некий Иисус, часто называют еврейский Талмуд — чрезвычайно темный и в ряде разделов хаотический сборник законоположений и раввинских поучений, складывавшийся на протяжении II–V вв. н. э. Древнейшие части этого сборника имеют, по-видимому, в своей основе более раннюю устную традицию, однако отсутствие порядка в расположении материала, хронологический и смысловой разнобой побуждают подходить к разрозненным сведениям, сообщаемым там, с большой осторожностью.
Приведем наиболее важные для рассматриваемого вопроса отрывки из Талмуда. «Учили раввины, — говорится в одном из них, — пусть всегда твоя левая рука отталкивает, а правая приближает — не так… как Иошуа бен-Перахая, который оттолкнул Иисуса (Назорея) обеими руками… А с р. Иошуа бен-Перахая, что случилось? Когда царь Яннай казнил раввинов, р. Иошуа бен-Перахая (и Иисус) отправились в Александрию в Египте. Когда настало спокойствие, послал к нему р. Шимон бен-Шетах: „…от меня священного города (Иерусалима) к тебе, Александрии Египетской (сестре моей) мой господин живет у тебя, а я остаюсь заброшенным“. Он поднялся и встретился (с ним) в некоей гостинице. Ему устроили хорошую встречу. Он сказал: „Как прекрасна эта гостиница!“ Сказал ему (Иисус) Рабби, у нее глаза слезятся. Тот ему сказал: „Грешник, так вот что тебя занимает?“ И он собрал 400 шофаров и объявил ему анафему. Пришел он (Иисус) к нему через некоторое время и сказал ему: „Прими меня“, но он не стал с ним разговаривать. Однажды он (Иошуа бен-Перахая) стал читать утреннюю молитву, встретился ему (Иисус); он думал принять его, поманил его рукой. Тот подумал, что он его отталкивает. (Тогда) он пошел, установил черепицу и стал поклоняться ей. Сказал ему (Иошуа бен-Перахая): „Вернись“. Он сказал: „Так я принял от тебя: кто согрешил и соблазнил народ, тому не предоставляют возможность покаяться“. А учитель сказал: „Иисус Назарянин занимался чародейством и свел Израиль с пути“» (Санг. 107б)[136].
Приведенный отрывок дает некоторое представление о характере этого круга источников. Некое раввиническое положение иллюстрируется здесь целым рядом как будто исторических примеров. Называются имена, приводятся туманные диалоги, фрагменты какой-то законоведческой полемики. Среди упомянутых имен наше внимание привлекает имя Иисуса. Мюнхенская и Флорентийская рукописи называют его Назарянином, фиксируя таким образом его тождество с евангельским Иисусом. Однако другие имена, упоминаемые здесь в качестве его современников, хронологически приходятся на совсем другое время. Иудейский царь Александр Яннай, прославившийся преследованием и казнями фарисеев, правил в конце II и начале I в. до н. э., деятельность Иошуа бен-Перахаи относится ко второй половине II в. до н. э., деятельность же евангельского Христа традиция относит на конец правления императора Тиберия, т. е. на 30-е годы I в. н. э.
В другом отрывке упоминается казнь Иисуса. «Накануне пасхи, — говорится там, — повесили Иисуса. И за 40 дней был объявлен клич, что его должны побить камнями за то, что он занимался колдовством: кто может сказать что-либо в его защиту, пусть придет и скажет. Но не нашли ничего в его защиту… Сказал Ула: „Допустим, он был бы бунтовщиком, тогда можно искать (поводов для) защиты; но ведь он подстрекатель (к ереси), а тора говорит: „Не жалей и не покрывай его“. Иисус — другое дело: он был близок к царскому двору“» (Санг. 43а)[137]. В нескольких местах упоминается некий бен-Стада, которого как подстрекателя подвергли тайному розыску и побили камнями (Тос. санг. X, 11)[138]. По другой версии, его повесили накануне пасхи (Санг. 67а)[139]. В Оксфордской и Мюнхенской рукописях трактата следует совершенно перепутанный и потерявший в настоящем виде смысл клубок имен и оценок, в котором, однако, проступают небезынтересные и, видимо, восходящие к раннему времени ассоциации. «Бен-Стада, — читаем мы там, — есть бен-Пандира. Сказал р. Хисда: „Стада — муж, Пандира — любовник“. (Но ведь) то был Паппос бен-Иегуда? (Значит) Стада — его мать. Его мать — Мария, завивающая волосы женщин…» (Санг. 65б)[140]. В этом вконец испорченном фрагменте представляет интерес отождествление повешенного накануне пасхи (согласно предшествующему отрывку) бен-Стады с бен-Пандирой, который в других фрагментах сопоставляется с Иисусом Назарянином Талмуда и, следовательно, с евангельским Иисусом.
Любопытен и другой отрывок: «Царапающий на теле:… Сказал р. Элиэзер мудрецам: „Ведь бен-Стада вывез магию из Египта в царапинах на теле“. Ему ответили: „Тот был ненормальным, а случай с человеком ненормальным нельзя приводить в доказательство“» (Шабб. 104б)[141]. Выше отмечалось, что в евангелии от Марка (3, 21) содержатся отзвуки аналогичной оценки Иисуса. Как можно понять из одного отрывка, к Иошуа бен-Пандире прибегали в поисках чудесного исцеления (Тос. хул. II, 22–23)[142].
Наконец, можно привести еще один отрывок из Талмуда, содержащий, по оценке некоторых исследователей, наиболее определенные сведения об Иисусе. «Случилось с р. Элиэзером, что он попался в ереси и его привели в трибунал на суд. Оказал ему тот игемон: „Такой старик, как ты, вдруг занимаешься такими делами“. Он сказал: „Праведный судья надо мною“… Когда он был отпущен трибуналом, он огорчался, что попался в ереси. Пришли ученики утешать его, но он их не принял. Вошел р. Акиба и сказал ему: „Рабби, я тебе кое-что окажу, может быть, ты не станешь убиваться“. Он сказал: „Скажи“. Тот сказал: „Может быть кто-либо из минов[143] сказал тебе что-либо минейское, и оно тебе понравилось?“ — Тот сказал: „О небо, ты мне напомнил. Однажды я гулял по улицам Сепории и встретил Якова из села Секаньи; он мне сказал минейское изречение от имени Иошуа бен-Пандиры и оно мне понравилось — (тем самым) я оказался виновным в минействе…“» (Тос. хул. II, 24)[144].
Вариант этого отрывка, приведенный А. Робертсоном, как будто еще более определенен. «Однажды я гулял по верхней улице Сепории и встретил одного из учеников Иисуса Назарянина, которого звали Яков из Кефар-Сехании. Он сказал мне: „В вашем законе написано: не вноси платы блудницы в дом Господа Бога твоего… А можно использовать эти деньги на отхожее место для первосвященника?“ Я не знал, что ответить ему. Тогда он сказал мне: „Вот чему меня учил Иисус Назарянин: Из заработанное блудницей собрала она это, и на плату блуднице они это и истратят; из нечистоты пришло и в нечистое место вернется“» (Аб. Зара 166 — 17а)[145].
В этих двух отрывках имя Иисуса Назарянина совмещается с именем Иошуа бен-Пандиры, свидетельствуя как будто об их тождестве. Законоучители Элиэзер бен-Гирканос и Акиба жили но второй половине I и первых десятилетиях II в. н. э. Некоторые исследователи считают возможным усматривать в этих отрывках отзвуки подлинных, иронизирующих над иерусалимскими священниками изречений, которые современники связывали с именем Иошуа бен-Пандиры — Иисуса Назарянина.
В связи с рассмотренными фрагментами из Талмуда уместно привести свидетельство караимского писателя X в. Киркисани. Он, рассказывая о сектах Иудеи I в. до н. э. и, в частности, о секте, которую он называет пещерной (возможно, ее следует сопоставить с кумранской), пишет: «Вскоре там появился Иешуа, который, по словам раввинов, был сыном Пандиры; он известен как Иисус, сын Марии. Он жил в дни Иешуа сына-Перахаи, о котором говорят, что он был дядей Иисуса со стороны матери. Это произошло в царство Августа Цезаря, императора Рима, т. е. в период второго храма»[146].
Другое свидетельство, восходящее к известному церковному деятелю IV–V вв. Иерониму, приписывает эссенам утверждение, «что сам Христос был тем, кто научил их всякому воздержанию»[147].
Последней группой материалов, которые могут быть привлечены для рассматриваемого вопроса, являются свидетельства античных критиков христианства. В этой группе источников содержатся аргументы против христианского вероучения, не утратившие, в ряде случаев, своего значения и поныне. Античные критики христианства приоткрывают обстановку, благоприятствовавшую христианскому мифотворчеству и некритическому восприятию таких мифов современниками. Наконец, в них можно найти некоторые упоминания об Иисусе Христе. В каком облике он предстает в этом круге памятников?
В сочинении Цельса в ходе очень аргументированной антихристианской полемики несколько раз упомянут Иисус. «Совсем недавно, — писал Цельс, — проповедовал он это учение, и христиане признали его сыном божьим… Они были обмануты и восприняли учение, портящее жизнь человеку»[148]. Здесь автор как будто вполне определенно говорит об Иисусе, проповеднике, которого его приверженцы возвели в бога. Далее Цельс приводит версию, отзвуки которой удержались в какой-то мере в евангелиях и в Талмуде и которая у него имеет определенную антихристианскую направленность. При этом Цельс и его источники смотрят на Иисуса как на реальный персонаж, оспаривая, однако, его божественное происхождение и другие евангельские мифы. «(Иисус), — пишет Цельс, — выдумал свое рождение от девы. Он родился в иудейской деревне от местной женщины, нищей пряхи; уличенная в прелюбодеянии, она была выгнана своим мужем, плотником по ремеслу. (Она была уличена в прелюбодеянии и родила от какого-то солдата, по имени Пантера.) Отвергнутая мужем, она, позорно скитаясь, родила втайне Иисуса. Этот, нанявшись по бедности поденщиком в Египте и искусившись там в некоторых способностях, которыми египтяне славятся, вернулся гордый своими способностями и на этом основании объявил себя богом»[149]. В другом месте Цельс говорит, что «тем, которые желают быть обмануты, много явилось таких, каким был Иисус»[150], недвусмысленно сопоставляя его с многочисленными пророками, колдунами, чудотворцами, о которых говорилось выше. Подвергнув обстоятельной критике евангельские мифы о Христе, автор «Правдивого слова» заключает: «Итак, Иисус был человеком, притом таким, каким его рисует истина и показывает разум»[151]. Полемизируя далее с христианскими проповедниками и возражая против их тезиса, что в теле Иисуса был дух божий, он говорит: «А между тем (тело Иисуса) ничем не отличалось от других и, как говорят (разрядка моя. — М. К.), не выделялось ростом, красотой, стройностью»[152]. В другом месте он укоряет христиан за то, что они объявляют богом «(человека), прожившего самую бесславную жизнь и умершего самой жалкой смертью»[153]. Создается впечатление, что для Цельса евангельский Христос — оплетенный мифами и небылицами человек, некий пророк и колдун, о котором еще во II в. сохранились какие-то недоброжелательные рассказы. Подбирая аргументы противоевангельских мифов о богочеловеке, античная критика христианства не выдвинула, однако, аргумента о мифичности человека Иисуса. Такая позиция свойственна не только Цельсу, но и другим античным писателям, посвятившим специальные сочинения развенчанию христианства. Впрочем, надо признать, что в древности общепринято было верить в земное существование не только Иисуса, но и заведомо нереальных персонажей и героев, таких, как Геракл, Тесей, Ромул и многих многих других.
Крупный римский чиновник, наместник провинции Вифиния в начале IV в. Гиерокл, фрагменты сочинения которого сохранились у христианских апологетов Евсевия и Лактанция, также ведет огонь лишь против обожествления Иисуса, указывая на то, что античный мир знал много людей, творивших чудеса. Одним из примеров такого рода может служить жрец бога Асклепия Аполлоний Тианский, младший современник евангельского персонажа. «…Аполлоний, — говорит Гиерокл, — совершил такие же или даже более великие дела»[154]. Однако образованные «язычники» оценили Аполлония лишь как угодного богу человека. Что касается деяний Иисуса, то о них «раструбили Петр и Павел и кое-какие близкие им лица». Таким образом, Гиерокл, развенчивая божественность Иисуса, не оспаривает, однако, историчность самого этого персонажа.
Аналогичной позиции придерживается и император Юлиан, написавший сочинение в трех книгах «Против христиан»[155].
Таковы различные по своей научной и исторической ценности свидетельства источников. Они подводят нас к вопросу, который сам по себе имеет лишь второстепенное значение для истории происхождения христианства, но тем не менее на протяжении двух столетий был предметом многочисленных дискуссий.
Глава восьмая. Вопрос об историчности Иисуса. Пределы спорного
В 1956–1959 гг. в советской научной литературе возникла полемика по вопросу об историчности Христа. Поводом послужила книга английского историка христианства, коммуниста А. Робертсона, вышедшая в русском переводе в 1956 г. В предисловии к ней советский исследователь С. И. Ковалев, положительно оценивая ее антиклерикальный характер и марксистскую методологию, отмечает, однако, как серьезный недостаток признание Робертсоном историчности Иисуса из Назарета.
Правда, Иисус Робертсона — всего лишь ничтожное «материальное» зерно в отвалах евангельских мифов. «Каким-то образом, — пишет автор, — некогда исторически существовавший человек, о котором нам известно крайне мало, но о реальности существования которого мы можем заключить на основании свидетельств Тацита и Талмуда и анализа синоптических документов, сделался объектом явно мифических рассказов — рассказов о воплотившемся боге, о непорочном зачатии, о таинственной смерти, погребении и воскресении…»[156] На это С. И. Ковалев замечает, что поскольку в концепции А. Робертсона о происхождении христианства это признание никакой роли не играет, то для чего же нужен историку «исторический Иисус?»[157].
Далее, рассматривая одно за другим приводимые Робертсоном доказательства, автор предисловия противопоставляет им свои контраргументы.
Первым хронологическим свидетельством в пользу историчности Христа Робертсон считает приводившиеся нами выше строки историка Светония, где тот в связи с биографией императора Клавдия[158] говорит об изгнании из Рима иудеев, называя при этом некоего Хреста.
С. И. Ковалев замечает, что распространенное греческое имя Хрест (Chrestus) не однозначно христианскому Христос (Christus). Кроме того, он не допускает, чтобы через 10–15 лет после традиционной даты смерти Христа в Риме могло быть много его последователей.
Другой аргумент Робертсона — свидетельство Тацита. Описывая события в Риме в связи с пожаром 64 г. н. э., Тацит говорит об уловке Нерона, который, чтобы отвлечь от себя подозрения в поджоге города, обвинил людей, называемых чернью христианами. Затем Тацит поясняет, что название это происходит от имени Христа, который положил начало этому «пагубному суеверию» и был казнен прокуратором Понтием Пилатом в правление императора Тиберия[159].
С. И. Ковалев выдвигает против этого отрывка из Тацита ряд возражений. Он говорит, что трудно представить себе, чтобы так рано, при Нероне, название «христиане» было широко распространено, и замечает, что «Христос» — имя не собственное, а нарицательное. Представляется странным, чтобы Тацит, прекрасный знаток греческого языка, не понимал этого. Ковалев говорит далее, что непонятно, почему Тацит упоминает второстепенного во всех отношениях Понтия Пилата, непонятно, в чем признавались христиане — в поджоге или в христианстве, и, наконец, неправдоподобна опенка их количества как огромного для столь раннего времени.
Отсюда делается предположение, что либо это место является вставкой позднейшего христианского переписчика, либо сам Тацит некритически воспринял россказни своих современников — христиан, живших на полстолетие позже описываемых им событий.
Из этих же соображений С. И. Ковалев отклоняет сообщение Светония о христианах, относящееся тоже ко времени Нерона. Он считает, что Светоний либо взял эти сведения у Тацита, либо некритически позаимствовал их у тех же христиан.
Что касается известного письма Плиния Младшего Траяну, С. И. Ковалев полагает, что есть много оснований считать это письмо христианской фальшивкой; конец письма, где говорится о большом распространении христианства в этой провинции в начале II в. н. э., безусловная подделка. Если даже допустить подлинность остальной части письма, все равно там ничего не говорится об историческом существовании Иисуса.
Аналогично отношение С. И. Ковалева и к упоминаниям о христианах у Иосифа Флавия. Первое — явная подделка. Заметка же о казни Иакова — брата Иисуса, «именуемого Христом», также отвергается как ничего не доказывающая.
Заключая, таким образом, что Иосиф Флавий молчит о христианстве в Палестине, С. И. Ковалев объясняет это вообще отсутствием там во времена Иосифа христиан. И если отбросить исторического Иисуса, уроженца Палестины, как позднейшую евангельскую конструкцию и учесть, что Апокалипсис не знает палестинских христиан, можно прийти к выводу о внепалестинском происхождении христианства.
Переходя к свидетельствам Талмуда, которым Робертсон придает определенное значение, С. И. Ковалев пишет: «Древнейшие части его (Талмуда. — М. К.) — Мишна и Тозефта — написаны не раньше конца II в. н. э. на основании устной традиции. Гемара составлена еще позднее. Иисус фигурирует там под именами то Иисуса Назарянина, то Иошуа бен-Пандиры, то Иошуа бен-Стады. Он колдун, научившийся колдовству в Египте. Его мать — Мария Магдалина(!). По одному варианту Иисуса побили камнями, по другому — повесили „накануне пасхи“. Время его жизни датируется то началом I в. до н. э. (иудейский царь Александр Яннай), то началом II в. н. э. (равви Элиэзер бен-Гирканос). Встречается и ряд других несообразностей. Это показывает, что сообщения Талмуда лишены всякой исторической достоверности. Собственной, независимой от христианской, традиции об Иисусе в Талмуде нет. То, что там говорится о нем, является искажением евангельского мифа, вызванным раввинской полемикой с христианством»[160].
Таким образом, заключает С. И. Ковалев, ни одно нехристианское свидетельство историчности Христа не может быть принято во внимание. Кроме того, если был исторический Иисус, то почему о нем молчат александриец Филон, который должен бы хорошо знать дела в Палестине, Дион Хрисостом, уроженец Вифинии, живший в это же время, наконец, Юст из Тивериады — земляк и современник Иисуса?
К этим доводам надо присоединить еще один, едва ли не самый существенный, который неоднократно приводится С. И. Ковалевым и другими исследователями и который частично раскрыт автором и в предисловии к книге Робертсона. Основа его неразрывно связана с определенной схемой относительной хронологии новозаветных произведений. В самых общих чертах она выглядит так. Наиболее ранним произведением христианства на основе внутреннего анализа признается Апокалипсис. За ним помещаются ранние Послания Павла (сюда входят Послание к римлянам, два Послания к коринфянам и Послание к галатам). Четыре канонических евангелия в целом и Деяния апостолов составляют заключительное звено и отражают последний этап формирования христианства.
Если, основываясь на этой системе относительной хронологии, проследить, как развивался образ Христа от произведения к произведению, то окажется, что в Апокалипсисе упоминающийся здесь Иисус не наделен никакими человеческими чертами и, по-видимому, должен быть отождествлен с семиглавым и семирогим небесным Агнцем, мистически предназначенным к жертвенной роли еще «от создания мира».
В следующем звене — упомянутых выше четырех ранних Посланиях Павла — мы имеем дело с «безмолвствующим» Иисусом. Он наделен некоторыми человеческими чертами. Но автор посланий не прибегает в своих увещеваниях и полемике к ссылкам на так называемые «речения Иисуса», которыми переполнены евангелия. Только в евангелиях обрисованы черты земной «биографии» и «речи» и другие обстоятельства его деятельности.
Отсюда следует принятое рядом исследователей положение, что формирование евангельского мифа о Христе шло от Иисуса-бога — апокалиптического Агнца к евангельскому богочеловеку, мистически совместившему и те и другие черты. При таком решении не остается места для «исторического зерна», поскольку исходным в евангельском образе оказывается чистый миф.
В 1959 г. вышло второе издание русского перевода книги А. Робертсона, в котором автор выступил с ответом на возражения С. И. Ковалева.
В своем ответе Робертсон, как и С. И. Ковалев, во-первых, подчеркивает, что признание или отрицание историчности некоего персонажа по имени Иисус, вокруг которого затем сложились евангельские мифы, отнюдь не затрагивает марксистской методологии. Это — вопрос частный. Материалистическое понимание истории не препятствует его положительному решению, а такое решение, в свою очередь, не льет «воду на мельницу клерикализма» — упрек, брошенный Робертсону Ковалевым.
Возвращаясь к источникам, по которым идет спор, Робертсон замечает, что имена Хрестос и Христос легко смешивались. И что, как это отмечает Тертуллиан, даже в его время слово «христианин» часто произносили как «хрестианин»[161]. Светоний вполне мог поступить таким же образом, тем более, что распространенное в то время имя Хрестос был гораздо более привычно, чем Христос — помазанник.
Ставя вопрос о том, кого римский плебс в 64 г. называл христианами, Робертсон отвечает: «Очевидно, что последователей еврейского мессии, или Христа, — точно так же, как преверженцев Цезаря, называли цезарианцами, приверженцев Помпея — помпеянцами, Ирода— иродианцами»[162]. Отклоняя и другие частные возражения, Робертсон рассматривает более общий вопрос: не является ли этот абзац «Анналов» Тацита христианской интерполяцией или изложением свидетельств самих христиан? Согласно Робертсону, достаточно вчитаться в эти строки, где христианство названо «пагубным суеверием», где слова «гнусность», «ненависть к роду человеческому» вместе с признанием необходимости «крайних наказаний» сопровождают рассказ о гонениях, чтобы понять, что они не могли быть ни христианской вставкой в текст Тацита, ни изложением христианской версии. К тому же, отмечает Робертсон, Тацит, который жил и действовал в непосредственном территориальном и хронологическом «соседстве» с описываемыми событиями, конечно, знал о них не из чужих свидетельств.
Относительно послания Плиния Младшего Траяну Робертсон соглашается с мнением С. И. Ковалева в том отношении, что этот отрывок ничего не дает для рассматриваемого вопроса. Но зато он решительно отклоняет тезис своего оппонента относительно того, что Иосиф Флавий, который ближе всего стоял по своему происхождению и деятельности к Палестине эпохи возникновения христианства, ничего не знал о нем. «Несомненно одно, — пишет он, — если Иосиф все же дал враждебное описание первоначального христианства, то христиане после прихода к власти должны были уничтожить эти строки, как они уничтожили все антихристианские произведения Цельса… Порфирия, Гиерокла, Юлиана, а возможно, еще многих других, о ком мы не знаем»[163]. Он также полемизирует с тезисом о внепалестинском происхождении христианства, утверждая, что весь круг имеющихся материалов указывает как раз на Палестину.
Наконец, Робертсон еще раз ссылается на доводы, приводимые им в книге. Хотя Талмуд не является историческим произведением и состав его пестр и хронологически разнороден, там можно встретить отдельные упоминания имени Иисуса Назарянина. Робертсон считает особенно ценным упоминание имени Иисуса Назарянина в эпизоде, связанном с известным законоучителем равви Акибой, деятельность которого относится к концу I — началу II в. н. э. Он считает, что упоминавшийся там эпизод может восходить ко времени самого Иисуса[164].
Далее Робертсон ссылается и на то, «что ни один из античных авторов, высказывания которых нам известны, не сомневается в историческом существовании Иисуса»[165]: Плиний говорит, что христиане Вифинии «воспевали… Христа, как бога», Лукиан называет Христа «распятым мудрецом», Цельс считает Иисуса «вождем мятежа», Гиерокл описывает Иисуса как разбойника, возглавлявшего шайку в 90 человек (реминисценции III в. о каких-то смутах, связанных с его именем). «Все дошедшие до нас свидетельства евреев и язычников, — заключает А. Робертсон, — равно как и доказательства, вытекающие из самого текста синоптических евангелий, говорят против теории мифа в ее чистом виде (разрядка моя. — М. К.), хотя это не может умалить важности вклада, который эта теория должна будет внести во всякое правильное решение»[166].
Наконец, А. Робертсон останавливается на вопросах датировки раннехристианской литературы. Следует заметить, что упомянутая выше схема относительной хронологии новозаветных произведений сыграла важную роль в их научной критике. Исторически ее достоинство — в самом подходе и этим вопросам и, в частности, в том, что, будучи основана на внутреннем анализе новозаветных произведений и других научных методах, она способствовала развенчанию церковной хронологии. Многие выводы, основанные на таких приемах исследования, сделались общепризнанными. Так, считают, что евангелие от Марка старше евангелия от Матфея, хотя в церковном каноне первым стоит Матфей. То же можно сказать и относительно составных частей одного и того же новозаветного произведения. Критический анализ выявил разновременность и разнородность многих из этих частей, хронологическую непоследовательность их размещения и т. п.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в рамках этого общего подхода к критике новозаветных текстов пока еще возможны различные решения некоторых конкретных и частных вопросов. И хронологическая цепочка: Апокалипсис — четыре ранних Послания Павла — евангелия — Деяния, которой придерживается ряд известных исследователей, является лишь одной из научных гипотез. Согласно же схеме Робертсона, хронологический ряд составляют: во-первых, подлинные части Посланий Павла, которые он связывает с «мы» — отрывками в Деяниях апостолов. Затем некоторые древнейшие части Апокалипсиса. За ним «первоевангелие», под которым Робертсон подразумевает какое-то утраченное произведение, послужившее основой синоптических евангелий. Что касается канонических евангелий в их современном виде, то Робертсон датирует их временем от 70-х годов I в. н. э. до середины II в. н. э., «когда были добавлены последние штрихи и каноническое четвероевангелие приняло окончательный вид»[167]. При таком хронологическом размещении новозаветных произведений теория «чистого мифа», т. е. эволюции образа евангельского Христа от апокалиптического Агнца к человеку, оказывается невозможной.
Едва ли уместно рассматривать здесь многочисленные обоснования каждой из этих гипотез. Обе имеют свои достоинства, удовлетворительно объясняя те или иные явления, связанные с критикой новозаветных текстов. Но вместе с тем остается ряд других проблем, которые не поддаются пока объяснению на основе только одной или другой схемы, и ни одна из них не исчерпывает на данном этапе исследования всего круга вопросов хронологии раннехристианских произведений.
Полемика С. И. Ковалева с А. Робертсоном представляет интерес во многих отношениях. Во-первых, она обрисовывает современное состояние вопроса об историчности Христа. При этом более ясно очерчиваются и пределы спорного.
Речь идет не о том, жил ли Христос догматического богословия, Христос, родившийся в непорочном зачатии, ходивший по воде как по суше, воскрешавший других и воскресший сам, вознесшийся на небо и обещавший спасение. Научная критика уже давно выявила круг мифологических сказаний, к которым восходят эти евангельские мифы. Их дохристианская «языческая» подоснова сейчас уже не предмет спора. В этом большая заслуга целой когорты ученых и исторической и мифологической школы. На одном краю этого длинного ряда стоят имена английского философа-материалиста Джона Толанда, немецкого профессора восточных языков Реймаруса, французского аббата Жана Мелье, которые еще в конце XVII — начале XVIII в. на основе рационалистической критики Священного писания пришли к важным результатам. На другом конце ряда — датский литературный критик Брандес, поляк Немоевский, французы Дюжарден и Кушу, англичанин Райлендс, американец Вильям Бенджамен Смит. Это уже наши современники, представители мифологической школы первой половины XX в. Между этими двумя вехами — два с половиной столетия плодотворных исследований и множество крупнейших общепризнанных имен: немецкий философ Бруно Бауэр и всемирно известный английский этнолог Дж. Фрэзер, систематизировавший необозримый материал по сравнительной истории религии, английский ученый Дж. Робертсон, автор «Мифа о Христе», А. Древс и многие другие.
Не является опорным и вопрос о недостоверности значительной части евангельских «исторических» повествований. Блестящая плеяда исследователей выявила в новозаветной литературе бесчисленные противоречия, исторические нелепости и хронологические ошибки. Было установлено, например, что канонизированная последовательность размещения новозаветных произведений, которая принята догматическим богословием, не отвечает хронологической их последовательности: евангелие от Марка старше евангелия от Матфея. Была выявлена многослойность евангелий. Даже в древнейшем евангелии от Марка найдено несколько напластований. Вариант, вошедший в канон, представляет собой компиляцию, составленную из нескольких источников. В свою очередь евангелие от Марка было использовано авторами евангелий от Матфея и Луки: к «рассказам Марка» они компиляторски присоединили другие — рассказ о рождении Иисуса, некоторые логии — так называемые речения Иисуса и т. п. Бесспорны различия и противоречия между тремя синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна. Например, у Марка Иисус в качестве носителя откровения действует меньше года, а у Иоанна его деятельность длится несколько лет. В евангелии от Иоанна также обнаруживают два слоя повествования, однако отличающихся от напластований у синоптиков. Разумеется, такой характер новозаветной литературы, в частности евангелий, вобравших в себя разновременные и разноречивые материалы, не мог не отразиться на содержании этих произведений. Они полны идейных, исторических, хронологических противоречий и несообразностей. Они носят на себе следы различных тенденций, и это тоже не является в настоящее время предметом спора. Это прочно установлено исследованиями Д. Штрауса, автора нашумевшей в свое время книги «Жизнь Иисуса», протестантского богослова А. Гарнака, бывшего аббата А. Луази, М. Гогеля и многих других.
Среди плеяды ученых, внесших свой вклад в научную критику новозаветной литературы, немало теологов. Многие из них стремились очистить христианство от нелепостей и противоречий и применить его к современным условиям. Однако объективно их критика помогла установить недостоверность евангельских сказаний, примеры которых мы приводили выше.
Предметом спора в упомянутой выше дискуссии является лишь вопрос о существовании или отсутствии в мифах о Христе некоего исторического зерна, вокруг которого затем и наслоились разнообразные легенды и различные идейные и религиозные учения, нашедшие свое литературное оформление и некий синтез в Новом завете.
С. И. Ковалев отвечает на этот вопрос отрицательно. Он отвергает реальное существование некоего маленького проповедника одного из локальных религиозных движений того времени, который затем, в процессе формирования христианства был превращен религиозным мифотворчеством в великую фигуру, утратившую земные и реалистические очертания. «Исторически, — заявляет С. И. Ковалев, — формирование христианства шло не от человека к богу, а наоборот, от бога к человеку»[168].
А. Робертсон отвечает на этот же вопрос положительно. Рациональное зерно могло быть, и его следует искать в социальных движениях в Палестине I в. н. э., связанных с эссенами. «Вокруг распятого вождя этого движения, — пишет он, — или, что более вероятно, вокруг слившихся легенд о нескольких вождях был создан первоначальный евангельский рассказ»[169]. Отвечая на контраргументы своего оппонента, он в послесловии ко второму русскому изданию своей книги пишет: «Я не попал в эвгемерическую ловушку. Речь идет не об обожествленном человеке. Речь также не идет и об очеловеченном боге. Речь идет, как я пытаюсь разъяснить, о двух противоположных движениях: 1) о народном мессианизме, движении, которое „связывалось с именем то одного, то другого вождя и было в состоянии пережить смерть многих из них“ — одним из таких вождей был Иисус Назарянин, и 2) о мистическом культе „Христа Иисуса“, пропагандировавшемся Павлом и другими для противодействия народному мессианизму. Речь идет… об этих двух противоположных движениях… сливающихся в одно для того, чтобы выжить. Это объективное слияние противоположностей отражается в теологической догме о богочеловеке, который является не двумя, а одним Христом. Прекрасный урок диалектики, которым пренебрегают буржуазные ученые, но, разумеется, не марксисты!»[170].
Полемика С. И. Ковалева и А. Робертсона примечательна еще и в том отношении, что оба ученых — советский и английский — стоят на позициях материалистического понимания исторического процесса и что различные решения, выдвигаемые ими, идут в русле общей для обоих марксистской методологии.
В этой связи необходимо еще раз со всей определенностью подчеркнуть, что вопрос об историческом ядре евангельских персонажей не является ни решающим, ни первостепенным в идейной борьбе атеизма против богословия. Как раз апологетическое богословие стремится представить дело таким образом, будто в истории происхождения христианства центральным стержнем, причиной и следствием является Иисус Христос.
Личность Иисуса Христа, его смерть и воскресение являются «центром центра, собственным сердцем современного христианства», пишет современный православный апологет[171], отвергая тем самым самую постановку вопроса о социальных и идейных предпосылках этой религии. Его католический собрат также усматривает особенность первой христианской общины исключительно «…в том абсолютно центральном месте, которое занимает там личность Христа, его смерть и воскресение»[172].
Таких же взглядов в общем придерживается и ряд зарубежных клерикальных ученых, усматривающих в евангельском Христе с его «парадоксом воплощения», его воскресением и сотворенными чудесами центральный стержень истории христианства. «Я глубоко убежден, — пишет один из них, — что историческое явление бога в Иисусе из Назарета должно быть краеугольным камнем любой веры, если она действительно христианская»[173].
Другой оттенок этой абсолютизации личности Иисуса заметен в словах современного зарубежного историка христианства, который писал, что «Иисус в свою эпоху стоял совершенно один среди своего народа. Он сражался с религией Торы. Но он закончил эту борьбу абсолютно одиноким, без всякого союза с какой-либо духовной или политической силой античного мира»[174].
Таким образом, сведение истории формирования христианства к личности Христа, изображаемого богочеловеком, носителем божественного откровения, гениальной личностью, одиноко возвышающейся над своей эпохой и своими современниками, не связанной с ними никакими социальными и идейными связями, роднит своей идеалистической основой христианских богословов с рядом зарубежных ученых клерикального толка.
В научной полемике с этими направлениями важно развенчание самой постановки вопроса о Христе как «центре центра» истории христианства. И авторы некоторых популярных брошюр и лекций, сводившие весь пафос своей полемики с христианством к тезису «Христа не было», незаметно для себя смещали центр тяжести всей проблемы происхождения христианства в сторону личности Иисуса Христа.
История раннего христианства — это не история проповеди Христа, не история внедрения беспрецедентных, сотворенных на небесах нравственных устоев, уникального вероучения и готовой церковной организации, как это утверждает догматическое богословие. Христианство не упало на землю как метеор и не является продуктом «божьего глагола». Оно порождено в первую очередь теми социально-экономическими и политическими условиями бытия различных общественных групп Римской империи, которые мы уже рассмотрели. Оно — результат синкретизма и синтеза — механической смеси и органического соединения различных социальных, идейных и религиозных течений первых веков нашей эры, на основе которых и созидались новые нормы. Так называемый pax Romana (римский мир) — лицемерная декларация внешнего благополучия, прикрывавшая глубокие социальные и нравственные язвы римского общества — явился и фоном и ареной формирующегося христианства. Энергия обездоленных низов общества питала различные оппозиционные движения эпохи. Специфика времени и давление военно-бюрократической государственной машины придавали этим социальным движениям религиозную окраску. Поиски социальной справедливости и отвечающих ей новых нравственных устоев сочетались с религиозными исканиями. И все они в общем отражали проблему, которая могла быть выражена вполне житейским вопросом: как жить? Это была проблема века. И хотя решалась она различными общественными группами по-разному, вставала она одинаково перед всеми.
Корни успехов раннего христианства заключались как раз в том, что в условиях кризиса рабовладельческого способа производства и надвигающегося кризиса всей формации, в условиях все более явственно проступающего банкротства этических норм, вызванных несостоятельностью всего рабовладельческого уклада, в условиях углубляющегося кризиса самой римской государственности христианство сделало попытку дать ответ на все эти проблемы века. Разумеется, этот ответ базировался на противоречивых началах, присущих самой эпохе и отразившихся в рассмотренных выше идеях эпохи. Дух бунтарства и дух непротивления, идея всеобщей любви и идея ненависти к угнетателям и поработителям, вера в загробное воздаяние и неверие в потустороннее существование — все эти противоречивые начала отразились в многочисленных течениях внутри самого христианства и отложились в противоречивых евангельских поучениях, выдававшихся за изречения Иисуса. В конце концов революционная идея равенства всех людей — эллинов и скифов, варваров и иудеев, обрезанных и необрезанных, рабов и свободных — идея, являвшаяся, вероятно, знаменем многих раннехристианских бунтарских движений, была выхолощена в идею равенства перед богом, равенства в первородном грехе. Но в первоначальном христианском движении она должна была иметь земной, а не потусторонний характер.
Сходным образом христианство вобрало, частично переработав, и религиозные идеи века, среди которых важнейшей являлась идея о небесном освободителе — мессии. Ожидание его близкого (первоначально) прихода и суда давало иллюзорный выход социальным чаяниям общества. Оно порождало надежду на божественное установление мира социальной гармонии и справедливости. А легенда о его воскресении после смерти позволяла надеяться на конечное воскресение уверовавших в него. Все эти движения общественной мысли, все эти старые и новые мифы формирующееся христианство могло группировать вокруг личности некоего проповедника, одного из многих «пророков» и «чудотворцев» эпохи.
Вопрос об историческом зерне евангельского мифа о Христе, вопрос о том, стоял ли (или нет) у истоков христианства некий безвестный иудейский проповедник, который позднее религиозным мифотворчеством и христианской апологетикой был превращен в великую, неземную мистическую фигуру, безусловно представляет интерес для истории. В связи с этим можно заметить, что научные достижения последних десятилетий, столь разрушительно отозвавшиеся на христианской догматике, вселяют уверенность в возможность исчерпывающего решения и этого вопроса. Упоминавшиеся выше открытия апокрифических евангелий, посланий, деяний, апокалипсисов в Верхнем Египте открывают возможность сопоставления их с каноническими новозаветными произведениями. Это принесет свои плоды и в решении вопроса о характере, составе, хронологической последовательности и новозаветных произведений. Дальнейшее изучение кумранских материалов, уже открывших столь блестящую страницу в истории науки, несомненно позволит нам более всесторонне уяснить влияние идеологии, обрядности, этических установлений и социальных идеалов этой еретической по отношению к официальному иудаизму секты на раннехристианские установления и идеалы.
Наконец, современные физические методы изучения исторических материалов, исследование как вновь найденных, так и старых рукописей в отношении их состава, авторства, относительной хронологии и т. п. — область новая, но чрезвычайно перспективная — обещают в будущем обоснованные решения многих вопросов происхождения христианства.
Однако не вопрос о наличии или отсутствии исторического зерна в евангельском мифе о Христе составляет существо проблемы происхождения христианства. Материальные условия жизни людей, социальные язвы римского рабовладельческого общества, сложный и противоречивый круг духовных исканий и идей — вот что явилось и стимулом, и «творцом» самой христианской религии, и ранних ее деятелей, и «сияющего образа» мистического евангельского Христа.
Аннотированный словарь имен, названий и терминов
Авгур — древнеримский жрец, предсказывавший будущее по полету птиц.
Аид — см. Плутон.
Акиба — (ок. 50—132 гг.) — «отец талмудического иудаизма», видный религиозный и общественный деятель Иудеи.
Александр Янай (103—76 гг. до н. э.) — иудейский царь из династии Хасмонеев.
Александрийская библиотека — крупнейшее собрание рукописей древности. Была основана в Египте в г. Александрии в начале III в. до н. э.
Альбин — римский прокуратор Иудеи в 61–64 гг.
Амон — верховный бог древнеегипетского пантеона, покровитель царской власти.
Анан — первосвященник иерусалимского храма в 62 г.
Антиохия — город в древней Сирии, один из крупных центров раннего христианства.
Антоний Марк (ок. 83–30 гг. до н. э) — участник второго триумвирата.
Антонин Пий (86—161 гг. н. э) — римский император.
Анубис — древнеегипетский бог, участник загробного суда Осириса.
Аполлон — древнегреческий бог солнца, мудрости, искусства.
Апологет — защитник; раннехристианскими апологетами называют христианских писателей II–III вв. н. э.
Апулей (род. ок. 125 г. н. э.) — римский писатель, автор ряда широко известных произведений («Метаморфозы», «Апология», «Флориды»), в которых запечатлены некоторые черты религиозных представлений его времени.
Асклепий — древнегреческий бог врачевания, сын Аполлона. «Владел» искусством воскрешения умерших.
Асс — римская разменная монета.
Аттис — фригийский бог умирающей и воскресающей природы.
Баур Фердинанд Христиан (1792–1860) — немецкий теолог, глава тюбингенской школы. Применив методы научной критики к писаниям Нового завета, пришел к значительным для своего времени выводам.
Бауэр Бруно (1809–1882) — немецкий историк и философ; автор ряда работ по истории происхождения христианства, которые были высоко оценены Энгельсом.
Библ — древнефиникийский город.
Библия — собрание разнородных и разновременных «священных» книг иудаизма и христианства. Состоит из Ветхого завета, включающего 39 (в православном каноне), и Нового завета, насчитывающего 27 произведений.
Богораз-Тан В. Г. (1865–1936) — советский ученый, этнограф, автор ряда работ, посвященных истории религии.
Брандес Георг (1842–1926) — датский публицист и литературный критик, автор нескольких работ по первоначальному христианству.
Варрон Марк Теренций (116—27 гг. до н. э.) — римский ученый, энциклопедист, автор многих сочинений, в частности и о римских богослужебных древностях.
Венера — древнеримская богиня весны, любви и красоты.
Веспасиан Тит Флавий (9—79 гг. н. э.) — римский император.
Ветераны — в древнем Риме так назывались солдаты, прослужившие длительный срок, по окончании которого они получали земельные наделы и денежное вознаграждение.
Ветхий завет — иудейская часть Библии (см. Библия).
Виппер Р. Ю. (1859–1954) — академик, историк, автор ряда работ по истории происхождения христианства.
Виссон — тонкая дорогостоящая ткань, в Библии — символ роскоши.
Вифиния — римская провинция в северо-западном углу Малой Азии.
Вифлеем (Бет-Лехем) — город в Палестине, неподалеку от Иерусалима.
Вольтер Франсуа (1694–1778) — всемирно-известный французский писатель, автор множества произведений, направленных против религиозного мракобесия католической церкви его времени.
Всадническое сословие — второе (после сенаторов) привилегированное сословие в древнем Риме, обладавшее значительным имуществом.
Второисайя — см. Исайя.
Галатия — римская провинция в центральной части Малой Азии.
Галлия — римская провинция, современная Франция.
Ганимед — в греческой мифологии виночерпий Зевса.
Ганнибал (ок. 247–183 гг. до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец.
Гарнак А. (1851–1930) — видный немецкий теолог, автор ряда работ по истории раннего христианства.
Гаруспик — древнеримский жрец, предсказывавший будущее по внутренностям животных.
Геркулес (греч. Геракл) — знаменитый герой античной мифологии.
Гермес — древнегреческий бог дорог, торговли, красноречия.
Гностицизм — религиозно-философское течение первых веков христианства.
Гогель М. (род. 1880 г.) — французский теолог, автор многочисленных работ по происхождению христианства.
Даламбер Жан (1717–1783) — французский математик и философ, участник французской «Энциклопедии».
Диаспора — рассеяние. В истории иудаизма и происхождения христианства еврейские поселения, рассеянные по различным районам древнего мира (кроме Палестины).
Домициан (51–96 гг. н. э.) — римский император.
Древс А. (1865–1935) — немецкий буржуазный философ, автор многих работ по истории раннего христианства, среди которых наиболее известна книга «Миф о Христе».
Дюжарден Э. (1861–1949) — французский писатель; написал несколько работ по раннему христианству, сторонник мифологи-ческой школы.
Евсевий Кесарийский (ок. 264–340 гг.) — епископ, автор многочисленных сочинений; наиболее известна его «Церковная история» — официальная версия истории церкви первых веков христианства.
Евхаристия — таинство причащения, а также связанное с ним богослужение.
Зевс — древнегреческий верховный бог, царь богов и людей.
Зоровавель — библейский персонаж, руководитель евреев, возвратившихся из Вавилонского пленения в Иудею (VI в. до н. э.)
Иероним (ок. 640–420 гг) — отец церкви. Ему принадлежит перевод Библии с греческого на латинский, так называемая Вульгата.
Иерусалим — столица Израильского, а со второй половины X в. Иудейского царства. Первые упоминания о нем восходят к XV в. до н. э.
«Илиада» — древнегреческая поэма, авторство которой традиция приписывает Гомеру.
Интерполяция — вставка в текст рукописи отрывков, не принадлежащих данному автору.
Иосиф Флавий (ок. 37—100 г.) — древнееврейский историк, автор «Иудейской войны», «Древностей» и других исторических сочинений.
Ипостась — сущность, основа В догматическом богословии этот термин употребляется для выражения различных образов христианского бога (бог-отец, бог-сын, святой дух).
Ирод (73—4 гг. до н. э.) — царь Иудеи, возведенный на иудейский престол римлянами.
Исайя — пророк, именем которого названа одна из книг Ветхого завета. Научная критика установила, что книга Исайи, состоит по крайней мере из трех разновременных частей. Главы 1 — 39 принято называть книгой Первоисайи; главы 40–56 — книгой Второисайи; главы 56–66 — книгой Третьеисайи.
Исида — египетская богиня плодородия, один из прообразов христианской Богородицы.
Иудея — государство в южной части Палестины, существовало со второй половины X в. до н. э.
Иштар — вавилонская богиня плодородия и любви.
Каббала — мистическое толкование священных текстов, при котором отдельным словам и числам придавалось особое символическое и магическое значение.
Калигула Гай Цезарь (12–41 гг.) — римский император.
Капитолий — один из семи холмов, на которых был расположен Рим.
Катилина Луций Сергий (108—62 гг. до н. э.) — римский политический деятель, организовавший заговор с целью установления личной диктатуры.
Кибела — «Великая матерь богов», фригийская богиня плодородия.
Киркисани Якоб (X в. н. э.) — караимский писатель.
Клавдий (10 г. до н. э. — 54 г. н. э.) — римский император.
Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птолемеев.
Климент Александрийский (ум. ок. 215 г. н. э.) — отец церкви, глава церковной школы в Александрии.
Ковалев С. И. (1886–1960) — советский историк, автор ряда работ по истории происхождения христианства.
Когорта — подразделение пехоты (600 чел.) в древнем Риме.
Кушу Поль (род. 1879) — французский врач, сторонник мифологической школы.
Лары — римские божества охранители полей; позднее лары почитались как души предков.
Левират — обычай, согласно которому вдова умершего бездетного человека должна выйти замуж за его брата, чтобы родившийся от этого брака сын стал продолжателем семьи умершего.
Легион — высшее войсковое соединение, состоявшее из 10 когорт.
Леда — в греческой мифологии возлюбленная бога Зевса, мать Елены Прекрасной.
Литургия — в христианстве церковное богослужение, связанное с таинством причащения.
Лукиан (ок. 120–180 гг. н. э.) — древнегреческий писатель, автор многих произведений, отображавших религиозные и идейные движения его времени. Энгельс назвал Лукиана «Вольтером классической древности».
Лукреций Тит Кар (ок. 99–55 гг. до н. э.) — древнеримский философ-материалист, автор знаменитой философской поэмы «О природе вещей».
Маны — первоначально божества подземного царства, позднее обожествленные души умерших.
Мардук — вавилонский верховный бог.
Марк Аврелий (121–180 гг. н.э) — римский император и философ, приверженец стоической философской школы.
Марс — римский бог войны.
Мелье Жан (1664–1729) — французский священник, автор знаменитого «Завещания», в котором он с материалистических позиций критикует вероучение христианства.
Минерва — римская богиня, покровительница ремесел, наук и искусств.
Мистерии — религиозные таинства, к участию в которых допускались лишь посвященные.
Мишна — см. Талмуд.
Монотеизм — единобожие.
Навуходоносор II (604–562 гг. до н. э.) — вавилонский царь. В 586 г. до н. э. разрушил Иерусалим и увел в плен часть его населения.
Немоевский Анджей (1864–1919) — польский писатель. Некоторые из его сочинений посвящены раннему христианству, сторонник мифологической школы.
Нерон (37–68 гг.) — римский император, прославившийся своим террористическим режимом.
Никейский собор — первое «вселенское» собрание христианских епископов. Был созван в 325 г. в Никее императором Константином.
Новый завет — христианская часть Библии.
Нундины — рыночный, свободный от полевых работ день недели, состоявшей из семи рабочих дней, заключенных между двумя нундинами.
Обол — древнегреческая медная разменная монета.
«Одиссея» — древнегреческая поэма, автором которой традиция называет Гомера.
Олимп — горный массив в северной Греции, который мифотворчество сделало жилищем верховных богов греческого Пантеона.
Опресноки — пресные лепешки, важный элемент обрядности древнееврейской пасхи.
Оргиастические культы — в древности были связаны с тайными религиозными обрядами.
Ориген (185–254 гг.) — известный христианский писатель; автор трактата «Против Цельса».
Палеография — вспомогательная историческая наука, которая по форме букв, способу написания и другим внешним факторам датирует рукописи.
Паннония — римская провинция на Дунае, современная Венгрия.
Пантеон — грандиозный храм в древнем Риме, посвященный «всем богам».
Пантикапей (ныне Керчь) — столица Боспорского царства.
Пекулий — недвижимое и движимое имущество (земельный надел, мастерская и др.), которое передается во временное владение членам семьи или рабам на условиях выплаты определенного оброка.
Первоисайя — см. Исайя.
Петроний Гай (ум. ок. 66 г. н. э.) — римский сановник, автор романа «Сатирикон».
Плиний Младший (ок. 62—113 гг.) — римский чиновник и писатель, наместник Вифинии.
Плиний Старший (23–79 гг. н. э.) — известный римский ученый, автор «Естественной истории» — своего рода энциклопедии знаний того времени.
Плутарх (ок. 46—126 гг.) — древнегреческий писатель-моралист.
Плутон (или Аид) — греческий бог подземного царства.
Помпей Гней (106—48 гг. до н. э.) — участник первого триумвирата (союза трех политических деятелей — Цезаря, Красса и Помпея).
Понтий Пилат — римский наместник Иудеи в 26–36 гг. н. э.
Порфирий (ок. 232–304 гг.) — античный философ, критик христианства, автор сочинения «Против христиан».
Претор — одно из высших должностных лиц в древнем Риме. В ряде случаев преторы назначались наместниками провинций.
Префект — высокое должностное лицо в древнем Риме.
Приап — римское божество полей, садов, деторождения.
Провинция — территории, завоеванные Римом вне Апеннинского полуострова и управлявшиеся наместниками.
Прозерпина (греч. Персефона) — дочь Деметры и Зевса; согласно греческой мифологии она была похищена Плутоном и сделалась его женой.
Прокуратор (в древнем Риме) — управляющий имением, позднее — должностное лицо, управляющее данной территорией от имени императора.
Птолемеи — династия египетских царей, основателем которой был Птолемей сын Лага (323–283 гг. до н. э.), один из полководцев Александра Македонского.
Пунические войны — три войны между Римом и Карфагеном, закончившиеся разрушением Карфагена (264–241 гг. до н. э; 218–201 гг. до н. э.; 149–146 гг. до н. э.).
Ранович А. Б. (1885–1948) — советский историк древнего мира, автор ряда работ по истории иудаизма и христианства.
Робертсон А. (1886–1961) — английский ученый-марксист, автор работ по истории происхождения христианства.
Робертсон Дж. (1856–1933) — английский исследователь раннего христианства.
Реймарус Г. С. (1694–1768) — немецкий ученый-семитолог, автор «Апологии, или Защитительного сочинения для разумно верующих в бога», в котором он подверг критическому разбору содержание евангелий.
Ренан Э. Ж. (1823–1892) — французский историк, автор ряда работ по истории раннего христианства и иудаизма.
Рея Сильвия — в римской мифологии жрица храма богини Весты, родившая от бога Марса основателей Рима Ромула и Рема.
Ригведа — сборник древнеиндийских гимнов.
Ромул и Рем — см. Рея Сильвия.
Саддукеи — религиозно-философское течение в Иудее конца республики — начала империи.
Сакральная трапеза — священная трапеза.
Светоний Гай Транквилл (75—160 гг) — римский писатель, автор биографий 12 первых римских императоров.
Селевкиды — династия царей, правивших эллинистической Сирией и смежными территориями.
Сенат — высший государственный орган древнего Рима.
Сенека, Луций Анней (ок. 6 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — крупнейший римский философ стоик, согласно определению Энгельса «дядя христианства».
Сентенция — этико-моральное изречение, нравоучение.
Серапис — важнейшее синкретическое божество эллинистического Египта, в образе которого слились черты Осириса, Асклепия, Аида и др.
Силен — низшее греческое божество.
Синедрион — верховный суд Иудеи, председателем которого являлся первосвященник иерусалимского храма.
Смит В. Б. (1850–1934) — американский математик; автор нескольких работ по проблемам происхождения христианства.
Соломон — царь объединенного Израильско-Иудейского царства середины X в. до н. э.
Спартак — глава крупнейшего восстания рабов в Риме в 74–71 гг. до н. э.
Стоик — последователь античной философской школы стоиков, получившей свое название оттого, что ее основатель Зенон выступал перед своими слушателями у портика (Стоа).
Талмуд — собрание религиозных, этических, правовых законоположений и раввинских поучений иудаизма, составившееся на протяжении II–V вв. н. э.
Тацит Публий Корнелий (ок. 55—120 гг.) — крупнейший римский историк периода империи.
Тертуллиан (ок. 160 — ок. 222 гг.) — видный христианский писатель, автор ряда апологетических работ, остро полемизирующих с «языческими» оппонентами и противниками христианства.
Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император.
Траян Марк Ульпий (53—117 гг.) — римский император.
Трибун — одно из высших должностных лиц в древнем Риме.
Толанд Джон (1670–1722) — английский философ-материалист, автор ряда работ, в которых он отвергает многие религиозные взгляды на мир и выступает против духовенства.
Тора — древнееврейское название первых пяти книг Ветхого завета, авторство которых приписано Моисею.
Унция — в терминологии римского права двенадцатая часть наследства.
Фавн — римский бог полей и лесов, покровитель стад и пастухов.
Фарисеи — религиозно-философское течение в Иудее II в. до н. э. — I в. н. э.
Федр (I в. н. э.) — древнеримский баснописец.
Фест — римский прокуратор Иудеи в 60–62 гг.
Филон Александрийский (ок. 20 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.) — древнееврейский философ, согласно определению Энгельса «отец христианства».
Фортуна — римская богиня судьбы и удачи.
Фракия — обширная область севернее Греции, завоеванная римлянами в I в. до н. э., современная Болгария.
Фрэзер Дж. Дж. (1854–1941) — английский ученый, крупный специалист в области сравнительной истории религий.
Хтонические божества — божества подземного царства.
Цельс (II в. н. э.) — римский философ, античный критик христианства, автор «Правдивого слова».
Центурион — командир центурии — «сотни».
Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.) — крупный римский оратор, политический деятель и писатель.
Шофар — трубач, который в ритуале предания анафеме трубит в бараний рог.
Штраус Д. Ф. (1808–1874) — немецкий историк раннего христианства, автор нашумевшей книги «Жизнь Иисуса», в которой он подвергает критическому анализу евангельские мифы.
Эпикур (341–270 гг. до н. э.) — выдающийся греческий философ-материалист, подвергший резкой критике религиозные представления его времени.
Эпикурийцы — последователи древнегреческого философа-материалиста Эпикура.
Эпитафия — надгробная надпись.
Эскулап — римское наименование греческого бога врачевания Асклепия.
Эссены — религиозно-философское течение в Иудее II в. до н. э. — I в. н. э.
Ювенал — римский поэт-сатирик второй половины I — начала II в. н. э.
Юнона — римская богиня, жена Юпитера.
Юпитер — верховный римский бог. Почитался как управитель богов и людей.
Ягве — древнееврейский верховный бог.
Примечания
1
Письмо, адресованное кюре соседних приходов — Ж. Meлье. Завещание, т. III. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 388.
(обратно)2
Ориген. Против Цельса, I, 8. Здесь и далее цит. по кн.: А. Ранович. Античные критики христианства М, 1935.
(обратно)3
Ориген. Против Цельса, 1, 68.
(обратно)4
Ориген. Против Цельса IV, 33.
(обратно)5
Там же, V, 2.
(обратно)6
Ж. Мелье. Завещание, т. I, гл. I, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 55 и сл.
(обратно)7
Ж. Мелье. Завещание, т. I, гл. II, стр 68.
(обратно)8
Там т. II, гл ХХХI, стр 9 и сл.
(обратно)9
Там же, т. II, гл. XXXII, стр. 15.
(обратно)10
Там же, т. II, гл. XXXI, стр. 10 и сл.
(обратно)11
Там же, т I, гл XXXIV. стр. 34.
(обратно)12
Ж. Мелье. Завещание, т. 1, гл. XXI, стр. 231 и сл.
(обратно)13
Ж. Мелье. Завещание, т. I, гл. XVIII, стр. 184 и сл.
(обратно)14
Даламбер — Вольтеру, Париж, 31 июля 1702 г. — Завещание, т. III, стр. 410.
(обратно)15
См. об этом: А. Ранович. О раннем христианстве. М., 1959, стр. 198–205; С. И. Ковалев. Из истории критики христианства. — «Ежегодник Музея истории религии и атеизма», т. III, М. — Л., 1959, стр. 46–61; Я. А. Ленцман. Происхождение христианства. М., 1960, стр. 5—21.
(обратно)16
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 22, стр. 473–474.
(обратно)17
В. М. Браун. Коммунизм и христианство. Пг., 1923, стр. 171.
(обратно)18
«Журнал Московской патриархии», 1959, № 8, стр. 73.
(обратно)19
Там же, 1960, № 9, стр. 42.
(обратно)20
И. Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря. М., 1960; С. И. Ковалев, М. М. Кубланов. Находки в иудейской пустыне. М, 1960.
(обратно)21
Doresse Les Iivres secrets des Gnostiques d’Egypte. Paris, 1958; M. К. Трофимова. Из истории идеологии II в. н. э. — «Вестник древней истории» (далее — ВДИ), 1962, № 4, стр. 66–90.
(обратно)22
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 21, стр. 7—13.
(обратно)23
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 19, стр. 310.
(обратно)24
Е. М. Штаерман. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М, 1967, стр. 53 и сл.
(обратно)25
Формин — городок в Лации.
(обратно)26
Плиний Младший. Письма, III, 14.
(обратно)27
Сенека. Письма к Луцилию, 107.
(обратно)28
Ювенал. Сатиры, XIV, 15–25.
(обратно)29
Е. М Штаерман. Рабы и отпущенники в социальной борьбе конца республики — ВДИ, 1962, № 1, стр. 24.
(обратно)30
Р. Ю. Виппер. Рим и раннее христианство. М., 1954, стр. 27.
(обратно)31
Тацит. Анналы, II, 39–40.
(обратно)32
Там же, IV, 27.
(обратно)33
В состав фамилии в древнем Риме входили, кроме возглавляющей ее семьи свободных граждан, также и принадлежащие им рабы.
(обратно)34
Тацит. Анналы, XIV, 44.
(обратно)35
Тацит. Анналы, I, 31,
(обратно)36
Там же, I, 32.
(обратно)37
Тацит. Агрикола, 30.
(обратно)38
Иосиф Флавий Древности, XVIII, 1, 4.
(обратно)39
Там же, XVII, 2, 4.
(обратно)40
Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 1, 5.
(обратно)41
Там же, XVIII, 1, 6.
(обратно)42
Иосиф Флавий. Иудейская война, II, 17, 6.
(обратно)43
Там же, IV, 9, 4.
(обратно)44
Там же, II, 13, 6.
(обратно)45
Там же, VII, 8, 2.
(обратно)46
Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 5, 2.
(обратно)47
Там же, XVIII, 4, 1.
(обратно)48
Иосиф Флавий. Древности, XX, 5, 1.
(обратно)49
Его же. Иудейская война, II, 13, 5.
(обратно)50
Его же. Древности, XX, 8, 6.
(обратно)51
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 19, стр. 311.
(обратно)52
Ювенал. Сатиры, I, 37–41, 63–70, 73–76. 87–90, 92–93.
(обратно)53
Здесь и далее мы пользуемся огромным фактическим материалом, собранным и обработанным Е. М. Штаерман в ее книге «Мораль и религия угнетенных классов Римской империи» (М., 1961).
(обратно)54
Тацит. Анналы, XIII, 32.
(обратно)55
Сенека. О блаженной жизни, 24.
(обратно)56
Лукиан. Сновидение, или Жизнь Лукиана, 9, 13.
(обратно)57
Цит. по кн.: Е. М. Штаерман. Кризис рабовладельческого строя…, стр. 129.
(обратно)58
Там же, стр. 131.
(обратно)59
Е. М. Штаерман. Мораль и религия…, стр. 92.
(обратно)60
Там же, стр. 93.
(обратно)61
Цит. по кн.: А. Б Ранович. О раннем христианстве, стр. 264.
(обратно)62
Сенека. Письма к Луцилию, 31.
(обратно)63
Сенека. Письма к Луцилию, 65.
(обратно)64
Подробнее см.: А. Ранович. О раннем христианстве, стр. 323 и сл.
(обратно)65
Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 1, 4.
(обратно)66
Там же, XVIII, 1, 3.
(обратно)67
Цицерон. О природе богов, I, 44.
(обратно)68
Там же, I, 22.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Петроний. Сатирикон, 17.
(обратно)71
Августин. О граде божьем, IV, 8.
(обратно)72
Там же, IV, 23.
(обратно)73
Плиний. Естественная история, II, 22.
(обратно)74
Августин. О граде божьем, IV, 23.
(обратно)75
Е. М. Штаерман. Мораль и религия… стр. 108 и сл.
(обратно)76
Гораций. Сатиры, I, 8.
(обратно)77
М. М. Кубланов. Религиозный синкретизм и появление христианства на Боспоре. — «Ежегодник Музея истории религии и атеизма АН СССР», т. II, 1958, стр. 63.
(обратно)78
Цит. по кн.: А. Б. Ранович. Эллинизм и его историческая роль М. — Л., 1950, стр 322–323.
(обратно)79
Плутарх. Об Исиде и Осирисе, XVII.
(обратно)80
Дж. Фрэзер. Фригийский культ Аттиса и христианство. М., 1924, стр. 23.
(обратно)81
Лукреций. О природе вещей, II, 618 сл.
(обратно)82
Апулей Метаморфозы, XI, 9—11, 16–17, 23–25.
(обратно)83
А. Б. Ранович. Образование синагоги и возникновение Талмуда. — Сб. «Критика иудейской религии», М., 1962, стр. 162–164.
(обратно)84
Лукиан. Собрание богов, 16.
(обратно)85
Н. А. Машкин. Принципат Августа. М., 1949, стр. 564 и сл.
(обратно)86
Светоний. Жизнеописания двенадцати Цезарей, Август, 94.
(обратно)87
Цит. по кн.: Е. М. Штаерман. Кризис рабовладельческого строя…, стр. 135.
(обратно)88
Там же, стр. 134.
(обратно)89
Там же.
(обратно)90
Эпикур приветствует Менекея. — Сб. «Материалисты древней Греции», М., 1955, стр. 209.
(обратно)91
Е. М. Штаерман. Мораль и религия… стр. 95.
(обратно)92
Тацит Истории, III, 81.
(обратно)93
Иосиф Флавий. Древности, VIII, 2, 5.
(обратно)94
Лукиан. Александр, или Лжепророк, 12, 13.
(обратно)95
Лукиан. О кончине Перегрина, 18.
(обратно)96
Там же, 17.
(обратно)97
Там же, 39–40.
(обратно)98
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т 22, стр. 475.
(обратно)99
Тертуллиан. О возражении еретикам, 40.
(обратно)100
Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I. Л., 1936 стр. 123.
(обратно)101
Дж. Фрэзер. Золотая ветвь, вып. III. Л., 1928, стр. 41.
(обратно)102
Иезекииль, 8; 14.
(обратно)103
Лукиан. О сирийской богине, 6, 8.
(обратно)104
Дж Фрэзер. Золотая ветвь, стр. 53.
(обратно)105
Там же, стр. 60.
(обратно)106
Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I, стр 187.
(обратно)107
Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I, стр 283.
(обратно)108
Дж. Фрэзер Золотая ветвь, т. III, стр. 76.
(обратно)109
A. Dupont-Sommeг. Aperçus sur les manuscrits de la Mer Morte. Paris, 1950, p. 121.
(обратно)110
J. Daniélоu. Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. Paris, 1957, p. 41.
(обратно)111
И. Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря, стр. 242.
(обратно)112
Иосиф Флавий. Иудейская война, II, 8, 5.
(обратно)113
Цит. по кн.: И. Д. Амусин Рукописи Мертвого моря, стр 226.
(обратно)114
П. Кушу. Загадки Иисуса. М., 1939, стр. 31.
(обратно)115
Иосиф Флавий. Древности, XX, 9, 1.
(обратно)116
Тертуллиан. О возражении еретикам, 13.
(обратно)117
Д. Штраус. Жизнь Иисуса. Перевод с 18-го немецкого издания В. Ульриха, кн. 1. Лейпциг — СПб., 1907, стр. 166.
(обратно)118
«Журнал Московской патриархии» 1961, № 4, стр 40–41.
(обратно)119
В. Г. Богораз-Тан. Христианство в свете этнографии. М — Л… 1928, стр. 46.
(обратно)120
К. Маркс и Ф Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 25.
(обратно)121
«Журнал Московской патриархии», 1961, № 4, стр. 48.
(обратно)122
Ориген. Против Цельса, II, 26–27.
(обратно)123
Ориген. Против Цельса, VII, 9.
(обратно)124
Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 3, 3.
(обратно)125
Ориген. Против Цельса, I, 47.
(обратно)126
Иосиф Флавий. Древности, XX, 9, 1.
(обратно)127
Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 5, 2.
(обратно)128
Тацит. Анналы, XV, 44.
(обратно)129
Р. Ю. Виппер. Рим и раннее христианство, стр. 174.
(обратно)130
Светоний. Жизнеописания двенадцати цезарей, Клавдий, 25.
(обратно)131
Там же, Нерон, 16.
(обратно)132
Плиний. Письма, X, 96.
(обратно)133
Р. Ю. Виппер. Рим и раннее христианство, стр. 179 и сл.
(обратно)134
Тертуллиан. Апология, 2.
(обратно)135
Ср. А. Ранович. Восточные провинции Римской империи в I–III вв. н. э. М. — Л., 1949, стр. 83, примеч.
(обратно)136
Цит. по кн.: А. Ранович. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1933, стр. 171–172.
(обратно)137
А. Ранович. Первоисточники… стр. 172.
(обратно)138
Там же.
(обратно)139
Там же.
(обратно)140
Там же, стр. 174.
(обратно)141
Там же.
(обратно)142
Там же, стр. 172–173.
(обратно)143
Термином «мин» («миней») Талмуд обозначает христиан, которых прямо нигде не называет.
(обратно)144
Там же, стр. 173.
(обратно)145
А. Робертсон. Происхождение христианства (Здесь и далее цит. по 2-му изд., М., 1959), стр. 131–132.
(обратно)146
Цит. по кн.: И. Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря, стр. 46.
(обратно)147
Там же, стр. 209.
(обратно)148
Ориген. Против Цельса, I, 26.
(обратно)149
Там же, I, 32.
(обратно)150
Там же, II, 7.
(обратно)151
Там же, II, 79.
(обратно)152
Там же, IV, 75.
(обратно)153
Там же, VII, 63.
(обратно)154
Цит. по кн.: А. Ранович. Античные критики христианства, стр. 175.
(обратно)155
Там же, стр. 203, 222 и др.
(обратно)156
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр. 139.
(обратно)157
Там же, стр. 9.
(обратно)158
Светоний. Клавдий, 25.
(обратно)159
Тацит. Анналы, XV, 44.
(обратно)160
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр. 14–15.
(обратно)161
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр. 293–294.
(обратно)162
Там же, стр. 184.
(обратно)163
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр. 294.
(обратно)164
Там же, стр. 1131—132.
(обратно)165
Там же, стр. 135.
(обратно)166
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр. 135.
(обратно)167
Там же, стр. 300.
(обратно)168
А. Робертсон. Происхождение христианства, стр 22.
(обратно)169
Там же, стр. 287.
(обратно)170
Там же, стр. 299.
(обратно)171
Государственный музей истории религии и атеизма, Рукописный отдел, КОП, оп. № 195.
(обратно)172
J. Daniélоu. Les manuscrits…, стр. 47.
(обратно)173
М. Burrows. More Light on the Dead Sea Scrolls. N. Y., 1958, стр. 55.
(обратно)174
«Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in Zehn Bändern», IV. — «Römisches Weltreich und Christentum», Bern, 1956, стр. 308.
(обратно)
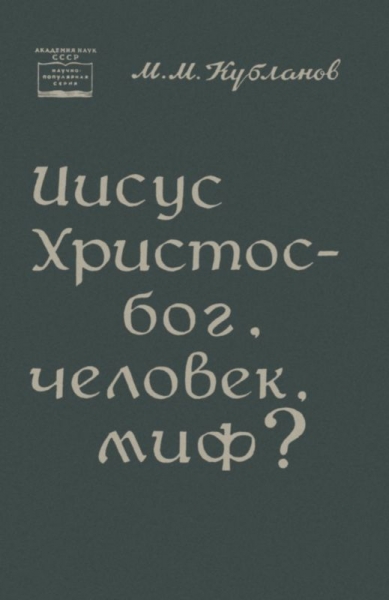



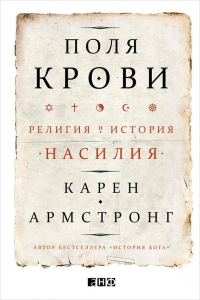

Комментарии к книге «Иисус Христос — бог, человек, миф?», Михаил Моисеевич Кубланов
Всего 0 комментариев